Читать онлайн Колымские рассказы бесплатно
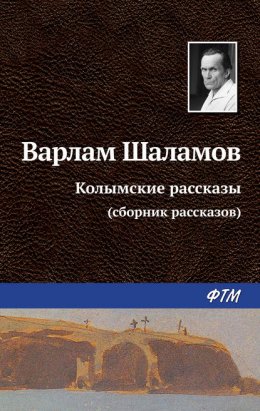
© В.Т. Шаламов, наследники, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
По снегу
Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал, – воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, – человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.
По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога, – ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.
‹1956›
На представку
Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определенна и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.
В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» – самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки – вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.
На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры – классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготовляется мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала – склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).
Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго – книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая – листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту – дамы, валеты, десятки всех мастей… Масти не различались по цвету – да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми – уменье собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.
Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины – тоже блатарский шик, так же как «фиксы» – золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера – самозваные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их бесспорно вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком – все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него – и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры – трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» – то есть показывает умение и ловкость шулера. Он был и шулер, конечно; честная воровская игра – это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.
Играли всегда двое – один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись – так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.
Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке – двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника – монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, – ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики – это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.
В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее – капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина… Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку – цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:
- Как мало пройдено дорог,
- Как много сделано ошибок.
– Что ты играешь? – процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.
– Вот, тряпки. Лепеху эту… – и Наумов похлопал себя по плечам.
– В пятистах играю, – оценил костюм Севочка.
В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.
Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа – после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина – здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» – остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте – барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.
Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе – сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.
– Одеяло играю, – хрипло сказал Наумов.
– Двести, – безразличным голосом ответил Севочка.
– Тысячу, сука! – закричал Наумов.
– За что? Это не вещь! Это – локш, дрянь, – выговорил Севочка. – Только для тебя – играю за триста.
Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать.
– Валенки играю.
– Не играю валенок, – твердо сказал Севочка. – Не играю казенных тряпок.
В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя – все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.
– На представку, – заискивающе сказал он.
– Очень нужно, – живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. – Что мне твоя представка? Этапов новых нет – где возьмешь? У конвоя, что ли?
Согласие играть на представку, в долг, было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.
– В сотне, – сказал он медленно. – Даю час представки.
– Давай карту. – Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки – и вновь проиграл все.
– Чифирку бы подварить, – сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. – Я подожду.
– Заварите, ребята, – сказал Наумов.
Речь шла об удивительном северном напитке – крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифир должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.
Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился.
Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.
– Ну-ка, выйди.
Я вышел на свет.
– Снимай телогрейку.
Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.
Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье – гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.
– Выходи ты, – сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.
Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер – это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, – фуфайку украли бы сейчас же товарищи.
– Ну-ка, снимай, – сказал Наумов.
Севочка одобрительно помахивал пальцем – шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить – узор красивый.
– Не сниму, – сказал Гаркунов хрипло. – Только с кожей…
На него кинулись, сбили с ног.
– Он кусается, – крикнул кто-то.
С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.
– Не могли, что ли, без этого! – закричал Севочка.
В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.
Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.
1956
Ночью
Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус – это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.
Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот – не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту – на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.
– Пора, – сказал Багрецов.
Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.
– Далеко еще? – спросил он шепотом.
– Далеко, – негромко ответил Багрецов.
Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем – все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.
– Я мог бы сделать это и один, – усмехнулся Багрецов, – но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля…
Их привезли на одном пароходе в прошлом году.
Багрецов остановился.
– Надо лечь, увидят.
Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.
Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал – кровь не останавливалась.
– Плохая свертываемость, – равнодушно сказал Глебов.
– Ты врач, что ли? – спросил Багрецов, отсасывая кровь.
Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя – дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.
Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно – чтобы скорее убрать камни.
– Глубоко, наверно? – спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.
– Как она может быть глубокой? – сказал Багрецов.
И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.
– Есть, – сказал Багрецов.
Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней – на лунном свету он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, – в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.
– Молодой совсем, – сказал Багрецов.
Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.
– Здоровый какой, – сказал Глебов, задыхаясь.
– Если бы он не был такой здоровый, – сказал Багрецов, – его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.
Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.
– А кальсоны совсем новые, – удовлетворенно сказал Багрецов.
Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.
– Надень лучше на себя, – сказал Багрецов.
– Нет, не хочу, – пробормотал Глебов.
Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.
Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира.
Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.
– Закурить бы, – сказал Глебов мечтательно.
– Завтра закуришь.
Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку…
1954
Плотники
Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления – столовая, больница, вахта – угадывались неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке.
Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно – выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно – значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка – пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов – плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели.
Каждое утро Поташников просыпался с надеждой – не упал ли мороз? Он знал по опыту прошлой зимы, что, как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до сорока – сорока пяти градусов – два дня будет тепло, а дальше чем на два дня не имело смысла строить планы.
Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело до костей – это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши, мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.
Он спал, конечно, на верхних нарах – внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, – печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало: за дровами надо было идти за четыре километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, хотя, конечно же, спали в том, в чем работали, – в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.
Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром – суточное довольствие умершего оставалось дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к дневальному: «Отломи корочку», – но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного, и это – смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел.
Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом. Или – умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было тайное страстное желание, какое-то последнее упрямство – желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли – это был явный материальный процесс, и бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению, или разрушения были навечны. Так и душа – она промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной. Все эти мысли были у Поташникова раньше – теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.
Нужно было, конечно, раньше искать каких-то путей спасения. Таких путей было немного. Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще держаться около начальства. Или около кухни. Но на кухню были сотни конкурентов, а от бригадирства Поташников отказался еще год назад, дав себе слово не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятия. Поташников ждал смерти со дня на день, и день, кажется, подошел.
Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленьей шапке, якутских торбасах и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные, равнодушные лица рабочих. Люди молча топтались на месте, ожидая конца неожиданной задержки. Бригадир стоял тут же, почтительно говоря что-то человеку в оленьей шапке:
– А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич, – одно мученье.
Человек в оленьей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру.
– Бригадиры не знают своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь, – хрипло сказал он.
– Воля ваша, Александр Евгеньевич.
– Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?
– Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич.
– Вот, гляди. Эй, ребята, внимание. – Человек в оленьей шапке встал перед бригадой. – Управлению нужны плотники – делать короба для возки грунта.
Все молчали.
– Вот видите, Александр Евгеньевич, – зашептал бригадир.
Поташников вдруг услышал свой собственный голос:
– Есть. Я плотник. – И сделал шаг вперед.
С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его – это был Григорьев.
– Ну, – человек в оленьей шапке повернулся к бригадиру, – ты шляпа и дерьмо. Ребята, пошли за мной.
Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленьей шапке. Он приостановился.
– Если так будем идти, – прохрипел он, – мы и к обеду не придем. Вот что. Я пойду вперед, а вы приходите в столярную мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?
– Знаем, знаем! – закричал Григорьев. – Угостите закурить, пожалуйста.
– Знакомая просьба, – сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы.
Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской – точить топор и делать топорище. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут получать инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вечеру, когда выяснится, что он топорище сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А может быть, и завтра, и послезавтра он будет плотником, если Григорьев – плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уже кончается. Лето, короткое лето он как-нибудь проживет.
Поташников остановился, ожидая Григорьева.
– Ты можешь это… плотничать? – задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он.
– Я, видишь ли, – весело сказал Григорьев, – аспирант Московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топорище и развести пилу. Тем более если это надо делать рядом с горячей печкой.
– Значит, и ты…
– Ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом – какое тебе дело, что будет потом.
– Мы обманем на один день. Завтра нас вернут в бригаду.
– Нет. За один день нас не успеют перевести по учету в столярную мастерскую. Надо ведь подавать сведения, списки. Потом опять отчислять…
Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посредине столярной мастерской горела раскаленная докрасна железная печка, и пять столяров на своих верстаках работали без телогреек и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверцей печки, перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простерли руки к теплу, совали их прямо в огонь. Многократно отмороженные пальцы, потерявшие чувствительность, не сразу ощутили тепло. Через минуту Григорьев и Поташников сняли шапки и расстегнули бушлаты, не вставая с колен.
– Вы зачем? – недружелюбно спросил их столяр.
– Мы плотники. Будем работать тут, – сказал Григорьев.
– По распоряжению Александра Евгеньевича, – добавил поспешно Поташников.
– Это, значит, о вас говорил прораб, чтобы выдать вам топоры, – сказал Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.
– О нас, о нас…
– Берите, – недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем. – Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытешьте топорище.
Арнштрем улыбнулся.
– Дневная норма мне на топорища – тридцать штук, – сказал он.
Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева.
– Теперь ты, – сказал он Поташникову.
Поташников поставил полено на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать.
– Хватит, – сказал Арнштрем.
Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было.
– Возьмите вот два моих топорища, – Арнштрем подал готовые топорища Григорьеву, – и насадите топоры. Точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду.
Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов – зима уже кончалась.
1954
Одиночный замер
Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «десяток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.
Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.
Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.
– Кури, мне оставишь, – предложил он.
Дугаев удивился – они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси…
Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.
– Слабею, – сказал он.
Баранов промолчал.
Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные – буханки хлеба, дымящиеся жирные супы… Забытье наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.
Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.
– А ты подожди, – сказал бригадир Дугаеву. – Тебя смотритель поставит.
Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.
Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.
– Иди сюда, – сказал Дугаеву смотритель. – Вот тебе место. – Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку – кусок кварца. – Досюда, – сказал он. – Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка – вози.
Дугаев послушно начал работу.
«Еще лучше», – думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть: уменье красть – это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня.
Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.
После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел… Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.
Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.
– Двадцать пять процентов, – сказал он и посмотрел на Дугаева. – Двадцать пять процентов. Ты слышишь?
– Слышу, – сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра – двадцать пять процентов нормы – показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел потому что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.
– Ну что ж, – сказал смотритель, уходя. – Желаю здравствовать.
Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.
‹1955›
Посылка
Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали – получить посылку было чудом из чудес.
Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках – в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.
Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски – это не лед! Это сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.
А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, ярославская «Белка» или «Кременчуг № 2». Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов, – авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.
– Фамилия?
Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива – две-три горсти…
– Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!
Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам – праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки – это чересчур шикарно… Это не подобает. Притом…
– Слышь ты… – чья-то рука тронула мое плечо.
Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель.
А Бойко шептал торопливо:
– Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь – отнимут, вырвут эти, – и Бойко ткнул пальцем в белый туман. – Да и в бараке украдут. В первую ночь.
«Сам же ты и подошлешь», – подумал я.
– Ладно, давай деньги.
– Видишь, какой я! – Бойко отсчитывал деньги. – Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто – и даю сто. – Бойко боялся, что переплатил лишнего.
Я сложил грязные бумажки вчетверо, ввосьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат – карманы его давно были вырваны на кисеты.
Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь – торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.