Читать онлайн Врата Обелиска бесплатно
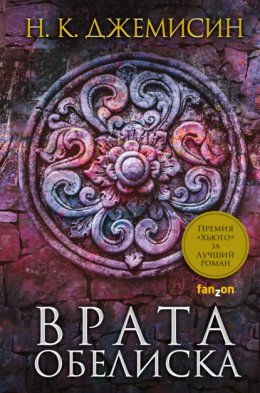
N.K. Jemisin
THE OBELISK GATE
Copyright © 2016 by N.K. Jemisin
Cover design by Wendy Chan
Cover photo © Shutterstock
Cover © 2016 Hachette Book Group, Inc.
© Н. Некрасова, перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2021
1. Нэссун, на скалах
Хмм. Нет. Я неправильно рассказываю.
В конце концов, личность определяется как ею самой, так и окружением. Окончательно образ разумного существа вычеканивают взаимоотношения. Я есть и я, и ты. Дамайя была собой и семьей, которая отвергла ее, и жителями Эпицентра, отшлифовавшими ее до мелочей. Сиенит была Алебастром и Инноном, и народом несчастных погибших Аллии и Миова. Теперь ты Тиримо и осыпанные пеплом бредущие по дороге странники, и твои мертвые дети… и то, последнее дитя, что осталось в живых. Та, которую ты вернешь.
Это не спойлер. В конце концов, ты Иссун. Ты знаешь это заранее. Разве не так?
Значит, следующая – Нэссун. Нэссун, которой к концу мира всего восемь лет.
Неизвестно, что происходило в маленькой голове Нэссун, когда она однажды днем вернулась с учебы домой и увидела, что ее младший братик мертв, а над его трупиком стоит отец. Мы можем лишь предположить, что она подумала, почувствовала, сделала. Но знать мы не можем. Может, и к лучшему.
Но есть одно, что я знаю точно, – я ведь упомянул об учебе?
Нэссун обучалась на лориста.
У Спокойствия странные отношения со своими самопровозглашенными хранителями предания Камня. Есть записи, что лористы существовали еще в пору пресловутой Зимы Скорлупы. Это то самое Пятое время года, когда выброс какого-то газа привел к тому, что все дети, рождавшиеся в Арктике в течение нескольких лет, имели хрупкие кости, ломавшиеся от прикосновения и сгибавшиеся, когда они вырастали – если они вырастали.
(Юменесские археоместы веками спорили по поводу того, вызвано ли это было стронцием или мышьяком и считать ли это Пятым временем года при том, что пострадали всего лишь несколько сотен тысяч слабых, бледных малорослых варваров северной тундры. Именно тогда жители Арктики заслужили свою репутацию слабаков.) Это было около двадцати пяти тысяч лет назад, согласно самим лористам, что большинство людей считает неприкрытым враньем. На самом деле лористы – самая древняя форма жизни в Спокойствии. Просто двадцать пять тысяч лет назад их роль была извращена практически до бесполезности.
Они все еще существуют, хотя уже и забыли, как много они забыли. Каким-то образом их орден, если это можно назвать орденом, выжил, несмотря на то что университеты от Первого до Седьмого считают их работу апокрифической и, вероятно, неточной, несмотря на то что правительства во все века своей пропагандой унижают их знания. И несмотря на Зимы, конечно. Некогда лористы происходили только из расы регво – западных побережников с землисто-красной кожей и черными от природы губами, поклонявшиеся сохранению истории так, как люди в менее суровые времена поклонялись богам. Они высекали Предание камня на склонах гор на табличках под самыми небесами, чтобы все видели мудрость, необходимую для выживания. Увы, в Спокойствии горы рушатся так же легко, как малыш-ороген впадает в гнев. Уничтожить целый народ лишь чуть затратнее.
Итак, лористы больше не из регво, но большинство их красят губы черным в память о регво. Да они уже и не помнят почему. Лориста сейчас узнают вот как: по черным губам, стопке пластиковых табличек и убогой одежде, которую они предпочитают носить, а еще потому, что они, как правило, не имеют общинного имени. Они, видишь ли, не неприкаянные. В теории они могут вернуться в родную общину в случае Зимы, хотя из-за своей профессии они обычно уходят так далеко, что возвращаться нет смысла. На деле многие общины принимают их даже во время Зимы, поскольку даже самым стоическим общинам хочется развлечений в холодные длинные ночи. Для этого лористы обучаются искусствам – музыке, комедии, вот этому всему. Они также умеют обучать малышей и ухаживать за ними, когда больше некому это поручить, и, что еще важнее, служат живым напоминанием того, что в прошлом люди и худшее переживали. Каждой общине такое нужно.
Лорист, пришедшая в Тиримо, носит имя Ренфри Лорист Камень. (Все лористы берут общинное имя Камень и функционал-имя Лорист, одной из редчайших функционал-каст.) Роль у нее небольшая, но есть причина, по которой вам следует о ней узнать. Некогда она была Ренфри Селект Тентик, но это было до того, как она влюбилась в лориста, заглянувшего в Тентик и соблазнившего молодую тогда женщину, после чего она забросила скучную жизнь стеклокова.
Ее жизнь стала бы чуть более интересной, если бы Зима настала до ее ухода, поскольку обязанности Селекта в эту пору ясны – возможно, это тоже заставило ее уйти. Или, возможно, это было просто безумие юношеской влюбленности? Трудно сказать. Любовник-лорист Ренфри в конце концов бросил ее в пригороде экваториального города Пенфен с разбитым сердцем и головой, забитой Преданием, а также кошельком, наполненным колотым нефритом, кабошонами и одним перламутровым ромбиком с подковообразным пятном.
Ренфри купила за перламутр собственный комплект табличек у резчика, отдала осколки нефрита за дорожные припасы и постой на несколько дней в гостинице, пока резчик не закончит, а кабошоны потратила на крепкое пойло в таверне. Затем, подлатав раны и снарядившись, она пустилась в путь. Так продолжается их ремесло.
Когда Нэссун появляется на путевой станции, где Ренфри устроила свою лавку, возможно, та подумывает – не взять ли себе ученицу? (Дело не в соблазне – Ренфри предпочитает женщин постарше – подчеркиваю, женщин. Просто глупые мечты.) За день до того Ренфри прошла через Тиримо, скупилась на рынке, весело улыбаясь своими чернеными губами, чтобы продемонстрировать свое присутствие в окрестностях. Она не видела Нэссун, которая возвращалась домой из школы и остановилась, воззрившись на нее во внезапном, иррациональном порыве надежды.
Нэссун сегодня пропустила школу, чтобы найти ее и принести подношение. Это традиция – подношение, в смысле, а не то чтобы дочь учительницы пропускала школу. Двое взрослых из города уже сидят в дорожном доме на скамье и слушают Ренфри, и ее чаша для подношений уже полна яркими осколками с клеймом квартента. Ренфри моргает от удивления при виде Нэссун: нескладная девочка, у которой больше ног, чем тела, глаз больше, чем лица, и которая явно слишком мала, чтобы покинуть школу так рано, поскольку сейчас не время сбора урожая.
Нэссун останавливается на пороге, переводя дыхание, так что явление ее весьма картинно. Два других посетителя оборачиваются к ней, глядя на обычно тихую дочку-первенца Джиджи, и лишь их присутствие не дает Нэссун с порога выпалить свое желание. Мать научила ее вести себя очень осмотрительно. (Ее мать узнает о том, что она прогуляла школу, но Нэссун все равно.) Она, однако, сглатывает и тут же подходит к Ренфри, чтобы что-то дать ей: темный кусок камня, в котором можно увидеть крохотный, почти кубический алмаз.
У Нэссун нет денег, кроме карманных, понимаешь ли, и она уже потратила их на книги и сладости, когда пришла весть, что в городок пришла лорист. Но никто в Тиримо не знает, что в окрестностях есть перспективные алмазные копи – за исключением орогенов.
Да и то если те поищут. И лишь Нэссун заглянула туда за несколько тысяч лет. Она понимает, что ей не следовало находить этот алмаз. Мать учила ее не демонстрировать своей орогении и не использовать ее вне пределов тщательно определенных часов практики, которую они проводили в долине по соседству каждые несколько недель. Никто не использует алмазы в качестве валюты, поскольку их трудно расколоть, но они используются в промышленности, горном деле и так далее. Нэссун знает, что они имеют ценность, но она понятия не имеет, что красивый камушек, который она только что отдала Ренфри, стоит пару домов. Ей всего восемь лет.
И Нэссун так возбуждена, когда видит, как расширяются глаза Ренфри при виде блестящего кусочка в черном камне, что ей становится все равно, что тут есть еще другие люди, и она выдает:
– Я тоже хочу быть лористом!
Нэссун, конечно же, понятия не имеет, чем на самом деле занимаются лористы. Она просто знает, что очень-очень хочет покинуть Тиримо.
Потом я еще вернусь к этому.
Ренфри была бы дурой, если бы отказалась от подношения – она и не отказалась. Но она не дает Нэссун ответа сразу отчасти потому, что считает Нэссун симпатичной, а ее заявление всего лишь минутным порывом ребенка. (Она в какой-то мере права; в прошлом месяце Нэссун хотела стать джинером.) Вместо этого она просит Нэссун сесть, а затем остаток дня рассказывает своей маленькой аудитории всякие истории, пока солнце не начинает отбрасывать длинные тени на склоны долины и сквозь стволы деревьев. Когда два остальных посетителя встают, чтобы идти домой, они смотрят на Нэссун и делают намеки, пока та неохотно не уходит с ними, поскольку жителям Тиримо не хочется, чтобы говорили, будто бы они непочтительны к лористу, оставив при ней ребенка, который весь вечер будет донимать ее своей болтовней.
Когда посетители уходят, Ренфри разводит костер и начинает готовить себе ужин из куска свиной подбрюшины, зелени и кукурузной крупы, которую купила вчера в Тиримо. Пока еда готовится, она грызет яблоко и зачарованно вертит в руках камушек Нэссун. И она встревожена.
Утром она идет в Тиримо. Несколько осторожных вопросов выводят ее на дом Нэссун. К тому времени Иссун уже ушла вести урок в последнем классе в ее карьере школьного учителя. Нэссун тоже уходит в школу, хотя просто убивает время, пока ей не удается удрать во время обеда и снова найти лориста. Джиджа в своей «мастерской», как он называет подобие подвала, где весь день работает над заказами своими шумными инструментами. Уке спит на соломенном тюфячке в том же помещении. Он может спать в любой обстановке. Песни земли всегда были его колыбельной.
Джиджа подходит к дверям, когда Ренфри стучит, и на миг она даже чуть пугается. Джиджа – срединник смешанных кровей, как и Иссун, хотя в предках у него больше крови санзе; он крупный, смуглый, мускулистый и бритый наголо. Пугающий. Однако его приветственная улыбка вполне искренняя, и у Ренфри, уже решившей, что делать, отлегает от сердца. Это добрый человек. Она не может обманывать его.
– Вот, – говорит она, протягивая ему камень с алмазом. Она ни в коем разе не может взять такой ценности у ребенка в обмен на несколько историй и ученичество, тем более что Нэссун за несколько месяцев может и передумать. Джиджа хмурится в замешательстве и берет камушек, рассыпаясь в благодарностях после ее объяснений. Он обещает рассказать о благородстве и честности Ренфри всем, кому сможет, что может дать ей больше возможностей показать свое искусство прежде, чем она покинет город.
Ренфри уходит, и больше в этой истории о ней речи не будет. Но это важная часть, потому я тебе о ней и рассказываю.
Понимаешь ли, ничто не могло настроить Джиджу против сына. Просто в течение многих лет он подмечал некоторые странности в поведении жены и детей, что зародило в глубине его души подозрения. Эти подозрения превратились в какой-то зуд, затем, к тому моменту, когда начинается наша повесть, они стали его раздражать, но отрицание не позволяло ему дальше думать об этом. В конце концов, он любил свою семью, а правда была просто… немыслима.
В буквальном смысле.
В конце концов он узнал бы о ней так или иначе. Повторяю: в конце концов он узнал бы. Некого винить, кроме него самого.
Но если тебе нужно простое объяснение, то если что и стало переломным событием, той соломинкой, что переломила спину верблюду, экструзивным бисмалитом на лавовой трубке… это был тот самый камушек. Поскольку Джиджа, понимаешь ли, знал этот камень. Он был великолепным резчиком. Он знал камень, он знал Тиримо и знал о жилах магматических пород древнего вулкана, что тянутся везде по округе. Большинство их не выходило на поверхность, но вполне возможно, что Нэссун могла случайно найти алмаз в породе там, где и любой другой мог его подобрать. Маловероятно. Но возможно.
Эта мысль плавает на поверхности в мозгу Джиджи весь день после того, как Ренфри уходит. И под этой поверхностью истина, левиафан, готовый вынырнуть, но пока воды его разума спокойны. Отрицание – сильная штука.
Но тут просыпается Уке. Джиджа ведет его в дом, спрашивает, не голоден ли он; Уке говорит, что нет. Затем он улыбается Джидже и с безошибочной чувствительностью ребенка – мощного орогена показывает на карман Джиджи и говорит:
– А тё туть блестит, па?
Его шепелявые младенческие слова так милы. Но знание, которым он обладает, поскольку камень и правда в кармане Джиджи и Уке никак не мог знать, что он там, обрекает его.
Нэссун не знает, что все началось с камня. Когда увидишь ее, не говори ей.
Когда днем Нэссун возвращается домой, Уке уже мертв. Джиджа стоит над его остывающим тельцем, тяжело дыша. Забить малыша насмерть – много ли надо? Но пока он убивал его, он слишком глубоко дышал. Когда Нэссун входит, в крови Джиджи все еще мало двуокиси углерода; у него кружится голова, его трясет, ему холодно. Он не в себе. Потому когда Нэссун резко появляется на пороге, глядя на зрелище, и медленно осознает, что именно она видит, Джиджа выкрикивает:
– Ты тоже?
Он крупный мужчина. Это громкий, резкий выкрик, и Нэссун подпрыгивает. Ее взгляд отрывается от тела Уке и устремляется на него, что спасает ей жизнь. У нее глаза серые, как у матери, но черты лица – как у Джиджи. Один лишь взгляд на нее выводит его из состояния первобытной паники.
Она говорит правду. Это помогает, поскольку ничему другому он не поверил бы.
– Да, – говорит она.
В тот момент она даже не по-настоящему напугана. Вид тела брата, отказ разума интерпретировать увиденное – все это затормозило ее восприятие. Она даже не уверена, о чем ее спрашивает Джиджа, поскольку понимание контекста его слов потребовало бы от нее осознать, что кулаки отца в крови и что ее братик не просто спит на полу. Она не может. Сейчас – нет. Но при отсутствии более связных мыслей и, как порой бывает с детьми в экстремальных ситуациях, Нэссун… впадает в ступор. Ее пугает то, что она видит, хотя она и не понимает почему. И из двух родителей Нэссун всегда была ближе с Джиджей. Она его любимица: первенец, которого он и не ждал, с его чертами лица и его чувством юмора. Ей нравится его любимая еда. У него большие надежды на то, что она пойдет по его стопам в ремесле резчика.
Потому когда она начинает плакать, она сама не понимает почему. Мысли кружатся у нее в голове, сердце ее вопит, и она делает шаг к нему. Он крепче сжимает кулаки, но она не видит в нем угрозы. Он ее отец. Она хочет утешения.
– Папочка, – говорит она.
Джиджа вздрагивает. Моргает. Смотрит на нее, словно прежде никогда не видел. Осознает. Он не может ее убить. Даже если она… нет. Она его малышка. Она снова делает шаг вперед, тянется к нему. Он не может заставить себя попятиться, стоит на месте. Она хватает его за руку. Он стоит над телом Уке, и она не может схватить его за ту руку, какую хочет. Но она, однако, прижимается лицом к его бицепсу, такому утешительно крепкому. Она дрожит, и он чувствует ее слезы у себя на коже.
Он стоит, его дыхание постепенно успокаивается, а она плачет. Через некоторое время он полностью оборачивается к ней, и она обнимает его за пояс. Повернуться к ней – значит отвернуться от того, что он сделал с Уке. Это легко.
Он шепчет ей:
– Собери вещи. Так как если бы ты уехала на несколько ночей к бабушке. – Мать Джиджи снова вышла замуж несколько лет назад и теперь живет в Суме, городке в соседней долине, который вскоре будет полностью уничтожен.
– Мы поедем туда? – спрашивает Нэссун, уткнувшись ему в живот.
Он касается ее затылка. Он всегда так делает, и ей нравится. Когда она была грудничком, она гулила громче, когда он держал ее под головку в этом месте. Это потому, что в этом отделе мозга расположены сэссапины, и когда он к ним прикасается, она чувствует его лучше, как все орогены. Никто из них не знал, почему ей это так нравится.
– Мы поедем туда, где тебе будет лучше, – ласково говорит он. – В одно место, о котором я слышал, там тебе помогут.
Снова сделают ее маленькой девочкой, а не… Он отворачивается и от этой мысли.
Она сглатывает, затем кивает и отступает на шаг, глядя на него.
– А мама тоже поедет?
Что-то незаметно проходит по лицу Джиджи, как землетрясение.
– Нет.
И Нэссун, которая была готова уехать на закате с какой-то лористкой и которая сейчас действительно бежит из дому, чтобы скрыться от матери, в конце концов расслабляется.
– Хорошо, пап, – говорит она и идет в свою комнату собираться. Джиджа смотрит ей вслед, долго, не дыша. Он снова отворачивается от Уке, собирает собственные вещи и выходит запрячь лошадь в фургон. Не проходит и часа, как они уже далеко, едут на юг долины, а за ними по пятам идет конец света.
* * *
В дни Джьямарийи, который умер в Зиму Затопленной Пустыни, считалось, что если отдать последнего ребенка морю, то оно не будет наступать на землю, чтобы забрать остальных.
– Из «Павильона Селекта», истории, записанной от лориста в квартенте Ханль, Западное побережье близ Отломанного полуострова. Апокриф.
2. Ты, продолжение
– Что? – говоришь ты.
– Луна. – Алебастр, возлюбленное чудовище, мудрый безумец, самый могучий ороген в Спокойствии и будущая закуска для камнееда, смотрит на тебя. В этом взгляде вся его былая энергия, и ты ощущаешь его волю, то, что делает его силой природы, которой он и является. Его взгляд обладает почти физической силой. Стражи были дураками, считая, что его можно укротить.
– Спутник.
– Что?
Он раздраженно хмыкает. Он все тот же, как в те дни, когда вы с ним были меньше чем любовниками и больше чем друзьями, разве что наполовину превратился в камень. Десять лет и одна жизнь назад.
– Астронометрия – не чушь, – говорит он. – Я знаю, что тебя, как и всех в Спокойствии, учили, что изучение неба – пустая трата сил, когда земля пытается убить нас, но огонь же земной, Сиен! Я думал, что ты уже немного научилась подвергать сомнению порядок вещей.
– Мне было о чем подумать и без этого, – отрезаешь ты, как обычно. Но мысли о прошлом заставляют тебя подумать о том, к чему ты тогда стремилась. А это заставляет тебя подумать о твоей уцелевшей дочери и погибшем сыне, и твоем вскорости бывшем, в полном смысле слова, муже, и ты вздрагиваешь. – И теперь меня зовут Иссун, я уже говорила.
– Да как угодно. – Со скрежещущим вдохом Алебастр осторожно садится, привалившись спиной к стене. – Мне сказали, с тобой пришла геомест. Пусть объяснит тебе. У меня в эти дни не так много сил. – Поскольку, наверное, нелегко, когда тебя жрут. – Ты не ответила на мой первый вопрос. Ты еще можешь это делать?
Можешь позвать для меня обелиски? Когда он впервые задал этот вопрос, он не имел смысла, вероятно, потому, что тебя отвлекло осознание того, что он: а) жив, б) превращается в камень, и в) этот ороген виноват в том, что континент раскололся пополам и началась Зима, которая может и не кончиться никогда.
– Обелиски? – Ты качаешь головой, скорее от смятения, чем отказывая. Твой взгляд привлекает странный предмет возле его кровати, похожий на очень длинный стеклянный нож, который ощущается как обелиск, хотя никак не может им быть. – Могу… нет. Не знаю. После Миова я не пыталась.
Он тихо стонет, прикрывая глаза.
– Ты такая, ржавь тебя побери, бесполезная, Сиен. Иссун. Совершенно не уважаешь ремесло.
– Очень даже уважаю, я просто не…
– Ровно настолько, чтобы прожить, чтобы преуспеть, но лишь ради дохода. Тебе говорили – прыгай вот досюда, и ты не прыгала дальше, все ради того, чтобы получить жилье получше да еще одно кольцо…
– Ради личного пространства, скотина, и хоть какой-то власти над собственной жизнью, и хоть какого-то ржавого уважения…
– И ты действительно слушалась своего Стража, и никого другого…
– Эй. – Десять лет работы школьной учительницей придали твоему голосу остроту обсидиана. Ты говоришь очень спокойно: – Ты прекрасно знаешь, почему я его слушалась.
На миг воцаряется тишина. Оба вы пользуетесь этим моментом для перегруппировки сил.
– Ты права, – говорит он наконец. – Извини.
Поскольку каждый имперский ороген слушается – слушался – назначенного ему Стража. Тот, кто не слушался, умирал или кончал в узле. Опять же, за исключением Алебастра; ты так и не узнала, что он сделал со своим Стражем.
Ты натянуто киваешь в знак перемирия:
– Извинения приняты.
Он осторожно вздыхает. Вид у него усталый.
– Попытайся, Иссун. Попытайся дотянуться до обелиска. Сегодня. Мне надо знать.
– Зачем? Что это за… путаник? Что это…
– Спутник. И все это не имеет смысла, если ты не можешь контролировать обелиск.
Его глаза закрываются. Наверное, это хорошо. Ему понадобятся силы, если он хочет пережить то, что с ним происходит, что бы то ни было. Если, конечно, это можно пережить.
– Хуже чем бессмысленно. Помнишь, почему я сразу не рассказал тебе об обелисках, да?
Да. Однажды, прежде чем ты обратила внимание на эти огромные летающие полуреальные кристаллы в небесах, ты попросила Алебастра объяснить, как он добился некоторых своих замечательных достижений в орогении. Он не стал тебе говорить, и ты возненавидела его за это, но теперь ты понимаешь, насколько опасно было это знание. Если бы ты не поняла, что обелиски – усилители, усилители орогении, ты никогда бы не дотянулась до того граната, чтобы защититься от нападения Стража. Но если бы гранатовый обелиск не был полудохлым, треснувшим, с камнеедом внутри, он бы убил тебя. У тебя не было ни силы, ни самоконтроля, чтобы не дать ему выжечь тебя, начиная от мозга.
А теперь Алебастр хочет, чтобы ты нарочно дотянулась до одного из них, чтобы посмотреть, что выйдет.
Алебастр читает тебя по лицу.
– Иди и попробуй, – говорит он. Теперь его глаза закрыты полностью. Ты слышишь легкий перестук в его дыхании, словно у него в легких гравий. – Топазовый плавает неподалеку. Позови его сегодня вечером, а утром посмотри… – Он резко слабеет, теряя силы. – Посмотри, придет ли он. Если нет, скажи, и я найду кого-нибудь еще. Или сам сделаю, что смогу.
Кого найдет, для чего – ты даже не можешь предположить.
– Так ты мне скажешь, зачем все это?
– Нет. Потому, что, несмотря ни на что, Иссун, я не хочу твоей гибели. – Он делает глубокий вдох и медленно выдыхает. Следующие слова звучат мягче обычного: – Приятно видеть тебя.
Тебе приходится стиснуть челюсти для ответа.
– Да.
Он больше ничего не говорит, и это «до свидания» для вас обоих. Ты встаешь, глядя на стоящего рядом камнееда. Алебастр называет ее Сурьмой. Она стоит неподвижно, как изваяние – как все они, ее слишком черные глаза следят за тобой слишком внимательно, и хотя поза ее классическая, ты видишь в этом намек на иронию. Голова ее элегантно наклонена вбок, одна рука на бедре, вторая поднята с расслабленными пальцами. Может, это приглашение, может, прощание, может, то, что делают люди, когда у них есть секрет и они хотят, чтобы ты об этом знала, но не хотят им делиться.
– Побереги его, – говоришь ты ей.
– Как любое сокровище, – отвечает она, не шевеля губами.
Ты даже не задумываешься о смысле ее слов. Ты идешь к выходу из лазарета, где ждет тебя Хоа. Хоа, который выглядит как очень странный человеческий мальчик, на самом деле камнеед, который считает драгоценностью тебя.
Он смотрит на тебя с несчастным видом, как всегда с тех пор, как ты поняла, кто он такой. Ты качаешь головой и проходишь мимо него. Он следует за тобой по пятам.
В общине Кастрима ранний вечер. Судить о времени трудно, поскольку мягкий белый свет гигантской жеоды, невероятным образом источаемый массивными кристаллами, составляющими ее, никогда не меняется. Вокруг суетятся люди, таскают грузы, перекрикиваются, занимаются обычными делами без снижения активности по необходимости, как в других общинах с наступлением темноты. Ты подозреваешь, что несколько дней спать будет трудно, по крайней мере пока не привыкнешь. Не важно. Обелискам плевать на время суток.
Лерна вежливо ждал снаружи, пока вы с Хоа встречались с Алебастром и Сурьмой. Когда вы выходите, он пристраивается к вам с ожиданием на лице.
– Мне надо выйти наверх, – говоришь ты.
Лерна кривится.
– Охрана не выпустит тебя, Иссун. Новичкам в общине не доверяют. Выживание Кастримы зависит от секретности.
Встреча с Алебастром вызвала множество воспоминаний и былое упрямство.
– Они не смогут остановить меня.
Лерна останавливается.
– И ты сделаешь так же, как в Тиримо?
Ах ты, ржавь клятая. Ты тоже останавливаешься, чуть покачиваясь от силы удара. Хоа тоже останавливается, задумчиво глядя на Лерну. Взгляд Лерны не злобен. Выражение его лица слишком бесцветно, чтобы это было злобой. Проклятье. Ладно.
Через мгновение Лерна вздыхает и подходит к тебе.
– Пойдем к Юкке, – говорит он. – Скажем ей, что нам надо. Попросим выйти наверх – если захочет, пусть стражу приставит. Хорошо?
Это звучит так разумно, что ты удивляешься, почему ты сама даже не подумала об этом. Ну, ты понимаешь почему. Юкка, может, и ороген вроде тебя, но ты провела слишком много лет, будучи отвергнутой и преданной орогенами Эпицентра; ты знаешь, что не стоит ей доверять только потому, что она из Своих. Но поскольку она из Своих, стоит все же дать ей шанс.
– Хорошо, – говоришь ты, следуя за ним к Юкке.
Жилище Юкки не больше твоего, и по нему никак не поймешь, что это дом главной женщины общины. Просто еще одно жилье, непонятно как вырезанное в стенке гигантского светящегося кристалла. У дверей, однако, ждут двое, один привалился к кристаллу, вторая смотрит через перила на просторы Кастримы. Лерна становится в очередь за ними и велит тебе сделать так же. Это справедливо – дождаться своей очереди, а обелиск никуда не денется.
Женщина, облокотившаяся о перила, мерит тебя взглядом. Она чуть старше, с кровью санзе, хотя и смуглее большинства, и грива ее слегка вьющихся пепельных волос скорее похожа на пушистое облачко, чем на спутанную проволоку. В ней есть кровь восточного побережья. И западного – она смотрит оценивающе, настороженно и невозмутимо из-под век с эпикантальной складкой.
– Ты новая, – говорит она. Это не вопрос.
Ты киваешь в ответ:
– Иссун.
Она криво усмехается, и ты моргаешь. Ее зубы остро заточены, хотя даже санзе перестали это делать несколько веков назад. Это было дурно для их репутации, особенно после Зимы Зубов.
– Хьярка Лидер Кастрима. Добро пожаловать в нашу нору. – Она расплывается в улыбке. Ты сдерживаешь гримасу от этого каламбура, хотя, услышав ее имя, ты задумываешься. Обычно дело плохо, когда в общине Лидеры не у дел. Недовольные Лидеры имеют мерзкую привычку устраивать перевороты во время кризиса. Но это проблема Юкки, не твоя.
Другой в очереди, мужчина, опирающийся на кристалл, вроде и не смотрит на тебя – но ты замечаешь, что его глаза не двигаются, взгляд его блуждает где-то далеко. Он худ, ростом ниже тебя, с волосами и бородой, напоминающими о землянике в сене. Тонкое давление его непрямого внимания – это все твое воображение. Но инстинкт, который говорит тебе, что он из таких, как ты, – уже не воображаемый. Поскольку он не реагирует на твое присутствие, ты ничего ему не говоришь.
– Он пришел несколько месяцев назад, – говорит Лерна, отвлекая тебя от новых соседей. На миг ты думаешь, что он говорит о мужчине с волосами цвета земляники в сене, а затем до тебя доходит, что он об Алебастре. – Просто возник посреди здешнего варианта городской площади внутри жеоды – на Плоской Вершине. – Он кивает куда-то тебе за спину, и ты оборачиваешься, пытаясь понять, о чем он. А, вот посреди острых кристаллов Кастримы один выглядит так, будто с него срезали половину – осталась шестиугольная приподнятая платформа близко к центру общины. К ней ведут несколько лесенок-мостов, и на ней есть перила и сиденья. Плоская Вершина.
Лерна продолжает:
– Без всякого предупреждения. Орогены, сдается, ничего не сэссили, а глухачи, что стояли на страже, ничего не увидели. Они с этой камнеедкой просто вдруг… оказались здесь.
Он не видит, как ты удивленно хмуришься. Ты никогда прежде не слышала, чтобы глухач использовал слово глухач.
– Может, камнееды знали, что он идет, но они редко говорят с кем-то, кроме избранных ими. А в этом случае даже им не сказали. – Взгляд Лерны скользит к Хоа, который именно в этот момент старательно игнорирует его. Лерна качает головой: – Юкка, конечно, попыталась выгнать его, хотя и предложила милосердно убить его, если он захочет. Его прогноз очевиден – мягкие наркотики и постель в лучшем случае. Он, однако, сделал что-то, когда она позвала Опор. Свет погас. Воздух и вода остановились. Это длилось всего минуту, но показалось годом. Когда он снова все вернул, все были в смятении. Потому Юкка сказала, что он может остаться и что мы будем лечить его раны.
Звучит похоже.
– Он десятиколечник, – говоришь ты. – И сволочь. Давай ему все, что он хочет, и будь доволен.
– Он из Эпицентра? – в священном ужасе выдыхает Лерна. – Пламень земной. Понятия не имею, почему хоть один имперский ороген выжил.
Ты смотришь на него, слишком пораженная, чтобы удивиться. Но откуда ему знать? Тебя угнетает другая мысль.
– Он превращается в камень, – тихо говоришь ты.
– Да, – с сожалением говорит Лерна. – Ничего подобного не видел. И с каждым днем ему все хуже. В первый день камнеедка… забрала… только пальцы. Я не видел, как это происходит. Он старается это делать, только когда поблизости нет меня или моих помощников. Я не знаю, она ли делает это с ним, или он сам, или… – Он мотает головой. – Когда я его спрашивал, он просто ухмылялся и говорил: «Потерпи немного, пожалуйста. Я кое-кого жду». – Лерна, задумчиво нахмурившись, смотрит на тебя.
Вот оно – Алебастр каким-то образом знал, что ты идешь. Или, может, не знал. Может, надеялся, что придет кто-то, хоть кто-нибудь с необходимыми умениями. Здесь шанс высок, поскольку Юкка как-то притягивает сюда всех рогг за несколько миль в округе. Но ждал он только тебя, поскольку только ты можешь призвать обелиск.
Через несколько мгновений из-за занавеси высовывает голову Юкка. Она кивает Хьярке, сердито смотрит на Землянику-и-Сено, пока тот не вздыхает и не поворачивается к ней лицом, затем украдкой смотрит на Лерну и Хоа.
– О. Привет. Хорошо. Заходите все.
Ты начинаешь протестовать:
– Мне надо поговорить с тобой наедине.
Она отвечает тебе суровым взглядом. Ты моргаешь – смущенная, обиженная, раздраженная. Она продолжает смотреть на тебя. Лерна переминается с ноги на ногу рядом с тобой, молча принуждая тебя. Хоа просто смотрит, ожидая твоего примера. Наконец ты понимаешь: ее община – ее законы, и если ты хочешь тут жить… Ты вздыхаешь и входишь следом за всеми.
Внутри теплее, чем в большинстве жилищ общины, и темнее – хотя стены и светятся, полог свое дело делает. Создается впечатление ночи – может, наверху она и стоит как раз. Хорошая мысль, надо так обустроить собственное жилище, думаешь ты – прежде чем одернуть себя, поскольку ты не должна загадывать надолго. И ты снова одергиваешь себя, поскольку ты потеряла след Нэссун и Джиджи, так что придется загадывать надолго. А потом…
– Ладно, – устало говорит Юкка, подходя к простому низкому дивану, и садится на него, скрестив ноги, подперев подбородок кулаком. Остальные тоже садятся, но смотрит она на тебя. – Я уже думала о кое-каких новшествах. Вы двое пришли как раз вовремя.
На миг ты думаешь, что «вы двое» – это ты и Лерна, но Лерна сидит на диване рядом с ней, и в его поведении есть что-то такое, какая-то свобода движений, что говорит тебе о том, что он уже слышал эти слова прежде. Значит, речь идет о Хоа. Хоа садится на пол, что делает его похожим на ребенка… хотя он не ребенок. Странно, что тебе так трудно это запомнить.
Ты осторожно садишься.
– Вовремя для чего?
– Я по-прежнему не считаю это хорошей идеей, – говорит Земляника-и-Сено. Он смотрит на тебя, хотя лицо его чуть повернуто к Юкке. – Мы ничего не знаем об этих людях, Юк.
– Мы знаем, что они дожили до вчерашнего дня, – говорит Хьярка, облокотившись на подлокотник дивана. – Это кое-что.
– Это ничто. – Земляника-и-Сено – тебе действительно хочется узнать его имя – выпячивает челюсть. – Наши Охотники способны выживать наверху.
Охотники. Ты моргаешь. Это одна из старых функционал-каст – по Имперскому закону запрещенная, так что больше никто в ней не рождается. Цивилизованному обществу не нужны охотники-собиратели. То, что Кастриме они нужны, говорит о состоянии общины больше, чем все, что рассказала тебе Юкка.
– Наши Охотники знают местность, как и Опоры, – говорит Хьярка. – Местность по соседству. Новички знают больше о ситуации за пределами нашей территории – о людях, опасностях, обо всем таком.
– Не уверена, что знаю что-то полезное, – начинаешь ты. Но даже говоря эти слова, ты хмуришься, поскольку вспоминаешь, что начала замечать кое-что несколько дорожных домов назад. Шарфы или обрывки тонкой шелковой ткани у слишком многих экваториалов на запястьях. То, как они украдкой смотрели на тебя, их внимание, когда остальные сидели, замкнувшись в себе. Каждый раз в лагере ты замечала, как они выискивали своих выживших, выбирая всех с кровью санзе, которые были лучше экипированы, или выглядели здоровее, или как-то еще выделялись на общем уровне. С этими избранными они говорили приглушенными голосами. Наутро они уходили бо`льшими группами, чем прибыли.
Значит ли это что-нибудь? Подобное тянется к подобному, это старая истина, но расы и национальности уже давно не имеют значения. Общества, объединенные одной целью и с разными специализациями, куда более эффективны, как доказала Старая Санзе. И все же сейчас Юменес – шлак на дне Разлома, и законы и традиции Империи больше ничего не значат. Может, это первый признак перемен. Может, через несколько лет тебе придется покинуть Кастриму и найти общину срединников вроде тебя, смуглых, но не слишком, крупных, но не слишком, с волосами вьющимися или курчавыми, но не пепельными или прямыми. В этом случае Нэссун могла бы пойти с тобой.
Но как долго вы могли бы скрывать то, кто вы есть? Ни одной общине не нужны рогги. Ни одной, кроме этой.
– Ты знаешь больше нас, – говорит Юкка, прерывая твои грезы, – и в любом случае у меня не хватит терпения на споры. Я скажу тебе то, что сказала ему несколько недель назад. – Она кивает на Лерну. – Мне нужны советники – люди, которые разбираются в этой Зиме досконально. Ты будешь советницей, пока я не заменю тебя.
Ты более чем удивлена.
– Я же ни ржави не знаю об этой общине!
– Это мое дело, и его, и ее. – Юкка кивает на Хьярку и Землянику-и-Сено. – В любом случае научишься.
У тебя челюсть падает. Затем до тебя доходит, что ведь она и Хоа позвала на это собрание, не так ли?
– Огонь подземный и ржавь земная, ты хочешь в советники камнееда?
– Почему бы и нет? Они тут тоже есть. Их даже больше, чем мы думаем. – Она смотрит на Хоа, который отвечает ей непроницаемым взглядом. – Ты так мне сказал.
– Это правда, – спокойно говорит он. Затем: – Я правда не могу говорить за них. И мы не часть вашей общины.
Юкка наклоняется, чтобы жестко посмотреть на него. Выражение ее лица – что-то среднее между враждебностью и опасливостью. – Вы влияете на нашу общину, а то и вообще представляете потенциальную угрозу, – говорит она. Ее взгляд переходит на тебя. – А те, к кому вы, э-э-э, привязаны, являются частью общины. По крайней мере, вам не все равно, что с ними случится. Разве не так?
Ты осознаешь, что не видела камнееда Юкки – той женщины с рубиновыми волосами, уже несколько часов. Однако это не значит, что ее нет рядом. Ты уже хорошо поняла, что нельзя доверять их присутствию или отсутствию на примере Сурьмы. Хоа ничего не отвечает Юкке. Тебя охватывает внезапная иррациональная радость оттого, что он снисходит до зримого присутствия рядом с тобой.
– Что же до того, почему ты и почему доктор, – говорит Юкка, выпрямляясь и обращаясь к тебе, хотя продолжает смотреть на Хоа, – то это потому, что мне нужны мнения со всех сторон. Лидера, даже если она и не хочет быть лидером. – Она смотрит на Хьярку. – Еще одного местного рогги, который не умеет держать язык за зубами и треплется повсюду, какая я дура, по его мнению. – Она кивает Землянике-и-Сену. Тот вздыхает. – Стойкости и доктора, которые знают дороги. Камнееда. Меня. И тебя, Иссун, которая может угробить всех нас. – Она натянуто улыбается. – Так что есть смысл не давать тебе для этого повода.
Ты понятия не имеешь, что на это ответить. У тебя мелькает в голове мысль, что если способность разрушать – нужное качество, то ей следовало бы позвать в совет Кастримы Алебастра. Но это привело бы к неприятным вопросам.
Хьярке и Землянике-и-Сену ты говоришь:
– Вы оба отсюда родом?
– Нет, – говорит Хьярка.
– Да, – говорит Юкка. Хьярка зло смотрит на нее. – Ты тут с юности живешь, Хьяр.
Хьярка пожимает плечами.
– Никто, кроме тебя, этого не помнит, Юк, – говорит Земляника-и-Сено. – Я тут родился и вырос.
Два орогена, дожившие до взрослого возраста в общине, которая их не убила.
– Как тебя зовут?
– Каттер Опора. – Ты ждешь. Он улыбается половиной рта – но не глазами.
– Тайна Каттера, скажем так, не была раскрыта, пока мы росли, – говорит Юкка. Теперь она приваливается к стене за диваном и трет глаза, словно устала. – Но люди все равно как-то догадались. Слухов было достаточно, чтобы при прежнем главе его не принимали в общину. Конечно, я уже раз пять предлагала дать ему имя.
– Если я откажусь от имени Опоры, – отвечает Каттер. На его губах по-прежнему бумажно-тонкая улыбка.
Юкка опускает руку. Челюсти ее стиснуты.
– Отрицая свою сущность, ты не сможешь помешать людям узнать это.
– А выставляя напоказ – не выживешь.
Юкка делает глубокий вздох. Желваки на ее скулах разглаживаются.
– Потому я и просила тебя это сделать, Каттер. Но продолжим.
И все продолжается.
Ты сидишь всю эту встречу, пытаясь понять замеченные тобой подводные течения и все еще не веря, что ты вообще здесь находишься, пока Юкка излагает все проблемы, стоящие перед Кастримой. Ты никогда о таком не думала: жалобы на то, что вода в общественных прудах недостаточно горяча. Серьезная нехватка гончаров, но переизбыток умеющих шить. Грибок в одном из пещерных зернохранилищ – придется сжечь урожай нескольких месяцев, чтобы не заразить остальное. Нехватка еды. Ты перестаешь быть одержимой мыслью об одном человеке, думая о многих. Это немного внезапно.
– Я только что мылась, – выдаешь ты. – Вода была в самый раз.
– Для тебя-то конечно. Ты несколько месяцев скиталась, мылась в холодной воде, если вообще мылась. Большинство людей Кастримы никогда не жили без надежного водоснабжения и туалетов. – Юкка трет глаза. Совет продолжается не больше часа, но кажется куда дольше. – Каждый по-своему приноравливается к Зиме.
Жалобы без повода не кажутся тебе приноравливанием, но ладно.
– Нехватка мяса – вот настоящая проблема, – нахмурившись, говорит Лерна. – Я заметил, что в последних нескольких общинных пайках его нет или хотя бы яиц.
Юкка мрачнеет.
– Да. И вот почему. – Она добавляет для тебя: – В этой общине нет зеленых зон, если ты еще не заметила. Почва вокруг скудная, хороша для огородничества, но не для травы и сена. Последние несколько лет до Зимы все были слишком заняты обсуждением того, не восстановить ли нам стену, оставшуюся со времен еще до Удушливой Зимы, так что никто не удосужился договориться с сельскохозяйственной общиной о нескольких телегах чернозема. – Она вздыхает, потирая переносицу. – Да и все равно много скотины по лестницам и шахтам вниз не затащишь. Не знаю, о чем мы думали, пытаясь выжить здесь, внизу. Потому мне и нужна помощь.
Ее усталость не удивляет. А вот то, что она напрямую признает ошибку, – это да. А еще это беспокоит. Ты говоришь:
– В Зиму у общины может быть только один лидер.
– Да, и это я. Не забывай об этом.
Это могло бы быть предупреждением, но звучит не похоже. Ты подозреваешь, что это сознательная констатация факта: люди выбрали ее, и пока они ей доверяют. Они не знают тебя, Лерну или Хоа и, вероятно, не доверяют Хьярке или Каттеру. Она нужна тебе больше, чем любой из вас – ей. Юкка внезапно качает головой:
– Не могу больше обсуждать это дерьмо.
Хорошо, поскольку давящее ощущение разобщенности – этим утром ты думала о дороге, выживании и Нэссун – становится невыносимым.
– Мне надо выйти наверх.
Это слишком резкая перемена темы ни с того ни с сего, и какое-то мгновение все они смотрят на тебя.
– Ради какой ржави? – говорит Юкка.
– Ради Алебастра.
Юкка тупо смотрит на тебя:
– Того десятиколечника в лазарете?
– Он попросил меня кое-что сделать.
Юкка кривится:
– А. Он. – Ты невольно улыбаешься в ответ на эту реакцию. – Интересно. Он не разговаривал ни с кем с тех пор, как попал сюда. Просто сидит, пользуется нашими антибиотиками и жрет нашу еду.
– Я только что сделал партию пенициллина, Юкка, – закатывает глаза Лерна.
– Я в целом.
Ты подозреваешь, что Алебастр успокаивал местные микроземлетрясения и все афтершоки северной катастрофы, так что более чем заслужил свое содержание. Но если Юкка сама не способна такое сэссить, объяснять бессмысленно – и ты пока не уверена, что можешь ей достаточно доверять, чтобы говорить об Алебастре.
– Он мой старый друг. – Вот. Хорошее, пусть и неполное объяснение.
– Не похож он на тех, что заводит друзей. Да и ты тоже. – Она долго смотрит на тебя. – Ты тоже десятиколечница?
Ты невольно сгибаешь пальцы.
– Когда-то я носила шесть.
Лерна резко поднимает голову и смотрит на тебя. Хорошо. Лицо Каттера дергается, и ты не понимаешь почему. Ты добавляешь:
– Алебастр был моим наставником в Эпицентре.
– Вижу. И чего он от тебя хочет наверху?
Ты открываешь рот и снова закрываешь. Ты не можешь отвести взгляда от Хьярки, которая фыркает и встает, а также Лерны, лицо которого становится натянутым, когда он понимает, что ты не хочешь говорить при нем. Он заслуживает лучшего, но все же… он глухач. Наконец ты говоришь:
– Это дело орогенов.
Слабый довод. Лицо Лерны становится непроницаемым, глаза жесткими. Хьярка машет рукой и идет к занавеси.
– Тогда я пошла. Идем, Каттер. Ты же Опора, – смеется она.
Каттер подбирается, но, к твоему удивлению, встает и выходит за ней. Ты смотришь на Лерну, но тот складывает руки на груди. Никуда не уходит. Ладно же. Под конец Юкка смотрит на тебя скептически.
– И что же это? Последний урок твоего старого наставника? Он явно долго не протянет.
Ты стискиваешь челюсти прежде, чем успеваешь спохватиться.
– Это предстоит увидеть.
Юкка еще мгновение сидит в задумчивости, затем решительно кивает и встает.
– Что же, ладно. Дай собрать нескольких Опор, и пойдем.
– Подожди, ты тоже идешь? Зачем?
– Из любопытства. Хочу увидеть, на что способна шестиколечница из Эпицентра. – Она ухмыляется тебе и берет длинную меховую безрукавку, в которой ты впервые ее увидела. – Посмотрю, может, и я такое могу.
Тебя корежит от мысли, что самоучка попытается связаться с обелиском. Это дикость.
– Нет.
Лицо Юкки становится бесстрастным. Лерна пялится на тебя, не веря, что ты достигла цели только затем, чтобы в то же мгновение все порушить. Ты быстро поясняешь:
– Это опасно даже для меня, а я уже это делала.
– Это?
Ладно, хватит. Безопаснее, если она не будет знать, но Лерна прав – тебе придется завоевать эту женщину, если ты собираешься жить в ее общине.
– Обещай не пытаться, если я тебе скажу.
– Да никакой ржави я не буду обещать. Я тебя не знаю. – Юкка складывает руки на груди. Ты крупная женщина, но она чуть выше, и даже волосы не помогают. Многие с кровью санзе любят отращивать свои пепельные волосы такой громадной пушистой гривой, как у нее. Так пугают противника звери, и это помогает, если за этим стоит еще и уверенность. У Юкки есть и грива, и уверенность. Но у тебя есть знание. Ты встаешь и смотришь ей в глаза.
– Ты не сможешь, – говоришь ты, страстно желая, чтобы она поверила. – У тебя образования нет.
– Ты не знаешь, какое у меня образование.
И ты моргаешь, вспоминая ту минуту наверху, когда осознание того, что ты потеряла след Нэссун, чуть не лишило тебя рассудка. Это странное, всеобъемлющее дуновение силы, которое пустила против тебя Юкка, похожее на пощечину, но более доброе и в чем-то орогенистическое. Затем эта ее маленькая хитрость – приманивать орогена издалека, за много миль от Кастримы. Может, Юкка и не носит колец, но орогения – это не про ранги.
Значит, тут ничем не поможешь.
– Обелиск, – уступаешь ты. Ты смотришь на Лерну, который моргает и сдвигает брови. – Алебастр хочет, чтобы я призвала обелиск. Я хочу посмотреть, смогу ли.
К твоему изумлению, глаза Юкки вспыхивают, и она кивает:
– Ага! Я всегда думала, что эти штуки что-то значат. Тогда пошли. Я определенно хочу это увидеть.
О, твою ж мать.
Юкка влезает в безрукавку.
– Дай мне полчаса, встречаемся у смотровой площадки. – Это вход в Кастриму, та маленькая платформа, на которой новички непременно пялятся на странную общину внутри гигантской жеоды. С этими словами она протискивается мимо тебя наружу. Качая головой, ты смотришь на Лерну. Он скованно кивает – он тоже хочет пойти. Хоа? Он просто по обыкновению пристраивается позади тебя, спокойно глядя тебе в лицо, словно говоря – а ты сомневалась? Что же, пошли.
Юкка встречает тебя у смотровой площадки через полчаса. С ней еще четверо других кастримитов, вооруженных и одетых в неброскую одежду, чтобы слиться с местностью на поверхности. Подниматься вверх труднее, чем спускаться: много подъемов, много лестниц. Ты не выдохлась, как некоторые из сопровождения Юкки, когда вы выбираетесь, но ты проходила по много миль каждый день, пока они жили в безопасности и комфорте в подземном городе. (Юкка, как ты замечаешь, лишь чуточку запыхалась. Держит себя в форме.) В конце концов вы доходите до ложного подвала в развалинах одного из домов наверху. Это, однако, не тот же подвал, через который ты вошла, что не должно тебя удивлять – конечно же, у них много входов и выходов. Подземные ходы более запутаны, чем ты думала сначала, – надо взять это на заметку, если тебе когда-то придется спешно уходить.
В развалинах дома караулят Опоры – некоторые охраняют подвальный вход, другие наверху лестницы наблюдают за дорогой. Когда верхние часовые говорят тебе, что все чисто, ты выходишь в пеплопад раннего вечера.
Ты вроде провела в жеоде Кастримы меньше суток? Удивительно, какой странной тебе кажется поверхность. Впервые за многие недели ты замечаешь сернистый смрад в воздухе, серебристый туман, постоянный мягкий шорох падающих пухлых хлопьев пепла и мертвых листьев. Тишина, заставляющая тебя осознать, насколько шумно в нижней Кастриме, полной людских разговоров и скрипа блоков, звона кузниц и постоянного гула странной потаенной машинерии жеоды. Наверху ничего этого нет. Деревья сбросили листву, ничего не движется среди рваного, иссохшего мусора.
В ветвях не слышится птичьего пения – большинство птиц прекращают Зимой отмечать территорию и спариваться, а пение лишь привлекает хищников. Не слышно голосов никаких животных. На дороге нет путников, хотя ты можешь сказать, что там слой пепла потоньше. Недавно проходили люди. Даже ветер улегся. Солнце село, хотя небеса еще достаточно светлые. Облака, даже так далеко на юге, все еще отражают пламя Разлома.
– Кто проходил? – спрашивает Юкка одного из часовых.
– Вроде как семья, около сорока минут назад, – говорит он. Он говорит, как подобает, тихо. – Хорошо снаряжены. Человек двадцать, всех возрастов, все санзе. Шли на север.
Все смотрят на него. Юкка повторяет:
– На север?
– На север. – Часовой с прекраснейшими длинными ресницами смотрит на Юкку и пожимает плечами: – Шли целенаправленно.
– Хм. – Она складывает руки на груди. Вздрагивает, хотя снаружи не особо холодно – холоду Пятого Времени года нужно несколько месяцев, чтобы войти в полную силу. В нижней Кастриме настолько тепло, что привыкшим к этому в верхней Кастриме холодно. Или, может, Юкка просто реагирует на запустение поселения вокруг нее. Столько молчаливых домов, мертвых садов и засыпанных пеплом тропинок, по которым некогда ходили люди. Ты считала прежде наземный уровень общины приманкой – так оно и есть, это ловушка для привлечения нужных людей и отпугивания враждебных. Но все же прежде это была настоящая община, живая, светлая и совсем не мертвая.
– Ну? – Юкка делает глубокий вздох и улыбается, хотя тебе ее улыбка кажется натянутой. Она кивает на низкие пепельные облака: – Если тебе нужно видеть эту штуку, то вряд ли тебе это удастся в скором времени.
Она права: воздух – сплошная пепельная дымка, и за пузырящимися, с красным оттенком облаками ты ни черта не видишь. Ты выходишь за порог и все равно смотришь в небо, не зная, с чего начать. Ты даже не уверена, что следует начинать. В конце концов, в первый и второй раз, когда ты пыталась взаимодействовать с обелиском, ты чуть не погибла. Алебастр этого хочет, это факт, но этот человек уничтожил мир. Может, не следует делать то, чего он хочет?
Но он никогда не причинял тебе зла. Мир – но не он. Может, мир и заслуживает гибели. И может, Алебастр заслуживает хоть немного твоего доверия после всех этих лет.
Ты закрываешь глаза и пытаешься успокоить мысли. В конце концов ты замечаешь звуки вокруг себя. Слабый скрип и треск деревянных частей Кастримы под весом пепла или из-за изменения температуры воздуха. Какая-то живность, шуршащая среди сухих стеблей огорода: крысы или еще какая мелочь, не о чем волноваться. Один из кастримитов почему-то по-настоящему громко сопит. Теплая дрожь земли под твоими ногами. Нет. Не туда. В небе действительно слишком много пепла, чтобы ты смогла как-то захватить облака своим сознанием. Пепел – это превращенный в пудру камень, в конце концов. Но тебе нужны не облака. Ты пробираешься сквозь них ощупью, как по пластам земных пород, не совсем уверенная, что ты ищешь…
– Еще долго? – вздыхает один из кастримитов.
– А у тебя свидание горит? – цедит Юкка. Он не имеет значения. Он…
Он…
Что-то резко тянет тебя на запад. Ты дергаешься и поворачиваешься к нему, втягивая воздух как в ту памятную давнюю ночь в общине под названием Аллия, с другим обелиском. Аметистом. Ему не требовалось, чтобы ты его видела, ему нужно было, чтобы ты повернулась к нему лицом. Линия видимости, линия силы. Да. И там, далеко, на линии твоего внимания, ты сэссишь, как твое сознание тянет к чему-то тяжелому… и темному.
Темному, такому темному. Но ведь Алебастр говорил, что это топаз, не так ли? Это не он. Ощущение чем-то знакомое, напоминает гранат. Но не аметист. Почему? Тот гранат был нарушен, безумен (ты не уверена, почему тебе на ум приходит именно это слово), но если не считать этого, он был также каким-то образом более мощным, хотя мощь – слишком простое слово для описания того, что заключает в себе эта штука. Многоликость. Странность. Более темные тона, более глубокий потенциал? Но если так…
– Оникс, – говоришь ты вслух, открывая глаза.
Другие обелиски жужжат где-то на периферии твоего зрения, они, вероятно, ближе, но не откликаются на твой полуинстинктивный зов. Темный обелиск так далеко, за Западным Побережьем, где-то над Неведомым морем. Ему понадобится несколько месяцев, чтобы добраться сюда. Но.
Но. Оникс слышит тебя. Ты знаешь это, как однажды поняла, что твои дети услышали тебя, хотя и сделали вид, что нет. Он тяжело поворачивается, таинственный процесс пробуждается в первый раз за все века земли, когда он испускает звуковую волну и вибрацию, сотрясающую море на много миль в глубину. (Откуда ты знаешь? Ты не сэссишь этого. Просто знаешь.)
Затем он начинает приближаться. Злой, пожирающий Земля…
Ты резко отступаешь по линии, ведущей тебя назад, к себе. По пути что-то резко привлекает твое внимание, и почти запоздало ты зовешь и его – топаз. Он легче, живее, намного ближе и почему-то отзывчивее, возможно, потому, что ты чуешь намек на Алебастра в промежутках его решетки, как стружечку цедры в остром блюде. Он приправил его для тебя.
Затем ты приходишь в себя и оборачиваешься к Юкке, которая хмуро на тебя смотрит.
– Ты все поняла?
Она медленно качает головой, но это не отрицание. Она каким-то образом что-то почувствовала. Ты видишь это по ее лицу.
– Я… это… что-то было. Не уверена что.
– Не тянись ни к тому ни к другому, когда они будут здесь. – Поскольку ты уверена, что они придут. – Не тянись ни к одному. Никогда. – Ты не хочешь произносить слова «обелиск». Слишком много глухачей вокруг, и даже если они еще не убили тебя, им не надо знать, что что-то может сделать орогена еще более опасным, чем уже есть.
– А что будет, если я это сделаю? – Это вопрос из чистого любопытства, не вызов, но некоторые вопросы опасны.
Ты решаешь быть честной.
– Ты погибнешь. Как – я не уверена. – На самом деле ты совершенно уверена, что она тут же превратится в раскаленно-белый вопящий столб огня и силы, вероятно уничтожив вместе с собой Кастриму. Но ты уверена не на сто процентов, потому цепляешься за то, что знаешь. – Эти… штуки похожи на батареи, которыми пользуются некоторые экваториальные общины. – Проклятье. – Пользовались. Ты слышала о таких? Батареи запасают энергию, чтобы у тебя было электричество, даже если гидро- и геотермальные станции…
У Юкки оскорбленный вид. Она же санзе, это они изобрели батареи.
– Знаю я эти, ржавь, батареи! При малейшем сотрясении повсюду кислота, и все ради хранения запасов сока! – Она качает головой. – То, о чем ты говоришь, не батарея.
– Когда я покинула Юменес, там делали сахарные батареи, – говоришь ты. Она не произносит слова «обелиск». Хорошо, она поняла. – Они безопаснее кислотно-металлических. Батареи можно делать не единственным способом. Но если она слишком мощная для контура, к которому ты ее присоединишь…
Ты считаешь это достаточным, чтобы передать свою мысль.
Она снова качает головой, но ты думаешь, что она поверила тебе. Когда она отворачивается и начинает расхаживать в задумчивости, ты замечаешь Лерну. Все это время он сидел тихо, слушая твой с Юккой разговор. Теперь он в глубокой задумчивости, и это беспокоит тебя. Тебе не нравится, что глухач так напряженно об этом думает. Но затем он заставляет тебя удивиться.
– Юкка. Как ты думаешь, насколько на самом деле стара эта община?
Она останавливается и хмуро смотрит на него. Остальные кастримиты неуютно переминаются. Может, им неприятно напоминание, что они живут в развалинах мертвой цивилизации.
– Понятия не имею. А что?
Он пожимает плечами:
– Просто думал о сходстве.
И ты понимаешь. Кристаллы в нижней Кастриме светятся каким-то непонятным для тебя образом. Кристаллы в небе летают непонятным для тебя образом. И оба механизма предназначены для использования орогенами, и никем, кроме них.
Камнееды проявляют необычный интерес к тем, кто их использует.
Ты смотришь на Хоа.
Но Хоа не смотрит ни на небо, ни на тебя. Он вышел за порог и сидит на корточках на засыпанной пеплом земле, пристально глядя на что-то. Ты прослеживаешь его взгляд и видишь маленький холмик в некогда переднем дворе соседнего дома. Он выглядит как обычная куча пепла где-то в три фута вышиной, но ты замечаешь, что с одной стороны из него торчит высохшая лапка какого-то животного. Может, кошка или кролик. Вокруг, наверное, валяются десятки маленьких скелетиков, погребенных под пеплом. Начало Зимы, вероятно, вызвало великое вымирание. Странно, однако, что эти скелетики засыпаны гораздо сильнее, чем земля вокруг.
– Слишком старые, чтобы их есть, парень, – говорит один из людей, который тоже заметил Хоа и явно понятия не имеет, кем на самом деле является этот «паренек». Хоа моргает и прикусывает губу, в совершенстве изображая тревогу. Он так хорошо притворяется ребенком. Затем он встает и идет к тебе, и ты понимаешь, что он не играет. Что-то на самом деле беспокоит его.
– Другие твари съедят, – очень тихо говорит он тебе. – Надо уходить.
Что?
– Ты же ничего не боишься.
Он стискивает зубы. Алмазные зубы. Мускулы поверх алмазных костей? Немудрено, что он никогда не позволял тебе понимать себя – он должен быть тяжелым, как мрамор. Но он говорит:
– Я боюсь того, что может причинить тебе зло.
И… и ты веришь ему. Потому, что ты внезапно осознаешь, что видишь некую закономерность в его странном поведении. Его готовность сразиться с киркхушей, которая слишком быстра даже для твоей орогении. Его свирепость в отношении других камнеедов. Он защищает тебя. Слишком немногие за всю твою жизнь пытались защитить тебя. Этот порыв заставляет тебя поднять руку и погладить его по странным белым волосам. Он моргает. Что-то возникает в его глазах, и это выражение никак нельзя назвать нечеловеческим. Ты не знаешь, что и думать. Однако именно потому ты прислушиваешься к нему.
– Идем, – говоришь ты Юкке и остальным. Ты исполнила просьбу Алебастра. Ты подозреваешь, что он не будет недоволен по поводу лишнего обелиска, когда ты расскажешь ему – если, конечно, он уже не знает. Может, наконец, он скажет тебе, что за ржавь творится.
* * *
Сначала собери в скальном закуте годовой запас на каждого гражданина: десять кубических саженей зерна, пять овощей, четверть от этого в виде сушеных фруктов и половину в виде жира, сыра или консервированного мяса. Умножь на каждый год желаемой длительности жизни на каждого. А потом поставь охранять закут по меньшей мере трех крепких людей – один для охраны схрона, два – чтобы присматривать за стражем.
– Табличка первая, «О выживании», стих четвертый.
3. Шаффа, забытый
Да. Ты еще и он тоже, или была до момента после Миова. Но теперь он некто другой.
* * *
Силы, что раскололи «Клалсу», – орогения, примененная к воздуху. Орогения не предназначена для применения к воздуху, но нет причины, почему она могла бы не сработать. У Сиенит уже был опыт применения орогении к воде – в Аллии и после нее. В воде есть минералы, а в воздухе – частицы пыли. У воздуха есть температура и трение, масса и кинетический потенциал, как и у земли, просто молекулы воздуха сильнее разнесены, и атомы имеют другое строение. В любом случае вмешательство обелиска делает все эти детали формальными.
Шаффа понимает, что грядет, в тот самый момент, как чувствует пульсацию обелиска. Он стар, стар, Страж Сиенит. Очень стар. Он знает, что делают камнееды с сильными орогенами, если у них есть шанс, и он знает, почему так важно, чтобы ороген смотрел на землю, а не на небо. Он видел, что бывает, когда четырехколечник – а он по-прежнему считает Сиенит таковой – связывается с обелиском. Он искренне заботится о ней, понимаешь ли (она не понимает). И дело не совсем в контроле. Она его малышка, и он защищал ее от того, чего она и не подозревает. Мысль о ее мучительной смерти невыносима для него. То, что случается потом, – ирония судьбы.
В тот момент, когда Сиенит цепенеет, и ее тело наполняется светом, и воздух в маленьком переднем отсеке «Клалсу» дрожит и превращается почти в твердую стену неудержимой силы, Шаффа случайно оказывается сбоку от навесной перегородки, а не перед ней. Его напарнику, Стражу, который только что убил дичка – любовника Сиенит, не так везет: когда сила отбрасывает его назад, переборка выпирает из стены как раз под таким углом и на такой высоте, чтобы снести ему голову прежде, чем слететь самой. Однако сам Шаффа свободно пролетает назад сквозь обширный пустой трюм «Клалсу», поскольку корабли уже некоторое время не выходили в пиратский набег. Этого хватает, чтобы несколько погасить его скорость, и основной удар силы Сиенит проходит мимо него. Когда же он наконец врезается в перегородку, то с силой, которая ломает кости, но не превращает их в месиво. Переборка прогибается, крошится вместе с остальным кораблем, когда он врезается в нее. Это тоже способствует.
Затем, когда зазубренные, кинжальные скалы с океанского дна начинают пропарывать корабль, разбрасывая обломки, Шаффе снова везет – ни один не пронзает его тела. Сиенит в этот момент теряет связь с обелиском и ощущает первые приступы горя, которое пройдет афтершоком по всей жизни Иссун. (Шаффа видел ее руку на личике ребенка, зажимающую его рот и нос. Невообразимо. Неужели она не понимала, что Шаффа будет любить ее сына так же, как любил ее? Он бы нежно, так нежно уложил дитя в проволочное кресло.) Она теперь часть чего-то огромного и глобально мощного, и Шаффа, некогда самый важный человек в ее мире, теперь не достоин ее внимания. Он в какой-то мере это понимает, даже летя сквозь бурю, и это понимание оставляет глубокий болезненный ожог в его сердце. Затем он уже в воде и умирает.
Стража убить трудно. Множественных переломов и повреждений внутренних органов самих по себе недостаточно, чтобы убить Шаффу. Даже утопление не проблема в обычной ситуации. Стражи – иные. Но у них есть свой предел, и утопление плюс повреждение органов плюс травмы от ударов тупым предметом – этого хватит. Он понимает это, когда падает в воду, ударяясь об осколки камня и обломки разбитого корабля. Он не знает, где верх, просто в одном направлении чуть светлее, чем в остальных, но его затягивает прочь от света быстро погружающаяся корма корабля. Он разворачивается, бьется о скалу, приходит в себя и пытается грести против нисходящего потока, хотя у него сломана рука. В легких ничего не осталось. Воздух выбило из них, и он пытается не вдохнуть воду, поскольку тогда точно погибнет. Он не может умереть. Еще столько надо сделать.
Но он всего лишь человек – по большей части, – и когда чудовищное давление нарастает, и черные пятна затягивают его зрение, и все его тело немеет от тяжести воды, он ничего не может поделать и вдыхает полные легкие. Это больно – соль жжет его грудь, в гортани огонь, и воздуха нет. И вдобавок ко всему – он может вынести остальное, в своей долгой жуткой жизни и не такое выносил – это вдруг становится чересчур для размеренной, выверенной рациональности, что вела и хранила разум Шаффы до этого момента.
Он впадает в панику.
Стражи никогда не паникуют. Он это знает, и тому есть весомые причины. Но он все же паникует, размахивает руками и вопит, проваливаясь в холодную тьму. Он хочет жить. Это самый первый и главный грех для таких, как он.
Ужас внезапно исчезает. Плохой признак. Мгновением позже его сменяет гнев, такой сильный, что стирает все остальное. Он перестает вопить и дрожит от ярости, но в то же время понимает – это не его гнев. В панике он открыл себя опасности, и то, чего он боится больше всего, вошло в дверь, словно уже овладело им.
Оно говорит ему:
Если хочешь жить, то это можно устроить.
О, Злая Земля…
Опять предложения, обещания, предложения и награды. Шаффа может получить больше силы – достаточно, чтобы бороться с течением, болью и недостатком кислорода. Он сможет жить… но за плату.
Нет. Нет. Он знает цену. Лучше умереть. Но одно дело решиться умереть, другое дело – реально выполнить это намерение в процессе умирания.
Что-то жжет в затылке Шаффы. Это холодный ожог, не такой, как жжение в носу, глотке и груди. Что-то там просыпается, согревается, собирается воедино. Готовится сломать его сопротивление. Мы все делаем то, что должны, шепчет соблазн, и это та же мотивация, при помощи которой Шаффа убеждал себя столько раз, на протяжении стольких веков. Оправдывал слишком много жестокостей. Делай что должен ради долга. Ради жизни.
Довольно. Холодное нечто овладевает им.
Сила наполняет его конечности. За какие-то несколько ударов внезапно снова забившегося сердца срастаются сломанные кости и внутренние органы снова начинают выполнять свои обычные функции, хотя несколько обходным путем из-за недостатка кислорода. Он крутится в воде и начинает плыть, чувствуя нужное направление. Но уже не вверх – внезапно он обнаруживает кислород в воде и дышит ею. У него нет жабр, но его альвеолы вдруг начинают поглощать кислорода больше, чем должны бы. Однако кислорода все же мало – даже недостаточно, чтобы как следует питать его тело. Клетки гибнут, особенно в определенном отделе его мозга. Он с ужасом это осознает. Он осознает медленную гибель всего, что делает его Шаффой. Но цена должна быть уплачена.
Конечно же, он борется. Гнев пытается толкать его вперед, держать под водой, но он знает, что, если будет так продолжаться, все, чем он является, умрет. И он плывет вперед, но также и наверх, вглядываясь в сумрак в поисках света. Умирание занимает много времени. Но в конце концов часть ярости в нем его собственная, ярость оттого, что его вынудили оказаться в этом положении, ярость на себя за то, что сдался, – она поддерживает его, хотя в его руках и ногах начинается покалывание. Но…
Он достигает поверхности. Прорывает ее. Жестко концентрируется на том, чтобы не паниковать, пока выблевывает воду, еще больше выкашливает и, наконец, втягивает воздух. Это очень больно. Но с первым вздохом прекращается умирание. Его мозг и конечности получают то, что необходимо. Перед глазами все еще плавают пятна, в затылке по-прежнему пугающий холод, но он Шаффа. Шаффа. Он держится за это, вцепляется когтями и рычит, изгоняя внедрившийся в него холод. Огонь подземный, он все еще Шаффа и не позволит себе об этом забыть.
(Однако он куда больше теряет. Пойми: Шаффа, которого мы до сих пор знали, Шаффа, которого научилась бояться Дамайя, которому Сиенит научилась противостоять, теперь мертв. Остался мужчина с привычкой улыбаться, искаженным родительским инстинктом и яростью, которая не совсем его, которая с этого момента будет руководить всеми его поступками. Возможно, ты будешь жалеть о погибшем Шаффе. Это нормально. Когда-то он был частью тебя.)
Он снова плывет. Примерно через семь часов – столько силы стоили его воспоминания – он видит все еще дымящийся конус Аллии на горизонте. Это дальше, чем прямо к берегу, но он корректирует направление и плывет к нему. Откуда-то он знает, что там ему помогут.
Солнце давно село, полностью стемнело. Вода холодна, он хочет пить, все болит. К счастью, ни одно морское чудовище не напало на него. Единственная угроза – его собственная воля: дрогнет ли она в сражении с морем или холодной яростью, пожирающей его мозг. И не помогает то, что он один, не считая безразличных звезд… и обелиска. Он один раз видит его, оглядываясь: дрожащий ныне бесцветный силуэт на искрящемся небе. Он кажется не дальше, чем когда он впервые заметил его с палубы корабля и проигнорировал, сосредоточившись на своей добыче. А надо было бы уделить больше внимания, посмотреть, не приближается ли он, вспомнить, что в определенных условиях даже четырехколечник может стать угрозой, и…
Он хмурится, на некоторое время перевернувшись на спину. (Это опасно. Усталость немедленно начинает овладевать им. Силы, поддерживающей его, осталось не много.) Он смотрит на обелиск. Четырехколечник. Кто?
Он пытается вспомнить. Это был кто-то… важный.
Нет. Он Шаффа. Это все, что важно. Он продолжает плыть.
Перед рассветом он ощущает под ногами зернистый черный песок. Спотыкаясь, выходит из воды, чужой сам себе, не зная, как двигаться на суше, наполовину выползает. Прибой отступает у него за спиной, впереди растет дерево. Он падает у его корней и забывается чем-то вроде сна. Но это ближе к коме.
Когда он приходит в себя, солнце уже встало и у него болит все, что только может болеть: легкие горят, конечности ноют, боль пульсирует в несросшихся до конца костях, глотка пересохла, кожа потрескалась. (И еще одна, более глубокая боль.) Он стонет, и какая-то тень падает ему на лицо.
– Ты в порядке? – говорит голос под стать его боли. Грубый, надтреснутый, низкий.
Он с трудом открывает глаза и видит перед собой сидящего на корточках старика. Это восточнобережник, тощий и видавший виды. Его курчавые белые волосы по большей части выпали, не считая венчика вокруг затылка. Когда Шаффа оглядывается, он видит, что они в маленькой бухте в тени деревьев. Лодка старика лежит на берегу неподалеку. Из нее торчит удочка. Деревья вокруг бухты все мертвые, и песок под ногами Шаффы перемешан с пеплом – они слишком близко к вулкану, который прежде был Аллией.
Как он сюда попал? Он помнит, что плыл. Почему он оказался в воде? Это он забыл.
– Я, – начинает было Шаффа и давится собственным сухим распухшим языком. Старик помогает ему сесть и протягивает открытую флягу. Солоноватая, с привкусом кожи вода никогда не казалась ему такой сладкой. Старик после нескольких глотков отнимает ее, Шаффа понимает, что это разумно, но все равно стонет и тянется к ней. Но только раз. Он достаточно силен, чтобы не просить.
(Пустота внутри его – не только от жажды.)
Он пытается сфокусировать взгляд.
– Я. – На сей раз говорить легче. – Я не знаю, в порядке ли я.
– Кораблекрушение? – Старик вытягивает шею и осматривается. Поблизости хорошо виден гребень острых как ножи рифов, которые подняла Сиенит от пиратского острова до самой суши.
– Ты оттуда? Это что было, землетрясение, что ли?
Кажется невероятным, что старик не знает – но Шаффу всегда изумляло, как мало обычные люди знают о мире. (Всегда? Его всегда так изумляло? Правда?)
– Рогга, – говорит он, слишком усталый, чтобы выговорить все три гласных их невульгарного названия. Этого достаточно. Лицо старика становится жестким.
– Грязные уродцы Земли. Именно потому их во младенчестве топить надо. – Он качает головой и смотрит на Шаффу. – Ты здоров для меня, не подниму, а волочить больно будет. Встать сможешь?
С помощью старика Шаффа встает и, шатаясь, идет к лодке. Он сидит на носу, его бьет дрожь, в то время как старик выгребает из бухты и идет вдоль берега на юг. Он дрожит отчасти от холода – его одежда все еще мокрая там, где он лежал, – а отчасти от запоздалого шока. Однако отчасти по совершенно иной причине. (Дамайя! С огромным усилием он вспоминает это имя и образ, с ним связанный, – маленькая испуганная девочка-срединница, на образ которой накладывается образ высокой упрямой женщины-срединницы. В ее глазах любовь и страх, в сердце ее печаль. Он причинил ей боль. Он должен ее найти, но, когда он ищет ощущение от нее, которое должно было быть впечатано в его разум, он ничего не находит. Она исчезла вместе со всем остальным.)
Всю дорогу старик болтает. Он Литц Опора Меттер, а Меттер – маленькая рыбацкая деревушка в нескольких милях к югу от Аллии. Они решали, не переселиться ли после всего, что стряслось с Аллией, но вулкан вдруг заснул, так что, может, Злая Земля до них не доберется, в конце концов, хотя бы не на этот раз. У него двое детей, один тупой, второй самовлюбленный, и трое внуков, все от тупого, он надеется, что не такие тупые, как папаша. Они небогаты, Меттер всего лишь обычная прибрежная община, не может себе позволить даже настоящей стены вместо куртины деревьев да частокола, но люди делают что могут, ты же знаешь, как это, о тебе хорошо позаботятся, не боись.
(Как тебя зовут? – спрашивает старик по ходу болтовни, и Шаффа отвечает. Старик просит еще имен кроме этого, но у Шаффы только одно. Что ты тут делаешь? Немота внутри Шаффы зевает в ответ.)
Деревня из особенно ненадежных, поскольку стоит наполовину на берегу, наполовину в воде, дома плавучие и постоянные связаны волнорезами и причалами. Когда Литц помогает Шаффе сойти на причал, вокруг собираются люди. Они трогают его, и он вздрагивает, но они хотят помочь. Не их вина, что в них так мало того, что ему нужно, потому ощущение от них неприятное. Они подталкивают, направляют его. Он под холодным душем пресной воды, затем на него надевают короткие штаны и домотканую рубаху без рукавов. Когда он во время мытья приподнимает волосы, они дивятся шраму у него на шее, он толстый, зашитый, уходящий в волосы. (Он сам ему удивляется.) Они гадают над его одеждой, так выцветшей от солнца и соли, что она почти утратила цвет. Она кажется серо-коричневой. (Он помнит, что она должна быть бордовой, но не помнит почему.)
Еще вода, хорошая вода. На сей раз он может напиться вдоволь. Он немного ест. Затем спит много часов, и гнев непрерывно шепчет на задворках его сознания.
Когда Шаффа просыпается поздним вечером, перед его кроватью стоит маленький мальчик. Фитиль лампы прикручен, но горит достаточно ярко, чтобы Шаффа мог увидеть свою старую одежду, выстиранную и высушенную, в руках мальчика. Мальчик вывернул один карман – только здесь сохранился первоначальный цвет. Бордовый.
Шаффа опирается на локоть. В мальчике что-то… возможно.
– Привет.
Мальчик так похож на Литца, что через несколько десятков лет, обветрившись и полысев, он будет его двойником. Но в глазах мальчика отчаянная надежда, которая совсем не была бы к месту у Литца. Литц знает свое место в мире. Мальчик, которому одиннадцать или двенадцать, достаточно взрослый, чтобы быть принятым своей общиной… что-то сорвало его с якоря, и Шаффа думает, что знает, что именно.
– Твое, – говорит мальчик, протягивая одежду.
– Да.
– Ты Страж?
Мимолетное почти воспоминание.
– Что это?
Мальчик выглядит сконфуженным почти так же, как ощущает себя Шаффа. Он делает еще шаг к кровати и останавливается. (Подойди ближе. Ближе.)
– Говорят, ты многое не помнишь. Тебе повезло, что ты жив. – Мальчик облизывает губы. – Стражи… хранят.
– Хранят что?
Недоверие смывает страх. Мальчик подходит еще ближе.
– Орогенов. В смысле… вы охраняете людей от них. Чтобы они никому не причинили зла. И их тоже охраняете от людей. Так рассказывают.
Шаффа садится, свесив ноги с края кровати. Боль от ранений почти ушла, его тело восстанавливается быстрее нормального, когда в нем правит гнев. Он чувствует себя хорошо, за исключением одного момента.
– Охраняю орогенов, – задумчиво говорит он. – Правда?
Мальчик смеется, затем его улыбка быстро гаснет. Почему-то он очень боится, но не Шаффы.
– Люди убивают орогенов, – тихо говорит мальчик. – Когда находят их. Если только они не при Стражах.
– Правда? – Как нецивилизованно. Но он вспоминает гребень острых камней в океане и полную свою уверенность, что это сделал ороген. Вот почему их надо топить во младенчестве, сказал Литц.
Одного упустили, думает Шаффа, затем ему приходится бороться с истерическим смехом.
– Я не хочу никому причинять зла, – говорит мальчик. – Но однажды я это сделаю без… без обучения. Я почти сделал, когда тот вулкан начал выделывать всякое. Так трудно удержаться.
– Если бы ты сделал, это убило бы тебя и, вероятно, многих других, – говорит Шаффа. Затем моргает. Откуда он знает? – Горячая точка слишком подвижна, чтобы ты ее безопасно притушил.
Глаза мальчика вспыхивают.
– Так ты знаешь. – Он подходит, садится на корточки у колена Шаффы. – Пожалуйста, помоги мне, – шепчет он. – Я думаю, моя мать… она видела меня, затем этот вулкан… я пытался вести себя как нормальный и не смог. Я думаю, она знает. Если она скажет деду… – Он внезапно резко втягивает воздух, словно задыхается. Он подавляет рыдание, но движение кажется тем самым.
Шаффа знает, каково тонуть. Он протягивает руку и гладит мальчика по облаку густых волос, от макушки к затылку, и позволяет пальцам задержаться на затылке.
– Я кое-что должен сделать, – говорит Шаффа, поскольку это так. Гнев и шепот внутри его имеют цель, в конце концов, и все это стало и его целью. Собрать их, обучить их, сделать их оружием, каковым они и предназначены быть. – Если я заберу тебя с собой, нам придется уехать далеко отсюда. Ты никогда больше не увидишь семьи.
Мальчик отводит глаза, выражение его лица становится горестным.
– Они убили бы меня, если бы узнали.
– Да. – Шаффа еле заметно нажимает и вытягивает из мальчика первую меру – чего-то. Чего? Он не может вспомнить, как это называется. Возможно, у этого нет названия. Имеет значение лишь то, что это существует, и оно ему нужно. С этим, откуда-то знает он, он сможет более прочно уцепиться за рваные остатки того, что он есть. (Был.) Потому он делает первый глоток этого – внезапного и сладкого, как пресная вода после галлонов жгучей соли. Он заслужил выпить это до конца, он тянется за оставшимся так же жадно, как за флягой Литца, хотя заставляет себя остановиться по той же причине. Он может пока продержаться на том, что у него есть, и, если будет терпелив, у мальчика будет больше этого для него потом.
Да. Теперь его мысли проясняются. Легче думать на фоне этого шепота. Ему нужен этот мальчик и прочие вроде него. Он должен пойти и найти их, и с их помощью он сможет добраться до…
…до…
…ладно. Не все прояснилось. Кое-что не вернется никогда.
Но он вернет.
Мальчик вопросительно вглядывается в его лицо. В то время как Шаффа пытается собрать себя из осколков, мальчик сражается со своим будущим. Они созданы друг для друга.
– Я пойду с тобой, – говорит мальчик, видимо, последние несколько минут думая, что у него есть выбор. – Куда хочешь. Никому не хочу причинить зла. Не хочу умирать.
Впервые с момента на корабле несколько дней назад, когда он был другим человеком, Шаффа улыбается. Он снова гладит мальчика по голове.
– У тебя добрая душа. Я помогу тебе, если смогу. – Напряженность мальчика исчезает сразу же, глаза его влажнеют от слез. – Иди и собери вещи в дорогу. Я поговорю с твоими родителями.
Эти слова выходят из его уст естественно, легко. Он и прежде произносил их, хотя не помнит когда. Однако он помнит, что иногда события идут не так хорошо, как он обещает.
Мальчик шепотом благодарит его, хватает Шаффу за колено, словно пытается вдавить в него свою благодарность, затем убегает. Шаффа медленно встает. Мальчик оставил выцветшую форму, и Шаффа снова натягивает ее, его пальцы вспоминают, как должны лежать швы. Должен быть еще плащ, но он пропал. Он не помнит где. Когда он делает шаг вперед, его взгляд привлекает зеркало на стене комнаты, и он останавливается. Дрожит на сей раз не от удовольствия.
Неправильно. Все так неправильно. Его волосы висят, прямые и сухие, после нескольких дней под жестоким действием солнца и соли – они должны быть черными и блестящими, а они тусклые и тонкие, выгоревшие. Форма болтается на нем, поскольку часть своей плоти он перевел в топливо, чтобы добраться до берега. Цвет формы тоже неправильный, и нет никакой уверенности в том, кто он был, кем должен быть. И его глаза…
Злая Земля, думает он, глядя в льдистые, почти белые глаза. Он не знал, что они так выглядят.
Возле двери скрипит половица, и его чуждые зрачки смещаются в сторону. Там стоит мать мальчика, моргая от света лампы у нее в руках
– Шаффа, – говорит она. – Мне показалось, что ты встал. А где Эйтц?
Наверное, это имя мальчика.
– Он заходил и принес мне это. – Шаффа касается своей одежды.
Женщина входит в комнату.
– Хм, – говорит она. – Выжатая и высушенная, она походит на форму.
Шаффа кивает:
– Я узнал о себе нечто новое. Я Страж.
Ее глаза распахиваются.
– Правда? – В ее глазах вспыхивает подозрение. – А Эйтц надоедал тебе.
– Не надоедал. – Шаффа улыбается, чтобы подбодрить ее. Почему-то лицо женщины вздрагивает, и она еще сильнее хмурится. А, да, он разучился еще и очаровывать людей. Он поворачивается и идет к ней, а она пятится. Он останавливается, изумленный ее страхом. – Он тоже кое-что узнал о себе. Я заберу его прямо сейчас.
Зрачки женщины расширяются. Мгновение она немо двигает губами, затем стискивает зубы.
– Я знала.
– Знала?
– Не хотела знать. – Она сглатывает, ее рука застывает, и маленькое пламя лампы дрожит от эмоций, захлестывающих ее. – Не забирай его. Пожалуйста.
Шаффа склоняет голову набок.
– Почему нет?
– Это убьет его отца.
– Не его деда? – Шаффа подходит на шаг ближе. (Ближе.) – Не его дядюшек, тетушек и кузенов? Не тебя?
Она снова вздрагивает.
– Я… не знаю, что я сейчас ощущаю. – Она качает головой.
– Бедняжка, бедняжка, – тихо говорит Шаффа. Это сочувствие тоже автоматическое. Он глубоко чувствует печаль. – Но сумеешь ли ты его защитить от них, если я его не заберу?
– Что? – Она смотрит на Шаффу в изумлении и тревоге. Неужели это и правда не приходило ей в голову. Видимо, нет. – Защитить… его?
То, как она спрашивает, как понимает Шаффа, доказывает, что она не годится для этой задачи. Потому он встает, протягивает руку, словно для того, чтобы положить ее ей на плечо, и качает головой, словно сожалея. Она на мгновение расслабляется и не замечает, как его рука обвивает ее шею. Его пальцы становятся на место и сразу же твердеют.
– Чт…
Она падает мертвой.
Шаффа моргает, когда она падает на пол. На миг его охватывает смятение. Это должно было случиться? А потом – потом его собственные мысли проясняются от порции того, что она дала ему, такую малость по сравнению с тем, чем обладает Эйтц, – он понимает. Такое безопасно проделывать только с орогенами, у которых этого более чем достаточно, чтобы делиться. Эта женщина наверняка была глухачкой. Но Шаффе становится лучше. На самом деле…
Возьми еще, шепчет ярость на задворках его разума. Возьми остальных. Они угрожают мальчику, а это угрожает тебе.
Да. Это кажется разумным.
И Шаффа встает и идет по тихому темному дому, прикасаясь к каждому члену семьи Эйтца и пожирая часть их. Большинство не просыпается. Тупой сын дает больше остальных – почти ороген. (Почти Страж.) Литц дает меньше всего – вероятно, потому что он стар – или потому, что просыпается и пытается бороться с рукой, которой Шаффа зажимает ему рот и нос. Он пытается ударить Шаффу рыбацким ножом, который вытаскивает из-под подушки. Жаль, что ему приходится переживать такой страх! Шаффа резко поворачивает голову Литца, чтобы добраться до его затылка. Слышится треск, которого он даже не замечает, когда поток того, что исходит из Литца, ослабевает, мертво обмякает и становится бесполезным. А, да, запоздало осознает Шаффа, с мертвыми это не работает. В будущем он будет осторожнее.
Но ему настолько лучше теперь, когда тугая боль внутри его затихает. Он… не то чтобы здоров. Больше так никогда не будет. Но когда в нем так много чужого присутствия, отвоевать даже немного территории уже благословение.
– Я Шаффа Страж… Уоррент? – шепчет он, моргая, когда ему в голову приходит последнее слово. Что это за община – Уоррент? Он не может вспомнить. Но все равно рад. – Я сделал лишь то, что было необходимо. Только то, что ко благу мира.
Слова звучат правильно. Да. Ему было нужно ощущение цели, которое сейчас лежит свинцом в его мозгу. Удивительно, что у него не было этого раньше.
Что теперь?
– Теперь у меня есть работа, которую нужно сделать.
Эйтц застает его в жилой комнате. Мальчик запыхался, он возбужден. В руках у него небольшой ранец.
– Я слышал, ты говорил с мамой. Ты… сказал ей?
Шаффа садится на корточки, чтобы его глаза были на одном уровне с глазами мальчика, и берет его за плечи. – Да. Она сказала, что не знает, что ощущает, и больше не сказала ничего.
Лицо Эйтца кривится. Он смотрит в коридор, ведущий к комнатам взрослых. Там все мертвы. Двери закрыты и тихи. Шаффа оставил в живых братьев, сестер и кузенов Эйтца, поскольку он не совсем чудовище.
– Я могу с ней попрощаться? – тихо спрашивает Эйтц.
– Мне кажется, это опасно, – отвечает Шаффа. Он искренен. Он пока не хочет убивать мальчика. – Такое лучше делать чисто. Идем. Теперь у тебя есть я, а я никогда тебя не оставлю.
Мальчик кивает и чуть выпрямляется, затем неуверенно кивает. Он слишком большой, чтобы эти слова имели над ним власть, как обычно. Но они срабатывают, подозревает Шаффа, поскольку Эйтц последние месяцы жил в страхе перед своей семьей. Обыграть такой одинокий, усталый разум не стоит труда. Это даже не ложь.
Они оставляют за спиной полумертвый дом. Шаффа знает, что должен отвезти мальчика… куда-то. В какое-то место с обсидиановыми стенами и золочеными решетками, в место, которое погибнет в пламени, не пройдет и десяти лет, так что, наверное, хорошо, что он слишком пострадал, чтобы вспомнить, где это. В любом случае злой шепот уже начал вести его в другом направлении. Куда-то на юг. Где он должен сделать какую-то работу.
Он кладет руку на плечо Эйтцу, чтобы утешить мальчика или, возможно, себя. Вместе они выходят в предрассветные сумерки.
* * *
Не давайте себя обманывать. Стражи намного, намного старше Старой Санзе, и они служат не нам.
– Последние слова императора Мутшати, записанные перед его казнью.
4. Тебе бросают вызов
После вызова обелиска ты устала. Когда ты возвращаешься к себе и на какое-то мгновение вытягиваешься на голом матрасе, который шел в придачу к комнате, ты засыпаешь так быстро, что даже не понимаешь, что засыпаешь. Среди ночи – или так говорят твои биологические часы, поскольку свечение стен неизменно, – ты резко открываешь глаза, как будто прошло всего лишь мгновение. Но рядом с тобой свернулся Хоа, словно действительно заснул, и ты слышишь тихое похрапывание Тонки в соседней комнате. Ты чувствуешь себя куда лучше, чем прежде, хотя и голодной. Хорошо отдохнувшей, возможно, впервые за много недель.
Голод заставляет тебя встать и пойти в гостиную. На столе стоит маленькая пеньковая сумка, которую наверняка добыла Тонки. Она наполовину открыта. В ней грибы, небольшая кучка сушеных бобов и прочей еды из схрона. Все верно – теперь, принятые в члены Кастримы, вы получаете часть запасов еды. Такой едой не закусишь, разве что грибами, но ты прежде никогда таких не видела, а некоторые грибы прежде, чем есть, надо приготовить. Ты испытываешь соблазн, но… вдруг Кастрима из тех общин, которые дают новичкам опасную еду, не предупреждая?
Хм. Ладно. Ты берешь свой дорожный рюкзак, роешься в нем в поисках остатков провизии, которую принесла с собой в Кастриму, и делаешь себе перекус из сушеных апельсинов, крошек галет и комка мерзкого на вкус сушеного мяса, который ты выторговала в последней общине, которую вы проходили. Ты подозреваешь, что это крысятина. Лористы говорят: еда – это то, что питает.
Ты только что запихала в себя мясо и сидишь в сонных раздумьях о том, что простой вызов обелиска отнял у тебя столько сил – как будто ко всему, что связано с обелиском, применимо слово «просто». И тут ты осознаешь высокий, ритмичный скребущий звук снаружи. Ты тут же отмахиваешься от него. В этой общине все ненормальное. Тебе понадобится несколько недель, если не месяцев, чтобы привыкнуть к здешним звукам. (Месяцы. Ты так легко отказалась от Нэссун?) Так что ты не обращаешь внимания на звук, хотя он все громче и ближе, и продолжаешь зевать. Ты уже готова снова лечь и направляешься к постели, когда до тебя запоздало доходит, что это крики.
Нахмурившись, ты идешь к дверям своего жилья и отдергиваешь толстый полог. Ты не особенно волнуешься – твои сэссапины даже не дрогнули, да и в любом случае, если бы по нижней Кастриме прошел толчок, все уже были бы мертвы, как бы поспешно ни выскочили из домов. Снаружи повсюду полно народу. Мимо твоей двери проходит какая-то женщина с большой корзиной тех самых грибов, которые ты чуть не съела. Она рассеянно кивает тебе, когда ты входишь, затем почти роняет ношу, пытаясь обернуться на шум, и чуть не влетает в мужчину, толкающего крытую бочку на колесах, воняющую как незнамо что – видимо, из сортиров. Без функционального суточного цикла Кастрима никогда по-настоящему не спит, и ты знаешь, что здесь шесть рабочих смен вместо трех обычных, поскольку тебя поставили в одну из них. Она не начнется до середины дня – или двенадцати ударов, как говорят в Кастриме, – тогда ты должна будешь найти какую-то женщину по имени Артит возле кузницы.
Но все это не имеет значения, поскольку сквозь россыпь и выступы кристаллов Кастримы ты видишь группку людей, заходящих в устье большого квадратного туннеля, являющееся входом в жеоду. Они бегут и несут еще кого-то, который и вопит.
Даже тогда тебя подмывает оставить все это без внимания и пойти спать. Это Зима. Люди умирают, тут ты ничем не поможешь. Это даже не твой народ. Что тебе беспокоиться?
Затем кто-то кричит: Лерна! – и в этом вопле столько паники, что ты вздрагиваешь. Ты видишь приземистый серый кристалл дома Лерны со своего балкона, через три кристалла от твоего и чуть ниже. Полог его дома отлетает в сторону, и он сбегает по ближайшей лестнице. Он бежит к лазарету, куда вроде бегут и те люди.
Сама не понимая почему, ты оглядываешься на вход в собственный дом. Тонки спит, как окаменевшее дерево, и не выходит, но Хоа здесь, неподвижный, как статуя, смотрит на тебя. Что-то в его лице заставляет тебя нахмуриться. Похоже, он неспособен сделать каменное лицо, как его сородичи, наверное, потому, что его лицо не по-настоящему каменное. Как бы то ни было, первое, что приходит тебе в голову при виде его лица, – это… жалость. Ты выскакиваешь из дома и вмиг слетаешь на нижний уровень почти прежде, чем успеваешь об этом подумать. (На бегу ты думаешь – жалость замаскированного камнееда взбудоражила тебя так, как не смогли крики человека. Вот какое ты чудовище.) Кастрима, как всегда, угнетающе запутана, но на сей раз тебе помогает тот факт, что люди начинают бежать в направлении тревоги, так что ты просто бежишь в потоке.
Когда ты добираешься до места, вокруг лазарета уже собралась небольшая толпа, большинство из любопытства, тревоги или опасений. Лерна с группой людей заносят раненого товарища внутрь, и этот жуткий вопль теперь становится понятен – это раздирающий глотку вой человека, испытывающего чудовищную боль, невыносимую, но тем не менее вынужденного терпеть ее.
Ты почти бессознательно начинаешь проталкиваться вперед, чтобы войти. Ты ничего не знаешь о медицинском уходе… но ты разбираешься в боли. К твоему удивлению, люди смотрят на тебя сначала раздраженно, затем моргают и сторонятся. Ты замечаешь, как ошеломленно смотрят те, кого оттащили в сторону и шепнули что-то на ухо. Ого-го. Кастрима говорит о тебе.
Затем ты уже внутри, и тебя чуть не сбивает с ног женщина санзе, пробегающая мимо с чем-то вроде шприца в руках. Это небезопасно. Ты следуешь за ней в лазарет, где шестеро держат на постели одного, который кричит. Ты бросаешь взгляд на его лицо, когда один из них отклоняется в сторону – ты его не знаешь. Просто еще один срединник, явно был наверху, судя по серому слою пепла на коже, одежде и волосах. Женщина со шприцем отталкивает плечом в сторону кого-то и, видимо, выдавливает содержимое шприца. Мгновением позже мужчина содрогается с ног до головы, и его рот начинает закрываться. Его крик медленно угасает, медленно, медленно. Медленно. Он один раз сильно вздрагивает, встряхивая всех, кто его держит. Затем наконец он теряет сознание.
Тишина почти вибрирует. Лерна и санзе-лекарка продолжают что-то делать, хотя те, кто держал пострадавшего, отходят и переглядываются, словно спрашивая друг друга, что дальше. В молчаливом смятении ты не можешь заставить себя не смотреть в дальний конец лазарета, где все еще сидит Алебастр, не замечаемая новыми гостями. Его камнеедка стоит там же, где ты видела ее в последний раз, хотя ее взгляд тоже устремлен на зрелище. Ты видишь лицо Алебастра над одеялом; его взгляд устремляется к твоему, но затем он отводит глаза. Твое внимание снова привлечено к человеку на постели, когда некоторые из окружающих его отступают. Сначала ты не понимаешь, в чем проблема, разве что его штаны покрыты странными мокрыми пятнами, поверх которых запекся грязный пепел. Мокрота не красная, это не кровь, но вокруг стоит запах, который ты не уверена, как описать. Мясо в рассоле. Горячий жир. Его ноги босы, ступни конвульсивно подергиваются, растопыренные пальцы неохотно расслабляются, даже когда он без сознания. Лерна распарывает одну штанину ножницами. Когда он снимает мокрый участок, ты сначала видишь маленькие синие полусферы, усеивающие кожу мужчины тут и там, каждый дюйма в два в диаметре и дюйм высотой, блестящие, чуждые плоти. Их десять или пятнадцать.
Каждый находится в центре участка распухшей розово-коричневой плоти, покрывающей примерно пядь площади его ноги. Ты в первый момент думаешь, что эти сферы – драгоценные камни. Они кажутся такими – металлически синими, красивыми.
– Блин, – говорит кто-то слабым от потрясения голосом, и другой добавляет: – Ржавь клятая…
Кто-то протискивается в лазарет у тебя за спиной после короткого спора с людьми, перекрывающими вход. Она встает рядом с тобой, и ты смотришь на Юкку, чьи глаза распахиваются от смятения и отвращения прежде, чем она успевает овладеть собой. Затем она спрашивает, достаточно резко, чтобы люди перестали тупо пялиться:
– Что случилось?
(Ты запоздало – а может, как раз вовремя замечаешь еще одного камнееда в комнате, не так далеко. Она тебе знакома – женщина с рубиновыми волосами, которая приветствовала тебя вместе с Юккой, когда ты впервые пришла в Кастриму. Сейчас она с жадностью смотрит на Юкку, но ее каменный взгляд постепенно переходит и на тебя. Внезапно ты осознаешь с тревогой, что Хоа не пошел с тобой из дому.)
– Патруль внешнего периметра, – говорит Юкке еще один покрытый пеплом срединник. Он не выглядит как Опора, слишком невысок. Может, один из новых Охотников. Он обходит группу у постели, не сводя взгляда с Юкки, будто она – единственное, что не дает ему смотреть на пострадавшего, пока он не сойдет с ума. – Мы вышли к соляному к-карьеру, думая, что это неплохое место для охоты. Там было что-то вроде колодца возле стока ручья. Белед… не знаю. Он пропал. Сначала я услышал, как они оба закричали, но не понял почему. Я был выше по течению, искал звериные следы. Когда я прибежал туда, там был один Тертейс, и выглядел он так, словно пытался выбраться из пепла. Я помог ему, но они уже были на нем, и еще больше карабкались по его ботинкам, так что я срезал их…
Шипение сквозь зубы отвлекает тебя от говорящего. Лерна качает головой, держа пальцы жестко, словно они болели.
– Дай мне, ржавь побери, пинцет! – говорит он другому мужчине, который вздрагивает и поворачивается выполнить приказ. Ты прежде никогда не слышала, чтобы Лерна бранился.
– Какой-то нарыв, – говорит женщина-санзе, делавшая пострадавшему укол. Она говорит неуверенно. Она говорит с Лерной, словно пытаясь убедить его, а не себя. (Лерна продолжает мрачно тыкать в края ожога своей поврежденной рукой, не обращая на нее внимания.) – Не иначе. Он упал в выход пара, гейзер, старую ржавую геотермальную трубу.
То есть жуки – просто совпадение.
– …или они забрались бы и на меня. – Второй Охотник продолжает говорить своим гулким голосом. – Я думал, что колодец – просто воронка в груде пепла, но на самом деле… не знаю. Вроде муравейника. – Охотник сглатывает, стискивает зубы. – Оставшихся я вытащить не смог, потому принес его сюда.
Юкка поджимает губы, но закатывает рукава и идет вперед, расталкивая ошеломленных людей. Она кричит:
– Дорогу! Если не можете помочь, уйдите с дороги, ржавь вашу мать!
Некоторые из толпы начинают оттаскивать других. Кто-то еще хватается за одну из этих драгоценных штук и пытается ее вырвать, затем отдергивает руку, вскрикивая, как Лерна. Предмет меняется, на блестящей синей поверхности раскрываются два блестящих крылышка и потом становятся на место – и внезапно до тебя доходит: это не драгоценные камни, это насекомые. Какие-то жуки, и радужная оболочка – это их панцирь. За то мгновение, когда он поднимает надкрылья, ты видишь его круглое прозрачное тело, в котором внутри что-то бурлит и прыгает. Ты сэссишь его тепло с того места, где ты стоишь, горячее, как кипяток. Вокруг него испаряется человеческая плоть.
Кто-то дает Лерне пинцет, и он пытается вытащить одного жука. Он снова поднимает надкрылья, и тоненькая струйка чего-то бьет прямо по пальцам Лерны. Тот вскрикивает, роняет пинцет и отскакивает.
– Кислота! – говорит кто-то. Кто-то еще хватает его за руку и пытается стереть жидкость, но ты понимаешь, что это, прежде чем Лерна успевает ахнуть.
– Нет! Просто вода. Кипяток.
– Осторожно, – запоздало говорит другой Охотник. На одной из его рук ты замечаешь полосу пузырей. Ты также видишь, что он не смотрит на медицинский стол или людей внутри.
На это слишком страшно смотреть. Эти ржавые жуки выкипятят человека до смерти. Но когда ты отводишь глаза, ты видишь, что Алебастр смотрит на тебя. Алебастр, который сам весь в ожогах, который должен был бы умереть. Никто не может оказаться рядом с эпицентром разлома через весь континент и отделаться лишь пятнами ожогов третьей степени. Он должен быть пеплом, разбросанным по расплавленным улицам Юменеса.
Ты понимаешь это, когда он смотрит на тебя, хотя на лице его безразличие к огненной пытке другого человека. Это знакомое безразличие – знакомое по Эпицентру. Это безразличие, порожденное слишком многими предательствами, потерей без причины слишком многих друзей, слишком многих жестокостей, «невыносимых для глаза».
И все же. Дрожь орогении Алебастра беспечно мощна, точна как алмаз и настолько болезненно знакома, что тебе приходится закрыть глаза, чтобы отогнать воспоминания о вздымающейся корабельной палубе, одиноком виадуке, продуваемом ветрами скалистом острове. Торус, который он раскручивает, ничтожно мал – едва ли в дюйм шириной, столь слабый, что ты не можешь найти его булавочного эпицентра. Он все еще лучше тебя.
Затем ты слышишь резкий вздох. Ты открываешь глаза и видишь, как один жук дрожит и шипит, как живой чайник, – и замерзает. Его лапки, которыми он, как крючками, впивался в кипящую вокруг него плоть, ослабевают. Он мертв.
Но затем ты слышишь тихий стон, и орогения рассеивается. Ты смотришь на Алебастра, уронившего голову и сгорбившегося. Его камнеедка медленно, как поворачивается жернов, садится рядом с ним, и что-то в ее позе выражает заботу, хотя лицо безмятежно как всегда. Красноволосая камнеедка – которую ты от внутренней безнадеги пока назвала Рубиновлаской – тоже смотрит на него.
Ну что же. Ты снова смотришь на мужчину, и твой взгляд останавливается на Лерне, который зачарованно смотрит на замороженного жука. Он поднимает взгляд, окидывает им комнату, напарывается на твой, останавливается. Ты видишь в его глазах вопрос и качаешь головой – нет, не ты заморозила жука. Но это не тот вопрос, может, он даже и не его задавал. Его не волнует, ты ли это сделала. Ему нужно знать, можешь ли ты это сделать. Лерна, Хоа, Алебастр – сдается, сегодня тобой движут молчаливые, многозначительные взгляды.
Горячие точки этих насекомых сэссятся как геотермальные скважины, и ты шагаешь вперед и фокусируешь свои сэссапины. В их маленьких телах большое контролируемое давление – так они заставляют воду закипать. Ты поднимаешь руку в направлении мужчины по привычке, чтобы все понимали, что ты что-то делаешь, и ты слышишь ругань, брань, шарканье ног и толкотню, когда люди пятятся от тебя, подальше от торуса, который ты можешь создать. Дураки. Неужели они не понимают, что тебе нужен торус только в том случае, когда ты тянешь из окружающего? В жуках полно того, что тебе нужно. Трудность в том, чтобы ограничить твое тянущее движение только ими, но не перегретой плотью человека под ними.
Камнеед Юкки подходит на шаг ближе. Ты скорее сэссишь ее движение, чем видишь – это словно гора идет к тебе. Затем Рубиновласка резко останавливается, словно на пути ее другая гора – Хоа, неподвижный и спокойно холодный. Откуда он взялся? Но сейчас ты не можешь тратить внимание на этих существ.
Ты начинаешь медленно, пользуясь глазами и сэссапинами, чтобы точно понять, когда остановиться… но Алебастр показал тебе, как это делается. Ты тянешь торус от их маленьких горячих тел, как и он, один за другим. Когда ты это делаешь, один из них трескается с громким злым шипением, а один даже выскакивает, отлетая к стенке комнаты. (Люди отскакивают от него даже быстрее, чем от тебя.) Затем все заканчивается.
Все смотрят на тебя. Ты – на Юкку. Ты тяжело дышишь, поскольку такая степень точного фокуса намного тяжелее дается, чем подъем холма.
– Ничего не надо тряхнуть?
Она моргает, тут же понимая, о чем ты. Затем хватает тебя за руку. Что?.. Инверсия. Отвод энергии. Как было у тебя с обелиском, только обелиска нет, и ты не делаешь отвода, хотя это твоя орогения. Ты сразу начинаешь слышать крики людей снаружи и бросаешь взгляд в дверь. Лазарет построен, а не вырезан в гигантском кристалле жеоды; внутри он освещен электрическими лампами. Однако сквозь незанавешенный пологом вход ты видишь, как по всей общине заметно ярче загораются кристаллы.
Ты в упор смотришь на Юкку. Она понимающе кивает в ответ, как коллега коллеге, словно ты понимаешь, что она только что сделала или тебя должно удовлетворять то, что дичок делает то, чего не может окольцованный ороген Эпицентра. Затем Юкка отходит и берет второй пинцет, чтобы помочь. Лерна извлекает жука, несмотря на ошпаренные пальцы, и на сей раз тварь вылезает. Хоботок длиной с его тело выскальзывает из вскипевшей плоти, и ты – ты больше не можешь смотреть.
(Краем глаза ты снова замечаешь Рубиновласку. Она не смотрит на Хоа, который стоит неподвижно, как статуя, между вами, и теперь она улыбается Юкке. Ты замечаешь блеск зубов. Выбрасываешь это из головы.)
Ты отходишь в дальний угол лазарета, садишься рядом с Алебастром на подушки. Он все еще сгорблен, дышит, как меха, хотя камнеедка держит его за плечо одной рукой, чтобы не дать ему упасть. Ты запоздало понимаешь, что он прижимает к животу одну культю, и – о, Земля. Серо-коричневый камень, некогда обтягивавший его кисть, теперь дополз до локтя.
Он поднимает голову; лицо его блестит от пота. У него такой измотанный вид, будто он только что заткнул очередной супервулкан, хотя сейчас он по крайней мере в сознании и улыбается.
– Ты всегда была хорошей ученицей, Сиен, – шепчет он. – Но, ржавь земная, как же дорого тебя учить.
Шок осознания звенит в тебе, как оглушительная тишина. Алебастр больше не может вершить орогению. Не может без… последствий. Ты инстинктивно смотришь на Сурьму, и у тебя тошнота подступает к горлу, когда ты понимаешь, что камнеедка смотрит на его свежеокаменевшую руку. Однако она не шевелится. Через мгновение Алебастр умудряется выпрямиться, бросает на нее благодарный взгляд за поддержку.
– Позже, – тихо говорит он. Ты понимаешь, что это значит – ты съешь мою руку позже. Она перемещает руку, чтобы поддерживать его под спину. Порыв отшвырнуть ее, самой поддержать его настолько силен, что ты на это тоже не можешь смотреть.
Ты выпрямляешься, проходишь мимо всех из лазарета и садишься на низкую, плоскую верхушку кристалла, который лишь начинает расти из стены жеоды. Никто не тревожит тебя, хотя ты ощущаешь и слышишь шепотки. Ты не намеревалась оставаться надолго, но остаешься. Ты не понимаешь почему.
Наконец на твои ноги падает тень. Ты поднимаешь взгляд и видишь Лерну. За его спиной уходит Юкка вместе с тем, кто пытается с ней поговорить; похоже, она сердито игнорирует его. Остальная толпа в конце концов расползается, хотя сквозь открытые двери ты видишь, что в лазарете пока еще больше, чем обычно, народу – видимо, навещают полусваренного Охотника.
Лерна не смотрит на тебя. Он уперся взглядом в дальнюю стену жеоды, тающую в туманном свечении десятков кристаллов между ней и этим местом. Он курит сигарету. Ее вонь и желтоватая обертка говорят тебе, что это мелло: листья и бутоны мятной дыньки, в сухом виде мягкий наркотик. Таким славится Южное Срединье, если Южное Срединье вообще чем-то может славиться. Тебя, однако, удивляет, что он курит такое. Он доктор. На тебе мелло сказывается плохо.
– Ты в порядке? – спрашиваешь ты.
Он не сразу отвечает, делая долгую затяжку. Ты уж начинаешь думать, что он не ответит тебе, когда он говорит:
– Я намерен убить его, когда вернусь внутрь.
И ты понимаешь. Эти жуки прожгли кожу, мускулы, может, даже до самой кости. С командой юменесских врачей и притупляющими боль биоместрическими наркотиками этого человека, возможно, можно было бы продержать в живых достаточно долго, чтобы вылечить – да и тогда он мог бы потерять способность ходить. Но при том оборудовании и лекарствах, что есть в Кастриме, лучшее, что может сделать Лерна, – ампутировать ему ногу. Может, он даже это переживет. Но сейчас Зима, и каждый общинник должен отрабатывать свой хлеб и кров. Мало общин найдет занятие для безногого Охотника, а эта община и так уже содержит одного обгоревшего инвалида.
(Юкка уходит, не обращая внимания на человека, который выглядит так, словно отстаивает свою жизнь.)
Так что Лерна очень даже не в порядке. Ты решаешь немного сменить тему.
– Я никогда не видела ничего подобного этим жукам.
– Местные говорят, что их называют жуки-кипячи, хотя прежде никто не знал почему. Они плодятся вокруг ручьев, содержат в себе воду. Животные едят их во время засухи. Обычно они падальщики. Безобидные. – Лерна стряхивает пепел с руки. Он одет только в свободную рубаху без рукавов, поскольку в Кастриме тепло. Кожа его предплечий… в каких-то мелких пятнах. Ты отводишь взгляд.
– Зимой порядок вещей меняется.
Да. Вареная падаль, возможно, хранится дольше.
– Ты могла бы достать эту хрень из него как только вошла, – добавляет Лерна.
Ты моргаешь. Затем твой разум интерпретирует это как атаку. Она такая завуалированная, с такого неожиданного направления, что ты слишком изумлена, чтобы обозлиться.
– Не могла, – говоришь ты. – По крайней мере, не знала, что могу. Алебастр…
– От него я ничего не жду. Он пришел умереть здесь, а не жить.
Лерна оборачивается к тебе, и внезапно ты понимаешь, что его спокойное поведение прикрывает совершенную ярость. Взгляд его холоден, но она сквозит во всем остальном – в белых губах, желваках на скулах, трепещущих ноздрях.
– Зачем ты здесь, Иссун?
Ты вздрагиваешь.
– Ты знаешь. Я пришла искать Нэссун.
– Тебе ее не найти. Твоя цель изменилась – теперь ты здесь, чтобы выжить, как и у всех нас. Теперь ты одна из нас. – Его губы кривятся от презрения. – Я говорю это потому, что, если я не заставлю тебя это понять, на тебя может накатить эта ржавь, и ты убьешь всех нас.
Ты открываешь рот, чтобы ответить. Но он делает шаг к тебе, и в нем столько агрессии, что ты садишься.
– Скажи, что это не так, Иссун. Скажи, что мне не придется покидать эту общину среди ночи, надеясь, что никто из тех, кого ты разозлила, не перехватит меня и не вспорет мне глотку. Скажи мне, что мне не придется сражаться за свою жизнь и помогать умирать людям, которых я лечу, снова и снова, пока меня не сожрут эти жуки…
Ему перехватывает горло, и он замолкает, резко отворачиваясь. Ты смотришь на его напряженную спину и не говоришь ничего, поскольку сказать нечего. Сейчас он второй раз напомнил тебе об уничтожении Тиримо. А тебя это удивляет? Он там родился и вырос; мать Лерны все еще жила там, когда ты ушла. Ты задумываешься. Может, ты и ее убила в тот последний день. Тебе нечего сказать, горечь переполняет твой рот, но все же ты пытаешься.
– Мне жаль.
Он смеется. Это так не похоже на него, этот смех такой уродливый и злой. Он снова поворачивается и, как и прежде, смотрит на дальнюю стену жеоды. Сейчас он лучше держит себя в руках; желваки не так выделяются на скулах.
– Ну так докажи, что тебе жаль.
Ты качаешь головой, скорее сконфуженно, чем отрицательно.
– Как?
– Словом. Больше всего общину волнует, что при встрече с Юккой ты вроде бы подтвердила то, о чем многие здешние рогги шепчутся между собой. – Ты почти кривишься от слова «рогга» в его устах. Он прежде был таким вежливым мальчиком. – Прежде всего ты сказала, что эта Зима не закончится несколько тысяч лет. Это преувеличение или правда?
Ты вздыхаешь и проводишь рукой по волосам. Они густые, курчавые у корней. Тебе надо распутать локоны, но у тебя не было времени, да и незачем.
– Зимы всегда кончаются, – говоришь ты. – Отец Земля блюдет собственное равновесие. Вопрос лишь о том, сколько это займет времени.
– Сколько? – Это вряд ли вопрос. Он уже догадывается об ответе. И он заслуживает услышать от тебя самую честную, лучшую догадку. – Десять тысяч лет?
Чтобы Юменесский Разлом перестал дымить, а небеса расчистились, да. Это вовсе не долго по обычной тектонической шкале, но настоящая опасность заключается в том, какие последствия может спровоцировать пепел. Если теплую поверхность моря покроет достаточное количество пепла, на полюсах начнет нарастать лед. Моря станут более солеными, а климат более сухим.
Вечная мерзлота. Наступают и ширятся ледники. И если такое случится, то самая пригодная для жизни часть континента, Экваториали, будет по-прежнему раскаленной и отравленной. Во время Пятого времени года убивает именно зима. Голод. Отсутствие жилья. Даже если небо расчистится, Разлом может вызвать эру зимы, которая продлится миллионы лет. И это не имеет значения, поскольку человечество вымрет задолго до этого. И останутся лишь обелиски, парящие над бесконечной белой равниной, и никто уже не будет им дивиться или бояться их.
Его веки вздрагивают.
– Хм. – К твоему удивлению, он поворачивается к тебе. Еще больше удивляет, что его гнев вроде бы ушел, хотя его сменяет некая мрачность, которая кажется знакомой. Но тебя сбивает с толку именно его вопрос: – И что ты намерена с этим делать?
У тебя челюсть падает. Через мгновение ты выдавливаешь:
– А я и не знала, что могу что-то с этим сделать. – Прямо как ты не думала, что можешь что-то сделать с жуками. Алебастр гений. Ты хмыкаешь.
– Так что вы с Алебастром делаете с обелисками?
– Что Алебастр делает, – поправляешь его ты. – Он просто попросил меня призвать один из них. Возможно, потому, – это больно говорить, – что он больше не способен на этот вид орогении.
– Ведь это Алебастр устроил Разлом?
Ты так быстро закрываешь рот, что у тебя клацают зубы. Ты только что сказала, что Алебастр больше не способен к орогении. Достаточно много кастримитов услышали, что они живут в подземном каменном саду из-за него, и они найдут способ убить его, несмотря на камнеедку.
Лерна криво усмехается.
– Не так трудно сложить два и два, Иссун. У него ожоги от пара, ссадины от воздушной взвеси и язвы от едкого газа, не от огня – это все характерно для случая, если ты находишься вблизи от источника взрыва. Не знаю, как он выжил, но Разлом оставил на нем свою метку. – Он пожимает плечами. – И я видел, как ты уничтожила город за пять минут не запыхавшись, так что догадываюсь, на что способен десятиколечник. Для чего предназначены обелиски?
Ты сжимаешь челюсти.
– Можешь задать мне этот вопрос шестью разными способами, Лерна, и я отвечу шестью разными вариантами «Не знаю». Поскольку не знаю.
– Я думаю, у тебя есть хотя бы идея. Но хочешь врать – ври. – Он качает головой. – Теперь это твоя община. – После этого он замолкает, словно ждет от тебя ответа. Тебе очень хочется ответить, но ты с негодованием отбрасываешь эту идею. Но он слишком хорошо тебя знает, он знает, что ты не захочешь этого слушать. Именно потому он и повторяет: – Иссун Рогга Кастрима. Вот кто ты теперь.
– Нет.
– Тогда уходи. Все знают, что Юкка не сможет тебя удержать, если ты решишь уйти. Я знаю, что ты убьешь всех нас, если понадобится. Так что уходи.
Ты сидишь, смотришь на свои руки, болтающиеся между колен. Голова твоя пуста.
Лерна склоняет голову.
– Ты не уходишь, потому что ты не дура. Может, ты и выживешь снаружи, но вряд ли Нэссун захочет видеть тебя такой после этого. Да и в любом случае ты хочешь жить, чтобы в конце концов найти ее… какой бы ничтожной ни была вероятность.
Твои руки сжимаются. Затем разжимаются и снова безжизненно висят.
– Если эта Зима не кончится, – продолжает Лерна, и, что хуже всего, тем же монотонным голосом, которым спрашивал, сколько будет длиться Зима, словно говорит чистую правду и понимает это, и ненавидит ее, – у нас кончатся запасы. Каннибализм поможет, но ненадолго. К тому моменту община либо превратится в охотников на людей, либо развалится на бродячие банды неприкаянных. Но в перспективе даже и это нас не спасет. В конце концов остатки кастримитов просто перемрут с голоду. Отец Земля всегда побеждает.
Это правда, хочешь ты это признавать или нет. И это еще одно доказательство того, что Лерну изменило то, что он успел пережить за свою краткую карьеру неприкаянного. Не то чтобы в худшую сторону. Просто он стал целителем, который знает, что иногда надо причинить ужасную боль – снова сломать кость, отрезать конечность, убить слабого, – чтобы сделать сильнее.
– Нэссун сильная, как ты, – продолжает он тихо и жестоко. – Положим, она переживет Джиджу. Положим, ты ее найдешь, приведешь сюда или еще куда, где кажется безопаснее. Она будет голодать вместе со всеми, когда запасы истощатся, но при помощи своей орогении она, вероятно, сможет заставлять остальных отдавать ей еду. Может, даже убьет их и заберет себе оставшиеся припасы. Но в конце концов они все равно закончатся. Ей придется покинуть общину, жить тем, что найдет под пеплом, надеясь, что не наткнется на хищника или какую еще опасность. Она умрет одной из последних: одинокая, голодная, замерзшая, ненавидящая себя. Тебя. Или, может быть, она к тому времени свихнется. Может, будет совсем как животное, движимое только инстинктом выживания, да и здесь ее ждет провал. Может, в конце концов она будет жрать самое себя, как любая тварь…
– Заткнись, – говоришь ты. Шепотом. К счастью, он замолкает. Он снова отворачивается и делает глубокую затяжку полузабытой мелло.
– Ты говорила с кем-нибудь с тех пор, как пришла сюда? – наконец спрашивает он. Это не то чтобы смена темы. Ты не расслабляешься. Он кивает на лазарет: – С кем-нибудь, кроме Алебастра и этого зверинца, с которым ты путешествовала? Не просто сталкивалась – разговаривала.
Недостаточно, чтобы считать. Ты качаешь головой.
– Слухи-то ширятся, Иссун. И сейчас все думают о том, как медленно будут умирать их дети. – Он щелчком отбрасывает бычок. Тот еще горит. – И о том, что они ничего не могут с этим поделать.
Но ты – можешь, ему не надо этого говорить.
А можешь?
Лерна уходит так резко, что ты даже удивлена. Ты даже не осознала, что он ушел. Врожденная бережливость заставляет тебя поднять недокуренную сигарету. Ты не сразу понимаешь, как можно затягиваться и не кашлять – ты никогда прежде не пробовала курить. Считается, что орогенам не следует принимать наркотики.
Но кстати, не предполагается, что орогены должны пережить Зиму. В Эпицентре не было хранилищ. Никто о них не упоминал, но ты совершенно уверена, что, если когда-нибудь Пятое время года накроет Юменес, Стражи зачистят Эпицентр и вырежут всех вас. Вы годны для предотвращения Зимы, но если Эпицентр настолько не справился со своей задачей, если даже самые дельные люди из Черной Звезды или император ощутят хотя бы намек на дрожь, ты и твои сородичи имперские орогены не будут вознаграждены жизнью.
Да и зачем? Какие навыки выживания есть у рогги? Ты можешь не дать людям погибнуть в землетрясении, ага. Очень кстати, когда жрать нечего.
– Хватит! – Ты слышишь голос Юкки неподалеку, хотя не можешь видеть ее за кристаллами на нижнем уровне. – Это решено! Ты идешь туда или будешь на меня силы тратить?
Ты встаешь. Колени ноют. Направляешься в ее сторону.
По пути ты проходишь мимо молодого человека, чье лицо залито слезами ярости и зарождающегося горя. Он проносится мимо тебя в лазарет. Ты продолжаешь идти и в конце концов находишь Юкку возле грани высокого узкого кристалла. Она уперлась в него ладонью и стоит, свесив голову, и ее пушистые волосы так окружают ее лицо, что ты его не видишь. Тебе кажется, что она слегка дрожит. Возможно, это твое воображение. Она кажется такой хладнокровной. Но ведь и ты тоже.
– Юкка.
– И ты тоже, – ругается она. – Я не хочу об этом слышать, жукобойца.
Ты запоздало осознаешь – убив жуков, ты осложнила ей выбор. Прежде она могла приказать убить Охотника из жалости, и виноваты были бы жуки. Теперь это прагматизм, политика Общины. И вся тяжесть решения лежит на ней.
Ты качаешь головой и подходишь ближе. Она выпрямляется и смотрит на тебя, и ты сэссишь оборонительную ориентацию ее орогении. Она ничего с ней не делает, не образует торус и не начинает тянуть из окружающего, но ведь ей и не нужно, не так ли? Это техника Эпицентра. Ты ведь не знаешь в действительности, что она собирается сделать для своей защиты, эта странно обученная дичок. Тебе отчасти любопытно, отстраненно-любопытно. Другая часть тебя замечает напряженность на ее лице. И ты протягиваешь ей горящую сигарету с мелло.
Она моргает. Ее орогения снова становится пассивной, но она поднимает глаза навстречу твоему взгляду. Затем наклоняет голову набок, ошеломленно и задумчиво. Наконец она кладет руку на бедро, другой забирает мелло у тебя и глубоко затягивается. Она действует быстро – через мгновение она оборачивается и приваливается к кристаллу и со скорее усталым, а не напряженным лицом выпускает колечки дыма. Она возвращает тебе сигарету. Ты устраиваешься рядом и берешь ее.
За десять минут вы докуриваете сигарету, передавая ее друг другу. Когда она заканчивается, вы обе по невысказанному соглашению остаетесь вместе. Только когда вы слышите громкие прерывистые рыдания из лазарета у себя за спиной, вы киваете друг другу и расходитесь.
* * *
Просто невозможно вообразить, чтобы любая разумная цивилизация была так расточительна, чтобы набивать лучшие пещеры-хранилища трупами! Неудивительно, что эти люди вымерли, кем бы они ни были. Примерно год уйдет, чтобы выбросить все кости, погребальные урны и прочий мусор, затем еще месяцев шесть на полную картографию и реновацию. Меньше, если ты сможешь добыть мне требуемых чистильщиков! Мне плевать, если они целой Земли стоят, некоторые из этих камер нестабильны.
Однако в них есть таблички. Какие-то со стихами, хотя этот странный язык мы читать не можем. Вроде Предания камня. Пять табличек, не три. Что ты хочешь с ними делать? Я скажу – отдадим Четвертому, чтобы не ныли о том, сколько исторической памяти мы уничтожаем.
– Доклад Странницы Фогрид Инноватор Юменес Лицензионному отделу Джинерики, Восточная Экваториаль: «Предложение по поводу переориентирования подземных катакомб, город Где-то там». Только для мастеров.
Интерлюдия
Дилемма: ты сделана из слишком многих людей, которыми не хотела бы быть.
Включая меня.
Но ты так мало обо мне знаешь. Я попытаюсь объяснить свою суть, если не подробности. Это начинается – я начну – с войны.
Война не то слово. Война ли это, когда люди находят паразитов в каком-то нежелательном месте и пытаются их выжечь или перетравить? Хотя и это плохая метафора, поскольку никто не испытывает ненависти к отдельной мыши или клопу. Никто не выделяет конкретного паразита для конкретной мести, просто эта трехногая маленькая тварь с пятнистой спинкой и все ее потомство на протяжении сотен отвратных поколений сопровождают человеческую жизнь. А эта трехногая тварь с пятнистой спинкой не имеет шансов стать чем-то большим, чем неприятностью человеку – между тем как ты и твои сородичи раскололи поверхность земли и утратили Луну. Если бы мыши в твоем саду в Тиримо помогли бы Джидже убить Уке, ты разнесла бы это место по камушкам и выжгла бы руины перед тем, как уйти. Ты все равно уничтожила Тиримо, но будь это личным делом, ты сделала бы что-нибудь похуже.
Но несмотря на всю свою ненависть, ты все равно могла бы и не уничтожить паразитов. Уцелевшие сильно изменились бы – стали крепче, сильнее, более пятнистыми. Возможно, причиненные тобой тяготы разделили бы их на множество фракций, каждая со своими интересами. Некоторые из этих фракций плевали бы на тебя. Другие почитали и презирали бы тебя за твою силу. Некоторые так же упорно стремились бы уничтожить тебя, как ты – их, хотя к тому моменту, когда у них появились бы силы по-настоящему проявить свою враждебность, ты забыла бы об их существовании. Но для них твоя злоба стала бы источником легенд.
А некоторые могли бы надеяться умилостивить тебя, уговорить тебя проявить хотя бы малую толику терпимости. Я из таких.
Я был таким не всегда. Очень долгое время я был из мстительных… в итоге все возвращается к тому, что Жизнь не может существовать без Земли. И все же есть некий малый шанс, что жизнь выиграет эту войну и уничтожит Землю. Несколько раз мы были к этому близки.
Такого не должно произойти. Нам нельзя позволить победить.
Такова моя исповедь, моя Иссун. Я уже предал тебя и сделаю это снова. Ты еще даже не выбрала стороны, а я уже отгородил тебя от тех, кто мог бы привлечь тебя на свою сторону. Я уже замышляю твою смерть. Это необходимо. Но я могу хотя бы попытаться придать твоей жизни смысл, который будет иметь значение до конца света.
5. Нэссун берется за вожжи
Мама заставила меня солгать тебе, думает Нэссун. Она смотрит на отца, который до этого момента много часов вел фургон. Он не сводит глаз с дороги, но на его скулах играют желваки. Одна рука – та, которой он бил Уке, и убил его в конце концов – дрожит, держа вожжи.
Нэссун может сказать, что ярость до сих пор владеет им, может, он мысленно все еще убивает Уке. Она не понимает почему, и ей это не нравится. Но она любит отца, боится его, обожает его, и потому часть ее души жаждет утешить его. Она спрашивает себя: что я сделала такого, чтобы так получилось? Ответ приходит тут же: Солгала. Ты лгала, а ложь всегда плохо. Но это не был ее выбор. Это был приказ мамы, как и все прочее: не тянись, не морозь, я заставлю землю двигаться и лучше тебе не реагировать, я что, не говорила тебе не реагировать, даже прислушиваться – значит реагировать, нормальные люди не слушают так, ты меня слышишь, прекрати, ржавь тебя побери, неужели ты ничего не можешь сделать как надо, кончай реветь, повтори. Бесконечные приказы. Бесконечное недовольство. Порой шлепок льда, оплеуха, тошнотворная инверсия торуса Нэссун, рывок за плечо. Мама порой говорит, что любит Нэссун, но Нэссун никогда не видела этому подтверждения.
Не так с папой, который дал ей резную каменную киркхушу поиграть или аптечку для ее дорожного рюкзака, поскольку Нэссун – Стойкость, как ее мама. Папа, который берет ее на рыбалку на речку Тирика на несколько дней, когда у него нет срочной работы. Мама никогда не лежала на дерновой крыше вместе с Нэссун, показывая ей звезды и объясняя, что какая-то мертвая цивилизация, говорят, давала им имена, хотя никто их не помнит. Папа никогда к концу дня не устает так, чтобы не поговорить с ней. Папа не проверяет Нэссун по утрам после умывания, как мама – по поводу плохо помытых ушей или неубранной кровати, и когда Нэссун плохо себя ведет, папа лишь вздыхает, качает головой и говорит ей – милая, ты же понимаешь. Поскольку Нэссун всегда понимает. Не из-за папы Нэссун хотела убежать и стать лористом. Ей не нравится, что папа сейчас такой злой. Ей кажется, что это еще одно зло, которое причинила ей мать.
Потому она говорит:
– Я хотела рассказать тебе.
Папа не отвечает. Лошади продолжают топать вперед. Перед фургоном расстилается дорога, мимо медленно проходят леса и холмы, над головой – яркое синее небо. Сегодня мало кто проезжает мимо них – лишь несколько возчиков с тяжелыми фургонами товаров на продажу, посланников, несколько патрулей охраны квартента. Некоторые из возчиков, часто бывавшие в Тиримо, кивают папе или машут рукой, поскольку они его знают, но папа им не отвечает. Нэссун это тоже не нравится. Ее отец дружелюбный человек. Человек, который сидит рядом с ней, кажется ей чужаком.
То, что он не отвечает, не значит, что он не слышит. Она добавляет:
– Я спрашивала маму, когда мы расскажем тебе. Я много раз спрашивала. Она сказала – никогда. Сказала, ты не поймешь.
Папа не говорит ничего. Руки его до сих пор дрожат – теперь поменьше? Нэссун не может сказать. Она начинает чувствовать себя неуверенно – он злится? Он что-то сказал про Уке? (Она что-то сказала про Уке? Все кажется нереальным. Когда она думает о младшем братике, ей представляется болтливый и смешливый малыш, который порой кусается, а порой какается, и чья орогения чуется за квартент. Изуродованный неподвижный трупик, оставшийся дома, не может быть Уке, потому что он слишком маленький и тусклый.) Нэссун хочется тронуть отца за дрожащую руку, но что-то ее удерживает. Она не уверена, что именно – страх? Может, потому, что этот человек сейчас настолько чужд, а она всегда опасалась чужаков?
Нет. Нет. Он папа. Что бы с ним ни творилось, это мама виновата.
Потому Нэссун крепко хватается за ближайшую папину руку, поскольку хочет показать, что она не боится и потому что она сердится, хотя и не на папу.
– Я хотела тебе сказать!
Мир размывается. Сначала Нэссун не понимает, что происходит, и закрывается. Мама выдрессировала ее поступать так в момент неожиданности или боли: гасить инстинктивную реакцию страха, гасить инстинктивное стремление сэссапин ухватиться за землю внизу. И ни при каких обстоятельствах не реагировать орогенией, поскольку нормальные люди так не делают. Все остальное можешь делать, звучит в голове голос мамы. Ори, плачь, кидайся всяким, лезь в драку. Только не орогения.
Потому Нэссун ударяется о землю сильнее, чем следовало бы, поскольку еще не совсем овладела искусством не реагировать и все еще цепенеет физически, не реагируя орогенистически. И мир размывается, поскольку она не только вылетает с облучка, подброшенная пинком, но еще и перекатывается через край Имперской дороги и катится вниз по щебенчатому склону к маленькому озерку, в который впадает речушка.
(В этой речушке несколько дней спустя Иссун будет купать странного мальчика, который словно забыл, зачем существует мыло.)
Нэссун плюхается и останавливается, ошеломленная и неспособная дышать. Пока еще ничего не болит. Когда мир перестает вращаться и она начинает понимать, что случилось – папа ударил меня, вышвырнул меня из фургона, – папа уже спускается по склону, зовет ее, садится рядом с ней на корточки и помогает ей сесть. Он плачет, на самом деле плачет. Когда Нэссун промаргивается от пыли и искр, что плавают перед глазами, она в растерянности тянется к лицу отца и понимает, что оно мокрое от слез.
– Прости, – говорит он. – Я так виноват, милая. Я не хотел сделать тебе больно, нет, ты все, что у меня осталось. – Он резко, крепко прижимает ее к себе, хотя это больно. Она вся в синяках. – Я так виноват, я так – ржавь, – виноват!! О, Земля, о, Земля, ты злобный ржавий сын! Только не она! Ты не можешь и ее забрать!
Горестные стоны, долгие, рвущие горло, истеричные. Нэссун поймет это позже (ненамного позже). Она поймет, что в этот момент ее отец плачет и по убитому им сыну, и по раненной им дочери.
В этот момент она, однако, думает – он все же любит меня – и тоже начинает плакать.
Они так сидят некоторое время – папа крепко обнимает Нэссун, Нэссун трясет от облегчения и остаточного шока, и в этот момент их настигает ударная волна разрыва континента далеко на севере.
Они почти день ехали по Имперской дороге. В Тиримо, за несколько мгновений до того, Иссун погасила силу волны, так что та раздвоилась и обошла город – то есть до Нэссун она доходит по нарастающей. А Нэссун почти без сознания от удара и не такая умелая, не такая опытная. Когда она сэссит лавину сотрясения и ее силу, она реагирует совершенно неправильно – она снова замыкается.
Ее отец поднимает голову, удивленный ее вздохом и внезапным оцепенением, и вот тогда молот опускается. Даже он сэссит его, хотя он падает слишком быстро и мощно, чтобы ощущаться как-то иначе кроме беги-беги-БЕГИ-БЕГИ на задворках сознания. Бежать бесполезно. Землетрясение в основе своей является тем, что происходит, когда человек разглаживает складки на белье, но в масштабе континента и со скоростью и силой случайного удара астероида. В масштабе маленьких, неподвижных, хрупких людей под ними вздымается пласт, и деревья дрожат, а затем ломаются. Вода в пруду рядом с ними на мгновение выпрыгивает и зависает в воздухе. Папа смотрит на это, зачарованный этим застывшим моментом среди неумолимого расслоения мира повсюду.
Но Нэссун все же умелый ороген, хотя и наполовину в бессознательном состоянии. Хотя она не успевает собраться вовремя, чтобы сделать то, что сделала Иссун, и погасить силу волны прежде, чем она ударит, она делает лучшее, что возможно. Она направляет незримые столпы силы в пласт, так глубоко, насколько может, хватаясь за саму литосферу. Когда кинетическая сила волны бьет, за миг до того, как планетарная кора над ней сжимается в реакции, она выхватывает у нее жар, давление и трение и наполняет ими свои столпы, удерживая пласт и почву на месте крепко, словно клеем.
Хотя из земли можно взять сколько угодно силы, она все равно ткет торус из окружающего. Она держит его широким, поскольку ее папа внутри его, и она не может, не может навредить ему, и она ткет его жестко и зло, хотя этого и не требуется. Ею движет инстинкт, а инстинкт прав. Леденящее око ее торуса, распыляющее все, что входит в стабильную зону в ее центре – то, что не дает нескольким десяткам летящих предметов пронзить и убить их.
Все это означает, что, когда мир разваливается, он разваливается везде. На миг от реальности не остается ничего, кроме летящего шара озера, урагана из всего остального, рассыпающегося в прах, и оазиса тишины в центре урагана.
Затем волна проходит. Пруд плюхается на место, засыпая их грязным снегом. Деревья, которые не сломались, снова выпрямляются, некоторые из них резко сгибаются в другом направлении от отдачи и ломаются уже там. На расстоянии – за пределами торуса Нэссун – люди, животные, камни и деревья были подброшены в воздух и рухнули наземь. Слышны вопли, человеческие и не человеческие. Треск дерева, треск камня, далекий скрежет раздираемого металла какого-то человеческого сооружения. За ними, в дальнем конце долины, откуда они только что ушли, раскалывается скала и с ревом рушится лавиной, высвобождая большую дымящуюся халцедоновую жеоду.
Затем наступает тишина. Нэссун наконец отрывает лицо от плеча отца и оглядывается по сторонам. Она не знает, что думать. Рука отца, обнимающая ее, ослабевает – шок, – и она выворачивается, пока он не отпускает ее, чтобы она могла встать на ноги. Он тоже встает. Несколько долгих мгновений они просто смотрят на развалины некогда знакомого им мира. Затем папа поворачивается к ней медленно, и она видит то лицо, которое, наверное, видел Уке в последний момент своей жизни.
– Это ты сделала? – спрашивает он.
Орогения очистила голову Нэссун. Это механизм выживания; интенсивная стимуляция сэссапин обычно сопровождается выбросом адреналина и прочими физическими изменениями, готовящими тело к бегству – или чтобы поддержать орогению, если нужно. В этом случае оно приводит к чрезвычайной ясности мыслей, что помогает Нэссун наконец осознать, что отец истерил по поводу ее падения, не только опасаясь за нее. И то, что она видит прямо сейчас в его глазах, вовсе не любовь.
И в этот момент ее сердечко разбивается. Еще одна маленькая, незаметная трагедия среди стольких других. Но она отвечает, поскольку она, в конце концов, дочь своей матери, а если Иссун что и сделала для своей маленькой дочери, так научила выживать.
– Такое мне не под силу, – говорит Нэссун. Голос ее спокоен и бесстрастен. – Я сделала вот это, – она обводит рукой круг земли, отличающейся от хаоса за его пределами. – Прости, что не смогла все это остановить, папа. Я пыталась.
Слово «папа» действует точно так же, как ее слезы, спасшие ей жизнь раньше. Образ убийства мерцает, тускнеет и сворачивается.
– Не могу тебя убить, – шепчет он себе.
Нэссун видит его трепет. Точно так же, инстинктивно, она шагает к нему и берет его за руку. Он вздрагивает, возможно, думая снова отшвырнуть ее, но на сей раз она не отступает.
– Папа, – снова говорит она, на сей раз вкладывая больше необходимого хныканья в свой голос. Именно это заставляло его колебаться в те моменты, когда он был готов обрушиться на нее: напоминало, что она его маленькая девочка. Напоминало, что он до сегодня был хорошим отцом.
Это манипулирование. Что-то в ней деформировалось от правды в тот момент, и с этого времени все ее выражение привязанности к отцу будет рассчитанной игрой. Ее детство фактически умирает. Но это лучше, чем умереть самой, она это понимает.
И это срабатывает. Джиджа быстро моргает, затем бормочет себе под нос что-то неразборчивое. Крепче берет ее за руки.
– Вернемся на дорогу, – говорит он.
(Теперь он в ее мыслях Джиджа. И будет с тех пор Джиджей всегда и больше никогда папой, разве что вслух, когда Нэссун нужно будет управлять им.)
Итак, они возвращаются, Нэссун чуть прихрамывая, поскольку сильно ударилась попой об асфальт и камни. Дорога пошла трещинами по всей ширине, хотя и не так сильно в непосредственной близости от их фургона. Лошади все еще в упряжке, хотя одна из них рухнула на колени, наполовину запутавшись в поводьях. По счастью, ногу она не сломала. Вторая оторопела от шока. Нэссун начинает успокаивать лошадей, уговаривая упавшую встать и выводя вторую из оцепенения, в то время как ее отец идет к другим путникам, валяющимся на дороге. Те, кто оказался в пределах широкого торуса Нэссун, в порядке. Те, кто нет… понятно.
Как только лошади приходят в себя, хотя и продолжают дрожать, Нэссун идет к Джидже и видит, что он пытается поднять какого-то человека, влетевшего в дерево. Спина его сломана, он в сознании и бранится, но Нэссун видит его обмякшие бесполезные ноги. Передвигать его не стоит, но Джиджа явно считает, что оставлять его вот так еще хуже.
– Нэссун, – говорит Джиджа, тяжело дыша и пытаясь ухватить его получше, – освободи место в фургоне. В Сладководье, в дне пути, неподалеку есть настоящая больница. Думаю, мы успеем добраться, если…
– Папа, – тихо говорит она. – Сладководья больше нет.
Он останавливается. (Раненый стонет.) Нахмурившись, поворачивается к ней:
– Что?
– И Суме тоже, – говорит она. Она не добавляет, что с Тиримо все в порядке, поскольку там мама. Она не хочет возвращаться, пусть даже конец света. Джиджа бросает взгляд на дорогу, по которой они пришли, но, конечно, все, что они видят, – лишь сломанные деревья и перевернутые куски асфальта… и трупы. Много. До самого Тиримо, насколько видит глаз.
– Ржавь, – выдыхает он.
– На севере в земле большая дыра, – продолжает Нэссун. – Очень большая. Она вызвала все это. И еще вызовет землетрясения и прочее. Я могу сэссить пепел и газ, что идут оттуда. Папа… Мне кажется, это Зима.
Раненый ахает, не только от боли. Глаза Джиджи расширяются от ужаса. Но он спрашивает, и это важно:
– Ты уверена?
Это важно, потому что это значит, что он ее слушает. Это мера доверия. Нэссун ощущает торжество, хотя и не понимает почему.
– Да. – Она прикусывает губу. – Все будет по-настоящему плохо, пап.
Взгляд Джиджи снова устремляется к Тиримо. Это стандартный отклик.
Во время Зимы члены общины знают, что единственное место, где их ждут, – здесь. Все остальное рискованно.
Но Нэссун не вернется, раз уже ушла. Не тогда, когда Джиджа полюбил ее – пусть и странной любовью – и увез оттуда и слушает ее, понимает ее, хотя и знает, что она – ороген. Мама ошибалась в этом. Она сказала, что Джиджа не поймет.
Он не понял Уке.
Нэссун стискивает зубы от этой мысли. Уке был слишком мал. Нэссун будет умнее. И мама права лишь наполовину. Нэссун будет умнее ее.
Потому она говорит тихо:
– Мама знает, пап.
Нэссун даже не уверена в том, что именно она имеет в виду. Знает, что Уке мертв? Знает, кто забил его насмерть? Поверила бы мама в то, что Джиджа способен сделать такое с собственным ребенком? Нэссун сама едва в это верит. Но Джиджа вздрагивает, словно эти слова – обвинение. Он долго смотрит на нее, эмоции на его лице меняются от страха через ужас к отчаянию… и медленно к покорности.
Он смотрит на раненого. Нэссун его не знает – он не из Тиримо. Он в практичной одежде и хороших башмаках гонца. Больше ему не бегать и уж точно не вернуться в родную общину, где бы она ни была.
– Прости, – говорит Джиджа. Он наклоняется и ломает ему шею, когда тот едва набирает воздуха, чтобы спросить – за что? Затем Джиджа встает. Руки его снова дрожат, но он поворачивается и протягивает одну руку Нэссун. Они возвращаются в фургон и продолжают свой путь на юг.
* * *
Пятое Время Года всегда возвращается.
– Табличка вторая, «Неполная истина», стих первый.
6. Ты принимаешь решение
– Что? – спрашивает, прищурившись сквозь завесу волос, Тонки. Ты только что вошла в комнату после того, как полдня помогала одной из смен оперять и чинить арбалетные стрелы для Охотников. Поскольку ты не относишься ни к одной функционал-касте, ты помогаешь понемногу всем по очереди каждый день. Так посоветовала Юкка, хотя она скептически относится к твоей новообретенной решимости попытаться встроиться в общину. По крайней мере, ей нравится, что ты пытаешься.
А еще она намекнула, что неплохо бы попытаться убедить Тонки сделать то же самое, поскольку пока Тонки не делает ничего, только ест, спит и моется за счет общины. Хорошо, что последнее необходимо ради социализации. Сейчас Тонки становится на колени над чаном с водой в своей комнате, ножом срезая колтуны. Ты держишься поодаль, поскольку комната смердит плесенью и немытым телом, и тебе кажется, что в воде среди ее состриженных волос что-то шевелится. Может, Тонки и надо ходить в грязном тряпье, прикидываясь неприкаянной, но это не значит, что на самом деле она блюдет чистоту тела.
– Луна, – говоришь ты. Это странное слово, короткое и круглое; ты не уверена, насколько долгое в нем «у». Что еще там сказал Алебастр? – С… спутник. Он сказал, что геомест должен знать.
Она еще сильнее хмурится, отрезая особо упрямый колтун.
– Не знаю я, о чем он. Никогда не слышала о Луне. Моя область интересов – обелиски, забыла? – Затем она моргает, замирает, оставляя болтаться полуотрезанный колтун. – Хотя технически обелиски сами по себе спутники.
– Что?
– Ну, «спутник» просто означает предмет, чье движение и положение зависит от другого. Предмет, который контролирует все, называется главным, зависимый объект – спутником. Понимаешь? – Она пожимает плечами. – Астрономесты рассуждают о таком, когда из них удается выжать что-то осмысленное. Орбитальная механика. – Она выкатывает глаза.
– Что?
– Чушь. Тектоника плит для неба. – Ты недоуменно пялишься на нее, и она машет рукой. – Короче, я говорила тебе, что обелиски следовали за тобой до Тиримо. Куда ты, туда и они. Это делает их твоими спутниками.
Ты вздрагиваешь. Тебе не нравится пришедшая тебе в голову мысль – о тонких незримых узах, связывающих тебя с аметистом, более близким топазом и ныне далеким ониксом, чье темное присутствие растет в твоем сознании. И странным образом ты думаешь об Эпицентре. Об узах, что связывали тебя с ним, даже когда у тебя была кажущаяся свобода покидать его и путешествовать. Ты всегда возвращалась, иначе Эпицентр пришел бы за тобой – в виде Стражей.
– Цепи, – тихо говоришь ты.
– Нет-нет, – рассеянно говорит Тонки. Она снова трудится над колтуном, и тут настоящая засада. У нее затупился нож. Ты на мгновение выходишь и идешь в комнату, которую вы делите с Хоа, берешь из рюкзака точильный камень. Она моргает, когда ты протягиваешь ей его, затем кивает в знак благодарности и начинает точить нож. – Если бы между тобой и обелиском была цепь, он следовал бы за тобой, поскольку ты тянула бы его. Силой, не тяготением. То есть если бы заставляла обелиск делать то, что ты хочешь. – Ты изумленно вздыхаешь. – Но спутник реагирует на тебя, невзирая на то, как и когда ты пытаешься заставить его реагировать. Он зависит от твоего присутствия и влияния на вселенную. Он болтается вокруг тебя потому, что ничего не может с этим поделать. – Она рассеянно взмахивает мокрой рукой в ответ на твой непонимающий взгляд. – Не надо приписывать обелискам мотивации и намерения. Это было бы глупо.
Ты садишься на корточки у дальней стены комнаты, чтобы подумать, пока она снова берется за работу. Ты понимаешь, по крайней мере, когда оставшиеся ее волосы перестают путаться, поскольку они волнистые и темные, как у тебя, несмотря на пепельность и седину. Может, чуть менее вьющиеся. Волосы срединника; еще один знак изгоя в ее семье, вероятно. А с учетом ее весьма средненького по стандартам вида санзе во всем остальном – она чуть низковата и имеет грушевидную фигуру, но так бывает в юменесских семьях, которые не пользуются услугами Селектов ради улучшения себя – ты только это и запомнила с ее давнего визита в Эпицентр.
Ты не думаешь, что Алебастр имел в виду обелиски, когда говорил об этой самой Луне. И все же…
– Ты сказала про ту штуку, которую мы нашли в Эпицентре, что это гнездо, что там делали обелиски.
Сразу становится понятно, что ты вернулась к теме, которая действительно интересует Тонки. Она откладывает нож и подается вперед, ее лицо возбужденно сияет сквозь неровные остатки волос.
– М-м-м. Может, не все из них. Размеры каждого обелиска, судя по записям, немного отличаются, так что только некоторые – или вообще лишь один – подойдут к тому гнезду. Или, может, гнездо менялось каждый раз, когда они вставляли в него обелиск, приспосабливаясь к нему!
– С чего ты взяла, что его туда вставляли? Может, сначала… они вырастали там, затем их гранили или выкапывали и потом забирали. – Это заставляет Тонки задуматься; ты втайне чувствуешь гордость, заставив ее подумать о том, чего она прежде не принимала во внимание. – И кто эти самые «они»?
Она моргает, затем садится, ее восторг явно угасает. Наконец она говорит:
– Предположительно юменесские Лидеры происходят от людей, которые спасли мир после Расколотой Зимы. У нас сохранились тексты этого времени, тайны, которые должна хранить каждая семья и которые нам должны доверять, когда мы заслужим общинное имя. – Она кривится. – Моя семья не стала, они заранее отреклись от меня. Потому я пролезла в хранилище и взяла то, что принадлежало мне по праву.
Ты киваешь, поскольку это очень похоже на Биноф, которую ты помнишь. К семейной тайне ты, однако, относишься скептически. Юменеса не существовало до Санзе, а Санзе лишь последняя из бесчисленных цивилизаций, которые появлялись и гибли на протяжении Зим. Легенды Лидеров имеют оттенок мифа, сочиненного для оправдания их положения в обществе.
Тонки продолжает:
– В том хранилище я нашла кучу всего – карты, странные записи на языке, которого я прежде не видела, предметы, не имеющие смысла, – вроде одного маленького круглого желтого камешка, около дюйма в окружности. Кто-то положил его в стеклянную шкатулку, запечатал и пометил надписью «не трогать». Похоже, эта штука проделывала дырки в людях. – Ты кривишься. – Значит, либо в семейных преданиях есть правда, либо, если ты богат и влиятелен, ты без труда соберешь коллекцию ценных древностей. Или и то и другое. – Она замечает выражение твоего лица и с удивлением смотрит на тебя. – Да, вероятно, не и то и другое. Это не Предание камня, короче, просто… слова. Мягкое знание. Мне надо его закалить.
Это похоже на Тонки.
– Итак. Ты проникла в Эпицентр, чтобы попытаться найти то гнездо, поскольку это как-то подтверждает какую-то ржавую древнюю историю, передававшуюся в твоей семье?
– Она была на карте, которую я нашла, – пожимает плечами Тонки. – Если часть истории правдива – о гнезде в Юменесе, нарочно спрятанном основателями города, – тогда я предположила, что и остальная история правда, да. – Отложив нож, Тонки с наслаждением выпрямляется и рассеянно сметает рукой обрезки волос в кучу. Сейчас ее волосы жалко коротки и неровны, и у тебя прямо руки чешутся взять ножницы и подровнять ее стрижку. Но ты сначала подождешь, когда она еще раз вымоет их. – Остальные истории тоже оказались правдивы, – говорит Тонки. – В смысле, многое, конечно, ржавь и дым мелло, врать не буду. Но я узнала в Седьмом университете, что обелиски уходят в глубь истории до самого ее начала и дальше. У нас есть сведения о Зимах десять, пятнадцать и даже двадцать тысяч лет назад – а обелиски еще старше. Возможно, они были даже прежде Раскола.
Первая Зима, та, что почти уничтожила мир. О ней рассказывают только лористы, а Седьмой университет отрицает большую часть их сказок.
Из упрямства ты говоришь:
– Может, Раскола и не было. Может, Пятое время года было всегда.
– Может, – пожимает плечами Тонки, либо не замечая твоей попытки наехать, или ей все равно. Вероятно, второе. – Упомянуть Раскол – прямой способ вызвать пятичасовую дискуссию на коллоквиуме. Тупые старые пердуны. – Она улыбается воспоминаниям, затем резко становится серьезной.
Ты сразу понимаешь. Дибарс, город, в котором расположен Седьмой университет, находится в Экваториалях, чуть западнее Юменеса.
– Однако я не верю, – говорит Тонки, приходя в себя, – что Пятое время года было всегда.
– Почему нет?
– Из-за нас. – Она ухмыляется. – Из-за жизни. Она недостаточно другая.
– Что?
Тонки подается вперед. Она не так взволнована, как при разговоре об обелисках, но понятно, что это долго таимое знание беспокоит ее. На миг в ее открытом грубоватом лице ты видишь Биноф; затем она говорит и снова становится геоместом Тонки.
– Все меняется во время Зимы. Верно? Но недостаточно. Подумай вот о чем: все, что растет или ходит по земле, может дышать воздухом мира, есть его пищу, выживать в обычных пределах температуры. Нам не нужно для этого меняться; мы ровно таковы, какими должны быть, поскольку мир таков. Верно? Может, люди – самое худшее из всего этого, поскольку нам приходится пользоваться руками, чтобы делать одежду, вместо того чтобы отращивать шерсть… но мы делаем одежду. Мы созданы для этого, с умными руками, которые могут шить, и мозгами, которые понимают, как охотиться или выращивать животных на мех. Но мы не приспособлены отфильтровывать пепел прежде, чем он зацементируется в легких…
– Как некоторые животные.
Тонки неприязненно смотрит на тебя.
– Кончай перебивать. Это невежливо.
Ты вздыхаешь и жестом показываешь ей продолжать, и она удовлетворенно кивает:
– Ладно. Некоторые звери во время Зимы отращивают легочные фильтры – или начинают дышать водой и уходят в океан, где безопаснее, или зарываются в землю и впадают в спячку, или что еще. Мы же научились не только шить одежду, но строить склады, стены и выработали Предание камня. Но все это запоздалые мысли. – Она размахивает рукой, подбирая слова. – Как если бы… когда из колеса вылетает спица, а ты посреди дороги между двумя общинами, тебе приходится импровизировать. Понимаешь? Ты берешь щепку или даже металлический прут и заменяешь поломанную спицу, просто чтобы колесо продержалось до колесного мастера. Вот что случается, когда киркхуша во время Зимы вдруг развивает в себе пристрастие к мясу. Почему они не едят мясо всегда? Потому, что изначально они были созданы для чего-то другого, им все равно лучше питаться чем-то другим, и поедание мяса Зимой для них – решение наспех, поправка природы в последнюю минуту, чтобы киркхуша не перестала существовать.
– То есть… – Ты немного ошеломлена. Звучит безумно, но почему-то верно. Ты не видишь никаких дыр в теории и не уверена, что хочешь их найти. Тонки не из тех, с кем ты готова потягаться в логике.
Тонки кивает:
– Вот потому я и не могу перестать думать об обелисках. Их сделали люди, то есть наш вид как минимум не моложе их! Времени много, чтобы ломать, начинать и снова ломать. Или, если предания Лидеров правдивы… может, его достаточно, чтобы поставить все на место. Что-то, что помогло бы нам продержаться, чтобы все исправить.
Ты хмуришься.
– Постой. Лидеры Юменеса думают, что обелиски – остатки какой-то мертвой цивилизации – есть именно средство исправления?
– В основе. Эти истории говорят, что обелиски держали мир как единое целое, когда он грозил развалиться. Это предполагает, что однажды с привлечением обелисков могут закончиться и Зимы.
Конец всем Зимам? Это даже представить трудно. Нет нужды в путевых рюкзаках. Схронах. Общины могут существовать вечно, всегда расти. Каждый город может стать, как Юменес.
– Это было бы потрясающе, – шепчешь ты.
Тонки резко смотрит на тебя.
– Орогены тоже могут быть средством ремонта, сама знаешь, – говорит она. – А без Пятого времени года вы и не будете нужны.
Ты хмуришься ей в ответ, не понимая, встревожиться или успокоиться тебе от этого заявления, пока она не начинает пальцами разбирать оставшиеся волосы, и ты понимаешь, что тебе уже и нечего сказать.
* * *
Хоа ушел. Ты не уверена куда. Ты оставила его в лазарете, где он пялился на Рубиновласку, и когда ты вернулась к себе, чтобы перехватить еще пару часов сна, его не было, когда ты проснулась. Его маленький сверток с камнями по-прежнему в твоей комнате, рядом с твоей постелью, так что он наверняка намерен вскоре вернуться. Возможно, это ерунда. Но все же после стольких недель тебе странно недостает его непонятного, тихого присутствия. Но, может, оно и хорошо. Тебе надо кое-кого посетить, а это может пройти легче без… враждебности.
Ты входишь в лазарет медленно, тихо. Наверное, думаешь ты, сейчас ранний вечер – в нижней Кастриме всегда трудно понять, но твое тело все еще настроено на ритмы поверхности. Сейчас ты в этом уверена. Некоторые люди на платформах и мостиках смотрят на тебя, когда ты идешь мимо; эта община уйму времени тратит на пересуды. Это не имеет значения. Все, что имеет значение, – успел ли Алебастр прийти в себя. Вам надо поговорить.
Тела умершего этим утром Охотника нет, все вымыто. Лерна внутри, в свежей одежде, он бросает на тебя короткий взгляд, когда ты входишь. Он по-прежнему замкнут, замечаешь ты, хотя он лишь мгновение смотрит тебе в глаза прежде, чем кивнуть и снова вернуться к тому, что он делал при помощи чего-то похожего на хирургические инструменты. Рядом с ним еще один человек, набирает пипеткой что-то в маленькие стеклянные пузырьки; он даже голову не поднимает. Это лазарет. Любой может войти.
Лишь на полпути по длинному центральному проходу лазарета между рядами коек ты осознаешь, что слышишь некий звук, который подсознательно все время слышала: что-то вроде гудения. Сначала он кажется монотонным, но, сосредоточившись на нем, ты различаешь множество тонов, гармоник, тихий ритм. Музыка? Музыка столь чуждая, столь трудная для понимания, что ты даже не уверена, применимо ли к этому слово «музыка». Ты не можешь понять поначалу, откуда она исходит. Алебастр на том же месте, где ты его видела утром, на груде подушек и одеял на полу. Непонятно, почему Лерна не уложил его на койку. Рядом на ночной тумбочке стоят склянки, рулон чистого бинта, ножницы, банка мази. Судно, по счастью еще не использованное после последней мойки, но все равно вонючее, стоит рядом.
Эта музыка исходит от камнеедки, и ты с изумлением это понимаешь, когда садишься на корточки рядом с ним. Сурьма сидит, скрестив ноги, рядом с «гнездом» Алебастра, совершенно неподвижно, как изваяние сидящей скрестив ноги женщины с поднятой вверх рукой. Алебастр спит – хотя в странной, почти сидячей позе, которой ты не понимаешь, пока не осознаешь, что он опирается на руку Сурьмы. Может, только так ему удобно спать? Сегодня его руки перебинтованы, блестят от мази, и он без рубахи – что помогает тебе увидеть, что его раны не так серьезны, как ты думала раньше. На его груди и животе нет каменных участков, и лишь несколько небольших ожогов на его плечах, большинство из них затянулись. Но его торс исхудал почти до состояния скелета – мускулов почти не осталось, ребра торчат, живот запал.
И его правая рука намного короче, чем утром.
Ты поднимаешь взгляд на Сурьму. Музыка исходит откуда-то изнутри ее. Ее черные глаза устремлены на нее; они не реагируют на твой приход. Это успокаивающая, странная музыка. И Алебастру вроде хорошо.
– Ты не заботилась о нем, – говоришь ты, глядя на его ребра и вспоминая бесчисленные вечера, когда ты ставила перед ним еду и сверлила его злым взглядом, пока он устало пережевывал ее. Вы вместе с Инноном все думали, как бы привлечь его к совместной трапезе. Он всегда больше съедал, когда думал, что на него смотрят. – Если ты собиралась украсть его у нас, то хотя бы кормила его как следует. Раскормила бы прежде, чем сожрать, или как еще.
Музыка продолжается. В ней возникает очень слабый скрежещущий звук, а ее черные глаза-кабошоны наконец обращаются к тебе. Это настолько чуждые глаза, несмотря на их внешнее сходство с людскими. Ты видишь сухой, матовый материал ее белков. Ни вен, ни пятен, ни грязно-белых оттенков, которые говорили бы об усталости или беспокойстве или еще о чем человеческом. Ты даже не можешь сказать, есть ли зрачки в ее черных радужках. Насколько ты знаешь, она даже видеть ими не может и определяет твое присутствие и направление локтями.
Ты встречаешься с этими глазами и внезапно понимаешь, как мало осталось в тебе того, что способно испытывать страх.
– Ты забрала его у нас, а нам одним было не справиться. – Нет, она врет о своей беспомощности. У Иннона, дичка, не было надежды выстоять против Стража и обученного орогена из Эпицентра. Но ты? Это ты все испоганила. – Я не могла справиться в одиночку. Был бы рядом Алебастр… я ненавидела тебя. Потом, когда я скиталась, я поклялась найти способ убить тебя. Сунуть тебя в обелиск, как того. Похоронить тебя на дне океана, откуда никто не откопал бы тебя.
Она смотрит на тебя и ничего не говорит. Ты даже не можешь уловить ее дыхания, поскольку она не дышит. Но музыка обрывается, умирает. Хоть какая-то реакция. Это бесполезно на самом-то деле. Но затем молчание становится все громче, и ты все еще чувствуешь себя немного паршиво, потому добавляешь: