Читать онлайн 13 диалогов о психологии бесплатно
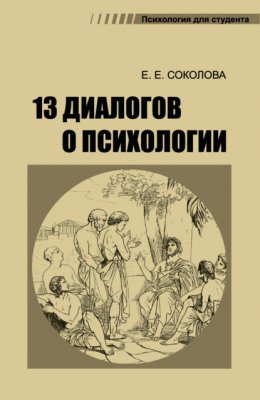
Посвящаю эту книгу сыну – Жене Аккуратову
Из Предисловия к первому изданию
Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой оригинальное учебное пособие по курсу «Введение в психологию», включенному в план подготовки психологов всех специальностей. Как известно, этот учебный курс является для студентов «первой ступенью» в овладении психологическими знаниями. Поэтому его программы предполагают часто упрощенное и «уплощенное» (т. е. с одной-двух точек зрения) введение в современную проблематику психологии с минимумом ее истории (см., например, [1, с. 30–35]), так что студенты получают лишь отрывочные, фрагментарные, «осколочные» сведения о тех или иных психологических проблемах, узнавая о них зачастую несистематически, из других курсов (психологии мотивации и эмоций, психологии восприятия и т. п.), весьма поздно знакомятся с основными психологическими школами, не умеют подчас обосновать ту или иную позицию. В основе данного пособия лежит разработанная автором – в известной степени альтернативная действующим – программа курса «Введение в психологию», имеющая целью избежать подобных недостатков. Программа представляет собой реализацию авторской концепции курса «Введение в психологию», построенной на определенных принципах.
Первым принципом является теоретико-методологическая ориентация курса. Все излагаемые в книге концепции и идеи рассматриваются в едином ключе, а именно как конкретные реализации различных представлений о предмете и методах психологии, то есть разных вариантов решения фундаментальных проблем психологической науки. Основная мысль, которую автор хотел бы донести до читателя, заключается в том, что за любым «самым отдаленным от теории» эмпирическим фактом, за любым, якобы «теоретически нейтральным», техническим приемом психотерапии всегда лежит та или иная «философия человека», та или иная стратегия психологического исследования. Автор убежден, что именно с теоретико-методологических проблем надо начинать знакомство студентов с психологией как наукой, а не заканчивать ими обучение на факультете психологии, так как в этом случае студент с самого начала сможет оценить положительные и отрицательные стороны той или иной стратегии психологического исследования и обоснованно выбрать или отвергнуть ее. Вместе с тем данный курс не может, естественно, заменить специальный курс методологии психологии на более поздних этапах обучения, в котором эти проблемы рассматриваются более углубленно (к чему, однако, студенты должны быть определенным образом подготовлены).
Вторым принципом является принцип историзма. Автор стремился, прежде всего, проследить историю возникновения и развития различных стратегий психологического исследования: как невозможно, по мысли Л. С. Выготского, понимание психических функций без знания истории их возникновения, так и невозможно понять современную психологическую проблематику без знания истории появления и развития отдельных психологических проблем, да и истории психологической науки в целом. Автор придерживается концепции развивающего обучения В. В. Давыдова, опирающейся на идеи Л. С. Выготского. Согласно этой концепции, «иметь понятие о том или ином объекте – это значит уметь мысленно воспроизводить его содержание, строить его» [2, с. 105].
Для автора данной книги это общее положение означало реконструкцию хода мыслительной деятельности философов и психологов, решавших те или иные проблемы психологии, в силу чего последние предстают перед студентами не как готовый материал «для заучивания», а в форме «живой» их постановки, формулирования (которое может растягиваться на века), в форме различных попыток (пусть даже и неудачных, с современной точки зрения) их решения. Возможное усложнение курса «Введение в психологию» за счет нетрадиционного расширения историко-психологической проблематики компенсируется осмысленной и гораздо более ранней ориентировкой студентов в многочисленных школах и направлениях психологии. Данный подход перекликается с некоторыми имеющимися в отечественной литературе попытками «подвести к некоторым основным проблемам психологии через историю развития взглядов на предмет психологии» [3, с. 5]. Только в нашей книге это не просто некий «кусок» курса «Введение в психологию», а один из фундаментальных принципов построения содержания всего курса. Как и в первом случае, это не может заменить специальное знакомство с историей психологии на старших курсах, но может создать определенные предпосылки для более мотивированного историко-психологического обучения. В то же время ряд тем, традиционно включаемых в курс «Введение в психологию», не получил в данном пособии подробного освещения (например, проблемы зоопсихологии, сравнительной психологии и др.), поскольку их анализу посвящены специальные курсы на более поздних этапах обучения.
Тесно связан со вторым третий принцип построения содержания курса, который заключается в анализе причин возникновения той или иной проблемы, того или иного «поворота» в стратегии психологического исследования. Образно говоря, для автора данной книги было главным не то, «что» сказал автор той или иной психологической концепции, а «почему» он это сказал.
Читатель, несомненно, обратит внимание и на то, что весьма большое место в книге уделено изложению фактов жизни и творчества отдельных мыслителей. Это сделано не с целью «оживляжа» представленного материала, а для более углубленного понимания причин постановки мыслителем тех или иных проблем: очень многое может быть объяснено индивидуальными особенностями биографии ученого (как научной, так и личной). Студенты могут с удивлением обнаружить, что многие философы были философами не только потому, что писали философские трактаты: они были философами и в жизни, а защищаемая ими «философия человека» помогала им весьма эффективно решать собственные психологические проблемы. Это изложение психологических идей через призму индивидуального жизнетворчества представляет собой четвертый принцип построения курса.
Указанные четыре принципа изложения содержания тесно связаны с выбором автором диалогической формы представления материала. Это может показаться необычным лишь для современных учебных пособий, однако в истории научной мысли очень многие философские и педагогические трактаты излагались в форме диалогов: вспомним, например, диалоги Платона, Вольтера, Д. Юма, Д. Дидро, В. С. Соловьева и др. Выбор диалоговой формы изложения в данной книге обусловлен двумя следующими соображениями автора.
Во-первых, вслед за М. М. Бахтиным, автор убежден в универсальности диалогической формы мышления, направленного на постижение субъекта и субъективного вообще. Для пробуждения мышления будущих психологов – к чему должно в идеале стремиться каждое учебное пособие по психологии – диалоговая форма подачи материала могла бы быть более коротким (хотя и не более простым) путем.
Во-вторых, в психологии так много различных – в том числе взаимоисключающих – взглядов на решение одной и той же проблемы, что «диалоги» между представителями разных точек зрения просто «напрашиваются», тем более что в истории психологической мысли такие диалоги неоднократно происходили в действительности (например, литературная полемика Г. В. Лейбница с Дж. Локком по поводу свойств души, Д. Дидро с К. А. Гельвецием относительно природы человеческих способностей, споры К. Д. Кавелина и И. М. Сеченова о путях развития психологии, постоянные дискуссии С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева и их сторонников о категории деятельности в психологии и др.).
Авторская точка зрения представлена в диалогах двух гипотетических их участников: студента-первокурсника психологического факультета (С.) и аспиранта того же факультета (А.). Эти участники диалогов как бы играют следующие роли: студент (С.) только что поступил на факультет психологии и поэтому выступает в роли «почемучки», задавая аспиранту вопросы, которые, по опыту автора, типичны для студентов-младшекурсников; он ориентирован, прежде всего, на «практическую психологию» (как он ее понимает) и поэтому, вслед за родоначальником гештальттерапии Фрицем Перлзом, называет теоретические изыскания в психологии «слоновьим дерьмом» (См. [4, с. 140]); он «западник», то есть ориентирован, прежде всего, на западных авторов, огульно отрицая отечественные исследования как догматические, и т. п. Аспирант (А.), наоборот, теоретически ориентированный исследователь, пытающийся за любым вариантом психологических техник увидеть «философию человека», на которой, по его мнению, строится любая психологическая практика; он ориентирован не только на западные, но и на отечественные исследования, причем занимается своего рода их «реабилитацией» в новых общественных условиях России.
Автор пытается, таким образом, при помощи споров этих гипотетических участников диалогов соотнести между собой противоположные точки зрения, которые весьма распространены в современной психологической литературе.
Это, так сказать, «живые» собеседники. Но одновременно в диалогах незримо «принимают участие» мыслители различных эпох, ибо оба собеседника часто обращаются к оригинальным текстам этих мыслителей для подтверждения своей точки зрения. Поэтому не случайно в книге весьма большое место занимают отрывки из произведений различных авторов. Таким образом, книга «Тринадцать диалогов о психологии» сочетает в себе свойства учебника (где материал излагается с авторской точки зрения), хрестоматии (поскольку в текст диалогов органично вплетаются существенные по объему отрывки из оригинальных работ мыслителей прошлого и настоящего) и справочника (так как к каждому из диалогов дается список источников для первоначальной ориентации в море психологической литературы, указаны также годы жизни некоторых наиболее известных философов и психологов, упомянутых в книге).
Всего диалогов, как видно из названия книги, тринадцать. В центре каждого из них стоит какая-либо проблема психологии: это, в частности, соотношение теории и практики в психологии, проблема души как исторически первого предмета психологии, проблемы сознания, бессознательного, поведения, деятельности в психологии, соотношения номотетического и идиографического подходов и др.
Автор надеется, что построенный по указанным принципам курс «Введение в психологию» поможет начинающим (и не только студентам-психологам, но и студентам и аспирантам непсихологических вузов) уже на ранних этапах обучения сориентироваться в том многоликом и красочном мире, который называется наукой Психологией. Если после прочтения данной книги читателю захочется открыть томик хотя бы одного из упомянутых в книге мыслителей, захочется поспорить с ним или с автором книги относительно той или иной психологической проблемы – значит, автору хотя бы частично удалось решить его «сверхзадачу»: пробудить у студентов интерес к психологии и создать – насколько это возможно – мотивацию обучения на последующих курсах. Предлагаемая программа и построенный на ее основе курс были уже частично апробированы в преподавании студентам-психологам (на факультете психологии МГУ), студентам других специальностей (социологического факультета МГУ, ГИТИСа и др.), а также старшеклассникам, изучавшим психологию факультативно.
В заключение хотелось бы выразить глубокую благодарность моим первым учителям в психологии А. Н. Ждан и Ю. Б. Гиппенрейтер, сумевшим пробудить у автора интерес к историко-психологической проблематике, М. Г. Ярошевскому, неизменно поддерживавшему этот интерес, а также всем тем, кто оказывал мне помощь в процессе подготовки рукописи к печати: Б. Х. Кривицкому, А. Н. Гусеву, А. И. Денисовой, Е. Ф. Соколову, Л. П. Соколовой и особенно моему мужу и другу Евгению Петровичу Аккуратову.
Литература
1. Программы дисциплин по типовому учебному плану специальности 02.04. Психология: Для гос. ун-тов: в 2 вып. Вып. 1. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991.
2. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального исследования. М.: Педагогика, 1986.
3. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988.
4. Рудестам К. Групповая психотерапия. М.: Прогресс, 1990.
Январь 1994 г.
Предисловие к четвертому изданию
Настоящее издание книги представляет собой незначительно переработанный вариант учебного пособия, сохранивший структуру и основное содержание предыдущих изданий (1994, 1995, 1997). Некоторым содержательным изменениям и дополнениям подверглись в основном диалоги 11 и 12, посвященные соответственно деятельностному подходу в психологии и психофизиологической проблеме. Другие внесенные изменения касаются главным образом литературных источников. За время, прошедшее с первого издания книги, вышло много новых публикаций работ цитируемых в ней авторов. Речь прежде всего идет о переводах на русский язык и новых изданиях работ зарубежных психологов. Поскольку одной из целей настоящего учебного пособия является создание своеобразного «путеводителя» по психологической литературе для начинающих, некоторые из этих новых публикаций не могли не быть упомянуты в данном, четвертом, издании книги. Исправлены также замеченные в предыдущих изданиях опечатки и неточности.
Апрель 2002 г.
Предисловие к седьмому изданию
Настоящее переиздание книги сохранило концепцию и общую структуру предыдущих изданий (1994, 1995, 1997, 2003, 2005, 2008). Однако тексты всех диалогов подверглись определенной содержательной переработке; обновлены списки источников, на которые делаются ссылки в тексте книги; практически полностью изменены тексты диалогов 11 и 12 в соответствии с новыми результатами историко-психологических исследований автора, посвященных изучению творческого наследия школы А. Н. Леонтьева в контексте эпохи и с учетом современной методологической ситуации в психологии.
Октябрь 2020 г.
Диалог 1
Нет ничего практичнее, чем хорошая теория
(О теоретических, практических и исторических исследованиях в психологии)
Студент: Разрешите?
Аспирант: Да-да, входите, пожалуйста!
С.: Извините, но меня поселили в Вашу комнату. Временно, пока не сделают ремонт в нашей комнате после аварии.
А.: Давайте я Вам помогу. Это Ваши вещи? Что-то очень тяжелое.
С.: Это психологические книги и журналы. Я ведь только что поступил на факультет психологии и тут же запасся всем необходимым.
А.: Вот как? Очень приятно. А я в аспирантуре того же факультета.
С.: Как здорово! Я хотел бы, если Вы не возражаете, иногда беседовать с Вами на разные психологические темы. Я мечтаю поскорее стать профессионалом-практиком и помогать людям решать их проблемы.
А.: А что Вы ожидаете от меня?
С.: Знаете, я уже накупил кучу практических руководств по психотерапии. Но с живым человеком беседы намного эффективнее, тем более что Вы это все проходили.
А.: А что это за руководства по психотерапии, о которых Вы говорите?
С.: Ну, это тексты по гештальттерапии, бахивиральной терапии…
А.: Наверное, бихевиоральной?
С.: Да-да, мне так трудно еще запомнить все эти названия.
А.: Боюсь, я разочарую Вас. Я считаю, что нельзя заниматься практикой без предварительного знакомства с философией этой практики, то есть без определенной теоретической и даже исторической подготовки.
Зачем теория и история психологии психологам-практикам
С.: Неужели есть смысл в изучении древних авторов сейчас, когда психология так требуется в практической жизни? Разве знакомы им проблемы нашего бурного времени? И потом, ведь тогда не было такой психотерапии. Да и труды так называемых теоретиков – многое ли могут они сказать сердцу и уму практика, который находится в самой гуще жизни?
А.: Во-первых, перейдем на «ты». А во-вторых, я не говорил тебе, что меня интересуют только древние авторы или теории сами по себе. Просто любая психотерапевтическая практика всегда опирается на какую-либо философию человека, которая, кстати говоря, вырабатывалась, может быть, и вне данной конкретной психотерапии, да и задолго до нее. А что касается, как ты говоришь, «древних авторов», то их произведения иной раз гораздо более современны, нежели многие современные работы. Впрочем, ты хотел бы познакомиться с практическими приемами психотерапевтов? У тебя сейчас есть время и желание немного поработать?
С.: Конечно, есть.
А.: Изволь, я познакомлю тебя с фрагментами работы одного психотерапевта, по-видимому, неизвестного тебе. Не буду пока называть его имени: пусть это будет некто Неизвестный. Он, скажем так, занимался, в частности, психотерапией при соматических заболеваниях. Не удивляйся особенностям стиля: книга его написана в форме писем к другу, который постоянно страдал простудами и очень от этого мучился: впадал в депрессию, ощущал сильные головные боли, да и вообще вечно у него что-то болело…
С.: Ипохондрик, короче говоря.
А.: Смотри, какие слова ты уже знаешь! Ну, тогда слушай.
Неизвестный: Тебя замучили частые насморки и простуды, которые всегда идут вслед за долгими, неотвязными насморками… Во всякой болезни тяжелы три вещи: страх смерти, боль в теле, отказ от наслаждений. О смерти мы говорили довольно, добавлю только одно: страх этот – не перед болезнью, а перед природой… Умрешь ты не потому, что хвораешь, а потому что живешь. Та же участь ждет и выздоровевшего: исцелившись, ты ушел не от смерти, а от нездоровья. Перейдем к другой неприятности, присущей именно болезни: она приносит тяжкие боли. Но и они терпимы, потому что перемежаются. Ведь боль, достигнув наибольшей остроты, кончается. Никто не может страдать и сильно, и долго: любящая природа устроила все так, что сделала боль либо переносимой, либо краткой… Тем и можно утешаться при нестерпимой боли, что ты непременно перестанешь ее чувствовать, если сначала почувствуешь слишком сильно… «Но ведь тяжело лишиться привычных наслаждений, отказываться от пищи, терпеть голод и жажду…» – Воздержность тяжела на первых порах. Потом желания гаснут, по мере того как устает и слабеет то, посредством чего мы желаем… А обходиться без того, чего больше не хочется, ничуть не горько… Так не утяжеляй же свои несчастия и не отягощай себя жалобами. Боль легка, если к ней ничего не прибавит мнение; а если ты еще будешь себя подбадривать и твердить: «ничего не болит» или «боль пустяковая, крепись, сейчас все пройдет», – от самих этих мыслей тебе станет легче. Все зависит от мнения; на него оглядываются не только честолюбие, и жажда роскоши, и скупость: наша боль сообразуется с мнением. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным….
А.: Что ты скажешь на это?
С.: Что-то очень похожее на гештальттерапию Джона Энрайта, о которой я только вчера читал. Признаюсь тебе, это пока единственный текст по психотерапии, с которым я знаком. Я говорю о его книге «Гештальт, ведущий к просветлению» [18]. Вот очень похожее место: Джон Энрайт пишет, что наиболее глубокая из фраз, которую он слышал от Фрица Перлза, звучит следующим образом: «Боль – это мнение» [18, c. 123]. Ты, конечно, знаешь, что Фриц Перлз – это основатель гештальттерапии…
А.: Продолжай.
С.: И здесь Энрайт приводит следующий пример. Один маленький мальчик, шедший куда-то с мамой, споткнулся, ушиб колено и заплакал. Да, ему было больно, но в его плаче были и другие «оттенки»: «Пусть мама меня пожалеет, ведь она так торопила меня, и пусть почувствует себя виноватой». Точно такой же маленький мальчик бежал за мальчишками постарше и тоже споткнулся и упал. Но хныкать не стал: потер колено, хотя чувствовал такую же боль, и побежал за мальчишками. Ведь он подумал: если он будет хныкать, старшие мальчики его не возьмут с собой. И Энрайт делает вывод: ощущения боли – это просто ощущения, восприятие же боли – это комплексный акт, требующий оценки всей ситуации. И вообще все наши проблемы (конфликты, тревожность и прочее) не существуют в реальном мире; это своего рода иллюзии или конструкции нашего сознания, которые мы как на экран проецируем на мир. Отсюда основная задача психотерапевта – не отрицать реальность, не бороться с ней и изменять ее, а, так сказать, играть с ней и в конечном счете примириться с этой реальностью [см. 18, c. 123–124].
А.: Слушай же дальше мой текст.
Неизвестный: По-моему, надобно отбросить все жалобы на миновавшую боль… Какая радость опять переживать минувшую муку и быть несчастным от прежних несчастий? И потом, кто из нас не преувеличивает своих страданий и не обманывает самого себя? Наконец, о том, что было горько, рассказывать сладко: ведь так естественно радоваться концу своих страданий. Значит, нужно поубавить и страх перед будущими, и память о прошлых невзгодах: ведь прошлые уже кончились, а будущие не имеют ко мне касательства. Пусть в самый трудный миг каждый скажет: «Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспомнить»…
С.: Нет, определенное сходство с гештальттерапией! В ней тоже подчеркивается значимость «опыта переживаний», пусть даже неприятных. Энрайт, в частности, утверждает, что все, что происходит в жизни человека, некоторым образом правильно для него, если только рассматривать это в целом. Если сам клиент не переживает этой «правильности», то лишь потому, что основывается на односторонних внешних оценках. Если же клиент с помощью психотерапевта начнет переживать совершенство того, что есть, в том числе и того, что он раньше считал «патологией», его жизнь начнет сама собой нормализовываться. А теперь скажи, что это за психотерапевт, которого ты цитировал?
А.: Этот психотерапевт жил 2000 лет назад и звали его Сенека. Надеюсь, тебе знаком этот древнеримский философ? А отрывки взяты мною из текстов его «Нравственных писем к Луцилию» [1, с. 182–185].
С.: Да… То-то я смотрю, стиль какой-то не очень современный. Пожалуй, ты прав, иногда нужно перечитывать старых и древних авторов, чтобы не упустить ничего из необходимых психотерапевту знаний о человеке. Но что ты мне этим доказал? Я здесь не вижу никакой философии, только практические рекомендации больному человеку. Зачем вообще нужны какие-то теории для практической психотерапевтической работы? То, что работает, то и хорошо, а за этим может и вовсе не стоять никакой теории.
А.: Ну что же, давай поговорим на эту тему: обсудим проблему соотношения между собой практических и теоретических исследований. Она действительно очень сложна: в истории психологии неоднократно давались прямо-таки взаимоисключающие решения данной проблемы. Впрочем, такая поляризация мнений вообще характерна для психологии, ты в этом сам убедишься впоследствии.
С.: Я готов.
А.: Тогда послушай своих же сторонников: может быть, ты еще больше укрепишься в своем мнении, и, глядишь, вы вместе и переубедите меня. Вот что говорил один наш отечественный психолог, специалист в области психологии труда, Исаак Нафтульевич Шпильрейн в 20-е годы XX века.
Тезис: теория – «артефакт» психотерапии
И. Н. Шпильрейн: Ценность психологических методов определяется и будет определяться только тем, насколько эти методы оправдывают себя в дальнейшей технической работе, насколько успешно их применение на практике. В таком смысле небольшая практическая работа, например, удачное установление профессиональной пригодности летчиков, для нас на теперешней стадии развития – более ценная работа психологии, чем три тома философских рассуждений о сущности души или о том, разрешимо ли пользоваться такими-то методами [2, с. 259].
С.: Совершенно верно!
А.: Послушаем же и другие суждения на этот счет. Вот, например.
М. М. Огинская, М. В. Розин: Вызывает удивление тот факт, что различные виды терапии, основанные на принципиально разных, зачастую противоречащих друг другу подходах, могут быть эффективными по отношению к одним и тем же проблемам. Высказывалась даже остроумная мысль о том, что теория – лишь артефакт психотерапии… Процесс особым образом организованного взаимодействия, никак не связанный с теоретическими концепциями, ведет к излечению, а теория – бесполезный плод досужего ума, желающего все на свете объяснить [3, с. 10–11].
С.: Абсолютно так, как и я думаю.
А.: Более того, то, что ты называешь «практикой», сыграло чрезвычайную роль в становлении психологии как науки. Ты, наверное, уже знаешь, что психология как наука имеет длинную предысторию и короткую историю. Долгое время она развивалась в русле, главным образом, философии, и поэтому ее положения носили во многом умозрительный характер. Но в последней трети XIX века возникают первые лаборатории экспериментальной психологии, сотрудники которых пытаются эмпирическим путем выявить закономерности того, что мы называем психической реальностью… Самое интересное то, что многие лаборатории экспериментальной психологии были открыты «практиками», то есть людьми, решавшими прежде всего практические задачи: психиатрические, педагогические, военные… Правда, самую первую лабораторию при Лейпцигском университете открыл «теоретик», по твоей классификации, крупнейший немецкий психолог и философ Вильгельм Вундт в 1879 году, но наш известный психиатр Сергей Сергеевич Корсаков сказал по этому поводу: Вундт сумел сделать этот столь значительный шаг в истории психологии потому, что был по своему образованию физиолог и работал долгое время у физиолога и врача Германа Гельмгольца [cм. 4, с. 597]. И в нашей стране именно «психиатры проложили дорогу психологическому эксперименту» [5, с. 152]. Первую в России лабораторию экспериментальной психологии (психофизиологическую лабораторию) открыл в 1885 году невролог и психиатр Владимир Михайлович Бехтерев (о нем у нас еще будет как-нибудь разговор) в Казанском университете. После переезда в Санкт-Петербург в первой половине 1890-х годов Бехтерев открывает аналогичную лабораторию при Военно-медицинской академии. Вообще в 80–90-е годы XIX века лаборатории возникали как грибы после дождя: в Харьковском университете, Дерптском университете и так далее. В 1895 году организовалась психологическая лаборатория и при Московском университете, которую по рекомендации Сергея Сергеевича Корсакова возглавил известный психиатр Ардалион Ардалионович Токарский…
С.: Ой, какое имя у него интересное!
А.: Он вообще был интересным человеком. Рассказывают, что, прекрасно владея иностранными языками, он не напечатал в иностранных журналах ни одной из своих работ, кроме докладов на международных конференциях: он считал это унизительным для русской науки и говорил при этом, что русские работы должны печататься на русском языке: пусть «иностранная публика» изучает русский язык и читает наши работы в подлиннике [см. 6, с. Х].
С.: Да, в наше время все наоборот: отечественные работы никто не читает, да и не будет читать, потому что в СССР они были жутко заидеологизированы, да и сейчас небось сплошь «теоретические», зато на Западе за это время вышло столько практических работ!
А.: Не будем пока говорить о нашей психологии, да и о западной тоже – ты их еще не знаешь… Но мы отвлеклись. Да, действительно, психиатры сыграли большую роль в нашей психологии, и очень часто благодаря именно практической их работе в психологии появлялись новые теории – так, наши известные психиатры Сергей Сергеевич Корсаков, Петр Борисович Ганнушкин, Виктор Хрисанфович Кандинский разработали учение о психопатиях, или патологических характерах, которое вошло в золотой фонд психологической науки. И это учение опиралось именно на практический анализ конкретных психиатрических случаев. То же можно было бы сказать о других прикладных направлениях в психологии: судебной, юридической психологии, педагогической, военной и так далее.
С.: Вот видишь, значит, практическая психология неизмеримо важнее теоретической!
А.: Не спеши, не все так однозначно. Были и совершенно противоположные мнения. Прислушаемся, например, к одному происходившему в действительности спору между представителями точки зрения, близкой к твоей, и ее противниками. Дело было в начале XX века, когда в нашей стране начинает бурно развиваться педагогическая психология. Одним из видных специалистов в этой области был известный ученый Александр Петрович Нечаев. Он в эти годы резко выступал против умозрительной психологии, говоря, что нужно «спустить психологию с небес на землю», заставить ее служить педагогической практике, что вся прошлая педагогика – пустословие и голословие, что необходима прежде всего точная регистрация фактов и математическая обработка результатов. С целью «приближения педагогики к жизни» Нечаев начинает организацию при школах психолого-педагогических кабинетов, вооружает учителя простейшими тестами и аппаратурой для проведения диагностических исследований с целью последующего использования их результатов в обучении школьников…
С.: Прямо-таки психологическая служба в школе! Надо же, оказывается, и тогда были люди, которые этим занимались!
А.: Но деятельность Нечаева вызвала и отрицательные отзывы…
С.: Верно, какие-нибудь ретрограды в педагогике! Помнишь, как один из персонажей «Педагогической поэмы» Антона Семеновича Макаренко – профессор педагогики – не может справиться со своим ребенком и приводит его в колонию? Наверное, и те ничего не умели на практике и только теории и изобретали.
Антитезис: теория предшествует практике и эксперименту
А.: Давай все же послушаем доводы и противоположной стороны. Одним из противников «легковесных» экспериментов Нечаева был известный в свое время психолог и философ Георгий Иванович Челпанов, который, как ни парадоксально, вошел в историю психологии как основатель первого в нашей стране института экспериментальной психологии при Московском университете. Кстати, мы с тобой затронули теперь тему столь же сложную: соотношение между собой не теоретических и практических исследований, а практических и экспериментальных. А теперь послушаем Челпанова.
Г. И. Челпанов: Постановке всякого эксперимента всегда предшествует постановка проблемы, теории. Если бы у нас предварительно не существовали какие-либо теории, то у нас не могло быть оснований произвести этот, а не другой какой-либо эксперимент. Поэтому без теоретической части психологии так называемая экспериментальная психология превратилась бы в бессмысленное собирание фактов, ни для чего не нужных. Ведь факты собираются для того, чтобы подтвердить или опровергнуть какую-либо теорию. Теории же созидаются далеко не всегда из обобщения фактов, а весьма часто путем дедуктивным… Я не думаю утверждать, что ценность экспериментальной психологии ниже ценности теоретической; я хочу только предостеречь от опасных последствий пренебрежения теоретической психологией. Я боюсь того плодящегося дилетантизма в психологии, когда очень многие думают, что в психологии можно производить исследования или собирать факты с такой же легкостью, с какой дети собирают гербарий или коллекцию насекомых… Ни один психолог не пожелает ими воспользоваться, потому что всегда у него может быть подозрение относительно того, правильно ли факт описан. Сколько, например, в последнее время развелось всевозможных анкет для разрешения психологических вопросов. Но ведь для того, чтобы произвести анкету, нужна теоретическая подготовка: надо уметь и вопрос поставить, и уметь истолковать психологически полученные результаты… [7, с. 62–63, 67–68].
А.: А вот что говорил другой известный философ Густав Густавович Шпет.
Г. Г. Шпет: Всегда вопросы сперва ставились философской мыслью, а затем уже подвергались экспериментальной разработке. Того, что сделала экспериментальная психология и педагогика, достаточно для разрушения старых основ педагогики, но не достаточно для создания новых. Для созидательной работы необходимы работа теоретической мысли, постановка социальных идеалов и этические основы. Теоретическая работа облегчает работу экспериментальным исследованиям, являясь их предпосылкой. Разделение труда – необходимо; оно и существует, но нужно, чтобы практические работы объединялись под теоретическим флагом; иначе может получиться только малоценное собирание материала [7, с. 52].
А.: Наконец, вот отрывок из рецензии на первую книгу Нечаева известнейшего в свое время литературоведа Юлия Исаевича Айхенвальда.
Ю. И. Айхенвальд: Все же существенное, что дает эксперимент, неинтересно, потому что все это можно было бы предвидеть, все это не ново и знакомо каждому педагогу очень давно, хоть и не в оболочке цифр, диаграмм и чертежей… Говоря о разных психических явлениях, автор… не описывает их, не определяет точно, что он понимает под тем или иным психическим феноменом: он называет разные душевные состояния, перечисляет их, переводит их на язык цифр, но не вникает в их природу. Статистика в его книге оттесняет психологию… [8, с. 406, 408].
А.: Имеются в виду, конечно, данные эксперименты Нечаева, а не вообще эксперименты.
С.: Для меня это столь же голословные утверждения! Приведи какой-нибудь пример, когда именно теория способствовала решению практической задачи.
А.: Не будем забегать вперед. Тогда психология действительно находилась на той стадии развития, когда существующие теории были весьма оторваны от жизни конкретного человека. Послушай свидетельства современников тех событий, горячих защитников практических исследований, например Александра Николаевича Бернштейна.
А. Н. Бернштейн: Философия стоит в стороне от жизни и строит свои самодовлеющие теории, предлагая нам только их экспериментальное подтверждение или проверку; но философы не видят детей, не видят они душевнобольных; не накапливают они тех впечатлений, которые есть у нас, не встают у них и наши живые запросы. У нас, врачей, и у вас, педагогов, запросы зарождаются, подсказанные не философскими проблемами, а самой жизнью, – и если вы будете ждать, пока в этом направлении со своими указаниями и предписаниями придет философия, то ничего вы в своей практике не сделаете. Взгляните на то, что делается, например, в области той же медицинской науки; разработка теоретических вопросов – экспериментальная ли, критическая ли – в клиниках, институтах, лабораториях идет своим путем, подсказанным злобами дня. А наряду с этим практические врачи производят свою повседневную работу не как экспериментаторы, разрабатывающие и создающие науку, а как лечители, призванные приносить конкретную пользу больным. Всем известно, что врач и при исследовании, и при лечении больного производит своего рода эксперименты, которые находят свое оправдание в той пользе, которую они приносят определенному больному лицу. Скажу более: наше обширное отечество не имеет возможности во всех своих пределах снабжать население услугами врачей, у нас царит так называемый фельдшеризм, и медицина находится в руках лиц, не получивших высшего образования. И вот за неимением академических работников лечебные эксперименты приходится доверять фельдшерам и довольствоваться услугами этих скромных работников, заботясь не столько об интересах науки, сколько о нуждах населения, требующего врачебной помощи. Mutatis mutandis то же относится и к школе, и вот почему мне больно, когда эту скромную практическую работу, не претендующую на научную ценность, а преследующую узко утилитарные цели, презрительно называют «экспериментальным хламом» [7, с. 86–87].
С.: Это просто-таки мои мысли! Вот и сейчас нам нужны не теории, а как можно больше практических приемов лечения неврозов нашего времени. А нам на лекциях читают про определения предмета психологии, как будто это может помочь разобраться в душе безработного или пациента клиники неврозов!
А.: И по этому поводу у меня есть в запасе высказывания, которые погреют твою душу. Вот что, например, говорил известный русский психолог Николай Николаевич Ланге по поводу обучения студентов психологии на рубеже XIX и XX веков.
Н. Н. Ланге: Изучение психологии лишь теоретическое приносит весьма слабые результаты. Без психологических семинарий и лабораторий слушатели выносят зачастую из аудиторий только знание слов и схем, точно дело идет не об явлениях их собственной души, а о психике каких-нибудь нам неизвестных жителей планеты Марса [4, с. 573].
С.: Тогда я не понимаю, почему ты защищаешь теоретические исследования в психологии столь горячо!
Синтез
1. Практичная теория
А.: Я говорю тебе еще раз: не спеши. Теория теории рознь. Известный физик Людвиг Больцман любил повторять: «Нет ничего практичнее, чем хорошая теория». Мы с тобой пока говорили лишь об одном споре начала XX века, когда психология во многом находилась в плену умозрительных схем. Но вскоре в психологии появляются теории, способные гораздо эффективнее решать самые что ни на есть практические проблемы. Это связано уже с развитием психологии в 10–20-е годы XX века. Кстати, и сами практики, уже процитированные мною, не были против теорий как таковых.
А. П. Нечаев: Никто из экспериментаторов не отрицает «теорий», если и отрицают что-нибудь, то именно не теорию, не с теорией борются, а или с глупостью, которая прикрывается иногда именем теории, или с пустой риторикой, выдаваемой за науку. Если эксперимент для чего-нибудь является опасным, то не для теоретической психологии, а для так называемой риторической психологии [7, с. 90].
С.: Верно-верно, в психологии очень много риторики в теориях…
А.: А что ты вообще знаешь из теорий психологии?
С.: Ну, я слышал про теорию деятельности, о ней мне уже говорили такие же, как я, практики: одни абстракции, да еще и на основе марксистско-ленинской философии. Смешно использовать идеологемы в психотерапевтической практике!
А.: Давай не будем торопиться. Раз уж я взялся за твое психологическое образование и воспитание, поговорим и о теории деятельности, только несколько позже. Ведь мы будем с тобой следовать логике истории психологии – очень трудно понять проблему, если не знаешь обстоятельств ее возникновения в истории.
С.: Но я все же хочу забежать вперед. Скажи, какие теории в психологии не были риторикой, чтобы я больше обратил на них внимания?
А.: Вот какая история случилась однажды с нашим известным психологом Львом Семеновичем Выготским. Она описана в книге Алексея Алексеевича Леонтьева, посвященной Выготскому.
А. А. Леонтьев: Есть такая болезнь – паркинсонизм (болезнь Паркинсона), настигающая человека обычно в пожилом возрасте. Ее внешний признак – непрекращающееся дрожание рук, ног, а иногда и всего тела. И вот Выготского привели к кровати тяжелого паркинсоника, который, правда, мог стоять, но не был в состоянии сделать ни шага: любое волевое усилие приводило к тому, что дрожание (врачи называют его «тремор») становилось еще больше. И тут Выготского, как говорится, осенило. Он взял со стола чистый лист бумаги, разорвал его на мелкие кусочки и положил их на пол перед больным так, что образовалась своеобразная дорожка. И больной, ступая по бумажкам, вдруг пошел!
…На самом деле его ничего не «осенило»: Выготский просто приложил к конкретной ситуации общий теоретический принцип [9, с. 57].
А.: Этим общим теоретическим принципом была идея Выготского об опосредствованном строении высших психических функций человека и о роли стимулов-средств в организации человеческого поведения.
С.: Что это за стимулы-средства?
А.: В свое время мы об этом поговорим. А пока вот тебе другой пример из деятельности того же Выготского в качестве дефектолога, то есть психолога-практика, по твоей классификации, который занимается коррекцией нарушений психического развития и поведения у слепых, глухих, умственно отсталых детей. Обрати внимание, как резко возрастает эффективность психокоррекционной работы при смене одной теоретической установки другой.
Л. С. Выготский: Основным положением, которое может интересовать нас с методической стороны, является констатирование того факта, что при изучении аномального и трудновоспитуемого ребенка следует строго различать первичные и вторичные уклонения и задержки в развитии. Основным результатом наших исследований был вывод, что уклонения и задержки в развитии интеллекта и характера у аномального и трудного ребенка всегда связаны с вторичными осложнениями каждой из этих сторон личности или личности в целом. Правильно методологически поставить вопрос о соотношении первичных и вторичных уклонений и задержек в развитии – значит дать ключ к методике исследования и методике специального воспитания этого ребенка…
Получается с первого взгляда парадоксальное положение, заключающееся в том, что недоразвитие высших психологических функций и высших характерологических образований, являющееся вторичным осложнением при олигофрении и психопатии, на деле оказывается менее устойчивым, более поддающимся воздействию, более устранимым, чем недоразвитие низших или элементарных процессов, непосредственно обусловленное самим дефектом. То, что возникло в процессе развития ребенка как вторичное образование, принципиально говоря, может быть профилактически предупреждено или лечебно-педагогически устранено.
Таким образом, высшее оказывается наиболее воспитуемым…
Поэтому в свете нового учения о развитии ненормального ребенка коренным образом перестраивается и изменяется направление лечебно-педагогической работы. Основной догмой старой педагогики при воспитании ненормального ребенка было воспитание низшего: тренировка глаза, уха, носа и их функций, обучение запахам, звукам, цветам, сенсомоторной культуре. На этом дети держались в течение десятка лет, и неудивительно, что результаты этой тренировки оказывались всегда наиболее жалкими, ибо здесь тренировка шла по наименее благодарному пути. Центр тяжести всей воспитательной работы переносился на наименее воспитуемые функции, а там, где эти функции все же уступали педагогическому воздействию, – там, как показывает современное исследование, это происходило вопреки намерению и пониманию самих педагогов, ибо и развитие этих элементарных функций совершается за счет развития высших психологических функций. Ребенок научается различать лучше цвета, разбираться в звуках, сравнивать запахи не за счет того, что утончается обоняние и слух, но за счет развития мышления, произвольного внимания и других высших психологических функций. Таким образом, традиционная ориентировка всей специальной части лечебной педагогики должна быть повернута на 180 градусов, и центр тяжести должен быть перенесен с воспитания низших на воспитание высших психологических функций [10, с. 68, 72–73].
2. Теория как полезный для клиента «миф»
С.: Вижу, что я ошибался в оценке полезности теорий в психологии…
А.: Они, кстати, нужны не только для того, чтобы помочь психотерапевту или психологу выбрать наиболее адекватный вид психокоррекционной работы, но и самому клиенту психолога. Оказывается, здесь действует интересная закономерность. Вот что об этом написано в одной из статей (впрочем, я уже цитировал ее) на данную тему. Правда, ее авторы – сторонники той точки зрения, согласно которой все те теории хороши, которые «работают» на излечение клиента, поэтому вопрос о более или менее адекватном отражении в теории закономерностей психики просто неуместен. С моей точки зрения, в этой весьма прагматической позиции есть существенные изъяны, но о них мы поговорим в другой раз.
М. М. Огинская, М. В. Розин: Теория – необходимое звено психотерапии, поскольку именно усвоение клиентом заложенного в теории образа человека и неожиданная трактовка его проблем ведут к излечению. Такой взгляд меняет представление о сущности и роли психотерапевтической теории. Неважно, соответствует ли она действительности, правильно ли отражает причины затруднений, важен лишь тот эффект, который она произведет, став частью сознания клиента. Теория с этой точки зрения не что иное, как миф, организующий представление клиента о себе и о мире, миф полезный, хотя часто противоречащий другому «полезному мифу»… Под мифом понимают специально сформулированные для клиента психологические знания, объясняющие суть проблемы и процесс лечения… Практически всегда клиент, окончив лечение, усваивает теорию психотерапии [3, с. 10–11].
С.: Теперь я понимаю, почему ты так настаиваешь на изучении теорий.
А.: Но и ты тоже прав, когда слагаешь гимн практике в психологии! Не кто иной, как тот же Выготский, оценивая ситуацию в современной ему психологии конца 20-х годов XX века, когда стали бурно развиваться такие отрасли прикладной психологии, как психотехника и педология, столь же высоко ставит психологическую практику.
3. Практика – «верховный суд» теории
Л. С. Выготский: Отношение академической психологии к прикладной до сих пор остается полупрезрительным, как к полуточной науке. Не все благополучно в этой области психологии – спору нет; но уже сейчас даже для наблюдателя по верхам, то есть для методолога, нет никакого сомнения в том, что ведущая роль в развитии нашей науки сейчас принадлежит прикладной психологии: в ней представлено все прогрессивное, здоровое, с зерном будущего, что есть в психологии; она дает лучшие методологические работы…
Центр в истории науки передвинулся; то, что было на периферии, стало определяющей точкой круга. Как о философии, отвергнутой эмпиризмом, так и о прикладной психологии можно сказать: камень, который презрели строители, стал во главу угла.
Три момента объясняют сказанное. Первый – практика. Здесь (через психотехнику, психиатрию, детскую психологию, криминальную психологию) психология впервые столкнулась с высокоорганизованной практикой – промышленной, воспитательной, политической, военной. Это прикосновение заставляет психологию перестроить свои принципы так, чтобы они выдержали высшее испытание практикой… Психология, которая призвана практикой подтвердить истинность своего мышления, которая стремится не столько объяснить психику, сколько понять ее и овладеть ею, ставит в принципиально иное отношение практические дисциплины во всем строе науки, чем прежняя психология. Там практика была колонией теории, во всем зависимой от метрополии; теория от практики не зависела нисколько; практика была выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки… Успех или неуспех практически нисколько не отражался на судьбе теории. Теперь положение обратное; практика входит в глубочайшие основы научной операции и перестраивает ее с начала до конца; практика выдвигает постановку задач и служит верховным судом теории, критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и как формулировать законы.
Это переводит нас прямо ко второму моменту – к методологии. Как это ни странно и ни парадоксально на первый взгляд, но именно практика, как конструктивный принцип науки, требует философии, то есть методологии науки. Этому нисколько не противоречит… легкомысленное… отношение психотехники к своим принципам; на деле и практика, и методология психотехники часто поразительно беспомощны, слабосильны, поверхностны, иногда смехотворны. Диагнозы психотехники ничего не говорят и напоминают размышления мольеровских лекарей о медицине; ее методология изобретается всякий раз ad hoc, и ей недостает критического вкуса; ее часто называют дачной психологией, то есть облегченной, временной, полусерьезной. Все это так. Но это нисколько не меняет того принципиального положения дела, что именно она, эта психология, создает железную методологию… [11, с. 387–388].
С: А третий момент?
А.: Выготский считал, что психотехника ведет к созданию диалектической психологии, то есть психологии, опирающейся прежде всего на философию марксизма…
С: Неужели и он не смог удержаться от внесения идеологии в психологию?
А.: В том-то и дело, что для него марксизм был не идеологией, а той философской методологией, на основе которой, по его мнению, может быть разработана адекватная столь сложному объекту, как психика, конкретно-научная методология – он называл ее общей психологией. Это вовсе не та «общая психология», которая обычно преподается на психологических факультетах. Это именно конкретно-психологическая «философия человека». Правда, создать эту конкретную психологию Выготский не успел. Он умер в возрасте 37 лет от туберкулеза. Но о нем мы с тобой поговорим несколько позже. Другое дело, что в период, когда Выготский писал свои работы, марксизм – причем в очень усеченном и даже искаженном виде – как официальная идеология нового общества начинает во многом насильственно внедряться в науку. Если вначале психотехники и педологи широко использовали в своих конкретных исследованиях методики, взятые из зарубежных источников, созданные, естественно, на иных теоретических основах, то затем эта практика начинает подвергаться все ужесточающейся критике и в конце концов завершается разгромом и психотехники, и педологии…
С.: Прости, я тебя перебью. Я совсем не знаю, что такое психотехника и педология.
А.: О них я скажу лишь несколько слов, поскольку все это ты будешь позже проходить в разных психологических курсах. Психотехникой называлось мощное психологическое движение, содержанием которого было приложение психологии к решению практических задач, таких, например, как профессиональный отбор и профессиональная консультация, профессиональное обучение, рационализация труда, борьба с профессиональным утомлением и несчастными случаями, создание психологически обоснованных конструкций машин и инструментов, психогигиена, психология воздействия (имеется в виду реклама, кино и тому подобное), психотерапия [см. 12, с. 5]. Эти задачи психотехники решали с использованием различного рода методик – тестов, тренажеров, психофизиологических регистраций и прочего. Естественно, использовались и методики зарубежных психологов, хотя создавались и свои оригинальные методики, получившие признание за рубежом. Многие наши психотехники выступали на международных конференциях и получили мировое признание. Я имею в виду прежде всего человека, фамилию которого уже называл ранее, а именно Шпильрейна. Теперь его судьба – а он был репрессирован в 30-е годы и расстрелян – стала известна широкому кругу психологов [13]. И вот этот всемирно известный ученый был вынужден публично каяться в своих «грехах», поскольку далеко не всегда «привязывал» используемые им конкретные методики изучения трудовой деятельности к высказываниям классиков марксизма. Более того, он позволял себе иногда высказываться в духе отказа от специального анализа «теоретической подоплеки» используемых методик. Ну вот, например.
И. Н. Шпильрейн: Едва ли можно противопоставить буржуазной технике технику марксистскую или социалистическую. Как и всякое техническое усовершенствование, психотехника подобна тому оружию, которое выковывается и у нас, и в буржуазных странах одними и теми же приемами, но служит той или иной цели в зависимости от того, в чьих руках оно находится… Технические приемы, которыми пользуется психотехника, едва ли могут быть принципиально различными там и здесь… В области философии и теоретической психологии должна идти и идет ожесточенная идеологическая борьба за материалистическое и диалектическое миросозерцание против всякого рода мистических и метафизических теорий. Другое дело, в области техники [2, с. 259].
А.: А после этого следовала критика своих и чужих «ошибок». Действительная связь используемой техники и лежащей в основе ее теории была возведена идеологами от науки в абсолют, тем более что «единственно верной» объявлялась исключительно философия марксизма, от которой до действительно конкретной психологии человека, о чем мечтал Выготский, было громадное расстояние. Ведь повторять цитаты из классиков – вовсе не означает приближаться к подлинному познанию человеческой психики. Вот и были психотехнические исследования признаны «идеологически вредными», психотехнические лаборатории повсеместно закрывались, психотехнические журналы тоже, и насколько все это задержало развитие отечественной психологии труда – одному Богу известно… А уж о детской психологии и говорить нечего. Как выразился Алексей Алексеевич Леонтьев, впервые специальным постановлением ЦК партии была отменена целая наука [см. 9, с. 58]. Этой наукой была педология, которая стремилась изучать ребенка целостно, комплексно, используя широкий арсенал, как указывалось в постановлении ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» от 4 июля 1936 года, «бессмысленных и вредных анкет, тестов и т. п., давно осужденных партией» [цит. по: 9, с. 58].
Стремление педологов экспериментальными методами выявить особенности психического и физического развития детей, индивидуальные различия между ними было объявлено «форменным издевательством над учащимися». Кстати, по одной из легенд, погром педологов начался после низкой оценки, которую получили на основании тестов умственные способности сына Сталина Василия, ученика одной из московских школ [см. 9, с. 64]. Многие педологи были физически уничтожены, их труды попали в спецхраны или были рассыпаны при наборе. Вот так страшно преломилась в истории нашей науки в 30-е годы XX века эта, казалось бы, сугубо академическая дискуссия о соотношении теоретических и практических исследований в психологии. И этого не следует забывать. Да, действительно, педология грешила эклектизмом, эмпиризмом – много можно было бы говорить о ее недостатках, и они действительно бросаются в глаза, когда начинаешь читать выходивший всего 5 лет – с 1928 по 1932 год – журнал «Педология», но ведь это естественное состояние науки, когда идут постоянные научные дискуссии. Однако в тридцатые годы из этих сугубо научных дискуссий были сделаны политические выводы…
С.: Да, ты меня убедил в необходимости анализа (не по идеологическим, естественно, соображениям) той теоретической основы, на которой строится та или иная психологическая техника. Но ведь для этого необходимо знать все эти теоретические основы.
Есть ли прогресс в психологии
А.: Именно это я тебе и предлагал с самого начала. Но теперь ты понимаешь необходимость такого рассмотрения – и поэтому, я надеюсь, наши диалоги будут успешными. Учти, однако, наш путь будет сложен и долог – ведь психология, как сказал один известный психолог, «напоминает физику догалилеевского варианта: нет ни одного общезначимого факта, ни одного общеразделяемого обобщения» [цит. по: 14, с. 6].
С.: А кто это сказал?
А.: Самое интересное не «кто», а когда. Это сказано более ста лет назад американским психологом Вильямом Джемсом, а положение с тех пор, как подчеркивают многие современные исследователи, мало изменилось. В силу этого отдельные авторы говорят даже об отсутствии прогресса в развитии психологии.
А. В. Юревич: Конечно, в чем-то изменения к лучшему все же можно усмотреть, например, в обогащении содержания психологических категорий… Однако едва ли подобные изменения свидетельствуют о прогрессе: сомнительно, что обрастание психологических категорий противоречивыми представлениями означает развитие знания.
Отсутствие сколь-либо очевидного прогресса в состоянии психологического знания неудивительно, поскольку прогресс любой науки – это развитие дисциплинарной системы знания. Там, где системы знания нет, прогресс не выражен… Пока единая парадигма не сложилась, науки как таковой нет, есть преднаука, дисциплина находится на донаучной стадии развития… Научное знание – это единая система знания. С ее формирования начинается прогресс науки [14, с. 7].
С.: Неужели все так плохо? Что же нам делать?
А.: Пойти с самого начала и рассмотреть не спеша, как шло формирование психологии, какие проблемы последовательно возникали в ней и почему. Может быть, не так уж все плохо в нашей науке, и мы сумеем в результате наших изысканий сформировать свой собственный взгляд на человека или – что, я думаю, более реально – наметить возможные пути такого формирования. Только знай, что на этом пути нас подстерегают трудности еще и другого рода.
С.: Какие?
Типы историко-научной реконструкции концепций прошлого
А.: Дело в том, что мы будем иметь дело с текстами мыслителей, которые жили в разные эпохи, в разных странах, писали разным языком, не всегда понятным для нас, людей иной эпохи и иной культуры. И при обращении с текстами нужно подчиняться определенным правилам.
С.: Каким же?
А.: Боюсь, я опять испугаю тебя, когда скажу, что и в этой области не существует общепринятой точки зрения на принципы изучения текстов… Ну-ну, не так уж это страшно. Я расскажу тебе всего только о трех принципиальных подходах к изучению творчества мыслителей разных эпох. Один из них – так называемый презентизм. Его возникновение связано с тем, что в любой науке при решении какой-либо конкретной проблемы всегда вначале речь идет об обзоре имевшихся точек зрения на ее решение, что предполагает выявление накопленных позитивных результатов с отбрасыванием ошибок и заблуждений на этом пути.
С.: Именно это нам и нужно!
А.: Не спеши. Вот как сами историки науки оценивают стратегию подобного рода.
Н. И. Кузнецова: Такая ориентация, если сделать ее доминирующей и абсолютной, может иметь неприятные последствия. Подход, о котором идет речь, не предполагает реконструкции прошлого. Научный текст прошлого здесь понимается не как исторический источник, а как исследование объекта, которому дается интерпретация и объяснение, оценка в терминах современного научного знания. Поэтому в современных изданиях научные тексты прошлого зачастую переписываются – меняется символика, чертежи и т. д., а в комментариях то и дело исправляют «ошибки». Такое модернизированное издание по сути дела закрывает путь к адекватной реконструкции хода мысли автора [15, с. 104].
А.: От себя добавлю, что при таком подходе пропадает как раз то, что особенно интересно для психолога, с моей точки зрения: процесс поиска адекватного решения проблемы, условия возникновения этой проблемы в творчестве исследователя, его личная биография в конце концов, которая во многом может пролить свет на особенности творчества данного мыслителя, на особенности его теоретической конструкции, его ошибки и заблуждения, анализ которых поможет нам выявить возможные ложные пути наших исследований. Но существует противоположный ему подход: так называемый антикваризм.
Н. И. Кузнецова: Второй подход связан с принципиальным отрицанием возможности сведения прошлого знания к современному. Его задача – реконструкция прошлого видения мира во всем его своеобразии и неповторимости. Примером могут служить многие работы А. Ф. Лосева…
А.: Имеется в виду замечательный наш философ Алексей Федорович Лосев, к работам которого мы чуть позже обратимся.
Н. И. Кузнецова: Анализируя философию Гераклита, он… свою историко-философскую задачу… понимает так: дать возможность современному читателю (хотя бы отчасти) взглянуть на мир глазами Гераклита.
Поставив такую задачу, историк попадает как бы в тупик: ведь в современном строе речи, восприятия, мировидения почти невозможно найти аналогов прошлому. «Попробуйте представить себе, что перед вами вещь, которая одновременно и отвлеченная идея, и мифическое существо, и физическое тело. Если вам это удастся, то вы поймете Гераклитов огонь, логос, войну, лиру, лук, играющего ребенка… У нас просто нет таких терминов, – подчеркивает эту мысль исследователь, – чтобы можно было ими изобразить существо Гераклитовой эстетической философии» [15, с. 105].
А.: Эта позиция также возможна в исторических исследованиях, но для нас с тобой, раз мы хотим все же извлечь некоторую полезную для наших современников информацию из старых текстов, она не очень подходящая. Мы с тобой будем придерживаться третьей позиции. Известный литературовед и философ Сергей Сергеевич Аверинцев называл ее образно диалогом между двумя понятийными системами: прошлой и современной.
Зачем Анаксимандру и Канту задавать друг другу вопросы
С. С. Аверинцев: Не надо ставить вопрос так: должны ли мы интерпретировать явления культуры далекой эпохи в категориях этой эпохи или, напротив, в категориях нашей собственной эпохи? Неопосредствованное, некритическое, недистанцированное пользование одним или другим рядом категорий само по себе может быть только провалом. Попытка сколько-нибудь последовательно рассуждать в категориях минувшей эпохи – это попытка писать за какого-то неведомого мыслителя трактат, который он почему-то упустил написать вовремя; полезность такой попытки весьма неясна, но неосуществимость очевидна. Интерпретировать культуру прошлого, наивно перенося на нее понятия современности, – значит заниматься мышлением, которое идет мимо своего предмета и грозит уйти в полную беспредметность. Интерпретация возможна только как диалог двух понятийных систем: «их» и «нашей». Этот диалог всегда остается рискованным, но никогда не станет безнадежным [16, с. 397].
А.: Аверинцев раскрывает чуть раньше, что он конкретно имеет в виду. Это, например, постоянно возникающие по ходу чтения текстов прошлого сравнения, сопоставления с современными проблемами и понятиями.
С. С. Аверинцев: Сравнение – не довод и решительно ничего не объясняет, но иногда может нечто пояснить, то есть спровоцировать такое состояние ума, при котором мы непосредственно усматриваем нечто, до сих пор остававшееся для нас незамеченным. Постановление рядом фактов различных эпох не отвечает ни на один вопрос, но иногда предлагает нам «наводящие вопросы». Средневековье ничего не объясняет в современности, современность ничего не объясняет в средневековье: эпохи не могут давать друг другу готовых ответов, но они могут обмениваться такими вопросами, от которых вещи делаются прозрачнее [16, с. 375–376].
А.: Но в то же время мысль «пронзает века», ибо…
С. С. Аверинцев: …В самой природе мысли как мысли заложен этот «трансцензус», этот выход за пределы собственной культурно-жизненной среды, заложена смысловая прозрачность, вполне обнаруживающаяся как раз тогда, когда мы удалим с предмета нашего рассмотрения все характерные цвета времени. Мысль есть мысль постольку, поскольку она «общезначима», «общечеловечна» [Там же, с. 376].
А.: В пределах такого духовного пространства, пишет далее Аверинцев, «Ансельм Кентерберийский и Спиноза или те же Анаксимандр и Кант действительно стоят лицом к лицу и могут задавать друг другу вопросы. Если мы отрицаем реальность этого уровня, мы отрицаем смысл философии, философию как таковую. Мало того, мы отрицаем возможность какой-либо истории идей, ибо, если бы мысль и впрямь была без остатка сводима к своему культурно-социальному субстрату и наглухо заперта в рамках собственной эпохи, никакое понимание поверх этих рамок было бы немыслимо и мы не смогли бы из своего времени рассматривать прошедшее» [Там же].
А: Итак, необходим диалог между представителями разных эпох и культур. Но мне представляется, что не менее значимым для судеб психологии был бы диалог между нашими современниками. О необходимости такого диалога между представителями разных школ говорил, например, известный отечественный психолог Андрей Владимирович Брушлинский [17], значимость диалога между психологами-теоретиками (академическими психологами) и психологами-практиками подчеркивает и цитированный уже мною автор – Юревич [14]. Но я думаю, необходимость таких диалогов тебе уже очевидна. Давай же начнем эти диалоги с представителями разных эпох и культур, чтобы лучше понять современные проблемы психологии.
Литература
1. Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию. Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1986.
2. Шпильрейн И. Н. О повороте в психотехнике // Психотехника и психофизиология труда. 1931. Т. 4. № 4–6. С. 247–285.
3. Огинская М. М., Розин М. В. Мифы психотерапии и их функции // Вопр. психол. 1991. № 4. С. 10–18.
4. Отчет о докторском диспуте Н. Н. Ланге // Вопр. филос. и психол. 1894. Кн. 4(24). С. 564–616.
5. Будилова Е. А. Социально-психологические проблемы в русской науке. М.: Наука, 1983.
6. Ардалион Ардалионович Токарский (1859–1901): Некролог // Вопр. филос. и психол. 1901. Кн. 4(59). С. V – XI.
7. Труды Второго Всероссийского съезда по педагогической психологии в Санкт-Петербурге в 1909 г. (1–5 июня). СПб., 1910.
8. Айхенвальд Ю. И. Рецензия на книгу А. П. Нечаева «Современная экспериментальная психология в ее отношении к вопросам школьного обучения» // Вопр. филос. и психол. 1901. Кн. 4(59). С. 405–416.
9. Леонтьев А. А. Л. С. Выготский. М.: Просвещение, 1990.
10. Выготский Л. С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Хрестоматия по патопсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 66–80.
11. Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса // Л. С. Выготский. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1982. С. 291–436.
12. Мунипов В. Предисловие // История советской психологии труда: Тексты (20–30-е годы XX века). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 3–36.
13. Кольцова В. А., Носкова О. Г., Олейник Ю. Н. И. Н. Шпильрейн и советская психотехника // Психол. журн. 1990. Т. 11. № 2. С. 111–133.
14. Юревич А. В. «Онтологический круг» и структура психологического знания // Психол. журн. 1991. Т. 13. № 1. С. 6–14.
15. Кузнецова Н. И. Наука в ее истории. М.: Наука, 1982.
16. Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство: Зарубежные связи. М.: Наука, 1975. С. 371–397.
17. Брушлинский А. В. Углублять фундаментальные исследования, повышать культуру научной дискуссии // Вопр. психол. 1988. № 1. С. 5–9.
18. Энрайт Дж. Гештальт, ведущий к Просветлению // Гештальттерапия: Теория и практика. М.: Эксмо-пресс, 2000. С. 109–308.
Диалог 2
Первая научная гипотеза древнего человека
(Психология как наука о душе)
С.: Я горю желанием рассмотреть развитие психологии с самого ее начала.
А.: А это начало нелегко будет определить, потому что первые представления о психической деятельности человека и животных появляются еще в рамках донаучного знания, мифологического миросозерцания. В последнее время проблема мифа привлекает к себе внимание психологов, но она слишком сложна для наших вводных бесед, поэтому оставим ее и перейдем сразу к греческой философии, которая сыграла особую роль в становлении европейской психологии как науки.
Ты, конечно, знаешь, что психология долгое время не была, что называется, самостоятельной наукой; знания о психике добывались прежде всего философами, но также и медиками, юристами, педагогами, богословами… Часто все эти «специалисты» соединялись в одном лице – древнегреческом философе.
С.: Но ведь сегодня так много развелось различных видов психотерапевтических практик, которые базируются на древнекитайской, древнеиндийской и вообще восточной философии. Давай начнем с нее.
А.: Дело в том, что современная психология – я имею в виду европейскую и американскую традиции – берет свое начало именно в античной философии. В ее рамках были впервые сформулированы представления о предмете нашей науки – психология тогда была наукой о душе.
Понятие «душа» в мифологии и философии
С.: О душе? Но и в мифологии много говорили о душе. Я тут тоже кое-что успел почитать. Вот: Эдуард Бернетт Тайлор «Первобытная культура». Насколько я понимаю, речь идет именно о первобытной мифологии и о том, что именно побудило древних людей ввести это понятие – «душа».
Э. Б. Тайлор: Характер учения о душе у примитивных обществ можно выяснить из рассмотрения его развития. По-видимому, мыслящих людей, стоящих на низкой ступени культуры, всего более занимали две группы биологических вопросов. Они старались понять, во-первых, что составляет разницу между живущим и мертвым телом, что составляет причину бодрствования, сна, экстаза, болезни и смерти? Они задавались вопросом, во-вторых, что такое человеческие образы, появляющиеся в снах и видениях? Видя эти две группы явлений, древние дикари-философы, вероятно, прежде всего сделали само собой напрашивавшееся заключение, что у каждого человека есть жизнь и есть призрак. То и другое, видимо, находится в тесной связи с телом: жизнь дает ему возможность чувствовать, мыслить и действовать, а призрак составляет его образ, или второе «я». И то и другое, таким образом, отделимо от тела: жизнь может уйти из него и оставить его бесчувственным или мертвым, а призрак показывается людям вдали от него.
Дикарям-философам нетрудно было сделать и второй шаг. Мы это видим из того, как крайне трудно было цивилизованным людям уничтожить это представление. Дело заключалось просто в том, чтобы соединить жизнь и призрак. Если то и другое присуще телу, почему бы им не быть присущими друг другу, почему бы им не быть проявлениями одной и той же души? Следовательно, их можно рассматривать как связанные между собой. В результате и появляется общеизвестное понятие, которое может быть названо призрачной душой, духом-душой. Понятие о личной душе, или духе, у примитивных обществ может быть определено следующим образом. Душа есть тонкий, невещественный человеческий образ, по своей природе нечто вроде пара, воздуха или тени. Она составляет причину жизни и мысли в том существе, которое она одушевляет. Она независимо и нераздельно владеет личным сознанием и волей своего телесного обладателя в прошлом и настоящем. Она способна покидать тело и переноситься быстро с места на место. Большей частью неосязаемая и невидимая, она обнаруживает также физическую силу и является людям спящим и бодрствующим, преимущественно как фантасм, как призрак, отделенный от тела, но сходный с ним. Она способна входить в тела других людей, животных и даже вещей, овладевать ими и влиять на них…
Для понимания расхожих представлений о человеческой душе, или духе, будет полезно обратить внимание на те слова, которые найдены были удобными для выражения их. Дух, или призрак, являющийся спящему или духовидцу, имеет вид тени, и, таким образом, последнее слово вошло в употребление для выражения души. Так, у тасманийцев одно и то же слово обозначает дух и тень… Абипоны употребляют слово «лоакаль» для тени, души, отклика и образа… В понятие о душе, или духе, вкладываются атрибуты и других жизненных проявлений. Так, караибы, связывая пульсацию сердца с духовными существами и признавая, что душа человека, предназначенная для будущей небесной жизни, живет в сердце, вполне логично употребляют одно и то же слово для обозначения «души, жизни и сердца»… Акт дыхания, столь характерный для высших животных при жизни, прекращение которого совпадает так тесно с прекращением этой последней, много раз, и весьма естественно, отождествлялся с самой жизнью или душой…
Западные австралийцы употребляют одно и то же слово «вауг» как «дыхание, дух и душа»… [1, c. 212–215].
С.: Чем же тогда понятие души у древних философов отличается от такового в мифологии?
А.: Мифология и философия – это два разных типа мировоззрения. Первое многие философы характеризуют как социоантропоморфическое мировоззрение, то есть результат «стихийного перенесения на все мироздание свойств человека и его рода» [2, с. 17]. Для сознания людей, обладающих данным типом мировоззрения, характерны «эмоциональность, образное восприятие мира, ассоциативность и а(до)логичность, склонность оживотворять (гилозоизм), одухотворять (аниматизм) мироздание, одушевлять его части (анимизм)» [Там же]. Философия – совершенно иной тип мировоззрения. Вот что писал об этом историк философии Арсений Николаевич Чанышев.
А. Н. Чанышев: Философия – это мировоззренческое мышление или мыслящее мировоззрение. Основной вопрос мировоззрения принимает в философии форму основного вопроса философии. Авторитет разума занимает место авторитета традиции. Поиски генетического начала мира дополняются поисками субстрата, субстанции, отчего само генетическое начало приобретает качественно иной характер… Природа деантропоморфизируется и демифологизируется [Там же, с. 25–26].
А.: Выделю главное, как мне кажется, отличие философии от мифологии: философия стремится обосновать выдвигаемые положения, тогда как мифологемы принимаются на веру. Впрочем, процесс выделения философии из мифологии шел медленно и вначале, как считает тот же Чанышев, можно говорить лишь о «протофилософии», для которой характерны «еще отсутствие поляризации на материализм и идеализм…наличие многих образов мифологии, значительных элементов антропоморфизма, пантеизма, отсутствие собственно философской терминологии и связанная с этим иносказательность, представление физических процессов в контексте моральной проблематики…» [Там же, с. 125]. Немудрено поэтому, что протофилософия использует ту же терминологию, что и мифология, но содержание используемого термина «душа» становится иным. Замечу, кстати, что Выготский, о котором мы с тобой уже говорили, всегда протестовал против попыток как-то иначе называть нашу науку, нежели «психологией», что собственно и значит «наука о душе».
Л. С. Выготский: Мы не хотим быть Иванами, не помнящими родства; мы не страдаем манией величия, думая, что история начинается с нас; мы не хотим получить от истории чистенькое и плоское имя; мы хотим имя, на которое осела пыль веков. В этом мы видим наше историческое право, указание на нашу историческую роль, претензию на осуществление психологии как науки. Мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прежним; даже отрицая его, мы опираемся на него.
Могут сказать: имя это в буквальном смысле неприложимо к нашей науке сейчас, оно меняет значение с каждой эпохой. Но укажите хоть одно имя, одно слово, которое не переменило своего значения. Когда мы говорим о синих чернилах или о летном искусстве, разве мы не допускаем логической ошибки? Зато мы верны другой логике – логике языка. Если геометр и сейчас называет свою науку именем, которое означает «землемерие», то психолог может обозначить свою науку именем, которое когда-то значило «учение о душе». Если понятие землемерия узко для геометрии, то когда-то оно было решающим шагом вперед, которому вся наука обязана своим существованием; если теперь идея души реакционна, то когда-то она была первой научной гипотезой древнего человека, огромным завоеванием мысли, которому мы обязаны сейчас существованием нашей науки [3, с. 428–429].
А.: Античной протофилософией была ионийская философия, куда входили Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и Гераклит из Эфеса. Это примерно VI век до новой эры. Затем следует италийская философия, куда включают Пифагорейский союз и школу элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон), а также философия Эмпедокла, объединяющая в себе ионийскую и италийскую традиции. В рамках италийской философии протофилософия становится уже собственно философией…
С.: Неужели все это необходимо помнить? И как это ты сам запомнил все эти названия и имена?
А.: Друг мой, это только начало. Кстати, известный психолог Алексей Николаевич Леонтьев любил повторять, что психолог должен развивать в себе профессиональную память. Я помогу тебе. Знаешь ли ты, что такое мнемотехника?
С.: Нет.
А.: Это специальные приемы для запоминания, в которых используются вспомогательные стимулы, связанные с исходными.
С.: Ничего не понял.
А.: Вот простейший мнемотехнический прием. Как ты запомнил последовательность цветов спектра?
С.: Благодаря фразе: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Беру первые буквы каждого слова этой фразы и получаю первые буквы названия цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
А.: Это как раз и есть те вспомогательные стимулы-средства, благодаря которым ты запомнил исходный материал.
С.: А какие стимулы-средства ты будешь использовать в нашем случае?
А.: Это будет мой личный психотехнический прием. Чтобы лучше запомнить имена, которые тебе ничего не говорят, и соответствующие идеи, я предлагаю тебе ближе познакомиться с этими людьми как людьми, которые мучились зачастую теми же проблемами, что и современники наши, в том числе моральными проблемами. Короче: я буду много внимания уделять фактам их личной и научной биографии, не слишком, может быть, углубляясь в детали их концепций, поскольку в тех или иных курсах ты будешь знакомиться с ними намного полнее… А вот сориентироваться уже сейчас в море философских, а затем и психологических направлений тебе помогут, может быть, наши с тобой беседы. С.: Я согласен.
Представления о душе в досократической философии
1. Ионийская традиция
А.: Итак, Милетская школа (Милет – город в Малой Азии). Первый философ, с которого начинают разговор о ней, – это Фалес. Фалес считался одним из «семи мудрецов», которые осмысляли некоторые философские проблемы в форме еще не собственно философских учений, а афоризмов, близких к народной мудрости. Фалесу приписывают авторство изречения «Познай самого себя», начертанного над входом в храм Аполлона в Дельфах, которое так любили повторять многие философы. Фалес был первым астрономом и математиком, он предсказал солнечное затмение в 585 году до новой эры. В свое время имя Фалеса стало прозвищем мудреца вообще. А вот что рассказывают про него другие философы.
Платон: Рассказывают…что, наблюдая звезды и глядя наверх, Фалес упал в колодец, а какая-то фракиянка – хорошенькая и остроумная служанка – подняла его на смех: он, мол, желает знать то, что на небе, а того, что перед ним и под ногами, не замечает [4, с. 107].
Аристотель: Когда Фалеса, по причине его бедности, укоряли в бесполезности философии, то он, смекнув по наблюдению звезд о будущем <богатом> урожае маслин, еще зимой – благо у него было немного денег – раздал их в задаток за все маслодавильни в Милете и Хиосе. Нанял он их за бесценок, поскольку никто не давал больше, а когда пришла пора и спрос на них внезапно возрос, то стал отдавать их внаем по своему усмотрению и, собрав много денег, показал, что философы при желании легко могут разбогатеть, да только это не то, о чем они заботятся… [Там же].
А.: А вот что философы говорят об учении о душе у Фалеса.
Цицерон: Фалес Милетский… считал воду началом всех вещей, а Бога – тем умом… который все создал из воды [Там же, с. 114].
Аристотель: Фалес… полагал душу двигательным началом, раз он говорил, что <магнесийский> камень <= магнит> имеет душу, так как движет железо… [Там же].
Диоген Лаэртий: Он наделял душой… даже неодушевленное, заключая… <о всеобщей одушевленности> по магнесийскому камню <магниту> и янтарю… Началом всех вещей он полагал воду, а космос – одушевленным <живым…> и полным божественных сил [Там же, с. 100–101].
А.: Таким образом, у Фалеса при всей его антимифологической направленности и стихийном материализме существуют элементы идеализма.
С.: А что здесь плохого? И вообще, по-моему, пора уже покончить с разделением философии на материализм и идеализм – ведь иногда очень трудно причислить того или иного автора к материалистам или идеалистам.
А.: Во-первых, я не говорил, что идеализм – это плохо; во-вторых, материализм и идеализм – противоположные тенденции в философии, которые могут прослеживаться у одного и того же автора, но это не меняет их противоположного характера. И в психологических идеях мыслителя мы можем многое понять, зная его философскую позицию в том или ином вопросе. Так что будем пользоваться этим делением и впредь, если хочешь, как рабочей классификацией идей.
С.: Тогда я согласен с тобой.
А.: Об ученике Фалеса Анаксимандре мало что известно; однако многие философы подчеркивают материалистический характер его учения.
А. Августин: Преемником Фалеса стал его слушатель Анаксимандр и изменил воззрение на природу вещей. Ибо не из одной вещи (как Фалес, из влаги), но из своих собственных начал, думал он, рождается всякая вещь. Он полагал, что эти начала единичных вещей бесконечны и порождают бесчисленные миры вместе со всем, что только в них возникает; миры же те, как он считал, то разлагаются, то снова рождаются – каждый сообразно своему жизненному веку, в течение которого он может сохраняться. Но и он также в этом творении вещей не уделил никакой роли божественному уму [Там же, с. 123].
А.: Интересно, что Анаксимандр догадался о том, что жизнь впервые зародилась в воде, а затем животные, образовавшиеся от первых живых существ, вышли на сушу. Среди них был и человек, достигший взрослого состояния в брюхе большой рыбы.
А. Августин: Сей <= Анаксимандр> оставил в качестве ученика и преемника Анаксимена, который все причины вещей видел в бесконечном воздухе, но и богов не отрицал и не замалчивал; он только полагал, что не ими сотворен воздух, но сами они возникли из воздуха [Там же, с. 131].
А.: Имеется такое высказывание Анаксимена: «Как душа наша… сущая воздухом, скрепляет нас воедино, так дыхание и воздух объемлют весь космос» [Там же, с. 134]. Что привлекает в этих высказываниях о душе у милетцев? Первые попытки научного, то есть объективного и детерминистского, подхода к объяснению души, свободного от мифологических наслоений, где всегда предполагаются сверхъестественные причины тех или иных явлений. Но пойдем дальше. К ионийской философии относят и философа из Эфеса, соседнего с Милетом полиса, Гераклита.
С.: Это тот, который сказал: «Все течет, все изменяется»?
А.: Не только. Из его произведений сохранилось около 130 фрагментов, но они настолько трудны для понимания, что даже современники называли Гераклита «темным философом». Возможно, эта «загадочность» объясняется тем, что Гераклит, по свидетельству своих современников, невысоко ставил умственные способности своего окружения и «всех презирал» [см. Там же, с. 176], а также особенностями стиля Гераклита, широко использовавшего, в отличие от милетцев, мифологизмы [2, с. 133]. Известны язвительные замечания Гераклита в адрес иных философов: «Многознание уму не научает, а не то научило бы Гесиода и Пифагора, равно как и Ксенофана с Гекатеем»…
С.: Кто это?
А.: Гесиод – древнегреческий поэт, Гекатей – милетский философ, а о Пифагоре и Ксенофане мы поговорим позднее. Послушай же далее Гераклита.
Гераклит: Пифагор… занимался собиранием сведений больше всех людей на свете и, понадергав себе эти сочинения, выдал за свою собственную мудрость многознание и мошенничество [4, с. 196].
А.: Но и другие не церемонились с Гераклитом. Живший позднее Сократ так сказал о сочинениях Гераклита: «Что понял – великолепно, чего не понял – думаю, тоже, а впрочем, нужен прямо-таки делосский ныряльщик» [Там же, с. 179]. Так что и в то время дискуссии носили не только сугубо академический характер. В последние годы жизни Гераклит вообще удалился от людей и жил как отшельник в горах. Что же касается его учения, то началом всего Гераклит полагал огонь. Как торжественно звучат его слова: «Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий» [Там же, с. 217]. Итак, Вселенная не сотворена и вечна, но она не нечто безжизненное, куда движение нужно привнести извне (эта точка зрения будет весьма распространена впоследствии), она несет в себе свое движение, свой «логос».
С.: Что такое «логос»?
А.: Очень трудно ответить на этот вопрос. Уже в древности это слово имело в греческом языке более двадцати различных значений и среди них такие, как: «слово», «рассказ», «разумное слово», «математическое отношение двух величин» и другие [5, с. 19]. У Гераклита логос означает «меру», объективный диалектический закон, управляющий мирозданием. Материя и движение, таким образом, неотделимы друг от друга. Эта неотделимость вещественно-материального и закономерно-разумного аспектов мироздания переносится и на человеческую душу. В вещественном плане она представляет собой огненное начало, к которому может примешиваться «влажное начало». Душа тем лучше, чем более она огненна, а вот у пьяных и чувственно развращенных людей она, наоборот, влажна. «Не к добру людям исполнение их желаний, – замечает по этому поводу Гераклит [4, с. 234]. – Лучшие люди одно предпочитают всему: вечную славу – бренным вещам, а большинство обжирается как скоты» [Там же, с. 244]. Источник движения и изменения души – в ней самой; душа неисчерпаема в своих свойствах.
Гераклит: Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути <= в каком бы направлении> ты ни пошел: столь глубока ее мера <= объем, логос> [Там же, с. 231].
А.: Значительную роль в диалектике Гераклита играет учение о борьбе противоположностей как источнике движения; многие поздние комментаторы Гераклита располагают фрагменты, посвященные этой проблеме, в виде стихотворных строк:
- Война –
- отец всего, царь всего;
- одних она выявила богами,
- других – людьми,
- одних она сделала рабами,
- других – свободными.
- Следует знать,
- что война всеобща,
- что справедливость – борьба,
- что все возникает через борьбу
- и по необходимости [6, с. 69].
Противоположности играют значительную роль и в психической жизни человека; переживание того или иного чувства или состояния усиливает затем восприятие противоположного ему.
Гераклит: Болезнь делает приятным и благим здоровье, голод – сытость, усталость – отдых [4, с. 214].
А.: Познание собственной души Гераклит считал одним из достойных занятий человека. Любимым его изречением было «Познай самого себя» («Я искал самого себя» – это его вариант данного выражения) [см. Там же, с. 194]. Впрочем, как я уже говорил, и в учении о душе у Гераклита много элементов мифологии, так что некоторые философы вообще не считают его учение собственно философией (например, Алексей Федорович Лосев, известный историк философии), тогда как другие против этого [см. 6, с. 70–76]. Относительно души отзвуки мифологии можно найти в следующих высказываниях Гераклита: «Чем доблестней смерть, тем лучше удел выпадает на долю <умерших>», «Людей после смерти ожидает то, чего они не чают и не воображают», «Души обоняют в Аиде», «Человеческая натура не обладает разумом, а божественная обладает» [4, с. 244, 235, 234, 241] и других. Позднейшим материалистическим учениям будут более близки идеи Гераклита о мире как движущемся огне, тогда как идеалистическим – мифология Гераклита. Но пойдем далее.
2. Италийская традиция
C.: Ты, кажется, говорил еще об италийской философии?
А.: Да, то есть философии, распространенной в полисах Южной Италии и Сицилии. Это уже более позднее время – ближе к V веку до новой эры. Сюда относится прежде всего философия Пифагорейского союза, об основателе которого – Пифагоре – мы практически ничего не знаем. Объясняется это во многом тем, что философская школа Пифагора – не столько собственно научная школа, сколько «религиозно-этическое братство – нечто вроде монашеского ордена, члены которого обязывались вести “пифагорейский образ жизни”, включавший наряду с целой системой аскетических предписаний и табу также обязательства по проведению научных исследований» [5, с. 13]. При этом ничего из найденного в этих исследованиях не разрешалось предавать огласке; все достижения школы приписывались Пифагору как ее основоположнику. Один Эмпедокл, будучи членом Пифагорейского союза, решился разгласить какие-то его идеи, за что и был изгнан с позором из него.
С.: А «пифагоровы штаны», то есть теорема Пифагора, действительно Пифагорова?
А.: Мы достоверно не знаем этого. Зато знаем множество различных легенд и слухов о Пифагоре. Вот что рассказывают про него.
Диоген Лаэртий: Приехав в Италию, он соорудил себе комнатушку под землей и наказал матери записывать на дощечке все происходящее, отмечая при этом время <событий>, а затем спускать ему <эти заметки>, доколе он не вернется <на землю>. Мать сделала, как он сказал. А Пифагор некоторое время спустя вернулся наверх тощий как скелет, пришел в народное собрание и объявил, что прибыл из Аида, причем зачитал им все, что произошло <за время его отсутствия>. Те были так взволнованы сказанным, что заплакали, зарыдали и уверовали, что Пифагор прямо-таки божественное существо. Дело кончилось тем, что они доверили ему своих жен, чтобы те научились кое-чему из его учений, и их прозвали пифагоричками [4, с. 139].
C.: И что, тогда действительно были женщины-философы?
А.: Да. Особенно стала известна некая Теано, которая, по некоторым легендам, стала женой самого Пифагора. Учение Пифагора о душе очень близко учению орфиков – последователей религиозного предфилософского учения, которые верили в метемпсихоз – переселение душ, то есть более раннему по времени учению, и, с другой стороны, столь же близко последующим идеям Платона о душе, о которых мы будем говорить позже. Сам Пифагор рассказывал о своих прошлых жизнях, прожитых его душой в других телах [cм. 4, с. 142]. Еще Пифагор говорил, что в основе всего лежит число и что душа есть гармония, то есть то же числовое соотношение. Честно говоря, мне лично интереснее читать комментарии современников и позднейших философов о пифагорейском образе жизни, которые, я думаю, и тебе будут интересны.
А. Н. Чанышев: Пифагорейский образ жизни опирался на иерархию ценностей. На первое место в жизни пифагорейцы ставили прекрасное и благопристойное, на второе – выгодное и полезное, на третье – приятное. К прекрасному и благопристойному пифагорейцы относили и науку.
Устав Пифагорейского союза определял условия приема в союз и образ жизни его членов. В союз принимались лица обоего пола (разумеется, только свободные), выдержавшие многолетнюю проверку своих умственных и нравственных качеств. Собственность была общей, при вступлении в союз все сдавали свою собственность особым экономам…
Пифагорейцы вставали до восхода Солнца. Проснувшись, они проделывали мнемонические упражнения…
А.: Помнишь, что такое мнемотехника? Вон когда она уже была!
А. Н. Чанышев: Затем шли на берег моря встречать восход Солнца. Затем обдумывали предстоящие дела, делали гимнастику, трудились. Вечером они совершали совместное купание, после чего вместе ужинали и совершали возлияние богам. Затем было общее чтение. Перед сном пифагореец давал себе отчет в прошедшем дне: «И нельзя было принять очами спокойными сна, пока трижды не продумаешь прошедший день: как я его прожил? что я сделал? какой долг мой остался невыполненным?» [2, с 141].
А.: Чанышев подчеркивает далее, что в основе пифагорейской этики лежало требование победы над страстями, подчинения старшим, культ дружбы и товарищества, почитание Пифагора. Приемы психотерапии занимали также немаловажное место в деятельности союза. Пифагорейцы уделяли внимание и проблемам медицины (известный врач древности, Алкмеон из Кротона, который едва ли не впервые в истории сказал, что орган души – головной мозг, и открыл зрительные нервы, также входил в Пифагорейский союз). Они, наконец, занимались и развитием психических функций, главным образом памяти и внимания.
С.: Своеобразная педагогическая система, не так ли?
А.: Пожалуй, это и прообраз научной школы как тесно сплоченного коллектива единомышленников, в котором существуют не только благоприятные производственные, но и личные взаимоотношения. Нам бы побольше таких школ!
С.: А кто еще относится к италийской философии?
А.: Школа элеатов, то есть философов полиса Элея. О первом из них, Ксенофане, известно, что он прожил около 90 лет, писал стихи – одно из них привлекло к себе внимание Пушкина [см. 5, с. 18] – и был довольно остер на язык. В одном из сатирических стихотворений Ксенофан, высмеивая учение пифагорейцев о метемпсихозе, писал (имея в виду Пифагора):
- Шел, говорят, он однажды, и видит – щенка избивают.
- Жалостью схваченный, он слово такое изрек:
- «Стой! Перестань его бить! В бедняге умершего друга
- Душу я опознал, визгу внимая ее» [4, с. 170–171].
Сам Ксенофан считал, что боги, о которых говорят греки, есть плод творческого воображения людей: эфиопы пишут своих богов черными и с приплюснутыми носами, фракийцы – рыжими и голубоглазыми [см. Там же, с. 172]. А вот если бы имели руки быки или кони, то они бы рисовали своих богов быками или конями. Нет, Ксенофан не отрицал бога, но это единый бог,
- …меж богов и людей величайший,
- Не похожий на смертных ни обликом, ни сознаньем [4, с.172].
Этот бог Ксенофана неподвижен и правит миром лишь одной силой своей мысли. В Элейской школе вообще отрицали движение и развитие, в отличие от Гераклита. Поэтому элеатов называли первыми метафизиками.
С.: Как же они доказывали это отсутствие движения?
А.: Хороший вопрос и, главное, вовремя поставленный, потому что именно в Элейской школе мы впервые в истории философии встречаемся с доказательством как таковым, до этого философы опирались больше на аналогии и метафоры [см. 2, с. 152]. Попытки доказательства мы находим у Парменида. По сообщениям Платона, будучи молодым, Сократ слушал Парменида [см. 4, с. 275]. Возможно, что приемы «сократических диалогов» имеют своим истоком беседы Парменида с его учениками и слушателями. А вот доказательства основных положений философии Парменида, на мой взгляд, доказательствами не являются. Сначала Парменид пытается доказать, что небытие не существует, потому что оно «немыслимо» (его нельзя помыслить). Для Парменида предмет мысли и мысль о предмете тождественны. Раз нет небытия, то тогда бытие должно быть только единым и неподвижным, ведь тогда ничто не может разделить бытие на части и ничто не может исчезнуть и ничто не может возникнуть. Стало быть, в мире все неизменно.
С.: Действительно, это не доказательства.
А.: А что ты скажешь на это: покоится ли летящая стрела?
С.: В каком смысле? Она же движется?
А.: А вот третий представитель Элейской школы, Зенон, утверждал, что покоится.
С.: Как так?
А.: Давай будем рассуждать, как Зенон. В каждый данный момент времени стрела занимает какое-то особое место, так?
С.: Так.
А.: В следующее мгновение она будет занимать какое-то другое место?
С.: Да.
А.: Занимая этот отрезок пространства, стрела в этом месте покоится?
С.: Похоже, что так.
А.: Значит, в сумме мы получаем сумму состояний покоя?
С.: Да.
А.: Так можем ли мы из суммы состояний покоя вывести состояние движения? По Зенону, нет. Значит, движения нет.
С.: Что-то здесь не так, но не пойму, что именно.
А.: Подумай на досуге над этой апорией – так назывались эти умозаключения Зенона, которые буквально ставили в тупик (слово «апория» так и переводится – безвыходное положение) его слушателей. Рассуждения Зенона – это первые в истории философии строго логические доказательства, и не случайно его апории до сих пор используются в различных пособиях по логике. Я думаю, что не меньший интерес они должны вызывать у психологов, занимающихся психологией мышления.
3. Эмпедокл и Анаксагор
С.: Кажется, кто-то из названных тобой философов соединил в своем творчестве ионийскую и италийскую традиции?
А.: Верно. Это был Эмпедокл. Про него ходят легенды такого рода. Желая, чтобы соотечественники считали его богом, он якобы прыгнул в жерло вулкана Этны. Узнали об этом позже, когда из кратера вулкана выбросило его башмак [см. 4, с. 333–334]. Но про Эмпедокла рассказывают и другое. Когда однажды на город обрушился ураган, он ослабил ветры благодаря тому, что окружил город ослиными шкурами [см. Там же, с. 335]. В другой раз он очистил воды зараженной реки за счет вод двух соседних рек, и мор прекратился. За это, собственно, соотечественники и стали считать его богом.
Для нас, психологов, особенно интересно, естественно, учение Эмпедокла о душе. Во-первых, Эмпедокл считал, что душа локализована не в голове или грудной клетке, а в крови [см. 4, с. 361]. Во-вторых, он не видел различия между душой и умом (нусом, разумом, интеллектом), которое будет проведено впоследствии, и поэтому считал, как отмечали его комментаторы, что и у растений, и у животных тоже имеется ум и понимание [см. 4, с. 386, 394]. В-третьих, Эмпедокл много внимания уделял изучению механизмов чувственного познания. Основной принцип Эмпедокла – «подобное познается подобным». Вот что говорил об учении Эмпедокла позднейший комментатор его текстов Теофраст.
Теофраст: Эмпедокл обо всех ощущениях полагает одинаково, а именно: он утверждает, что ощущение происходит благодаря подогнанности <прилаженности> <объектов ощущения> к порам каждого <органа чувств>. Потому-то одни <из органов чувств> и не могут различить объекты других, так как у одних поры слишком широки, у других слишком узки по сравнению с воспринимаемым объектом, так что одни объекты проникают <в поры> с легкостью, не задевая их, а другие вовсе не могут войти [Там же, с. 373].
А.: Удовольствие возникает в случае встречи с «подобным» объектом, неудовольствие – когда нечто действует на неподобное ему. Интересно, что исследуя строение уха, Эмпедокл, как считается, открыл ушной лабиринт [см. 5, с. 30]. И вот при таком вполне материалистическом воззрении на душу у Эмпедокла встречаются совершенно иные, с нашей точки зрения, даже противоположные этому идеи. Не случайно он был одно время членом Пифагорейского союза. Вполне в духе учения пифагорейцев Эмпедокл неоднократно говорит о метемпсихозе, вспоминая, как и Пифагор, свои прошлые жизни, говорит о том, что «души мудрых становятся богами» [4, с. 412], иные души в земной жизни несут наказание за убийство, вкушение плоти и каннибализм, а тело Эмпедокл называет «землей, в которую облачен человек», то есть своего рода темницей. Сам же Эмпедокл не видел в этом никакого противоречия, полагая, видимо, что оба рассмотренные выше учения просто относятся к разным областям [см. 5, с. 30]. И действительно, в последующем эти две разные области идей будут разрабатываться философами двух противоположных направлений: представители материалистических учений будут все свое внимание уделять прежде всего натурфилософским вопросам и стремиться к естественному объяснению свойств души, идеалисты же, справедливо полагая, что моральноэтические нормы поведения человека вряд ли могут быть объяснены натурфилософскими построениями, все свое внимание будут уделять обоснованию неестественного – или сверхъестественного – происхождения этих норм. Это особенно отчетливо обнаружится, когда мы будем говорить о противостоянии величайших философов Древней Греции Демокрита и Платона, которые творили уже в так называемую эпоху классики (V–IV века до новой эры).
С.: Я чувствую, мы до них не доберемся.
А.: Осталось всего ничего: из досократиков мы поговорим еще об Анаксагоре. По легендам, Анаксагор был первым профессиональным ученым, целиком посвятившим себя науке, в отличие от других философов, которые были поэтами, государственными деятелями, то есть наука не была их единственным занятием [см. 7, с. 20]. В молодости он любил наблюдать за небесными явлениями с вершины мыса, и когда его однажды спросили: «Для чего следует родиться на свет?», Анаксагор, почти как две тысячи с лишним лет спустя Иммануил Кант, ответил: «Чтобы созерцать небо и устройство всего космоса» [Там же, с. 15]. Вот что о нем сообщают исследователи и комментаторы его творчества.
Диоген Лаэртий: Он отличался не только знатностью рода и богатством, но и высокомудрием, поскольку отказался от наследственного имения в пользу родственников… Страдавшему от того, что умирает на чужбине, он сказал: «Спуск в Аид отовсюду одинаков»… Поговаривали, что он враждебно относился к Демокриту после того, как ему не удалось войти в круг его собеседников. Наконец он уехал в Лампсак, где и умер. На вопрос городских властей, какое его желание исполнить, он ответил: «Пусть в месяц моей смерти детей ежегодно отпускают на каникулы», – и обычай этот соблюдается по сей день [4, с. 505–507].
И. Д. Рожанский: Его быт отличался скромностью и простотой… Кроме того, он был неизменно серьезен (по словам одного источника, его никогда не видели ни смеющимся, ни улыбающимся) и, по-видимому, не отличался особой общительностью – свойство, объясняющее, почему, живя в одном городе с Сократом, он никогда с ним не беседовал [7, с. 21–22].
А.: Анаксагор входил в так называемый кружок Перикла (ты, конечно, знаешь этого правителя Афин, при котором наблюдался высочайший расцвет культуры и искусства). Современники отмечали значительное влияние Анаксагора на образ мыслей Перикла. Но впоследствии враги Перикла обвинили Анаксагора в безбожии, и он был вынужден покинуть Афины; по одной из легенд, он покончил жизнь самоубийством. Его называли «Умом» не только за выдающиеся умственные способности, но и за то, что он «считал <началами> материю и всеконтролирующий Ум» [4, с. 507].
С.: Что это за Ум?
А.: Анаксагор считал, что должно быть какое-то начало, которое движет и управляет миром – иначе, по его мнению, невозможно понять порядок во Вселенной. Ум (нус, по-гречески) не только правит миром, но одновременно и познает его. По сообщению Платона, идея об уме как организующем материю начале пришлась по душе Сократу.
Сократ: Однажды я услышал, как кто-то читал <вслух> из книги Анаксагора… и толковал о том, что-де устроитель и причина всех вещей – Ум. Я пришел в восторг от этого объяснения и решил, что тут что-то есть, в этом утверждении, что Ум – причина всех вещей, и подумал: если это так, то уж Ум-то, взявшись устраивать, должен устраивать все и располагать всякую вещь наилучшим образом, исходя из принципа наивысшего блага [4, с. 518].
А.: Но вскоре Сократ разочаровался в Анаксагоре, потому что увидел, «что умом он не пользуется вовсе и не указывает настоящих причин упорядоченности вещей, а ссылается на всякие там воздухи, эфиры, воды и множество других нелепых вещей» [Там же]. Таким образом, Анаксагор склонен искать опять-таки естественные причины явлений, а Ум у него как причина появляется тогда, когда эта естественная причина неизвестна.
Если Ум – движущее начало всей Вселенной, которая, как полагал Анаксагор, состоит из качественно различных «семян» (то есть мельчайших частиц различных веществ), то душа – принцип движения живых существ. Эту идею Анаксагора высоко оценил Аристотель [cм. 4, с. 528–529]. Однако разум человека, как подчеркивают исследователи творчества Анаксагора, не имеет никакого отношения к Нусу. Наличие разума у человека и элементов разума у животных объясняется Анаксагором все теми же естественными причинами [см. 7, с. 113]. Человек мудрейшее существо потому, говорил он, что ему достались руки. Анаксагор считал также, что животные имеют «деятельный разум», но не обладают речевым разумом [см. 4, с. 529]. В противоположность Эмпедоклу, он говорил, что подобное не может познаваться подобным, ибо, например, при одинаковой температуре тела и предмета мы не воспринимаем его как «холодный» или «теплый», но ощущаем предмет как «теплый» холодной рукой и как «холодный», если ощупывающая его рука горяча. Многие из этих идей были развиты затем в психологии.
Ну, а теперь – Демокрит и Сократ, а затем и Платон.
Три жизни философов
1. Демокрит
С.: А что интересного у Демокрита? Все состоит из атомов, они движутся – сплошная физика. Давай сначала о Сократе.
А.: И это все, что ты знаешь о Демокрите? Немного. Но сначала, по традиции, поговорим о нем как о человеке: может быть, твое предубеждение против него рассеется. Я думаю, он был не менее интересным человеком, чем Сократ.
Демокрит родился в древнегреческом полисе Абдеры, жители которого в древности считались простофилями и дураками (слово «абдерит» было символом ограниченности в то время) [cм. 8, с. 15]. Но, может быть, это сыграло свою особую роль в судьбе Демокрита: его сограждане не обвинили его в безбожии, как сограждане Сократа, они сочли его просто сумасшедшим. Существовал роман о взаимоотношениях Демокрита и Гиппократа, знаменитейшего врача V века до новой эры, написанный неизвестным автором. Вот что там говорилось по поводу последних лет жизни Демокрита.
Жители Абдер посылают письмо Гиппократу, в котором было следующее: «Гиппократ, величайшая опасность угрожает ныне нашему городу. Опасность грозит одному из наших граждан, в котором наш город видел свою вечную славу в настоящем и будущем. Поистине, о боги, теперь он не будет <никому> внушать зависть, столь сильно он заболел от великой мудрости, которой он обладает…» [8, с. 32]. Речь шла, конечно же, о Демокрите. Гиппократ спешит в Абдеры, заранее отказываясь от денег, которые обещали ему жители Абдер за лечение Демокрита. Со слезами на глазах проводили жители Абдер Гиппократа к Демокриту. Демокрит «сидел один… на каменной скамье… и держал весьма бережно книгу на своих коленях, несколько других книг были разбросаны направо и налево. И рядом лежало в куче множество вскрытых трупов животных. Демокрит то, склонившись, писал, то останавливался, делая продолжительный перерыв, и в это время обдумывал. Затем, спустя немного времени, он вставал, прогуливался, исследовал внутренности животных, откладывал их в сторону, возвращался назад и снова садился» [8, с. 34]. Гиппократ сразу же понял, что Демокрит просто занят научными изысканиями. Затем в романе следует рассказ о переписке двух этих великих людей, причем имеется указание на то, что Демокрит являлся автором ряда медицинских произведений.
К сожалению, до нашего времени сохранилось лишь небольшое число фрагментов Демокрита. Поговаривают, что произведения Демокрита были специально уничтожены представителями противоположного лагеря – идеалистами, возможно, Платоном.
Впрочем, по мнению Алексея Федоровича Лосева, такой поступок совершенно лишен смысла (ведь произведения Демокрита уже были широко известны) и представляется невероятным [см. 9, с. 26; 34, с. 54]. Однако вот что говорит об этой истории Диоген Лаэртский.
С.: Ты сказал Лаэртский, а не Лаэртий, как раньше?
А.: В русскоязычной литературе встречается, по крайней мере, три разных варианта написания имени этого древнего философа.
Диоген Лаэртский: Аристоксен в «Исторических записках» сообщает, что Платон хотел сжечь все сочинения Демокрита, какие только мог собрать, но пифагорейцы Амикл и Клиний помешали ему, указав, что это бесполезно: книги его уже у многих на руках. И неудивительно: ведь Платон, упоминая почти всех древних философов, Демокрита не упоминает нигде, даже там, где надо было бы возражать ему; ясно, что он понимал: спорить ему предстояло с лучшим из философов [10, с. 371–372].
С.: Что же еще известно о Демокрите?
А.: Он был из богатой и знатной семьи абдеритов. Когда персидский царь Ксеркс шел походом на Грецию, Абдеры заключили союз с персами. В награду за гостеприимство Ксеркс оставил в качестве домашних воспитателей детей знатных абдеритов нескольких персидских жрецов-магов и вавилонских халдеев, и, таким образом, Демокрит получил в том числе «восточное» образование. С греческой философией его познакомил его непосредственный учитель Левкипп, о котором имеется мало сведений. Аристотель и затем многие последующие философы писали о едином атомистическом учении Левкиппа – Демокрита. Их объединяли не только общие взгляды на природу; многие современники философов неоднократно подчеркивают демократизм обоих философов, ненависть к восточным деспотиям [см. 8, с. 21–22]. Демокрит с уважением относился и к физическому труду, считая, что даже раб при соответствующем обучении может стать выдающимся философом. Существуют легенды о том, что он выкупил за десять тысяч драхм раба Диагора, увидев его хорошие способности, и сделал его своим учеником. Отцовское наследство он потратил на многочисленные путешествия, во время которых Демокрит познавал мудрость, нравы и обычаи других народов, и за это едва ли не был приговорен абдерским судом к изгнанию из Абдер, но затем был оправдан, ибо приобретенное за время путешествий оказалось значительнее богатства. Говорят, что прозвищем Демокрита была «Мудрость».
Как тебе известно, наверное, Демокрит был материалистом и атеистом. Он постоянно занимался анатомированием трупов животных, одно время даже проживал на кладбище [см. 10, с. 371]. Однажды, когда «какие-то юноши, – рассказывает сатирик II века новой эры Лукиан, – захотели попугать его ради шутки и, нарядившись покойниками, надев черное платье и личины, изображающие черепа, окружили его, и стали плясать вокруг него плотной толпой, то он не только не испугался их представления, но и не взглянул на них, а сказал, продолжая писать: “Перестаньте дурачиться”. Так твердо он был убежден в том, что души, оказавшиеся вне тела, – ничто» [цит. по: 8, с. 137].
И смерть Демокрита, я думаю, не менее славна, чем смерть Сократа, хотя она и другого рода. По свидетельству многих современников, Демокрит жил очень долго – более 90 или даже 100 лет, как он сам говорил, благодаря физическим упражнениям и умеренности. Но в конце жизни из-за старости и, возможно, из-за того, что лишился зрения, Демокрит не захотел больше жить и решил ежедневно уменьшать порции пищи. Но почувствовав, что он может умереть в праздник, чтобы не испортить его окружающим, он искусственно продлил себе жизнь на несколько дней, вдыхая пары от меда или, по другой версии, от горячих хлебов [см. 8, с. 85–86]. Вот как распорядилась судьба! Демокрит был гораздо более, чем его современник Сократ, «безбожником», а все-таки чашу с цикутой пришлось выпить Сократу, тогда как Демокрит был похоронен с почетом за счет полиса (семьей Демокрит так и не обзавелся).
С.: Скажи, а встречался ли Демокрит с самим Сократом?
А.: Вот что говорит об этом Диоген Лаэртский.
Диоген Лаэртский: Демокрит побывал и в Афинах, но не заботился, чтобы его узнали, потому что презирал славу; и он знал Сократа, а Сократ его не знал. В самом деле, вот его слова: «Я пришел в Афины, и ни один человек меня не знал» [10, с. 370].
А.: Но, я думаю, главный интерес представляет для нас полемика этих крупных философов друг с другом, точнее, полемика Демокрита и Платона, ближайшего ученика Сократа, которую обнаруживаешь, читая диалоги Платона. Но о ней мы поговорим после знакомства с биографией Сократа. Ты, конечно, знаешь о ней?
2. Сократ
С.: Немного. Я знаю, что Сократ был приговорен за что-то афинским судом к смерти и сам выпил чашу с ядом, тогда как его друзья неоднократно предлагали ему бежать! Вот это мужественный человек!
А.: Но самое главное, что для Сократа такой поступок прямо вытекал из его философских взглядов, из его мировоззренческой позиции.
С.: О ней-то как раз я очень мало знаю.
А.: Давай сначала поговорим о нем как о личности. Сократ был сыном каменотеса и повитухи, по-современному – акушерки. Когда он родился, отец, по обычаю, обратился к оракулу с вопросом, как ему воспитывать сына. Оракул отвечал, что сын уже имеет в себе некоего учителя, некий «голос», или демон, как потом определял его сам Сократ, который будет руководить поступками Сократа, причем отвращать его от всех дурных поступков. Сократ получил надлежащее образование, но главным его учителем стала ненасытная жажда знаний о человеке, о человеческой душе, о человеческом познании и поведении, а не о природе, которая была основным объектом изучения предшествующих Сократу натурфилософов. Интересно то, что в молодости Сократ, наоборот, увлекался как раз натурфилософией, но затем разочаровался в ней, по свидетельству Платона [см. 11, с. 65–67], поскольку она не могла дать ответы на мучающие его вопросы о причинах поведения человека, которые, как тогда уже чувствовал Сократ, вряд ли могут быть объяснены с помощью натурфилософских схем. Не помогло ему и знакомство с философией Анаксагора, как это мы уже говорили раньше. Сократ находит свой собственный путь в философии.
Вообще связь между его убеждениями и образом жизни чрезвычайно тесная. Представь себе, ходил по улицам Афин в одном и том же ветхом плаще летом и зимой босиком некий субъект, который казался многим, кто его не знал, поначалу немного туповатым, потому что вместо того, чтобы что-то утверждать, задавал и задавал собеседнику вопросы. Но как-то так получалось, что, отвечая на эти вопросы, его собеседник, в конце концов, сам безнадежно запутывался, потому что эти вопросы вдруг высвечивали все слабые места его, казалось бы, твердых построений. Вот как об этом говорит один из его собеседников Менон из одноименного диалога Платона.
Менон: Я, Сократ, еще до встречи с тобой слыхал, будто ты только и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по-моему, ты меня заколдовал и до того заговорил, что в голове у меня полная путаница. А еще, по-моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом, и всем на плоского морского ската: он ведь всякого, кто к нему приблизится и прикоснется, приводит в оцепенение, а ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое – я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела, и язык отнялся: не знаю, как тебе и отвечать. Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, что она вообще такое. Ты, я думаю, прав, что никуда не выезжаешь отсюда и не плывешь на чужбину: если бы ты стал делать то же самое в другом государстве, то тебя, чужеземца, немедля схватили бы как колдуна [12, с. 587].
А.: Целью таких диалогов Сократа было не стремление поставить собеседника в тупик, а поиск истины. Ради этого поиска истины Сократ бы готов пожертвовать всем на свете.
Сократ: Благодаря этой работе у меня не было досуга сделать что-нибудь достойное упоминания ни для города, ни для домашнего дела, но через эту службу богу пребываю я в крайней бедности [13, с. 76].
А.: Действительно, Сократ принципиально отвергал стремление к богатству и роскоши, но благодаря этой его установке и вся его семья жила в крайней бедности. И до нашего времени дошли предания о сварливости его жены Ксантиппы, которая, я думаю, во многом объяснялась столь сложными условиями жизни семьи (Сократ женился даже по нынешним меркам довольно поздно – после сорока лет – и к моменту его гибели у него было трое детей, из которых двое совсем маленькие). Вот какие истории рассказывает о Сократе Диоген Лаэртский.
Диоген Лаэртский: Однажды Ксантиппа сперва разругала его, а потом окатила водой. «Так я и говорил, – промолвил он, – у Ксантиппы сперва гром, а потом дождь». Алкивиад твердил ему, что ругань Ксантиппы непереносима; он ответил: «А я к ней привык, как в вечному скрипу колеса. Переносишь ведь ты гусиный гогот?» – «Но от гусей я получаю яйца и птенцов к столу», – сказал Алкивиад. «А Ксантиппа рожает мне детей», – отвечал Сократ. Однажды среди рынка она стала рвать на нем плащ; друзья советовали ему защищаться кулаками, но он ответил: «Зачем? Чтобы мы лупили друг друга, а вы покрикивали: “Так ее, Сократ! Так его, Ксантиппа!”?» Он говорил, что сварливая жена для него – то же, что норовистые кони для наездников: «Как они, одолев норовистых, легко справляются с остальными, так и я на Ксантиппе учусь обхождению с другими людьми» [10, с. 115].
А.: Впрочем, по некоторым сведениям, у Сократа была еще одна жена – Мирто, но за подробностями я отсылаю тебя к книгам о Сократе [см., например, 14].
С.: Как же случилось, что Сократ был осужден?
А.: Зависть, мой друг. Еще раз обратимся к Диогену Лаэртскому.
Диоген Лаэртский: Ему до крайности завидовали, – тем более, что он часто обличал в неразумии тех, кто много думал о себе. Так обошелся он с Анитом, о чем свидетельствует Платон в «Меноне»; а тот, не вынесши его насмешек, сперва натравил на него Аристофана с товарищами…
А.: Известный древнегреческий драматург Аристофан высмеял Сократа в одной из своих комедий «Облака».
Диоген Лаэртский: …А потом уговорил и Мелета подать на него в суд за нечестие и развращение юношества… Клятвенное заявление перед судом было такое…: «Заявление подал и клятву принес Мелет, сын Мелета из Питфа, против Сократа, сына Софрониска из Алопеки: Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; а наказание за то – смерть» [10, с. 115–116].
А.: Самое главное, что Сократ мешал очень многим. Своим образом жизни он противоречил стремлениям как правителей Афин, так и отдельных его граждан к обогащению, антизаконным махинациям и прочим таким вещам. Он смущал умы: вот почему один из правителей поставил в качестве условия освобождения Сократа требование «вовсе не вести бесед с молодыми людьми» [см. 14, с. 77]. Но Сократ на это не согласился. И вот в тюрьме в присутствии многочисленных учеников Сократ сам выпивает чашу с цикутой, отказавшись от побега, который был подготовлен его друзьями. Жизнь свою и благополучие своей семьи он принес в жертву Истине. Все подробности последних часов жизни Сократа описаны Платоном в его диалоге «Федон», я не рискую тягаться с этим великим произведением и потому умолкаю [см. 11].
С.: Скажи, что же позволило ему быть столь мужественным перед лицом смерти?
3. Платон
А.: Чтобы понять это, надо познакомиться с его учением, но это мы сделаем после знакомства с биографией самого талантливого ученика Сократа – Платона. Вообще говоря, имена Сократа и Платона трудно отделить друг от друга. До сих пор философы спорят о том, сколько в произведениях Платона сократовских, а сколько – собственно платоновских идей.
Итак, Платон. Собственно, это не его настоящее имя, а прозвище. Настоящее его имя Аристокл, а прозвище Платон он получил, видимо, за крепкое телосложение («платос» по-древнегречески – широта, или ширина). Сначала Платон обучался музыке и живописи и даже писал довольно неплохие стихи, но после встречи с Сократом он сжег свои произведения и навсегда отдался философии (впрочем, до нас дошло несколько его стихотворений). Платон был хорошо знаком с учениями Гераклита, Парменида и пифагорейцев; особенно много параллелей можно найти в его творчестве с орфико-пифагорейским мифом о метемпсихозе. Вместе с тем, как ни странно, Платон, как подчеркивает, например, Лосев, воспринял многое у Демокрита. Например, Демокрит свои атомы называл «идеями», Платон же отнюдь не чуждался термина «атом» [см. 9, с. 10]. Есть одна красивая легенда (а может быть, достоверное предание) об обстоятельствах знакомства Сократа с Платоном.
Диоген Лаэртский: Рассказывают, что Сократу однажды приснился сон, будто он держал на коленях лебеденка, а тот вдруг покрылся перьями и взлетел с дивным криком; а на следующий день он встретил Платона и сказал, что это и есть его лебедь [10, с. 151].
А.: После смерти Сократа (а Платон был его учеником восемь или девять лет) Платон отправляется путешествовать, но первое пребывание его в Сицилии едва не стало для него трагическим: он вступил в дружеские отношения с родственником тирана Сиракуз, а последний, за что-то разгневавшись на Платона, велел продать его в рабство, что и было сделано. Один из его знакомых купил Платона и тут же отпустил на свободу, отказавшись от денег, которые предлагали ему друзья Платона. На эти деньги друзей Платон и основал знаменитую философскую школу – Академию, которая просуществовала практически тысячелетие. Были еще поездки Платона все на ту же Сицилию, которые опять-таки едва не закончились для него трагически, потому что философ все еще надеялся на «силу красноречивого слова и на возможность философского преобразования жизни» [9, с. 29], но эти его надежды как-то повлиять на образ мыслей и действий тирана Сиракуз оказались тщетными [см. 34, c. 54–66]. С.: А дальше?
Основные темы «диалогов» Демокрита и Платона
1. Бытие: атомы или идеи
А.: А дальше мы обратимся к творчеству Платона. Пойдем следующим путем: будем сравнивать между собой основные положения учения о душе Демокрита, представителя материалистической тенденции в древнегреческой философии, и Платона, представителя идеалистической тенденции. Сначала разберем некоторые общефилософские положения Демокрита и Платона относительно мира в целом, без чего невозможно понять их учений о душе.
Согласно Демокриту, мир есть движущаяся материя, бесчисленное множество движущихся в пустоте атомов, и все вещи состоят из них. «Ничто не возникает из ничего», то есть Вселенная несотворима и неуничтожима, хотя отдельные миры могут возникать и погибать. Учение Демокрита о множестве миров, существующих во Вселенной, является предвосхищением идей гораздо более позднего времени – идей Джордано Бруно [см. 8, с. 58]. Все во Вселенной подчинено не каким-либо сверхъестественным силам, а закону необходимости (Ананке, как говорили древние). Необходимость есть бесчисленная цепь причинно-следственных отношений.
Позиция Платона противоположна. Если для Демокрита бытие – это атомы, то для Платона истинным бытием обладают идеи. Идею Платон понимал как субстанциализированное родовое понятие, а также «как принцип вещи, как метод ее конструирования и познавания, как смысловую модель ее бесконечных чувственных проявлений, как смысловую ее предпосылку, наконец, как такое общее, которое представляет собой закон для всего соответствующего единичного. При этом материя является функцией идеи» [9, с. 47].
С.: Честно говоря, я мало что понял.
А.: Речь идет о том, что существует где-то в заоблачной дали мир особых сущностей – идей, которые гораздо более реальны, чем те чувственные вещи, которые мы имеем перед собой. Причем в доказательство этого основного положения Платон приводит основания, которые действительно не могли быть объяснены с позиций атомистического материализма. Ну вот, например, отрывок из диалога Платона «Гиппий Больший», где разбирается проблема прекрасного самого по себе. Послушаем же Сократа и его собеседников. Сократ спрашивает их, повторяя вопрос человека, с которым якобы недавно состоялся у него разговор: что такое прекрасное? Один из нынешних собеседников Сократа, Гиппий, отвечает ему.
Гиппий: Знай твердо, Сократ, если уж надо говорить правду: прекрасное – это прекрасная девушка…
Сократ: «Хорош же ты, Сократ, – скажет он. – Ну а разве прекрасная кобылица, которую сам бог похвалил в своем изречении, не есть прекрасное?..»
Гиппий: Ты верно говоришь, Сократ, ибо правильно сказал об этом бог; ведь кобылицы у нас бывают прекраснейшие.
Сократ: «Пусть так, – скажет он, – ну а что такое прекрасная лира? Разве не прекрасное?» Подтвердим ли мы это, Гиппий?
Гиппий: Да.
Сократ: После этого человек скажет…: «Дорогой мой, а что же такое прекрасный горшок? Разве не прекрасное?»
Гиппий: Так оно, я думаю, и есть, Сократ [15, с. 394–395].
А.: После ряда подобных рассуждений Сократ и его собеседник приходят к выводу, что они обсуждали лишь прекрасные вещи, а не прекрасное само по себе, которое «делает прекрасные предметы прекрасными», но не сводимо ни к одному из них. Сократ, а вслед за ним и Платон, считает, что прекрасные вещи прекрасны благодаря «сопричастию» особой сущности – идее прекрасного.
В последующих диалогах эта мысль об объективно существующих идеях развивается и становится одним из основных положений уже психологического учения Платона о душе.
C.: О котором, очевидно, у нас сейчас и будет разговор?
2. Душа: особое тело или часть мировой души
А.: Верно. Но сначала – один из фрагментов, посвященный Демокриту. Вот он: «Демокрит, считая, что душе <по природе> присуще движение, сказал, что она – огонь вследствие ее подвижности. Ведь он утверждает, что огонь состоит из шарообразных атомов, ибо шар самое подвижное из всех тел… Далее, так как душа приводит в движение, а приводящее в движение должно само более всего двигаться… то он и утверждает, что и душа, и огонь состоят из самых подвижных атомов – из шарообразных… Так что в этом отношении… он сходится с Гераклитом. Различие же состоит в том, что Гераклит… считал огонь <из которого состоит душа>… непрерывным телом, а Демокрит отрицал это» [16, с. 192].
У Платона же душа – некая особая, не выводимая из материального сущность, часть невидимой мировой души, души космоса, сотворенного умом-демиургом (вспомни об уме у Анаксагора). В понимании души Платоном очень много этических моментов: душа – это нечто возвышенное, о чистоте души (то есть о нравственных помыслах) человек должен неустанно заботиться, иначе его душе нелегко придется после смерти тела…
3. Смертна или бессмертна душа
С.: Да, я неоднократно слышал, что Платон говорит о бессмертии индивидуальной души.
А.: В отличие от Демокрита, который это бессмертие отрицал.
Демокрит: Некоторые люди, не зная, что смертная природа подлежит уничтожению, но имея на совести совершенные ими дурные поступки, проводят всю свою жизнь в беспокойстве и страхах, сочиняя лживые сказки о загробной жизни… С прекращением дыхания прекращается и жизнь [16, c. 196, 193].
С.: Что же, значит, все позволено, если душа смертна: твори что хочешь, наказания не будет никакого?
А.: Вот что говорит по этому поводу Демокрит.
Демокрит: Не из страха, но из чувства долга надо воздерживаться от проступков [16, с. 197].
С.: Но все-таки есть правда и на стороне Платона.
А.: Безусловно. Платон подметил немаловажное обстоятельство в человеческой жизни: человек умирает, а идеи его живут. «Душа» создавшего то или иное произведение материальной или духовной культуры человека «живет» в его произведениях…
С.: И только? Я думал, ты разделяешь мысль Платона и пифагорейцев о метемпсихозе.
А.: Нет. Я лично стою на материалистических позициях. И не вижу в этом ничего дурного и считаю, что любая точка зрения при решении научных вопросов имеет право на существование, если только она хорошо обоснована. А доказательства бессмертия души Платоном представляются мне неубедительными.
С.: Например?
А.: Я скажу только об одном из них. Это очень интересно, с моей точки зрения, для тех, кто изучает психологию мышления. Платон утверждает, что душа до вселения ее в конкретное тело уже находилась в заоблачной дали и созерцала там идеи, а затем, при вселении в новое тело, она их «забыла». Но можно заставить душу «вспомнить» эти идеи.
С.: Путем гипноза?
А.: Нет, путем четко поставленных вопросов, обращенных к ней. Вот как описывает этот прием Платон в одном из своих диалогов «Менон». В этом диалоге Сократ пытается доказать своему собеседнику Менону, что знание есть припоминание, привлекая для этой цели мальчика-раба Менона.
Сократ: А теперь внимательно смотри, что будет: сам ли он станет вспоминать или научится от меня.
Менон: Смотрю внимательно.
Сократ: Скажи мне, мальчик, знаешь ли ты, что квадрат таков?
Раб: Знаю.
Сократ: Значит, у этой квадратной фигуры все ее стороны равны, а числом их четыре?
Раб: Да.
Сократ: А не равны ли между собой также линии, проходящие через центр?
Раб: Равны.
Сократ: А не могла бы такая же фигура быть больше или меньше, чем эта?
Раб: Могла бы, конечно.
Сократ: Так вот, если бы эта сторона была бы в два фута и та в два фута, то сколько было бы футов во всем квадрате?..
Раб: Четыре, Сократ.
Сократ: А может быть фигура вдвое большая этой, но все же такая, чтобы у нее, как и у этой, все стороны были бы между собою равны?
Раб: Может.
Сократ: Сколько же в ней будет футов?
Раб: Восемь.
Сократ: Ну а теперь попробуй-ка сказать, какой длины у нее будет каждая сторона. У этой они имеют по два фута, а у той, что будет вдвое больше?
Раб: Ясно, Сократ, что вдвое длиннее [12, c. 589–590].
С.: Так ведь это же неправильно!
А.: Рад, что ты это заметил. Заметил это и собеседник Сократа Менон. Слушай же, как Сократ дальше побуждает мальчика-раба к рассуждениям. Он рисует рядом с первым второй квадрат, у которого все стороны равны четырем футам, и мальчик убеждается, что получившийся квадрат по площади равен 16 футам, а не 8, как он предполагал. Тогда Сократ задает следующие вопросы.
Сократ: Значит, сторона восьмифутовой фигуры непременно должна быть больше двух и меньше четырех футов?
Раб: Непременно.
Сократ: А попробуй сказать, сколько в такой стороне, по-твоему, будет футов?
Раб: Три фута…
Сократ: Но если у нее одна сторона в три фута и другая тоже, не будет ли во всей фигуре трижды три фута?
Раб: Очевидно, так.
Сократ: А трижды три фута – это сколько?
Раб: Девять.
Сократ: А наш удвоенный квадрат сколько должен иметь футов, ты знаешь?
Раб: Восемь.
Сократ: Вот и не получился у нас из трехфутовых сторон восьмифутовый квадрат [12, c. 592–593].
А.: Как видишь, опять неправильно. Но рассуждения мальчика явно продвинулись вперед в решении проблемы: он осознал теперь некоторое затруднение, которое необходимо разрешить, а раньше даже мысль об этом не приходила ему в голову. Сократ опять начинает задавать свои вопросы, шаг за шагом помогая мальчику осознать, в чем состоит это затруднение и как выпутаться из него.
С.: И как же?
А.: Нет уж, почитай сам. В общем, мальчик приходит к выводу, что искомым квадратом будет такой, который получается при соединении точек, расположенных на серединах сторон нового, шестнадцатифутового квадрата. И вот какой вывод делает из всего этого Сократ.
Сократ: Ну, как по-твоему, Менон? Сказал он в ответ хоть что-нибудь, что не было бы его собственным мнением?
Менон: Нет, все его собственные.
Сократ: А ведь он ничего не знал – мы сами говорили об этом только что.
Менон: Твоя правда.
Сократ: Значит, эти мнения были заложены в нем самом, не так ли?
Менон: Так.
Сократ: Получается, что в человеке, который не знает чего-то, живут верные мнения о том, чего он не знает?
Менон: Видимо, так [12, c. 595].
С.: Что же тебе не нравится в этом доказательстве?
А.: Доказано лишь то, что раб, до этого не знавший способа решения задачи, нашел его в ходе беседы с Сократом, а вовсе не бессмертие души. Даже если признать, что какие-то идеи являются врожденными, еще не значит, что их носитель – душа – бессмертна. Но я не это хочу подчеркнуть. По-моему, очень интересна сама практика такого обучения. По сути, мы имеем перед собой решение творческой задачи с помощью наводящих вопросов и своего рода «подсказок», что потом стало интенсивно изучаться в психологии. Но это произошло уже более чем два тысячелетия спустя.
Сократ называл это свое умение доводить людей до истины майевтикой, или родовспомогательным искусством. Вот где аукнулась профессия его матери, повитухи Фенареты! Самое интересное в этом то, что Сократ впервые в истории западной мысли выявил диалогическую природу человеческого мышления и показал роль диалога в решении мыслительных задач. По-моему, искусство майевтики еще в недостаточной степени оценено в психологии и недостаточно изучается.
C.: Я уже не говорю, что оно не используется и при обучении студентов психологии…
4. Проблема познания: чувственное предшествует рациональному или наоборот
А.: Теперь вкратце рассмотрим учение Демокрита и Платона о познании. Известно, что возникновение ощущений в органах чувств Демокрит объяснял истечением тонких пленок от предметов (которые он называл «образами»), причем эти пленки отпечатываются в воздухе между глазом и предметом, а затем воздух этот, изменившийся по цвету, отражается во влажной части глаза благодаря особым встречным истечениям из глаза. Сновидения – это попадание в душу таких образов, когда человек спит. Вполне материалистическое объяснение. Но вот как описано в одном фрагменте его учение о соотношении между собой чувственного и рационального познания: «Он говорит, что есть два вида познания: одно посредством чувств, другое – мысли… Он говорит дословно следующее: “Есть два вида мысли: одна – законнорожденная, другая – незаконнорожденная. К незаконнорожденной относится все следующее: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Другая же законнорожденная. К ней относится скрытое <от наших чувств>”. Далее, отдавая предпочтение законнорожденной мысли перед незаконнорожденной, он прибавляет: “Когда незаконнорожденная мысль уже не может больше <ввиду перехода> к очень мелкому ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни чувствовать вкус, ни познавать осязанием, а <приходится прибегать> ко все более тонкому, тогда приходит на помощь законнорожденная мысль”» [16, с. 191].
Таким образом, Демокрит не сводит мышление к ощущению, считая, что мышление – более «тонкое» познание невидимых для глаза вещей. Однако попытки Демокрита объяснить мышление с помощью того же распределения атомов довольно наивны и примитивны (комментатор его творчества Теофраст отмечал: «Что же касается мышления, то Демокрит ограничился заявлением, что оно имеет место, когда душа смешана в надлежащей пропорции… Он сводит мышление к <характеру> смеси <атомов> в теле» [2, с. 195]). Главное же состоит в том, что эти рассуждения не могут объяснить существования в человеческом сознании общих категорий (помнишь, мы говорили о «прекрасном вообще» у Платона?). Зато идеалистом Платоном была предпринята попытка объяснения именно общего, пусть и с иных позиций. Помнишь, я приводил слова Лосева, трактовавшего идею Платона как общее, которое представляет собой закон для соответствующего единичного? Именно наличие объективно существующих идей, сопричастных индивидуальным вещам, приводит к тому, что душа, столкнувшись с этими индивидуальными вещами, «узнает» общее в вещах, не выводимое из чувств (по Платону, рациональное познание, таким образом, предшествует чувственному: чтобы понять, что данные предметы равны, нужно уже до всякого чувственного опыта знать, что такое идея «равенства», а она содержится в душе, по мнению философа, уже при рождении).
В истории психологии затем эта проблема соотношения чувственного и рационального так и будет разрабатываться по этим двум противоположным линиям: материалисты, как правило, будут стремиться вывести рациональное познание из чувственного, идеалисты – наоборот.
5. Каковы причины действий человека
С.: А все-таки смерть Сократа доказывает справедливость его этических воззрений, а не воззрений Демокрита. Как это прекрасно: умереть ради Идеи! Все-таки, что ни говори, идеализм гораздо более возвышенное учение!
А.: Я думаю, ты не прав. Оба философа придерживались, действительно, своей этики, но, с моей точки зрения, оба они достойны уважения, поскольку, несмотря на первоначальное различие в обосновании этики, оба они пришли примерно к одним и тем же выводам: главное в жизни – «благородно стремиться к прекрасному». Это буквальная цитата из Демокрита [cм. 16, с. 197]. А что может быть прекраснее жизни мудреца, не знающего страха в стремлении не к богатству, а к истине? Разве не можем сказать мы этого и о Демокрите, и о Сократе (да и о Платоне тоже: помнишь, как он несмотря на смертельную опасность все-таки пытался изменить образ мыслей сиракузского тирана?). Единственно, что еще отметим, что вариант материализма, предлагаемый Демокритом, не мог объяснить, почему те или иные люди готовы умереть ради идеи. В связи с этим приведу еще один отрывок из платоновского «Федона».
Сократ, анализируя философию Анаксагора, указывает, что Ум у него остается без применения, ибо, по мнению Анаксагора, порядок вещей имеет причину не в Уме, а в воздухе, эфире, воде и тому подобном.
И далее…
Сократ: На мой взгляд, это все равно, как если бы кто сперва объявил, что всеми своими действиями Сократ обязан Уму, а потом, принявшись объяснять причины каждого из них в отдельности, сказал: «Сократ сейчас сидит здесь <в тюрьме> потому, что его тело состоит из костей и сухожилий, и кости твердые и отделены одна от другой сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и расслабляться и окружают кости вместе с мясом и кожею, которая все охватывает. И так как кости свободно ходят в своих суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой-то причине он и сидит теперь здесь, согнувшись». И для беседы нашей можно найти сходные причины – голос, воздух, слух и тысячи иных того же рода, пренебрегши истинными причинами – тем, что раз уж афиняне почли за лучшее меня осудить, я, в свою очередь, счел за лучшее сидеть здесь, счел более справедливым остаться на месте и понести то наказание, какое они назначат. Да, клянусь собакой, эти жилы и эти кости давно, я думаю, были бы где-нибудь в Мегарах или в Беотии, увлеченные ложным мнением о лучшем, если бы я не признал более справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но принять любое наказание, какое бы ни назначило мне государство [11, с. 68–69].
А.: Таким образом, материалисты, в частности Демокрит, признавая детерминацию человеческого поведения, упускали из виду важнейший тип такой детерминации, свойственный только человеку, а именно целевую детерминацию. Ради чего Сократ остался в тюрьме, а не бежал, ради какой цели? Это опять-таки в последующем стало развиваться в различных идеалистических школах.
«Человек есть мера всех вещей» (Протагор)
С.: А дальше кто идет?
А.: Дальше идут так называемые сократовские школы, то есть школы, основанные отдельными учениками Сократа. Но прежде несколько слов об одном философе, фразу которого очень любят повторять психологи многих школ: «Человек есть мера всех вещей». Это Протагор, принадлежавший к так называемым софистам.
С.: Это те, кто любил спорить по любому поводу и, главное, совершенно бесплодно?
А.: Да, потом споры о словах стали называть софистическими спорами, но софисты были людьми, которые не только учили искусству спора о словах. Они-то как раз и создали науку о слове. Так что софисты стояли у истоков психологии речи. Но если ты будешь читать диалоги Платона, то заметишь, как неуважительно относился Платон к софистам: во-первых, потому что они учили риторике за деньги, а во-вторых, потому что они стремились не к истине как таковой, а к убедительности собственной речи, которая с одинаковой легкостью могла доказать, что белое – это черное и что белое – это белое.
Протагора обучил философии Демокрит, и неудивительно, что в философии Протагор в основном материалист. Но он особенно выделяет относительность нашего познания, элемент субъективности в нем. У Протагора можно найти много высказываний, которые, на мой взгляд, предвосхищают идеи некоторых типов психотерапии: все существует лишь в отношении к другому, для человека истинно все, что кажется ему таковым, вещь для меня такова, какой она мне кажется. Разве нет здесь переклички с той же гештальттерапией, о которой мы говорили раньше? Помнишь: для клиента правильно все, что происходит в его жизни… Вот почему фразу Протагора так полюбили психологи и психотерапевты.
С.: А сократовские школы мы будем рассматривать?
Правила искусства «быть счастливым» в сократовских школах
1. Киники
А.: Немного. Кроме платоновской школы, к сократовским школам принадлежали так называемые киники и киренаики.
К киникам относят Антисфена, ученика Сократа, остававшегося с ним до самой его смерти, а также очень интересного человека Диогена Синопского, который дал образец кинического образа жизни, и других. Многое можно почерпнуть у древних, особенно в наше неспокойное время.
Собственно, и киники жили в столь же неспокойное время, когда начинался кризис античного полиса, сопровождавшийся, в частности, быстрым социальным расслоением общества, падением общественной нравственности. И в этих условиях философия все больше становилась обоснованием особого образа жизни человека, который должен остаться человеком в столь трудных обстоятельствах. Предоставлю слово Диогену Лаэртскому: лучше о философах того периода и не скажешь. Если же захочешь познакомиться с их собственными изречениями и философией человека, обратись к сборнику текстов киников [17].
Диоген Лаэртский: Антисфен, высмеивая тех афинян, которые гордились чистотою крови, заявлял, что они ничуть не родовитее улиток или кузнечиков… Он говорил, что как ржавчина съедает железо, так завистников пожирает их собственный нрав. Те, кто хочет обрести бессмертие…должны жить благочестиво и справедливо. По его словам, государства погибают тогда, когда не могут более отличить хороших людей от дурных… На вопрос, что дала ему философия, он ответил: «Умение беседовать с самим собой»… Мнения его были вот какие. Человека можно научить добродетели. Благородство и добродетель – одно и то же. Достаточно быть добродетельным, чтобы быть счастливым: для этого ничего не нужно, кроме Сократовой силы… Мудрец ни в чем и ни в ком не нуждается, ибо все, что принадлежит другим, принадлежит ему… Добродетель – орудие, которого никто не может отнять… [10, с. 234–237].
А.: Надо отметить, что Антисфен возвел аскетизм в философский принцип, в отличие, например, от Сократа и Платона, которые, собственно говоря, не были аскетами. Хотя Сократ жил очень бедно (он любил говаривать в ответ на упреки: «Сам я ем, чтобы жить, а другие живут, чтобы есть»), он не возводил принцип опрощения в абсолют. По словам того же Диогена Лаэртского, когда Антисфен повернулся так, чтобы выставить напоказ дыры в плаще, Сократ сказал Антисфену: «Сквозь этот плащ мне видно твое тщеславие» [см. 10, с. 114–115]. Но что Антисфен! Послушай Диогена Лаэртского о Диогене Синопском!
Диоген Лаэртский: Диоген устроил себе жилье в глиняной бочке при храме… Желая всячески закалить себя, он перекатывался на горячий песок, а зимой обнимал статуи, запорошенные снегом… Он говорил, что люди соревнуются, кто кого столкнет пинком в канаву, но никто не соревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым… Он осуждал тех, кто восхваляет честных бессребреников, а сам втихомолку завидует богачам… Увидев однажды, как мальчик пил воду из горсти, он выбросил из сумы свою чашку, промолвив: «Мальчик превзошел меня простотой жизни». Он выбросил и миску, когда увидел мальчика, который, разбив свою плошку, ел чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба… Афиняне любили его:…когда мальчишка разбил его бочку, они его высекли, а Диогену дали новую бочку… Когда кто-то, завидуя Каллисфену, рассказывал, какую роскошную жизнь делит он с Александром, Диоген заметил: «Вот уж несчастен тот, кто завтракает и обедает, когда это угодно Александру!»
А.: Имелся в виду Александр Македонский.
Диоген Лаэртский: Алчность он называл матерью всех бед… Само презрение к наслаждению благодаря привычке становится высшим наслаждением; и как люди, привыкшие к жизни, полной наслаждений, страдают в иной доле, так и люди, приучившие себя к иной доле, с наслаждением презирают самое наслаждение. Этому он и учил, это и показывал собственным примером… Он говорил, что ведет такую жизнь, какую вел Геракл, выше всего ставя свободу… Единственным истинным государством он считал весь мир [10, с. 241–257].
А.: Вот это, по-моему, самое главное в образе жизни Диогена: превыше всего он ставил свободу и считал, что только свободный человек может быть по-настоящему счастлив. Здесь существует явная перекличка с другими философскими учениями: Чанышев видит параллели между учением Диогена и учением Будды и «Бхагавадгиты» с их проповедью универсальной отрешенности, свободы как преодоления всяких привязанностей в жизни [см. 2, с. 233]; можно увидеть и явные параллели с последующим учением стоицизма и – что для меня особенно важно – с некоторыми концепциями русских философов, например концепцией свободы Николая Александровича Бердяева, изложенной хотя бы в его книге «Философия свободы» [18].
Интересно, что Диоген выступил и как великолепный педагог, став наставником детей отнюдь не бедного человека. Дело в том, что когда он был захвачен пиратами и продан в рабство, его купил некто Ксениад.
Диоген Лаэртский: Диоген, воспитывая сыновей Ксениада, обучал их кроме всех прочих наук ездить верхом, стрелять из лука, владеть пращой, метать дротики; а потом… он велел наставнику закалять их не так, как борцов, но лишь настолько, чтобы они отличались здоровьем и румянцем. Дети запоминали наизусть многие отрывки из творений поэтов, историков и самого Диогена; все начальные сведения он излагал им кратко для удобства запоминания. Он учил, чтобы дома они сами о себе заботились, чтобы ели простую пищу и пили воду, коротко стриглись, не надевали украшений, не носили ни хитонов, ни сандалий, а по улицам ходили молча и потупив взгляд… [10, с. 243]. Хозяин повсюду рассказывал: «В моем доме поселился добрый дух» [Там же, с. 258].
С.: Сразу видно, что Диоген – ученик Сократа. Эта же идея презрения к богатству, отсутствие поиска наслаждений! У Сократа и не могло быть иных учеников.
2. Киренаики
А.: Ошибаешься, как раз были. Это киренаики. Один из них – Аристипп – наоборот, проповедовал не аскетизм, а гедонизм…
С.: Что это?
А.: Это стремление к счастью, под которым понимается наслаждение всеми доступными путями. В наслаждении и состоит подлинный смысл жизни.
С.: Такой контраст!
А.: Да, в общем не столь привлекательное учение. Киренаики говорили, что «друзей мы любим ради выгоды», что «конечным благом является телесное наслаждение» и нужно добиваться его всеми возможными путями несмотря на то, что при этом думают другие или говорят общепринятые законы [см. 10, с. 131–135]. Но это учение отражало интересы некоторых слоев тогдашнего общества, да, я думаю, оно и среди многих наших современников найдет своего почитателя, поэтому нужно знать и его тоже. Кстати, стремление к наслаждению – довольно сложное явление человеческой жизни и не раз оно ставилось во главу угла той или иной психологической концепции, например психоанализа Зигмунда Фрейда. Но об этом мы поговорим позже. А теперь обратимся к самому гениальному ученику Платона – Аристотелю.
Аристотель и его Муза
С.: Слушай, мне говорили студенты, изучающие историю психологии, что читать Аристотеля невозможно, особенно после Платона…
А.: Да, существует такое мнение в истории философии, что «Муза Аристотеля не поцеловала» [19, с. 139]. Но это смотря что ты ищешь в Аристотеле. Если внешней занимательности – то, конечно, у Аристотеля ее нет. Но вчитайся в его тексты, и ты почувствуешь мощный логический ум, стройность его концепции, как философской, так и психологической. Как писал Алексей Федорович Лосев, Аристотель навсегда исключил «атмосферу эмоционального искусства из языка научно-философского сочинения» [34, c. 67]. Кстати, именно Аристотель написал первую специальную работу, посвященную психологии. Она так и называется «О душе». В этой работе он дал свое понимание души, которое не сводилось ни к определению души Демокритом, ни к определению души Платоном и в принципе смягчало крайности обоих подходов. Но прежде чем говорить об этой концепции, поговорим об Аристотеле как человеке.