Читать онлайн Улей. Семья Паскуаля Дуарте бесплатно
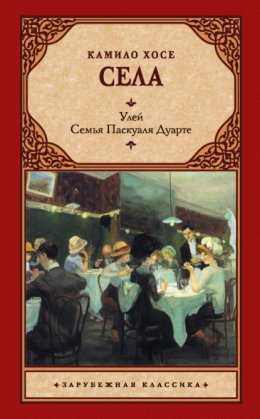
Camilo Jose Cela
LA COLMENA
LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE
Печатается с разрешения наследников автора и литературного агентства Antonia Kerrigan Literary Agency.
© Heirs of Camilo José Cela, 2002
© Перевод. Е. Меникова, 2020
© Перевод. Е. Лысенко, наследники, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
* * *
Камило Хосе Села (1916–2002) – выдающийся испанский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе и главной национальной литературной награды Испании – премии Сервантеса. Камило Хосе Села считается одним из пионеров европейского литературного модернизма XX столетия, хотя первый грандиозный успех ему принес реалистический роман «Семья Паскуаля Дуарте», до сих пор занимающий первое место в Испании по количеству переводов на другие языки. В самой Испании роман издавался более 80 раз и считается абсолютной классикой.
Улей
Посвящается моему брату,
гардемарину Испанского флота
Мой роман «Улей», первая книга из цикла «Неверные пути», – всего лишь смутное отражение, бледная тень повседневной жестокой, волнующей и скорбной действительности.
Все, кто пытается приукрасить жизнь шутовской маской литературы, лгут. Недуг, разъедающий души, недуг, у которого столько имен, сколько придет нам в голову, нельзя исцелить грелками примиренчества, пластырями риторики и поэзии.
Роман мой не претендует дать что-либо большее – ни, разумеется, что-либо меньшее, – чем изображение куска жизни, рассказ о которой ведется шаг за шагом, без недомолвок, без удивительных трагедий, без сострадания – как идет сама жизнь, именно так, как идет жизнь. Хотим мы этого или не хотим. Жизнь есть то, что живет – в нас или вне нас; мы только ее носители, ее, как говорят фармацевты, основа.
Думаю, что в наше время нельзя писать романы по-другому – ни лучше, ни хуже, чем это делаю я. Думай я иначе, я бы переменил профессию.
По особым обстоятельствам мой роман выходит в Аргентинской Республике, здешние добрые ветры[1], для меня непривычные, видимо, благоприятны для печатного слова. Архитектоника романа сложна, далась она мне нелегко. Конечно, причиной трудности равно могли быть и эта сложность и мое неумение. Действие происходит в Мадриде в 1942 году, в гуще людского потока, в некоем улье, где одни счастливы, другие нет. Сто шестьдесят персонажей, что проходят – но отнюдь не мчатся – на его страницах, вели меня пять долгих лет по дороге скорби. Удались они мне или нет, пусть судит читатель. Не знаю, как определить мой роман – реалистический он или идеалистический, натуралистический, бытописательский или еще какой-нибудь. Но меня это и не слишком тревожит. Можете наклеивать любые ярлыки – я человек, ко всему привычный.
Камило Хосе Села
Глава первая
– Важно одно – не забывать, с кем имеешь дело, только об этом я и твержу.
Донья Роса расхаживает между столиками кафе, задевая посетителей своим чудовищным задом. Донья Роса частенько произносит «Провались ты!» и «Хорошенькое дело!». Мир для доньи Росы – это ее кафе и все прочее, что находится вокруг ее кафе. Говорят, что, когда приходит весна и девушки надевают платья без рукавов, у доньи Росы начинают поблескивать глазки. Я думаю, все это болтовня: донья Роса не выпустит из рук серебряной монеты ни ради каких радостей жизни. Что весной, что осенью. Самое большое удовольствие для нее – таскать взад-вперед свои килограммы вот так, прохаживаясь между столиками. Когда остается одна, она курит дорогие сигареты и пьет охен[2], опрокидывает рюмки охена одну за другой с утра до вечера. После каждой кашлянет и улыбнется. Когда у нее хорошее настроение, она усаживается в кухне на низком табурете и читает детективные романы – чтоб побольше крови, так интересней. Тут же шутит с прислугой, рассказывает об убийстве на улице Бордадорес или в андалузском экспрессе.
– Отец этого Наваррете был другом генерала дона Мигеля Примо де Риверы; пошел он к генералу, стал на колени и говорит: «Ваше превосходительство, ради бога, помилуйте моего сына», – а дон Мигель, хоть сердце у него было золотое, ответил: «Друг мой Наваррете, я не могу этого сделать, ваш сын должен искупить свои преступления смертью».
«Вот это люди! – думает она. – Надо же иметь такую твердость!» Лицо у доньи Росы все в пятнах, похоже, что она, как ящерица, постоянно меняет кожу. Задумываясь, она машинально сдирает с лица полоски кожи, иной раз длинные, как ленты серпантина. Потом, возвратившись к действительности, снова принимается ходить между столиками, заговаривая с посетителями, которых в душе ненавидит, и обнажая в улыбке неровные черноватые зубы.
Дон Леонардо Мелендес должен шесть тысяч дуро чистильщику обуви. Чистильщик глуп как сивый мерин – да и похож на чахоточного сонного мерина, – долгие годы он копил деньги, а потом возьми да и отдай все дону Леонардо взаймы. Так ему и надо, простофиле. Дон Леонардо – проходимец, живет тем, что выманивает у людей деньги и затевает аферы, которые никогда не удаются. Не то чтобы плохо удаются, нет, просто не удаются, ни хорошо, ни плохо. Дон Леонардо носит нарядные галстуки, мажет волосы фиксатуаром, очень пахучим фиксатуаром, издалека слышно. Вид у него барский и апломб невероятный, апломб человека, отлично знающего жизнь. Я бы не сказал, что он так уж ее знает, но в одном ему не откажешь – держится он, как человек, у которого в кошельке всегда есть бумажка в пять дуро. Кредиторам своим он плюет в лицо, а они, кредиторы-то, улыбаются ему и смотрят на него с почтением, по крайней мере внешним. Кое-кто, правда, подумывал подать в суд и припереть его к стенке, но почему-то до сих пор никто не отважился начать кампанию. Дон Леонардо ужасно любит щеголять французскими словечками, вроде madame, rue, cravate[3], и повторять «мы, Мелендесы». Дон Леонардо – человек образованный, о чем хочешь может поговорить. Обычно он играет две-три партии в шашки, а пьет только кофе с молоком. Если увидит, что за соседними столиками курят сигареты, скажет этак деликатно: «Не найдется ли у вас курительной бумаги? Хотел свернуть сигаретку, да вот бумаги не оказалось». Ему, бывает, ответят: «Нет, но употребляю. А не хотите ли готовую сигарету?..» Дон Леонардо делает неопределенную гримасу и чуть медлит с ответом. «Ладно, выкурим для разнообразия. Мне, знаете ли, фабричные сигареты не очень по вкусу». А иногда сосед скажет только: «Нет, бумаги нет, очень сожалею», – и тогда дону Леонардо курить нечего.
Облокотясь на старый, пятнистый мрамор столиков, посетители едва глядят на проходящую мимо хозяйку, и смутные мысли проплывают у них в голове, мысли об этой жизни, где, увы, все складывается не так, как могло бы сложиться, где все понемногу приходит в упадок, а почему, никто даже не пытается объяснить, указать хоть самую ничтожную причину. Мраморные столешницы были прежде надгробными плитами, на некоторых еще сохранились надписи; слепой, проведя пальцами по нижней их стороне, мог бы прочитать: «Здесь покоятся бренные останки сеньориты Эсперансы Редондо, скончавшейся в расцвете юности» или «Почий с миром. Высокочтимый сеньор дон Рамиро Лопес Пуэнте. Заместитель министра в министерстве экономики».
Завсегдатаи наших кафе – это люди, считающие, что все идет как положено и не стоит труда пытаться что-либо улучшить. В кафе доньи Росы все посетители курят, и большинство размышляет о жалких, но приятных и волнующих мелочах, что заполняют или опустошают их жизнь. Одни молчат с мечтательным видом, как бы предаваясь смутным воспоминаниям; другие сидят с отсутствующим выражением лица, на котором блуждает улыбка, томная, умоляющая улыбка усталой твари; третьи молчат, подперев голову рукой, и взгляд их полон тихой грусти, как море в штиль.
Бывают вечера, когда разговор за столиками мало-помалу стихает, разговор о кошках и котятах, или о пайках, или об умершем мальчике, которого кто-то никак не может вспомнить, о том самом мальчике – ну как же вы не помните? – таком рыженьком, хорошеньком, худеньком малыше лет пяти, он еще всегда ходил в бежевой вязаной кофточке. В такие вечера чудится, что пульс кафе бьется неровно, как у больного, что воздух становится более плотным, более серым, хотя временами его пронизывает, будто молния, теплый ветерок, неизвестно откуда повеявший, ветерок надежды, который на секунду прорывается в душу каждого.
На дона Хайме Арсе градом сыплются опротестованные векселя, но он, несмотря ни на что, держится гордо. Даже не поверишь, до чего в кафе все известно. Дон Хайме, видите ли, попросил ссуду в каком-то банке, ссуду ему дали, и он подписал векселя. Потом случилось то, что должно было случиться. Он ввязался в дело, его обманули, он остался без единого реала, ему предъявили векселя, а он заявил, что не может их оплатить. Дон Хайме Арсе, судя по всему, человек честный, но неудачник, невезучий в денежных делах. Очень трудолюбивым его, правда, не назовешь, но вдобавок ему еще и не везет. Другие такие же лентяи, а может и похуже, сумели провернуть два-три выгодных дельца, нажили тысячи дуро, оплатили векселя и теперь покуривают дорогие сигары да разъезжают в такси. Дону Хайме Арсе судьба не улыбнулась, не повезло. Теперь он ищет себе занятие, но не находит. Он-то согласился бы взяться за любое дело, какое подвернется, да ничего стоящего не попадается, и он проводит дни в кафе, откинув голову на плюшевую спинку кресла и созерцая позолоту потолка. Иногда он мурлычет себе под нос модный мотивчик, отбивая такт ногой. Дон Хайме не любит думать о своих неудачах, по правде сказать, он вообще не привык о чем-либо думать. Взглянет на зеркала и скажет себе: «Кто это выдумал зеркала?» Потом уставится на кого-нибудь пристально, даже нагло: «Интересно, есть у этой женщины дети? Нет, верней всего, старая дева». «А сколько туберкулезных сидит сейчас здесь, в кафе?» Дон Хайме свертывает тонкую, как соломинка, сигарету и закуривает. «Есть такие мастера точить карандаши, что заострят грифель, как иголочку, и он не ломается». Дон Хайме меняет положение, он засидел ногу. «Загадочная штука – сердце! Тук-тук, тук-тук, и так всю жизнь, днем и ночью, зимой и летом».
У молчаливой женщины, которая всегда садится в глубине кафе, рядом с лестницей, ведущей в бильярдную, меньше месяца назад умер сын. Мальчика звали Пако, он собирался служить на почте. Сперва сказали, что у него паралич, потом разобрались, что не паралич, а менингит. Болел он недолго и сразу же впал в беспамятство. А он ведь уже знал все населенные пункты Леона, Старой Кастилии, Новой Кастилии и частично Валенсии (Кастельон да еще почти половину Аликанте); очень-очень жаль, что он умер. Пако постоянно прихварывал, после того как в детстве промочил зимою ноги. Мать осталась одна, другой ее сын, старший, странствует по свету неизвестно где. После обеда она приходит в кафе доньи Росы, садится у лестницы и часами сидит там, отогревается. С тех пор как умер ее сын, донья Роса очень с ней ласкова. Некоторым людям доставляет удовольствие проявлять внимание к тем, кто в трауре. Можно давать советы – надо, мол, смириться, не падать духом, – это очень приятно. Утешая мать Пако, донья Роса обычно говорит: «Чем остаться ему идиотом, лучше, что бог взял его к себе». Женщина смотрит на нее с покорной улыбкой и говорит, что, конечно, если хорошенько подумать, она права. Мать Пако зовут Исабель, донья Исабель Монтес, вдова Санса. Она еще недурна собой, ходит в слегка поношенном плаще. По виду – из хорошей семьи. В кафе относятся с почтением к ее горю, лишь очень редко кто-нибудь из знакомых, обычно женщина, по пути из уборной подходит к ее столику и спрашивает: «Ну как? Немного приободрились?» Донья Исабель улыбается и почти никогда не отвечает; если же чуть оттает, то поднимет голову, взглянет на приятельницу и скажет: «Какая вы сегодня хорошенькая, милочка!» Но чаще ничего не говорит, только махнет рукой, как бы прощаясь, и точка. Донья Исабель помнит, что она из другого круга, во всяком случае, чем-то отличается от здешних.
Немолодая девица подзывает продавца сигарет:
– Падилья!
– Иду, сеньорита Эльвира!
– Один «Тритон».
Она роется в сумочке, набитой давними похабными любовными записочками, и выкладывает на стол тридцать пять сентимо.
– Благодарю.
– Пожалуйста.
Она закуривает, выпускает длинную струю дыма, глаза ее затуманиваются. Немного погодя она снова зовет:
– Падилья!
– Иду, сеньорита Эльвира!
– Ты передал письмо тому человеку?
– Да, сеньорита.
– Что он сказал?
– Ничего. Его не было дома. Прислуга сказала, чтобы я не беспокоился, она обязательно передаст ему за ужином.
Сеньорита Эльвира молча продолжает курить. Нынче ей как-то не по себе, ее знобит, перед глазами все как будто колышется. Жизнь у сеньориты Эльвиры собачья – если хорошенько все взвесить, то и жить не стоило бы. Конечно, делать она ничего не делает, но из-за этого ей очень часто нечего есть. Она читает романы, ходит в кафе, покуривает сигареты – живет чем бог пошлет. Беда, что посылает он не очень-то густо, да к тому же всегда что-нибудь завалящее и никчемное.
Дону Хосе Родригесу де Мадрид выпал выигрыш в лотерее, в последнем тираже. Друзья говорят ему:
– Привалило счастье, а?
Дон Хосе отвечает всем одно и то же, как будто на память заучил:
– Ба, восемь паршивых дуро!
– Ладно, ладно, уж вы не объясняйте, мы у вас ничего не попросим.
Дон Хосе – судейский писарь, у него, видимо, кое-что накоплено. Еще говорят, что он женился на богатой девушке из Ла-Манчи, да жена вскоре умерла и все оставила дону Хосе, а он поспешил продать и четыре виноградника и два участка с оливами: сельский воздух, говорит он, плохо действует ему на дыхательные пути, а беречь здоровье – это главное.
В кафе доньи Росы дон Хосе всегда заказывает рюмочку – он не какой-нибудь пижон или голодранец из тех, что пьют кофе с молоком. Хозяйка глядит на него с нежностью, их объединяет пристрастие к охену. «Охен – лучший в мире напиток; превосходное желудочное, мочегонное и общеукрепляющее; он очищает кровь и предотвращает импотенцию». Дон Хосе всегда выражается очень складно. Однажды – это было несколько лет тому назад, вскоре после конца гражданской войны, – поспорил он со скрипачом. Народ вокруг в один голос уверял, что прав был скрипач, но дон Хосе позвал хозяйку и сказал: «Или вы дадите пинка под зад этому красному, этому нахалу и безобразнику, или ноги моей в вашем кафе не будет». Тогда донья Роса прогнала скрипача, больше о нем не слышали. Посетители же, раньше стоявшие на стороне скрипача, изменили мнение и в конце концов уже стали говорить, что донья Роса очень правильно поступила – да, тут надо было действовать твердой рукой, проучить наглеца. «Дай только им волю, мы бог знает до чего докатимся!» Произнося эти слова, посетители делали строгое, даже негодующее лицо. «Необходима дисциплина, иначе невозможно создать что-либо основательное, по-настоящему прочное», – слышалось за столиками.
Пожилой мужчина громогласно рассказывает, какую шутку он отколол – наверно, полвека назад – с некой мадам Тру-ля-ля.
– Эта идиотка думала меня облапошить. Да-да! Продувная была бестия! Я пригласил ее выпить белого, и, когда выходили мы на улицу, она как стукнется физией об дверь. Ха-ха-ха! Кровь течет, будто быка режут. А она: «О-ля-ля, о-ля-ля» – и пошла себе, а у самой все нутро выворачивает. Пропащая была бабенка, всегда пьяная! Потеха, да и только!
За соседними столиками несколько лиц глядят на него чуть ли не с завистью. Это лица людей, которые улыбаются мирно и благодушно лишь в те минуты, когда они незаметно для самих себя перестают думать о чем бы то ни было. Люди угодливы от глупости, иногда они улыбаются, испытывая в душе безмерное отвращение, такое отвращение, что его едва удается скрыть. Из угодливости можно и человека убить; не одно преступление было, я думаю, совершено, чтобы не испортить отношений, чтобы кому-то угодить.
– Всех этих прощелыг нечего жалеть; мы, порядочные люди, не должны допускать, чтобы они нам на шею садились. Еще отец мой говаривал: хочешь винограду, так поработай на винограднике. Ха-ха! Плутовка эта больше и носу не казала!
Между столиками проходит жирный, лоснящийся кот; кот, пышущий здоровьем и благополучием; кот чванный и надменный. Он залезает под ноги одной даме, та в испуге вскакивает.
– Проклятый кот! Пошел вон!
Рассказчик веселой истории ласково ухмыляется.
– Ну что вы, сеньора! Бедный котик, чем он вам помешал?
Средь шума и гама длинноволосый юнец сочиняет стихи. Он в экстазе, ничего не видит и не слышит – только так и создаются прекрасные стихи. Станешь глазеть по сторонам, улетучится вдохновение. Да, вдохновение – это что-то вроде слепого, глухого, но очень яркого мотылька; иначе многое было бы непонятно.
Юный поэт сочиняет длинную поэму под названием «Судьба». Чуточку он, правда, колебался, не назвать ли ее «Моя судьба», но потом, посоветовавшись с поэтами более зрелыми, решил, что лучше озаглавить просто «Судьба». Так короче, многозначительней, загадочней. Кроме того, с названием «Судьба» поэма становится более емкой, более – как бы это сказать? – неопределенной, более поэтичной. Тут сразу не поймешь, пойдет ли речь о «моей судьбе», или о «судьбе вообще», или об «одной судьбе», «туманной судьбе», «роковой судьбе», «счастливой судьбе», «радужной судьбе» или же «загубленной судьбе». Да, «Моя судьба» больше связывает, меньше оставляет простора воображению, а оно должно порхать свободно, безо всяких пут.
Над своей поэмой юный поэт трудится несколько месяцев. У него уже готовы триста с лишним строк, тщательно нарисован макет будущего издания и составлен перечень возможных подписчиков, которым в свое время будут разосланы бланки с предложением оплатить издание. Он уже и шрифт выбрал (простой, четкий, классический шрифт, удобный для чтения, ну, скажем, бодони), и обоснование нужного ему тиража сочинил. Однако юного поэта еще мучают два вопроса: ставить или не ставить «Laus Deo»[4] после выходных данных и писать ли самому или не писать самому биографическую справку, которую помещают на клапане суперобложки.
Донью Росу, сами догадываетесь, не назовешь нежной родственницей.
– Сколько раз повторять одно и то же! Хватит мне лодырей, а тут еще зятек пожаловал. Грязный подонок! Вы, Пепе, еще совсем несмышленый, понятно? Совсем несмышленый. Хорошенькое дело! Где это видано, чтобы такой нахал, человек без образования, без совести, расхаживал здесь, кашлял и топал, как важный барин? Нет, я этого не потерплю, богом клянусь!
Усы и лоб доньи Росы покрылись капельками пота.
– А ты, остолоп, уже бежишь за газетой для него! Э нет, таким типам здесь нечего ждать ни уважения, ни любезности! Когда-нибудь я-таки выйду из себя, и всем вам здесь солоно придется! Ну где это видано?
Донья Роса впивается своими крысиными глазками в Пепе, старого официанта, лет сорок или сорок пять тому назад приехавшего в столицу из Мондоньедо. Глядящие сквозь толстые стекла пенсне глаза доньи Росы похожи на удивленные глаза птичьего чучела.
– Чего уставился на меня?! Ну чего ты уставился? Дурень! Как приехал сюда дурнем, так и остался! Нет, вас, деревенских, видно, никакими силами не проймешь! Ну же, проснись, и хватит нам ссориться. Будь ты капельку смышленей, я уже давно выставила бы тебя на улицу! Понятно? Вот и весь сказ!
Донья Роса гладит себе живот и снова обращается к Пепе на «вы».
– Ступайте, ступайте… Но помните – каждому свое. Я же всегда говорю, надо не забывать, с кем имеешь дело, оказывать уважение людям – понятно? – уважение.
Донья Роса вскинула голову и глубоко вздохнула. Волоски на ее верхней губе, воинственно вздрогнув, стали торчком, торжествующе, гордо, как усики спесивого и влюбленного кузнечика.
В воздухе будто разлита грусть, она просачивается в сердца. Но стонов не исторгает, сердца могут страдать безмолвно час за часом, всю жизнь, и никто из нас никогда не узнает, не поймет, что в них творится.
Старик с седой бородкой, макая в кофе с молоком кусочки сдобной булки, кормит смуглого малыша, которого держит на коленях. Старика зовут дон Тринидад Гарсиа Собрино, он ростовщик. Молодость дона Тринидада прошла бурно, было немало всяких осложнений, метаний, но, когда умер его отец, он сказал себе: «Впредь надо быть похитрей, Тринидад, не то останешься в дураках», – пустился в деловые комбинации, преуспел и разбогател. Мечтой всей его жизни было стать депутатом, он полагал, что оказаться одним из пятисот на двадцать пять миллионов – это очень даже лестно. Несколько лет дон Тринидад заигрывал с третьестепенными деятелями из партии Хиля Роблеса[5], надеясь, что они помогут ему стать депутатом – от какой местности, безразлично, тут пристрастий у него не было. Немало денег было выброшено на ужины, пожертвовано на пропаганду, немало выслушано лестных слов, но в конце концов никто не выставил его кандидатуру, даже на банкет к главе партии не пригласили. Дон Тринидад пережил тяжкие минуты, серьезный душевный кризис и с горя стал лерруксистом[6]. В республиканской партии он чувствовал себя неплохо, но тут грянула война и пришел конец его не слишком блестящей и недолгой политической карьере. Теперь дон Тринидад живет вдали от «общественных дел», как выразился в тот памятный день дон Алехандро; он доволен уж тем, что его не трогают, не напоминают о прошлом, и он может спокойно заниматься выгодным делом – ссудами под проценты.
Он заходит с внуком в кафе доньи Росы днем, кормит малыша завтраком и молча слушает музыку или читает газету – в разговоры ни с кем не вступает.
Донья Роса с улыбкой опирается на столик.
– Что скажете, Эльвирита?
– Сами видите, сеньора, ничего нового.
Сеньорита Эльвира, слегка склонив голову набок, посасывает сигарету. Щеки у нее в морщинах, веки красные, будто воспаленные.
– Там что-нибудь вышло?
– Где?
– Да с этим…
– Нет, расклеилось. Три дня со мной походил, а потом подарил флакон лака для волос.
Сеньорита Эльвира улыбается. Донья Роса скорбно прикрывает глаза.
– Да, милая моя, есть на свете бессовестные люди!
– А, плевать!
Донья Роса наклоняется и говорит ей почти на ухо:
– Почему вы не поладите с доном Пабло?
– Потому что не хочу. У меня тоже есть гордость, донья Роса.
– Вот еще новости! У каждой из нас есть свои причуды! Но уверяю вас, Эльвирита, – а вы знаете, я желаю вам только добра – с доном Пабло вам было бы неплохо.
– Не думайте. Он очень требовательный. Да к тому же зануда. Под конец я его просто не выносила – что поделаешь! – он мне стал противен.
Голос доньи Росы становится вкрадчивым, убеждающим – она дает совет:
– Надо иметь терпение, Эльвирита! Вы еще совсем дитя!
– Вы думаете?
Сеньорита Эльвира сплевывает под стол и обтирает рот краем перчатки.
Разбогатевший издатель по фамилии Вега, дон Марио де ла Вега, покуривает огромную, будто для рекламы сделанную сигару. Человек за соседним столиком пробует подольститься.
– Отличная у вас сигара!
Вега, не глядя на него, с важностью отвечает:
– Да, неплохая, но и обошлась она мне в целый дуро.
Человек за соседним столиком, тщедушный и улыбающийся, с удовольствием сказал бы что-нибудь вроде: «Кому же, как не вам, их курить?» – да не посмел, устыдился, и, к счастью, вовремя. Глядя на издателя, он снова заискивающе улыбнулся и сказал:
– Всего один дуро? Я думал, не меньше семи песет.
– Да нет же, один дуро да тридцать сентимо на чай. Мне это по карману.
– Еще бы!
– Э, бросьте! Чтобы курить такие сигары, я полагаю, вовсе не надо быть графом Романонесом.
– Романонесом, конечно, не надо быть, но, видите ли, я, например, не могу этого себе позволить, а также многие из тех, кто здесь сидит.
– Вы хотели бы закурить такую же?
– О, что вы!..
Вега усмехнулся, как бы заранее сожалея о своих словах:
– Так потрудитесь, как тружусь я.
Издатель разражается бурным, оглушительным хохотом. Тщедушный, улыбающийся человек за соседним столиком перестал улыбаться. Он весь покраснел, он чувствует, что у него уши горят и в глазах щиплет. Он потупил взгляд, чтобы не видеть, как на него смотрят все в кафе, ему, во всяком случае, чудится, что все в кафе на него смотрят.
Меж тем как дон Пабло, этот гнусный тип с грязными мыслями, хохочет, рассказывая историю про мадам Тру-ля-ля, сеньорита Эльвира швыряет на пол окурок и ногой гасит его. Да, сеньорита Эльвира иной раз держится, как настоящая принцесса.
– Ну, чем помешал вам этот котик? Кис-кис, на, на!..
Дон Пабло глядит на даму.
– Просто удивительно, до чего кошки умные! У них разума больше, чем у некоторых людей. Эти животные все-все понимают. Кис-кис, на, на!..
Кот удаляется не оборачиваясь и скрывается в дверях на кухню.
– У меня есть друг, человек денежный и с большим влиянием – не подумайте, что какой-нибудь голоштанник, – так у него персидский кот по кличке Султан, это просто чудо.
– Да?
– И еще какое чудо! Хозяин говорит: «Султан, иди сюда», – и кот подходит да хвостом своим этак помахивает пышным, будто плюмажем. Говорят ему: «Султан, пошел вон», – и, пожалуйста, Султан с достоинством удаляется, как важная персона. Все движения у него такие степенные, а шерсть – чистый шелк. Я думаю, немного сыщется таких котов; этот кот среди прочих котов, что герцог Альба среди прочих людей. Мой друг любит его, как ребенка. Ну понятно, и кот ведет себя так, что его нельзя не любить.
Дон Пабло обводит глазами кафе. На одно мгновение взгляд его скрещивается со взглядом сеньориты Эльвиры. Дон Пабло, моргнув, отворачивается.
– А какие кошки ласковые! Вы замечали, какие они ласковые? Если к кому привяжутся, так уж на всю жизнь.
Дон Пабло слегка откашливается и говорит тоном строгим, внушительным:
– Не мешало бы взять с них пример кое-кому из людей!
– Да, вы правы.
Дон Пабло глубоко вздыхает. Он доволен собой. В самом деле, эти слова насчет того, что «не мешало бы взять пример» и т. д., прозвучали у него великолепно.
Пепе, официант, уходит, не говоря ни слова, в свой угол. Здесь он у себя дома – он кладет руку на спинку стула и смотрит на себя в зеркала, словно на какую-то диковину.
В ближайшем зеркале он – в фас; в зеркале противоположном – его спина; в боковых – его профили.
– Чтоб ей, ведьме старой, утонуть в канаве, да чтоб ее дохлой оттуда вытянули! Свинья! Лиса старая!
Пепе – человек отходчивый, ему достаточно сказать про себя одну-две фразы, которые он никогда бы не осмелился произнести вслух:
– Живодерка! Свинья! Чтоб тебе сухой коркой питаться!
Когда Пепе не в духе, ему нравится отпускать вот такие короткие ругательства. Потом он отвлечется то тем, то другим и под конец обо всем забудет.
Двое малышей лет четырех-пяти уныло, без всякого энтузиазма играют меж столиками в поезд. Двигаясь в глубину кафе, один изображает паровоз, другой – вагон. Когда возвращаются к входной двери, роли меняются. Никто не обращает на них внимания, но они бесстрастно и безрадостно продолжают играть, курсируя взад-вперед с жуткой серьезностью. Это мальчики паиньки и умники, мальчики, которые – хоть скучно им до смерти – играют в поезд, потому что решили развлечься, а чтобы развлечься, решили – хоть ты лопни – играть в поезд до самого вечера. Если развлечение не удается, они-то чем виноваты? Они делают все, что могут.
Пепе смотрит на них и говорит:
– Осторожней, еще упадете…
Хотя Пепе уже с полвека живет в Кастилии, в его речи чувствуется галисийский акцент. Мальчики отвечают: «Нет-нет, не упадем, сеньор», – и игра продолжается – без веры, без надежды, без радости, словно они исполняют тягостный долг.
Донья Роса вваливается на кухню.
– Габриэль, сколько унций кофе ты всыпал?
– Две, сеньорита.
– Вот видишь! Видишь! Ну кто это может вынести! А потом, того и гляди, начнешь болтать об условиях труда и черт знает о чем еще! Разве не сказала я тебе, чтобы не сыпал больше полутора унций? Нет, с вами нельзя говорить просто и ясно, вы ничего понимать не желаете.
И донья Роса, отдуваясь, заводит свою шарманку. Пыхтит она, как паровоз, неровно, прерывисто, вся ее туша вздрагивает, и в груди что-то с присвистом клокочет.
– А если дону Пабло кажется, что кофе жидкий, пусть отправляется со своей супружницей туда, где ему подадут лучший. Хорошенькое дело! Где это видано! Этому болвану несчастному, должно быть, неизвестно, что посетителей у нас хоть отбавляй. Понятно тебе? Если ему не по вкусу, пусть убирается – нам это не в убыток. Подумаешь, персона какая! Жена его настоящая гадюка, мне уже тошно на нее смотреть. Прямо-таки тошнит от этой доньи Пуры!
Габриэль, как обычно, успокаивает ее.
– Вас могут услышать, сеньорита!
– Пускай слушают, если хотят. Для того и говорю. У меня рот не на замке! А вот чего я не пойму – почему этому остолопу вздумалось порвать с Эльвиритой? Ведь не девушка – ангел, только и думала, чтобы ему угодить, и как он, точно баран, терпит эту скандалистку донью Пуру, эту гадюку, которая вечно исподтишка хихикает. Но, как говорила моя матушка – царство ей небесное! – поживем – увидим!
Габриэль старается замять конфликт.
– Если хотите, я немножко отсыплю.
– Ты и сам знаешь, как должен поступать человек порядочный и толковый – не вор, нет. Когда хочешь, ты отлично понимаешь, как надо себя вести!
* * *
Падилья, продавец сигарет, беседует с новым посетителем, покупающим целую пачку табаку.
– И что, всегда так?
– Всегда, но она не злая. Вспыльчива немного, но, в общем, не злая.
– Но она же назвала этого официанта дурнем!
– А, большое дело! Иной раз она и нас обзывает лодырями и красными.
Новый посетитель не верит своим ушам.
– И вы так спокойно к этому относитесь?
– Да, сеньор, совершенно спокойно.
Новый посетитель пожимает плечами.
– Странно, странно…
Падилья идет в очередной обход по залу.
Посетитель задумывается.
«Не знаю, кто из них гнусней – эта жирная свинья в трауре или это сборище баранов. Взяли бы ее как-нибудь за шиворот да всыпали все вместе как следует, она бы уж точно присмирела. Да где там! Трусят. В душе небось с утра и до ночи посылают ее куда подальше, но вслух – боже упаси! «Убирайся, дурень! Вор, бездельник!» А они в восторге. «Да, сеньор, совершенно спокойно». Все понятно! Да пошли они все к черту, противно на них смотреть!»
Посетитель задумчиво курит. Его зовут Маурисио Сеговия, служит на телефонной станции. Спешу это сообщить, так как он, наверно, сейчас уйдет. Ему лет тридцать восемь – сорок, рыжий, лицо все в веснушках. Живет он далеко, в Аточе, а в этом районе оказался случайно – пошел следом за незнакомой девчонкой, а та, прежде чем Маурисио решился с ней заговорить, вдруг возьми да и сверни за угол и исчезла в каком-то подъезде.
Чистильщик обуви зовет:
– Сеньор Суарес! Сеньор Суарес!
Сеньор Суарес – он тоже здесь случайный гость – поднимается с места и идет к телефону. Он прихрамывает, раскачивая бедрами. Одет в модный светлый костюм, на носу пенсне. По виду ему дашь лет пятьдесят, он похож на дантиста или парикмахера. Если приглядеться, можно, пожалуй, принять его и за коммивояжера по сбыту химикатов. У сеньора Суареса вид очень занятого человека, из тех, кто не переводя дыхания выпаливает: «Чашку кофе. Чистильщика. Мальчик, сбегай за такси». Когда такие вот всегда занятые господа заходят в парикмахерскую, они там сразу бреются, стригутся, делают маникюр, велят чистить им обувь да еще газету читают. Прощаясь с другом, они предупреждают: «С такого-то по такой-то час я буду в кафе, потом должен зайти в контору, а к вечеру загляну к своему шурину – если будете мне звонить, то именно в таком порядке. Сейчас я должен идти, у меня сотня мелких дел». Только взглянуть на таких людей, и сразу понимаешь – это победители, это избранные, это люди, привыкшие повелевать.
Сеньор Суарес говорит по телефону голосом тихим, пискливым, глуповато хихикая и жеманничая. Пиджак на нем коротковат, брюки узехонькие, как у тореро.
– Это ты?
– ………
– Нахал, ну прямо-таки нахал! Бесстыдник!
– Да ладно… Как хочешь.
– ………
– Договорились. Ладно, не беспокойся, еду.
– ………
– Пока, дорогуша.
– ………
– Хи-хи! Вечные твои шуточки! Будь здоров, голубок, сейчас заеду за тобой.
Сеньор Суарес возвращается к своему столику. На лице улыбка, хромота у него теперь какая-то подрагивающая, чуть судорожная – в ней даже есть что-то задорное, кокетливое, легкомысленное. Он расплачивается за кофе, требует такси, и, когда такси подъезжает, сеньор Суарес выходит на улицу. Выходит с гордо поднятой головой, как римский гладиатор, выходит, излучая самодовольство, сияя радостью.
Кое-кто провожает его взглядом, пока он не скрывается за вращающейся дверью. М-да, есть люди, которые обязательно привлекают внимание. Их сразу узнаешь среди прочих, как будто у них отметина на лбу.
Хозяйка делает пол-оборота и направляется к стойке. Никелированная кофеварка «экспресс» выдает, булькая, одну за другой чашечки кофе, а касса, отсвечивающая от старости медью, то и дело щелкает.
Несколько официантов с изможденными, бледными, унылыми физиономиями стоят в мешковатых, измятых фраках, оперев край подноса на мраморную доску, и ждут, пока шеф выдаст им заказанные блюда и медные и серебряные монетки сдачи.
Шеф вешает телефонную трубку и начинает отпускать заказы.
– Опять вы тут болтаете по телефону, как будто делать нечего?
– Да видите ли, сеньорита, просят еще молока.
– Еще молока? Сколько привезли сегодня утром?
– Как всегда, сеньорита, шестьдесят.
– И этого не хватает?
– Да, кажется, будет мало.
– Но послушай, милый мой, здесь же не ясли! Сколько ты затребовал?
– Еще двадцать.
– Не слишком ли много?
– Не думаю.
– Что значит «не думаю»? Хорошенькое дело! А если останется, что тогда?
– Нет, не останется. Ручаюсь.
– Да, как всегда, «ручаюсь, ручаюсь», это для вас очень удобно. А если останется?
– Да нет, вот увидите, не останется. Взгляните, зал битком набит.
– Ну да, зал битком набит, битком набит. Говорить проще всего. А почему набит? Потому что у меня подают по-честному, сколько положено, а не то я бы всех вас разогнала! Лодыри этакие!
Официанты, потупив глаза, стараются проскользнуть незаметно.
– А ну-ка поглядим, что у вас там! Это почему на подносах так много кофе без сладкого? Разве люди не знают, что у нас есть булочки, и бисквиты, и кексы? Ну конечно, не знают! Ведь вам трудно рот раскрыть! Хотите, чтобы я по миру пошла, на улице каштанами торговала? Хоть лопните, не бывать этому! Уж я-то знаю, на какую ногу вы хромаете. Хороши субчики! А ну-ка, поживей шевелите ногами да молитесь всем святым, чтобы я еще больше не рассердилась.
Официантам ее речи – как шум дождя, они молча отходят с подносами от стойки. Ни один не взглянет на донью Росу. Ни один даже не думает о ней.
Посетитель, из тех, что, как я уже говорил, сидят, облокотясь на столик и подперев рукою бледный лоб – взгляд у них унылый, горестный, выражение лица озабоченное и как бы испуганное, – беседует с официантом. Он силится кротко улыбаться, он похож на беспризорного ребенка, который зашел попросить стакан воды в дом при дороге.
Официант отрицательно качает головой и подзывает вышибалу.
Луис, вышибала, идет от него к хозяйке.
– Сеньорита, Пепе говорит, что сеньор не желает платить.
– Пусть делает с ним что хочет, да только чтобы деньги мне были. Это его дело. Скажи, если не вытянет денег, я вычту из его жалованья, и дело с концом. До чего мы докатились!
Хозяйка поправляет пенсне и приглядывается.
– Это который?
– Да вон он сидит, очки в металлической оправе.
– Вот это тип! Очень мило! Да еще с каким видом! Слушай, а по какому праву он отказывается платить?
– Да так… Говорит, что пришел без денег.
– Ну и ну, только этого недоставало! Да, чего в нашей стране хоть отбавляй, так это жуликов!
Вышибала, не глядя в глаза донье Росе, произносит чуть слышно:
– Он говорит, что, когда будут деньги, он обязательно рассчитается.
В ответе доньи Росы каждое слово звенит, будто отлитое из бронзы:
– Так говорят все, а потом на одного, что вернется заплатить, приходится сотня таких, что улизнут и поминай как звали. Да что говорить! Пригреешь ворона, а он тебе глаза выклюет! Скажи Пепе – он сам знает, что делать: на улицу выставить поаккуратней, а там – пару добрых пинков куда придется. Хорошенькое дело!
Вышибала поворачивается, но донья Роса окликает его:
– Слушай, скажи Пепе, чтобы запомнил лицо!
– Скажу, сеньорита.
Донья Роса стоит и смотрит на эту сцену. Луис, с молочником в руках, подходит к Пепе и шепчет ему на ухо:
– Так она сказала. Ей-богу, слово в слово.
Пепе приближается к посетителю, тот медленно встает… Это истощенный, бледный, хилый человечек в дешевых металлических очках. Потертая куртка, обтрепанные брюки. Поверх костюма темно-серый плащ с засаленным поясом, под мышкой завернутая в газету книга.
– Если хотите, я оставлю вам книгу.
– Не надо. Уходите, не действуйте на нервы.
Человек направляется к дверям, Пепе идет следом. Оба выходят на улицу. Холодно, прохожие ускоряют шаг. Газетчики выкрикивают названия вечерних газет. По улице Фуэнкарраль, печально, надрывно, почти зловеще грохоча, идет трамвай.
Человек этот не из простых, не какой-нибудь бродяга, невежда, не серый, незаметный человек из толпы, какими хоть пруд пруди. У него на правой руке татуировка, в паху шрам. Он кончил курс в университете, переводит кое-что с французского. Внимательно следит за всеми приливами и отливами интеллектуальной и литературной жизни, кое-какие статьи из «Эль соль»[7] он мог бы еще и теперь чуть не наизусть повторить. В юности у него была невеста швейцарка, тогда он сочинял ультрамодернистские стихи.
Чистильщик беседует с доном Леонардо.
– Мы, Мелендесы, – говорит ему дон Леонардо, – древний ствол, находящийся в родстве с самыми исконными кастильскими фамилиями; некогда мы распоряжались судьбами и достоянием людей. Теперь же, видите сами, я почти выброшен на la rue[8]!
Чистильщик смотрит на дона Леонардо с восхищением. Тот факт, что дон Леонардо его ограбил, присвоил его сбережения, видимо, наполняет его восторгом и преданностью. Нынче дон Леонардо разговорился, и чистильщик, млея от счастья, кружит у его стула, как комнатная собачонка. Правда, бывают дни менее удачные, когда дон Леонардо и не глядит на него. В такие злополучные дни чистильщик подходит на цыпочках, заговаривает униженно, еле слышным голосом:
– Что вы сказали?
Дон Леонардо даже не отвечает. Но чистильщик, не смущаясь, снова обращается к нему:
– Ну и холодный же денек!
– М-да.
Тогда чистильщик расплывается в улыбке. Он счастлив, он готов отдать еще шесть тысяч дуро, только чтобы с ним были любезны.
– Позвольте немного навести глянец?
Чистильщик становится на колени, и дон Леонардо, который обычно даже не удостаивает его взглядом, нехотя ставит ногу на железную подставку на его ящике.
Но сегодня все по-иному. Сегодня дон Леонардо в хорошем настроении. Наверно, у него наметился в общих чертах предварительный проект какого-нибудь крупного акционерного общества.
– В былые времена, о, mon Dieu[9], если кто-нибудь из нашей семьи появлялся на бирже, ни один человек не покупал и не продавал, пока не увидит, что делаем мы.
– Да, удивительное дело!
Дон Леонардо неопределенно кривит рот, выписывая рукой в воздухе какие-то иероглифы.
– Нет ли у вас курительной бумаги? – спрашивает он у человека за соседним столиком. – Хотел, видите ли, свернуть сигарету и, вдруг оказывается, не захватил бумаги.
Чистильщик молчит, не вмешивается – он знает, что ему так положено.
Донья Роса подходит к столику Эльвириты, которая тоже наблюдала за препирательством официанта с человеком, не заплатившим за кофе.
– Вы видали, Эльвирита?
Сеньорита Эльвира мгновение медлит с ответом.
– Бедный парень. Наверное, весь день ничего не ел.
– Вы тоже с сантиментами? Хороши бы мы были! Клянусь, сердце у меня мягкое, как мало у кого, но терпеть такую наглость!..
Эльвира не знает, что ответить. У бедняжки и впрямь добрая душа, она ведет такую жизнь, только чтобы не умереть с голоду, по крайней мере не умереть слишком быстро. Трудиться она не научилась, к тому же у нее ни красоты, ни тонких манер. Ребенком она в своей семье ничего, кроме унижений и горя, не видела. Родом Эльвирита из Бургоса, ее отец был забулдыга и буян, звали его Фидель Эрнандес. Этого Фиделя Эрнандеса, который убил свою жену Эудосию сапожной колодкой, присудили к гарроте и казни в 1909 году. Он еще сказал: «Кабы я подсыпал ей мышьяку в суп, так сам Господь Бог ни о чем бы не проведал». Эльвирите, когда она осталась сиротой, шел двенадцатый год, и ее взяла к себе в Вильялон бабушка, которая кормилась тем, что ходила с кружкой по домам побираться. Старуха изрядно бедствовала, а когда казнили ее сына, стала вся опухать и вскоре умерла. Девчонки на улице дразнили Эльвириту, показывали ей на позорный столб, приговаривая: «Вот у такого же столба твоего папашу удушили, дрянь паршивая!» Пришел день, когда Эльвирите стало невмоготу, и она сбежала из деревни с астурийцем, приезжавшим по праздникам торговать засахаренным миндалем. Два долгих года странствовала она с ним, но так как он нещадно ее избивал, то в один прекрасный день, очутившись в Оренсе, она ушла в публичный дом Плешивой на улице Вильяр, а там сдружилась с дочкой некой Супоросой, жены дровосека во Франселосе, близ Рибадавии, – у той было двенадцать дочерей, и все гулящие. С тех пор пошла у Эльвиры жизнь веселая – пой, пляши да с голодухи в кулак свищи.
Эта жизнь ее несколько ожесточила, но не слишком. По натуре она была доброй и по-своему даже гордой.
Дону Хайме Арсе наскучило сидеть без дела, откинувшись на спинку стула, глядя в потолок и размышляя о всякой чепухе, он выпрямляется и заговаривает с молчаливой женщиной, схоронившей сына, с той самой женщиной, которая смотрит на суету человеческую из-под винтовой лестницы, ведущей в бильярдную.
– Все это выдумки… Организация плоха… Конечно, не отрицаю, бывают и ошибки. Но это не так важно, поверьте. Банки работают из рук вон плохо, нотариусы перед всеми лебезят, торопятся скорей покончить с делом и устраивают такую неразбериху, что сам черт ногу сломит.
Дон Хайме с изысканной скорбью прикрывает глаза.
– Потом начинается: протесты, споры и прочая мура.
Дон Хайме Арсе говорит медленно, немногословно, почти торжественно. Он следит за своими жестами, делает между словами паузы, как бы наблюдая за эффектом, который они производят, и при этом взвешивая и рассчитывая каждое слово. По-своему он даже искренен. Мать погибшего сына слушает его молча, с видом совершенной дурочки – таращит глаза, да так странно, будто вовсе не слушает, а только старается не заснуть.
– Вот так-то, сеньора, а все прочее, скажу я вам, все прочее – это сущая дребедень.
Дон Хайме Арсе говорит очень гладко, хотя, случается, вставляет в отлично скроенную фразу грубоватые словечки, вроде «мура», «дребедень» и тому подобное.
Дама глядит на него, ничего не говоря. Она только качает головой вперед-назад, но и эти кивки ничего не выражают.
– А теперь – сами посудите! – я стал притчей во языцех. Если бы моя покойница матушка это видела!
Когда дон Хайме дошел до «скажу я вам», женщина, вдова Санса, донья Исабель Монтес, начала думать о своем покойном муже, каким она с ним познакомилась – изящном, стройном молодом человеке двадцати трех лет, с красивой осанкой и нафабренными усами. Смутное ощущение счастья согрело ее душу, и лицо доньи Исабели озарилось робкой, мимолетной улыбкой. Затем она вспомнила о бедняжке Пакито, о том, какое у него было во время менингита бессмысленное выражение лица, и вдруг погрустнела.
Дон Хайме Арсе, который было прикрыл глаза, чтобы придать выразительность фразе «Если бы моя покойница матушка это видела!», воззрился на донью Исабель и участливо спросил:
– Вы себя плохо чувствуете, сеньора? Вы немного бледны.
– Нет, ничего, спасибо. Так, всякое приходит в голову!
Дон Пабло, будто против воли, нет-нет да и взглянет искоса на сеньориту Эльвиру. Хоть у них все кончено, он не может забыть времени, проведенного с нею. Да, надо признать, она была с ним мила, покорна, предупредительна. Перед людьми дон Пабло делал вид, будто презирает ее, называл грязной тварью и проституткой, но в душе чувствовал иное. Когда дону Пабло случалось втайне разнежиться, он думал: «Нет, это не от похоти, это говорит сердце». Потом тут же о ней забывал и, наверно, ничуть бы не потревожился, если б она умирала от голода или проказы. Таков уж дон Пабло.
– Слушай, Луис, что там произошло с этим молодым человеком?
– Ничего, дон Пабло. Он просто не хотел уплатить за кофе.
– Никогда бы не подумал, на вид такой приличный.
– Не судите по внешности – жуликов да нахалов сейчас полно.
Донья Пура, жена дона Пабло, говорит:
– Конечно, жуликов да нахалов сколько угодно, это правда. Да как их отличишь! А надо было бы, чтобы все люди трудились, как бог велит. Верно, Луис?
– Пожалуй, да, сеньора.
– То-то же. Тогда бы все было ясно. Трудишься – заказывай себе кофе, а если хочешь, и сдобную булочку; а кто не трудится… Ну что ж, кто не трудится, тех и жалеть нечего. Мы-то все не сидим сложа руки.
Донья Пура очень довольна своей тирадой – отлично прозвучало.
Дон Пабло оборачивается к даме, которую напугал кот.
– С этими типами, не желающими платить за кофе, нужно быть очень, очень осторожным. Никогда не знаешь, на кого нападешь. Вот выставили его на улицу, а он, может, гений, настоящий, как говорится, гений, какой-нибудь там Сервантес или Исаак Пераль[10], а может, и плут бессовестный. Да я бы сам уплатил за его кофе. Для меня это не вопрос, чашкой кофе больше или меньше.
– Конечно.
Дон Пабло ухмыляется, как человек, вдруг осознавший свою бесспорную правоту.
– Да, с бессловесными тварями такого не бывает. Бессловесные твари – они честнее, они никогда не обманут. Вот этот красавец котик – хе-хе! – вы так испугались его, а он ведь божья тварь, он просто хотел поиграть, всего только поиграть.
Лицо дона Пабло расплывается в благодушной улыбке. Если бы вскрыть ему грудь, оказалось бы, что сердце у него черное и вязкое, как деготь.
Пепе возвращается через несколько минут. Хозяйка ждет, держа руки в карманах фартука, расправив плечи и расставив ноги; она подзывает его скрипучим, хриплым голосом, который напоминает дребезжащий звук надтреснутого колокола.
– Иди-ка сюда.
Пепе не смотрит ей в глаза.
– Что прикажете?
– Всыпал ему?
– Да, сеньорита.
– Сколько?
– Два.
Хозяйка щурит глазки за стеклами пенсне, вынимает руки из карманов и гладит себя по лицу, где из-под слоя пудры пробиваются щетинки бороды.
– Куда дал?
– Куда пришлось, по ногам.
– Правильно. Чтоб запомнил. Теперь ему в другой раз не захочется воровать деньги у честных людей.
Донья Роса стоит, сложив пухлые руки на вздутом, как мех с оливковым маслом, животе – воплощение враждебности сытого к голодному. Наглецы! Собаки! На ее сосископодобных пальцах весело, почти злорадно играют блики от лампочек.
Пепе удаляется, смиренно опустив глаза. Совесть у него спокойна, хотя он сам этого не сознает.
Дон Хосе Родригес де Мадрид беседует с двумя друзьями, играющими в шашки.
– Ну что вам сказать, восемь дуро, восемь паршивых дуро. А люди уж растрезвонили.
Один из игроков улыбается.
– И смотреть не на что, так ведь, дон Хосе?
– Тьфу, пустяк. Куда пойдешь с восемью дуро?
– Ясное дело. На восемь дуро много не купишь, это верно. Но все-таки, скажу я вам, в доме все сгодится, кроме пощечины.
– Да, и это правда. К тому же достались они мне безо всякого труда…
Скрипачу, которого выставили на улицу за спор с доном Хосе, восьми дуро хватило бы на неделю. Ел он мало, брал что подешевле, курил, только когда угощали, восьми дуро ему, конечно, хватило бы на целую неделю. Но что говорить, нашлись бы люди, которым и на дольше бы хватило.
Сеньорита Эльвира подзывает продавца сигарет:
– Падилья!
– Иду, сеньорита Эльвира!
– Два «Тритона», завтра уплачу.
– Пожалуйста.
Пепе достает два «Тритона» и кладет на стол перед сеньоритой Эльвирой.
– Одну я беру на потом, после ужина, понимаешь?
– Да-да, вы же знаете, вы у меня пользуетесь кредитом. – Продавец сигарет галантно осклабился. Сеньорита Эльвира тоже улыбнулась.
– Слушай, можешь передать Макарио мою просьбу?
– Конечно.
– Скажи ему, пусть сыграет «Луису Фернанду», я очень прошу.
Продавец сигарет, шаркая, идет к эстраде, где музыканты. Один из посетителей уже несколько минут переглядывается с Эльвиритой и наконец решается завязать разговор.
– Сарсуэлы[11] очень приятно смотреть, не правда ли, сеньорита?
Сеньорита Эльвира отвечает гримаской. Мужчину это не смутило, он толкует гримаску как выражение симпатии.
– Очень трогательные бывают, правда?
Сеньорита Эльвира прикрывает глаза. Мужчина воодушевляется.
– Вы любите театр?
– Если пьеса хорошая…
Мужчина разражается смехом, будто услышал остроумнейшую шутку. Слегка закашлявшись, он предлагает огоньку сеньорите Эльвире и говорит:
– Конечно, конечно. А кино? Кино вы тоже любите?
– Иногда…
Мужчина делает невероятное усилие, от которого краснеет до ушей, и произносит:
– Когда в зале темно-темно, да?
Сеньорита Эльвира отвечает осторожно и с достоинством:
– Я хожу в кино, только чтобы смотреть фильм.
Мужчина поспешно соглашается.
– Ну ясно, конечно, я тоже… Я это сказал, имея в виду молодежь, знаете, молодые парочки… Все мы были молодыми!.. Я замечаю, сеньорита, что вы много курите. Мне нравится, когда женщины курят, право же, очень нравится. В конце концов, что в этом дурного? Самое правильное – предоставить каждому жить, как он хочет, вы согласны? Я это говорю, потому что, если разрешите – сейчас-то я должен уйти, я очень спешу, но надеюсь, мы в другой раз еще встретимся и продолжим нашу беседу, – так вот, если разрешите, я хотел бы… хотел бы преподнести вам пачку «Тритона».
Мужчина говорит торопясь, сбивчиво. Сеньорита Эльвира отвечает ему несколько свысока, с видом женщины, уверенной в себе.
– Пожалуйста… Я не против. Если уж вам так вздумалось!
Мужчина подзывает продавца, берет пачку сигарет; вручив ее с любезнейшей улыбкой сеньорите Эльвире, надевает пальто, шляпу. Перед уходом он говорит:
– Очень, очень был рад познакомиться, сеньорита. Леонсио Маэстре, к вашим услугам. Как я уже сказал, мы еще встретимся. Уверен, что мы будем добрыми друзьями.
Хозяйка зовет шефа. Его фамилия Лопес, Консорсио Лопес, родом он из Томельосо в провинции Сьюдад-Реаль – большой, красивой и зажиточной деревни. Лопес молод, недурен собой, одет даже изящно, у него крупные кисти рук и низкий лоб. Он чуточку лодырь, на гневное брюзжание доньи Росы и ухом не ведет. «Этой бабе, – говорит он, – надо дать выговориться – сама умолкнет». Консорсио Лопес – философ, и, надо сказать, его житейская философия идет ему на пользу. Еще до приезда в Мадрид, лет десять-двенадцать тому назад, в Томельосо, брат девушки, с которой он крутил любовь и на которой, сделав ей двух близнецов, не захотел жениться, сказал ему: «Или ты женишься на Марухите, или я при первой же встрече отчекрыжу тебе кое-что». Жениться Консорсио не хотел, но и кастратом ему тоже стать не улыбалось – он сел на поезд и прикатил в Мадрид; дело это, видимо, постепенно забылось, больше никто его не тревожил. В своем бумажнике Консорсио всегда носил две фотографии малюток-близнецов – одну, где они в возрасте всего нескольких месяцев голенькие лежат на подушке, и другую, сделанную после первого причастия; прислала фотографии его бывшая возлюбленная Марухита Ранеро, ныне сеньора де Гутьеррес.
Как мы уже говорили, донья Роса позвала шефа:
– Лопес!
– Иду, сеньорита.
– Как там у нас с вермутом?
– В порядке, пока в порядке.
– А с анисовой?
– Не очень. Уже на исходе, а спрашивают.
– Пусть пьют что-нибудь другое! Я теперь не намерена влезать в расходы, просто не желаю. Подумаешь, еще требуют! Слушай, ты закупил это самое?
– Сахар?
– Вот-вот.
– Завтра доставят.
– И они согласились по четырнадцать с половиной песет?
– Да. Просили по пятнадцать, но мы договорились, что на круг скинут по два реала.
– Хорошо. А там – сам знаешь: в лапу, и все шито-крыто. Понятно?
– Да, сеньорита.
Юный поэт, глядя в потолок, грызет кончик карандаша. Он из тех, кто сочиняет стихи «с идеей». На сегодняшний вечер идея у него есть. Не хватает рифм. Кое-что он уже набросал. Теперь подбирает хорошую рифму к слову «новь», только не «бровь» и не «морковь». «Любовь» уже звучит у него в ушах. «Кровь» тоже.
– Я заключен в темницу будней, в раковину пошлых будней. Твои лазурные глаза… Я сильным быть хочу, могучим. Лазурные, как небо, глаза… Творенье убивает человека, иль человек убивает свое творенье. О ты, златокудрая… Умереть! Да, умереть! И оставить небольшую книжечку стихов. О, как ты прекрасна, прекрасна!..
Юный поэт бледен, очень бледен, на скулах горят два красных пятна, два небольших красных пятна.
– Твои лазурные глаза… Новь, новь, новь. Лазурные, как небо, глаза… Бровь, морковь, бровь, морковь. О, златокудрая… Любовь. Вернулась вдруг любовь. Твои лазурные глаза… Трепещет радостно любовь. Лазурные, как небо, глаза… Как бурный водопад, любовь. Твои лазурные глаза… И вот она, безбрежная любовь. Твои лазурные глаза… Струится жарко в жилах кровь. Твои лазурные глаза… Твои лазурные… Какие у нее глаза?.. Опять закат багрян, как кровь. Глаза… При чем тут глаза?.. Тара-тара-тара-тата, любовь…
Юноша вдруг чувствует, что зал плывет у него перед глазами.
– Обнять весь мир готова моя любовь. Прекрасно…
Он слегка пошатывается, как в опьянении, ему кажется, что кровь горячей волной прилила к вискам.
– Мне что-то не… Может быть, мама… Да, кровь, кровь… Парит мужчина в высоте над обнаженной девой… Что, бровь?.. Нет, не бровь… И я скажу ей: никогда!.. Весь мир, весь мир… Прекрасно, превосходно…
За столиком в глубине зала две пенсионерки, размалеванные, как клоуны, беседуют о музыкантах.
– Он настоящий артист, слушать его – истинное наслаждение! Покойный мой Рамон, царство ему небесное, говорил: «Ты только обрати внимание, Матильда, как изящно он подносит скрипку к подбородку». Подумайте, что за жизнь! Были бы у этого юноши покровители, он бы далеко пошел.
Донья Матильда закатывает глаза. Она толста, неопрятна и с претензиями. От нее дурно пахнет, чудовищный водяночный живот выпирает горой.
– Это настоящий артист, художник!
– О да, вы правы. Я весь день думаю о той минуте, когда услышу его. Я тоже считаю его настоящим артистом. Когда он играет вальс из «Веселой вдовы», это умопомрачительно, слушаешь и чувствуешь себя другим человеком.
Донья Асунсьон по-овечьи покорно со всеми соглашается.
– Не правда ли, прежде музыка была другая? Более изящная, трогательная.
У доньи Матильды есть сын, мечтающий стать знаменитостью, он живет в Валенсии.
У доньи Асунсьон – две дочери: одна замужем за мелким служащим в министерстве общественных сооружений, зовут его Мигель Контрерас, он любит выпить; другая незамужняя, но характер у нее боевой, она живет в Бильбао с женатым преподавателем.
Ростовщик утирает мальчику рот носовым платком. У малыша блестящие, живые глазки, одет он небогато, но довольно нарядно. Он выпил две чашки кофе с молоком, съел две булочки и, видно, не прочь еще.
Дон Тринидад Гарсиа Собрино сидит с невозмутимым видом. Он человек мирный, любит порядок, хочет жить спокойно. Внучек его похож на тощего цыганенка со вздутым животиком. На малыше вязаная шапочка и рейтузы – этого ребенка очень кутают.
– Молодой человек, что с вами? Вам дурно?
Юный поэт не отвечает. Глаза у него широко раскрыты, взгляд блуждает, он будто онемел. Поперек лба повисла прядь волос.
Дон Тринидад усаживает малыша на диван и берет поэта за плечи.
– Вы больны?
Несколько голов поворачивается к ним. Поэт улыбается тупой, бессмысленной улыбкой.
– Послушайте, помогите мне его приподнять. Видно сразу, человеку дурно.
Ноги поэта скользят, он валится под стол.
– Да поддержите же его, я не могу справиться один.
Кто-то встает из-за столика. Донья Роса у стойки глядит на происшествие.
– Есть из-за чего шум подымать…
Падая под стол, поэт сильно стукнулся лбом.
– Поведемте его в туалет, у него, верно, обморок.
Пока дон Тринидад и еще три-четыре посетителя волокут поэта в уборную, чтобы он там пришел в себя, внучек жадно подбирает оставшиеся на столе крошки сдобной булочки.
– Запах дезинфекции приведет его в чувство, это, конечно, обморок.
Поэт сидит в уборной на унитазе и, опершись головой о стенку, блаженно улыбается. Сам того не сознавая, он счастлив в душе.
Дон Тринидад возвращается к своему столику.
– Прошло у него?
– Да, прошло, это просто обморок.
* * *
Сеньорита Эльвира возвращает продавцу две сигареты.
– А вот еще одна для тебя.
– Спасибо. Подвезло, а?
– Ха! С таким везением…
Падилья как-то обозвал одного кавалера сеньориты Эльвиры кобелем, и сеньорита Эльвира обиделась. С тех пор он держится более почтительно.
Дона Леонсио Маэстре чуть не переехал трамвай.
– Осел!
– Сам ты осел, дурак несчастный! О чем задумался?
Дон Леонсио Маэстре задумался об Эльвирите.
«Миленькая, очень миленькая. О да! И на вид девушка не простая. Нет, она не шлюха. Сразу заметно! Да, любая жизнь – это целый роман. Видимо, девушка из хорошей семьи, поссорилась с родными. Теперь, наверно, служит в конторе, возможно, какой-то фирмы. Лицо у нее грустное, нежное; ей, видно, больше всего нужна ласка, чтобы ее баловали, чтобы весь день ею любовались».
Сердце дона Леонсио Маэстре так и прыгает под сорочкой.
«Завтра опять пойду туда. Да, да, обязательно. Если она будет в кафе, это хороший знак. А если нет… Если нет… Будем ее искать!»
Дон Леонсио Маэстре поднял воротник пальто и легонько подскочил два раза.
«Эльвира, сеньорита Эльвира. Приятное имя. Надеюсь, пачка «Тритона» доставила ей удовольствие. Как закурит, вспомнит обо мне… Завтра повторю ей свое имя. Леонсио, Леонсио, Леонсио. Она-то, наверное, придумает для меня что-нибудь понежней, уменьшительное от Леонсио. Лео. Онсио. Онсете… Выпью-ка стаканчик, что-то вдруг захотелось».
Дон Леонсио Маэстре зашел в бар и выпил у стойки стакан вина. Рядом, сидя на табурете, ему улыбалась девушка. Дон Леонсио повернулся к ней спиной. Смотреть на эту улыбку было бы изменой, первой изменой его Эльвирите.
«Нет, не Эльвирите – Эльвире. Простое, красивое имя».
Девушка, сидевшая на табурете, все же обратилась к нему.
– Дашь мне огоньку, ты, хмурик?
Дон Леонсио чуть не с дрожью поднес ей зажигалку. Уплатил за вино и торопливо выбежал на улицу.
«Эльвира… Эльвира…»
Донья Роса, прежде чем отпустить шефа, спрашивает:
– Ты музыкантам дал кофе?
– Нет.
– Так распорядись, они, кажется, устали. Бездельники никчемные!
Музыканты на эстраде тянут последние такты отрывка из «Луисы Фернанды», той прелестной песенки, которая начинается словами:
Среди дубовой рощи в Эстремадурн милой стоит мой домик старый, где мир и тишина.
До этого они играли «Музыкальный момент», а еще раньше – «Девушку с пучком роз» по заказу одной из «красоток Мадрида, прелестных, как вербена».
К ним подходит донья Роса.
– Я велела, чтобы вам принесли кофе, Макарио.
– Благодарю, донья Роса.
– Не за что. Вы же знаете, мое слово свято, я говорю только один раз.
– Конечно, знаю, донья Роса.
– То-то же.
У скрипача большие, выпуклые глаза скучающего быка. Свертывая сигарету, он глядит на хозяйку – рот его презрительно кривится, руки дрожат.
– И вам, Сеоане, тоже принесут кофе.
– Хорошо.
– Послушайте, милый мой, да вы не слишком вежливы!
Макарио вмешивается, чтобы разрядить атмосферу.
– У него желудок болит, донья Роса.
– Но это не причина, чтобы быть грубияном. Нечего сказать, воспитание у этих людей! Когда хочешь им слово сказать, они тебя по зубам, а когда оказываешь любезность и они, кажется, должны быть довольны, только изволят сказать «хорошо», будто маркизы какие. Да, дела!
Сеоане молчит, меж тем как его товарищ заискивающе улыбается донье Росе. Потом Сеоане спрашивает у посетителя за ближайшим столиком:
– Ну, как тот парень?
– Он в туалете, приходит в чувство. Так, пустяк.
* * *
Вега, издатель, протягивает кисет угодливому человечку за соседним столиком.
– Берите, сверните сигарету и не хнычьте. Мне приходилось хуже, чем вам, и я, знаете, что сделал? Начал трудиться.
Сосед заискивающе улыбается, как ученик перед учителем, совесть у него нечиста, и, что еще хуже, он этого не сознает.
– Значит, честно заслужили!
– Верно, приятель, верно, надо трудиться и больше ни о чем не думать. Теперь, сами видите, у меня всегда и сигара есть и рюмочка к ужину.
Собеседник кивает головой, смысл этого кивка неясен.
– А если я вам скажу, что хотел бы трудиться, да места нет?
– Вот еще! Чтобы трудиться, нужно только одно – желание. Вы уверены, что у вас есть желание трудиться?
– Что тут спрашивать!
– Так почему бы вам не взяться подносить чемоданы на вокзале?
– Я бы не смог, через три дня надорвался бы. Я бакалавр…
– И какой вам с этого толк?
– Да по правде сказать, небольшой.
– То, что с вами происходит, друг мой, происходит со многими из тех, что сидят сложа руки в кафе и пальцем не шевельнут. В конце концов в один прекрасный день они падают в обморок, как этот блажной мальчишка, которого увели в туалет.
Бакалавр возвращает кисет, спорить он не собирается.
– Благодарю.
– Пустяки, не за что. Вы на самом деле бакалавр?
– Да, сеньор, имею диплом по третьему циклу.
– Прекрасно, так я вам предоставлю возможность не подохнуть в приюте или в очереди у ночлежки. Хотите трудиться?
– Хочу, сеньор. Я уже вам сказал.
– Приходите ко мне завтра. Вот визитная карточка. Придете утром, до двенадцати – так, в полдвенадцатого. Если вы хотите и умеете работать, будете у меня корректором – нынче утром мне пришлось уволить прежнего, разленился. К тому ж нахал.
Сеньорита Эльвира поглядывает в сторону дона Пабло. Дон Пабло объясняет юнцу за соседним столиком:
– Сода – отличная штука, вреда от нее никакого. Врачи ее не прописывают просто потому, что ради соды никто бы не стал ходить к врачам.
Юнец, слушая краем уха, поддакивает, он уставился на колени сеньориты Эльвиры, которые немного видны под столиком.
– Не глядите туда, не будьте дураком – я вам кое-что расскажу, не захотите пачкаться.
Донья Пура, супруга дона Пабло, беседует с приятельницей, увешанной побрякушками толстухой, которая ковыряет в золотых зубах зубочисткой.
– Мне уже надоело повторять одно и то же. Пока существуют мужчины и женщины, всегда будут скандалы; мужчина – это огонь, а женщина – солома, и вот вам, пожалуйста, какие дела творятся! То, что я вам рассказывала про случай на платформе 49, – чистая правда. Непонятно, куда все это нас приведет!
Толстуха рассеянно переламывает зубочистку пополам.
– Да, мне тоже кажется, что люди совершенно забыли о приличиях. Вся беда от общественных уборных – верьте мне, раньше мы были другими… Теперь, когда вас знакомят с молодой девушкой и вы подаете ей руку, вас целый день не оставляет чувство отвращения. Того и гляди, заполучишь что-нибудь вовсе нежелательное!
– Это правда.
– А еще, я думаю, кинотеатры виною. Сидят там сотни людей, все вперемешку, в полной темноте, ну чего тут ждать хорошего!
– Согласна с вами, донья Мария. Следует больше заботиться о нравственности, иначе все мы погибнем.
Донья Роса решает продолжить разговор.
– И потом, если у вас болит желудок, почему бы не попросить у меня щепотку соды? Разве я когда-нибудь вам отказывала в щепотке соды? Ей-богу, как будто вам трудно слово вымолвить!
Донья Роса оборачивается и своим резким, визгливым голосом перекрывает галдеж за столиками:
– Лопес! Лопес! Пришли скрипачу соды!
Вышибала ставит грязную посуду на столик и подходит с тарелкой – на ней полстакана воды, ложечка и латунная сахарница с содой.
– Что, подносов уже ни одного нет?
– Так мне дал сеньор Лопес, сеньорита.
– Ладно, ладно, поставь и иди работай.
Вышибала, поставив тарелку на рояль, уходит. Сеоане набирает ложечкой порошок, откидывает голову, раскрывает рот… и готово! Он жует соду, словно орехи, потом запивает глотком воды.
– Благодарю, донья Роса.
– Вот видите, видите, как нетрудно быть вежливым! У вас болит желудок, я приказываю дать вам соды, все мило, дружно. Мы живем на земле, чтобы помогать друг другу, да только не делаем этого, потому что не хотим. Такова жизнь.
Дети, игравшие в поезд, вдруг останавливаются. Какой-то дяденька начал учить их, что надо вести себя приличней, не шуметь, а они стоят перед ним, не зная, куда девать руки, и смотрят на него с любопытством. Старшему, Бернабå, вспомнился его товарищ, сосед, мальчик примерно его лет, которого зовут Чус. Другой, поменьше – зовут его Пакито, – думает о том, что у этого дяди плохо пахнет изо рта.
«Как будто жженой резиной».
Бернабе ужасно смешно – он вспомнил, какая забавная история приключилась у Чуса с его теткой.
– Чус, ты настоящий поросенок, – сказала тетка, – никогда не попросишь расстегнуть штанишки, пока там не заведется птенчик. И тебе не стыдно?
Бернабе сдерживает смех – не то этот дядя рассердится.
– Нет, тетя, мне не стыдно, у папы тоже получается птенчик.
Ну прямо умрешь со смеху!
Пакито размышляет.
«Нет, от этого дяденьки пахнет не жженой резиной. От него пахнет гнилой капустой и грязными ногами. Если бы я был его сыном, я бы заткнул себе нос свечкой. Тогда я разговаривал бы, как сестренка Эмилита – гуà, гуà, – ей поэтому должны делать операцию в горле. Мама говорит, когда ей сделают операцию в горле, у нее уже не будет такое глупое лицо и она перестанет спать с открытым ртом. А может быть, от операции она умрет. Тогда ее положат в белый гроб, потому что у нее еще нет грудей и туфли она носит без каблуков».
Две пенсионерки, развалясь на диване, уставились на донью Пуру.
В воздухе еще парят, как мыльные пузыри, мнения двух гусынь о скрипаче.
– Не понимаю, откуда такие женщины берутся – ну, вот эта, настоящая жаба. С утра до вечера перемывает косточки всем знакомым, а того не понимает, что муж терпит ее только ради нескольких дуро, которые у нее еще уцелели. О, этот дон Пабло – продувная бестия, опасный тип. Посмотрит на тебя, ну, точно раздевает.
– Да, да.
– А та, другая, знаменитая Эльвира, она тоже себе на уме. Я вам прямо скажу: у Пакиты, вашей дочки, все по-другому; хоть бумаги и не в порядке, но живет она чинно, прилично, а эта, неприкаянная, все рыщет, как бы у кого монетку-другую вытянуть, чтобы с голоду не околеть.
– А кроме того, донья Матильда, этого плешивого дона Пабло нельзя и сравнивать с поклонником моей дочки, тот – преподаватель психологии, логики и этики, благородный человек.
– Разумеется, нельзя. Поклонник Пакиты уважает ее, лелеет – а она девочка хорошенькая, ласковая, позволяет себя любить, и это вполне естественно. Но у этих простигосподи вовсе совести нет, только и знают, что выпрашивать да клянчить. И как им не стыдно!
Донья Роса продолжает беседовать с музыкантами. Ее жирные, рыхлые, разбухшие телеса сотрясаются от удовольствия – она любит ораторствовать, как губернатор какой-нибудь.
– У вас затруднения с деньгами? Скажите мне, и я, если смогу, помогу вам. Вы трудитесь на совесть, сидите здесь и пилите на своей скрипке не покладая рук? Отлично, когда подойдет время закрывать кафе, я с удовольствием подкину вам монетку-другую. Чего уж лучше, чем жить дружно! Почему, думаете вы, я со своим зятьком на ножах? Да потому, что он бездельник, потому что торчит здесь, куда его не приглашают, по двадцать четыре часа в сутки, а потом идет к себе домой хлебать пустой суп. Сестра моя – дура, все терпит, она всегда была недотепой… Я бы ему показала! Я бы так съездила по его смазливой роже, что он бы потом целый день примочки прикладывал. Вот хорошо бы! Если бы мой зять трудился, как я тружусь, и рук не жалел, и в дом приносил – дело другое, но ему, видите ли, приятней охмурять эту дурочку Виси и жить барином, палец о палец не ударяя.
– Верно, верно.
– То-то же. Он наглец, трутень бесстыжий, ему бы альфонсом быть. И не думайте, что я это только за глаза говорю, я однажды выложила ему всю правду прямо в лицо.
– Правильно сделали.
– Еще как правильно. За кого он нас принимает, этот захребетник?
– Падилья, эти часы правильно идут?
– Да, сеньорита Эльвира.
– Дайте-ка мне огоньку. Еще рано.
Продавец сигарет протягивает сеньорите Эльвире зажигалку.
– Вы сегодня в хорошем настроении, сеньорита?
– Почему вы так думаете?
– Да так, показалось. Сегодня вы повеселей, чем в другие вечера.
– Пхе! Бывает и у плохого винограда хороший вид.
Вид у сеньориты Эльвиры хилый, болезненный, даже как будто порочный. Но бедняжка слишком плохо питается – где уж ей быть порочной или добродетельной!
Женщина, похоронившая сына, который готовился служить на почте, говорит:
– Простите, я ухожу.
Дон Хайме Арсе почтительно встает и с улыбкою произносит:
– Низко кланяюсь, сеньора, до завтра, если Богу будет угодно.
Дама отодвигает стул.
– Прощайте, всего вам наилучшего.
– И вам также, сеньора, я к вашим услугам.
У доньи Исабели Монтес, вдовы Санса, походка королевы. В потертом своем плащике, видавшем лучшие времена, донья Исабель похожа на увядшую, некогда шикарную гетеру, которая прожила жизнь как стрекоза и ничего не припасла на старость. Она молча проходит по залу и скрывается за дверью. Посетители кафе провожают ее взглядами, в которых можно прочесть всяческие чувства, кроме равнодушия, – тут и восхищение, и зависть, и сочувствие, недоверие, нежность, поди знай, что еще.
Дон Хайме Арсе уже не размышляет ни о зеркалах, ни о старых девах, ни о туберкулезных, что сидят в кафе (примерно 10 %), ни о мастерах точить карандаши, ни о кровообращении. К вечеру доном Хайме Арсе овладевает сонливость, какая-то тупость.
– Сколько будет четырежды семь? Двадцать восемь. А шестью девять? Пятьдесят четыре. А девять в квадрате? Восемьдесят один. Где начинается Эбро? В Рейносе, провинция Сантандер. Прекрасно.
Дон Хайме Арсе ухмыляется, он доволен своими познаниями и, потроша окурки, тихонько повторяет:
– Атаульф, Сигерих, Валия, Теодорих, Торисмунд…[12] Ручаюсь, этот дурень не сумел бы их перечислить!
«Дурень» – это юный поэт, он с белым как мел лицом появляется из туалета, где приходил в себя.
– Живительной грозой любовь…
Донья Роса уже много лет, чуть не с детства, ходит в трауре – никто не знает по ком, она неопрятна, увешана брильянтами, которые стоят кучу денег, и из года в год прибавляет в весе так же быстро, как растут ее капиталы.
Это богатейшая баба – дом, где находится кафе, ее собственность, и на улицах Аподаки, Чурруки, Кампоамора, Фуэнкарраль десятки жильцов дрожат, как школьники, каждое первое число месяца.
– Только поверь людям, – говорит она обычно, – они тебе на голову сядут. Все они лодыри, сущие лодыри. Не будь у нас порядочных судей, уж и не знаю, что бы с нами стало!
О порядочности у доньи Росы особое понятие.
– Полный расчет, дорогой мой, полный расчет, это очень важно.
Она в жизни никому реала не простила и не позволила платить в рассрочку.
– К чему эти фокусы? – говорит она. – Чтобы закон не исполнять? Я, например, считаю – раз закон существует, значит, его должны соблюдать все, я первая. Иначе – революция.
Донья Роса имеет акции одного банка, заворачивает там всем советом и, как говорят соседи, хранит полные чемоданы золота, да так хорошо припрятанные, что их даже в гражданскую войну не нашли.
Чистильщик навел глянец на ботинки дона Леонардо.
– Вот, извольте.
Дон Леонардо оглядывает ботинки, дает чистильщику хорошую сигарету.
– Большое спасибо.
Дон Леонардо за услугу не платит, никогда не платит. Он позволяет чистить себе обувь за милостивую гримасу. Дон Леонардо – подлец высшей марки, и это вызывает восхищение у дураков.
Всякий раз, когда чистильщик наводит глянец на ботинки дона Леонардо, он вспоминает о своих шести тысячах дуро. В душе он счастлив, что выручил дона Леонардо из затруднения, иногда, правда, ворчит, но совсем тихонько.
– Господа – они всегда господа, это ясно как божий день. Нынче все перепуталось, но настоящего, прирожденного барина сразу отличишь.
Будь чистильщик образованней, он наверняка зачитывался бы сочинениями Васкеса Мельи[13].
Альфонсито, мальчишка-посыльный, приносит газету.
– Эй ты, красавчик, куда ходил за газетой?
Альфонсито – белобрысый, хилый мальчуган лет двенадцати-тринадцати, вечно кашляет. Отец его был журналистом, умер два года назад в Королевской больнице. Мать, в девичестве жеманная барышня, теперь моет полы в конторах на Гран-Виа и обедает в столовой Общественной помощи.
– Там была очередь, сеньорита.
– Конечно, очередь. Теперь это обычная картина – люди стоят в очереди за известиями, будто у них нет более важных дел. Ну-ка, давай ее сюда!
– «Информасионес» кончилась, сеньорита, я принес «Мадрид».
– Все равно. Читай одну, читай другую, ничего из них не поймешь! Вот вы, Сеоане, вы разбираетесь хоть немного во всех этих правительствах? Уж столько их развелось на свете!
– Гм!
– Нет, нет, вам незачем кривить душой, не хотите – не говорите. Подумаешь, какие тайны!
На лице Сеоане, унылом лице желудочного больного, слабая улыбка, он молчит. К чему говорить?
– И это молчание, и улыбочки ваши я хорошо понимаю, слишком даже хорошо. Хотите убедиться? Всех насквозь вижу! Могу вам сказать, что шила в мешке не утаишь, нет, не утаишь!
Альфонсито разносит «Мадрид» по столикам.
Дон Пабло достает медяки.
– Есть там что-нибудь?
– Не знаю, сами смотрите.
Дон Пабло разворачивает на столике газету и читает заголовки. Поглядывая через его плечо, Пепе тоже старается читать.
Сеньорита Эльвира делает знак мальчику.
– Когда донья Роса закончит, принесешь мне ее газету.
Донья Матильда, беседующая с продавцом сигарет, пока ее подруга, донья Асунсьон, находится в уборной, презрительно замечает:
– Не понимаю, зачем это людям знать, что где происходит. Ведь мы-то здесь живем спокойно! Не правда ли?
– И я то же самое говорю.
Донья Роса читает сообщения о войне.
– Что-то слишком долго отступают… Но в конце концов, я думаю, они свои дела поправят! Как вы полагаете, Макарио, поправят?
Пианист изображает на лице сомнение.
– Кто знает, может, и поправят. Если изобретут что-нибудь такое особенное!
Донья Роса сосредоточенно смотрит на клавиатуру рояля. Лицо у нее грустное, задумчивое, она говорит, будто сама с собой, будто размышляет вслух:
– Все дело в том, что немцы – а они настоящие храбрецы, рыцари – понадеялись на итальянцев, на этих трусливых баранов. Да, все дело в этом!
Голос ее звучит глухо, глаза за стеклами пенсне глядят затуманенно, мечтательно.
– Если б я встретила Гитлера, я бы ему сказала: «Не надейтесь на них, не будьте дураком, они ж от страха света белого не видят!»
Донья Роса легонько вздыхает.
– Ох, какая я глупая! Да я перед Гитлером не посмела бы и рот раскрыть…
Донья Роса озабочена судьбами германской армии. Изо дня в день она с напряженным вниманием читает сводки генерального штаба фюрера, и в смутных предчувствиях, в которых она не решается разобраться, судьба вермахта видится ей связанной с судьбой ее кафе.
Вега покупает газету. Сосед спрашивает:
– Хорошие новости?
Вега – человек широких взглядов.
– Как для кого.
Вышибала то и дело откликается: «Иду!» – и шаркает подошвами по полу кафе.
– Да я перед Гитлером оробела бы, как школьница, перед ним, наверное, все робеют, взгляд у него, как у тигра.
Донья Роса снова вздыхает. Могучая ее грудь на мгновение заслоняет шею.
– Он и папа – вот два человека, перед которыми, я думаю, все робеют.
Донья Роса постукивает пальцами по крышке рояля.
– Но в конце концов, он-то знает, что делается, для того у него генералы есть.
С минуту донья Роса молчит, потом произносит уже другим тоном:
– Ладно!
Приподняв голову, она взглядывает на Сеоане.
– Как ваша супруга, поправляется?
– Да, понемногу, сегодня ей как будто получше.
– Бедная Ампаро, такая хорошая женщина!
– Да, в последнее время ей не везет.
– Давали вы ей капли, о которых вам сказал дон Франсиско?
– Да, она пила их. Но беда в том, что желудок у нее ничего не принимает, все отдает обратно.
– Вот горе-то, господи!
Макарио тихо перебирает клавиши, Сеоане берет скрипку.
– Что будете играть?
– «Вербену». Вы не против?
– Давайте.
Донья Роса удаляется от эстрады, а скрипач и пианист тем временем с лицами послушных учеников берутся за дело и нарушают однообразный гул кафе первыми тактами старой-престарой, играной-переигранной мелодии.
Куда идешь ты в манильской шали? Куда идешь в пестром платье своем?
Играют без нот. Ноты не нужны.
Макарио, машинально играя, думает о своем:
«Тогда я ей скажу: «Видишь, крошка, ничего тут не поделаешь. Один дуро на обед, один на ужин, да две чашечки кофе, ты сама посуди…» Она-то, конечно, ответит: «Не говори глупостей, вот увидишь – твоих два дуро да еще у меня какой-нибудь урок подвернется…» Да, Матильда, конечно, ангел, настоящий ангел».
Макарио улыбается про себя, снаружи это почти незаметно. Макарио сентиментален, постоянно недоедает, на этих днях ему исполнится сорок три года.
Сеоане обводит неопределенным взглядом людей за столиками, он ни о чем не думает. Сеоане из тех, кто предпочитает не думать, единственное его желание – чтобы день прошел поскорей, как можно скорей, и наступил новый.
Часы бьют половину десятого, старинные часы с маленькими цифрами, которые сверкают, как золотые. Эти часы – роскошная вещь, их привез из Парижа, с выставки, некий пустоголовый юный маркиз без гроша в кармане, который году в 1905-м приударял за доньей Росой. Фамилия маркиза была Сантьяго, он был грандом Испании, умер от чахотки в Эско-риале еще совсем молодым, а часы остались на стойке в кафе напоминанием о быстротекущем времени, которое так и не принесло донье Росе мужа, а покойному маркизу – возможности есть горячее каждый день. Такова жизнь.
В другом конце зала донья Роса, бурно жестикулируя, бранит официанта. Остальные официанты украдкой, но довольно равнодушно поглядывают в зеркала, где отражается эта сцена.
Еще каких-нибудь полчаса, и кафе опустеет. Не останется и следа минувшего дня, как у человека, внезапно потерявшего память.
Глава вторая
– Уходите, да поживей.
– До свидания, весьма благодарен, вы очень любезны.
– Нечего. Идите отсюда. Вас здесь больше не желают видеть.
Официант старается говорить тоном серьезным, внушительным. Но сильный галисийский акцент снимает резкость и грубость его слов, придает его строгому тону ласковость. Когда людей, по натуре мягких, что-то извне вынуждает казаться сердитыми, у них слегка подрагивает верхняя губа, будто ее щекочет невидимая муха.
– Если хотите, я оставлю вам эту книгу.
– Не надо, забирайте ее.
Мартин Марко, бледный, изможденный, в обтрепанных брюках и потертой куртке, прощается с официантом, поднеся руку к полям своей убогой, грязной серой шляпы.
– До свидания, весьма благодарен, вы очень любезны.
– Нечего. Идите отсюда. И больше тут не появляйтесь.
Мартин Марко смотрит на официанта, ему хочется сказать что-нибудь очень любезное.
– Считайте меня своим другом.
– Ладно.
– Постараюсь быть вам полезным.
Мартин Марко поправляет на носу очки в простой металлической оправе и идет прочь. Мимо него проходит девушка, ее лицо кажется ему знакомым.
– Привет!
Девушка секунду смотрит на него и идет дальше. Она очень молодая и миленькая. Одета бедно. Наверно, шляпница – у всех шляпниц аристократический вид, это уж закон: все хорошие кормилицы – из Паса, все хорошие поварихи – из Бискайи, а все славные, миленькие девушки, умеющие одеваться и держаться с изяществом, – шляпницы.
Мартин Марко медленно спускается по бульвару к церкви святой Варвары.
Официант не торопится вернуться в кафе, он еще с минуту стоит на улице.
– Шляются тут без единого реала!
Прохожие идут быстрым шагом, кутаясь в плащи, спеша укрыться от холода.
Мартин Марко, человек, не заплативший за кофе и глядящий на город глазами больного, забитого ребенка, засовывает руки в карманы брюк.
Огни на площади сверкают резким, пронзительным светом.
* * *
Дон Роберто Гонсалес, подняв голову от толстой счетной книги, обращается к хозяину:
– Вы не смогли бы дать мне три дуро в счет жалованья? Завтра у моей жены день рождения.
Хозяин – человек добродушный, порядочный, он, правда, обделывает кое-какие дела, но не больше, чем другие, и сердце у него отзывчивое.
– Конечно, могу. Разве для меня это трудно?
– Очень вам признателен, сеньор Рамон.
Булочник вытаскивает из кармана пухлый бумажник телячьей кожи и дает дону Роберто пять дуро.
– Я вами очень доволен, Гонсалес, счета булочной в отличном состоянии. На эти два лишних дуро купите детишкам какой-нибудь гостинец.
Сеньор Рамон вдруг умолк. Он чешет себе затылок и, понизив голос, добавляет:
– Ничего не говорите Паулине.
– Не беспокойтесь.
Сеньор Рамон смотрит на носки своих сапог.
– Я это не зря сказал, вы понимаете? Я знаю, вы человек толковый, язык не распускаете, но мало ли что, можете случайно проговориться, и начнется катавасия недели на две. Конечно, хозяин здесь я, но эти женщины, сами знаете, какие они…
– Не беспокойтесь, очень вам благодарен. Я ни слова не скажу, сколько бы она ни выпытывала. – Дон Роберто понижает голос: – Очень вам благодарен…
– Не за что. Я одного хочу, чтобы вы работали с охотой.
Слова булочника трогают дона Роберто до глубины души. Еще несколько таких ласковых фраз, и дон Роберто согласился бы вести счета булочника даром.
Сеньору Рамону дашь на вид года пятьдесят два, это плотный, румяный, усатый мужчина со здоровым духом и здоровым телом, он держится почтенных обычаев исконного ремесленника, встает на заре, пьет красное вино и щиплет за бока своих работниц. Когда в начале века он приехал в Мадрид, сапоги свои он нес на плече, чтобы их не стоптать.
Его биографию можно изложить в нескольких строках. В столицу он явился мальчиком восьми-десяти лет, устроился на работу в пекарню и до двадцати одного года, пока его не призвали в армию, копил деньги. С приезда в столицу и до армии он не истратил ни одного лишнего сентимо, все откладывал. Ел хлеб, запивал водой, спал под прилавком и не путался с женщинами. Отправляясь на военную службу, положил свои деньги в сберегательную кассу, а когда вернулся, забрал их и купил булочную; за те двенадцать лет он скопил двадцать четыре тысячи реалов, все, что зарабатывал, – в среднем чуть больше одной песеты в день. На военной службе он научился читать, писать, считать и потерял невинность. Потом открыл булочную, женился, народил дюжину детей, купил себе календарь и принялся безмятежно созерцать течение времени. Древние библейские патриархи, наверно, были во многом схожи с сеньором Рамоном.
Официант входит в кафе. Лицо его вдруг начинает гореть, в горле першит, он закашливается, но совсем тихонечко – просто надо избавиться от мокроты, что на холоде скопилась в горле. Теперь как будто и говорить легче. Входя в помещение, он ощутил боль в висках и заметил – или это ему показалось, – что у доньи Росы под усиками трепещет сладострастная улыбка.
– Иди-ка сюда.
Официант приблизился.
– Всыпал ему?
– Да, сеньорита.
– Сколько?
– Два.
– Куда дал пинки?
– Куда пришлось, по ногам.
– Правильно. Вот наглец!
У официанта пробегает озноб по спине. Будь он человеком вспыльчивым, он бы свою хозяйку придушил, но, к счастью, он не таков. Хозяйка злобно хихикает. Есть люди, которым доставляет удовольствие смотреть на беду других; чтобы всласть наглядеться, они отправляются в кварталы бедняков, раздают всякое старье умирающим да чахоточным, укутанным в грязные одеяла, анемичным детям со вздутыми животиками и размягченными костями, девочкам, ставшим матерями в одиннадцать лет, сорокалетним шлюхам, изъеденным сифилисом и похожим на покрытых коростой индейских касиков. Донья Роса к таким людям не принадлежит. Донья Роса предпочитает наслаждаться дома, такая, знаете ли, приятная дрожь пробирает…
Дон Роберто радостно ухмыляется – а он-то тревожился, что в день рождения жены у него и реала не будет в кармане. Вот ужас!
«Завтра преподнесу Фило коробочку конфет, – думает он. – Фило – настоящий ребенок, ну прямо маленькая, шестилетняя девочка… На десять песет куплю игрушку детям и выпью рюмочку вермута… Им, наверно, хочется мячик… За шесть песет можно купить приличный мяч…»
Дон Роберто размышляет не торопясь, со смаком. Он полон добрых намерений, неопределенных мечтаний.
В окошко булочной, сквозь стекла и деревянные рамы, врываются резкие, визгливые звуки уличного пения, сразу даже не поймешь, кто поет – женщина или ребенок. Дон Роберго прислушивается к мелодии фламенко[14], почесывая подбородок кончиком ручки.
На противоположном тротуаре, у входа в кабачок, надрывно распевает мальчик:
Бедняжка, кто из рук чужих кусочка хлеба ждет, кто ловит взгляд недобрых глаз – дает иль не дает?
Из кабачка ему швыряют несколько медяков и горсть оливок, которые мальчик проворно подбирает с земли. Смуглый, худенький мальчишка, быстрый, как воробышек. Он бос, грудка открыта, на вид ему лет шесть. Поет без аккомпанемента, прихлопывая в ладоши и поводя в такт тощим задиком.
Дон Роберто закрывает форточку и останавливается посреди комнаты. Он думает, не позвать ли ребенка и не дать ли ему реал.
– Нет…
Послушавшись здравого смысла, дон Роберто снова обрел оптимизм.
– Да, конфеты… Фило – настоящий ребенок, ну прямо как…
Хоть у дона Роберто в кармане всего пять дуро, совесть его не вполне спокойна.
«Просто вздумалось тебе видеть жизнь в черном свете, не так ли, Роберто?» – говорит где-то у него в груди робкий, дрожащий голосок.
– Ладно уж.
Мартин Марко остановился у витрины магазина санитарного оборудования на улице Сагасты. Магазин сверкает, как ювелирная лавка или как парикмахерская в шикарном отеле, умывальники блещут неземной, прямо-таки райской красотой – как сияют их краны, как лоснятся мраморные плиты и ослепляют чистейшие зеркала! Есть умывальники белые, умывальники зеленые, розовые, желтые, лиловые, черные, умывальники всех цветов. И выдумают же! Роскошно отсвечивающие, как брильянтовые браслеты, радужно искрятся ванны, вот и биде с целым набором ручек, будто в автомашине, шикарные унитазы с двумя крышками и пузатыми, элегантными бачками, на которые, наверно, очень удобно облокотиться, можно даже положить несколько хороших книг в изящных переплетах: Гельдерлин, Китс, Валери, на случай если у тебя запор и тебе нужно общество; а при расстройствах желудка – Рубен, Малларме, да, особенно Малларме. Фу-ты, какое свинство!
Мартин Марко улыбается, словно извиняясь, и отходит от витрины.
«Вот это и есть жизнь, – думает он. – На те деньги, которые кто-то тратит, чтобы с комфортом справлять свои нужды, другие могли бы кормиться целый год. Славно устроено! Если уж затевать войны, то для того, чтобы поменьше людей справляли свои нужды с комфортом и чтобы все прочие могли получше питаться. Беда в том, что мы, интеллигенты, – всякий знает почему – по-прежнему питаемся плохо и справляем свои нужды в каком-нибудь кафе. К черту все это!»
Мартина Марко интересуют социальные проблемы. В голове у него порядочный сумбур, но социальные проблемы его интересуют.
«То, что существуют бедные и богатые, – говорит он иногда, – это плохо; было бы лучше, чтобы все мы были равны, чтобы не было слишком бедных и слишком богатых, а так, все среднего достатка. Надо переделать человечество. Следовало бы назначить комиссию ученых, пусть придумают, как изменить человечество. Вначале они бы занялись делами помельче, ну, например, обучением народа метрической системе, а потом постепенно вошли бы во вкус и взялись бы за дела более серьезные, пожалуй, смогли бы даже распорядиться, чтобы города были разрушены и отстроены заново, тогда все они будут одинаковой величины, с прямыми улицами и центральным отоплением во всех домах. Возможно, это обошлось бы недешево, но, я думаю, в банках должны быть излишки денег».
Холодный порыв ветра с улицы Мануэля Сильвелы обдает ему лицо, и у Мартина возникает подозрение, что все это глупые мечты.
– Проклятые умывальники!
На переходе его толкает велосипедист.
– Ненормальный! Верно, из психиатрички сбежал!
Мартин взбешен.
– Эй ты, послушай!
Велосипедист, оглянувшись, машет ему рукой.
По улице Гойи идет человек и читает на ходу газету; мы его видим в тот момент, когда он поравнялся с букинистической лавчонкой под вывеской «Питайте свой дух!». Навстречу ему идет девушка, по виду служанка.
– Привет, сеньорито Пако!
Человек вскидывает глаза.
– А, это ты! Куда идешь?
– Я домой, сеньорито, ходила проведать свою сестру, ту, замужнюю.
– Очень хорошо.
Человек смотрит ей в глаза.
– А у тебя уже есть парень? Такая красотка, да чтоб была без парня…
Девушка заливается смехом.
– Ладно, иду. У меня куча дел.
– Ну что ж, милочка, до свидания, и не исчезай. Послушай, скажи Мартину, если его увидишь, что в одиннадцать я буду в баре на улице Нарваэса.
– Хорошо, скажу.
Девушка уходит, Пако провожает ее взглядом, пока она не теряется в толпе.
– Походка серны…
Пако, сеньорито Пако, всех женщин считает красавицами – то ли он сентиментален, то ли просто бабник. Девушка, которая сейчас с ним разговаривала, действительно хорошенькая, но, даже будь она дурнушкой, все равно Пако был бы восхищен, для него любая девушка – мисс Испания.
– Ну, точно серна…
Пако идет дальше, ему смутно вспоминается мать, умершая много лет назад. Его мать носила на шее черную шелковую ленту, чтобы не отвисал второй подбородок; она была очень красивая, сразу видно – женщина из хорошей семьи. Дедушка Пако был генерал и маркиз, его убили на дуэли в Бургосе – убил из револьвера депутат-либерал по имени Эдмундо Паэс Пачеко, масон и вообще человек с бунтарскими идеями.
У девчонки под легким пальтецом проступали эти самые кругленькие штучки. Туфли немного стоптаны. Глаза блестящие, карие с прозеленью, чуть скошенные. «Ходила проведать свою сестру, ту, замужнюю». Хе-хе… Ее замужняя сестра, помнишь, Пако?
Дон Эдмундо Паэс Пачеко скончался от оспы в Альмерии, в год падения Республики.
Разговаривая с Пако, девушка твердо выдерживала его взгляд.
Женщина с завернутым в тряпье ребенком на руках просит милостыню, толстая цыганка продает лотерейные билеты.
Несмотря на холод, ветер и ненастье, гуляют, милуются парочки влюбленных, крепко прижавшись, грея друг дружке руки.
Селестино, стоя посреди пустых бочек в задней комнатке своего бара, разговаривает сам с собой. Есть у Селестино такая привычка – самому с собой разговаривать. Когда он был мальчиком, мать, бывало, спросит:
– Чего тебе?
– Ничего, я сам с собой разговаривал.
– Ох, сынок, ты еще, упаси бог, с ума сойдешь!
Мать Селестино не была такой важной дамой, как мать Пако.
– Нет, не отдам, лучше в щепки их разнесу, но не отдам. Или пусть заплатят настоящую цену, или не получат ничего. Не хочу, чтоб с меня шкуру драли, не желаю, и точка. Я не дам себя грабить! Вот, вот она, эксплуатация коммерсанта! Ты человек с характером или тряпка? Ясное дело! Мужчина ты или нет? Хотите грабить, отправляйтесь в Сьерра-Морену!
Селестино вставляет искусственные челюсти и яростно плюет на пол.
– Хорош бы я был!
Мартин Марко продолжает свой путь, случай с велосипедистом быстро улетучился из его головы.
«Если бы вот эта мысль о нищете интеллигентов хоть на минуту появилась у Пако! Куда там! Пако – тюфяк, у него теперь уже нет никаких мыслей. С тех пор как его выпустили, слоняется, как дурачок, ничего путного не делает. Раньше еще, бывало, хоть стихотворение сочинит, а теперь – во что он превратился! Надоело уже говорить ему об этом, я больше и не говорю. Тоже хорош! Думает, будет прикидываться бездельником, его и не тронут. Хитер!»
Мартину зябко, он покупает двадцать граммов каштанов – четыре штуки – у входа в метро на углу улицы братьев Альварес Кинтеро, вход этот зияет, как рот пациента, сидящего в кресле у дантиста, он так велик, будто предназначен для проезда легковых и грузовых автомашин.
Опершись на парапет, Мартин жует каштаны и при свете газовых фонарей рассеянно глядит на табличку с названием улицы.
«Да, этим повезло. Красуются тут! Получили улицу в самом центре и памятник в Ретиро[15]. Людям на смех!»
На Мартина порой накатывают приступы почтительности и консерватизма.
«А черт их знает! Наверное, чем-то они заслужили свою славу, ну да, какой же это тип писал про них?»
В его голове мелькают, как бабочки моли, непослушные мысли.
«Да, «этап испанского театра», «им удалось заполнить целый период», «их театр – верное отражение здоровых андалузских обычаев»… А по-моему, отдает дешевой чувствительностью, мещанским духом городских окраин и народных гуляний. Да что поделаешь! Кто их уберет отсюда? Красуются, и сам бог их не спихнет!»
Мартина возмущает, что в классификации духовных ценностей нет строгого порядка, нет таблицы, где бы таланты были расположены по их значению.
– Всех в одну кучу свалили, а никому и дела нет.
Два каштана были холодные, а два горячие как огонь.
Пабло Алонсо, молодой человек спортивного вида, этакий современный деловой мужчина, уже недели две как завел любовницу, зовут ее Лаурита.
Лаурита – красивая девушка. Она дочь консьержки с улицы Лагаски. Ей девятнадцать лет. Раньше у нее никогда не бывало и одного дуро на развлечения, а тем более пяти-десяти дуро, чтобы купить сумочку. Со своим парнем – он был почтальон – она не могла никуда пойти. Лаурите осточертело мерзнуть в парках, от холода руки и уши стали шершавые. А ее подружке Эстрелье один сеньор, занимающийся доставкой оливкового масла, снял квартиру на улице Менендеса Пелайо.
Пабло Алонсо поднимает голову.
– «Манхаттан».
– Шотландского виски нет, сеньор.
– Скажи там, за стойкой, что для меня.
– Слушаюсь.
Пабло снова берет девушку за руку.
– Так вот, Лаурита, я уже тебе говорил – парень он замечательный, лучшего трудно встретить. А посмотришь на него – жалость берет, бедняк бедняком, одну грязную сорочку месяц носит, из ботинок пальцы торчат.
– Бедный мальчик! И он ничего не делает?
– Ничего. Ходит все, думает, размышляет, но в общем-то ничего не делает. А жаль, умнейшая голова.
– Спать у него есть где?
– Да, он спит у меня.
– У тебя?
– Да, я сказал, чтобы ему в гардеробной поставили кровать, там он спит. По крайней мере дождь не поливает и тепло.
Девушка хорошо знает, что такое нужда, она пристально смотрит в глаза Пабло. Сердце у нее очень чувствительное.
– Какой ты добрый, Пабло!
– Да нет, дурочка, просто это мой старый друг, друг еще с довоенных лет. Теперь у него трудная пора, но, по правде сказать, ему никогда особенно хорошо не жилось.
– А он ученый?
Пабло смеется.
– Да, малышка, ученый. Ну ладно, поговорим о чем-нибудь другом.
И Лаурита снова заводит песенку, что началась две недели назад.
– Ты меня очень любишь?
– Очень.
– Больше, чем всех?
– Больше, чем всех.
– Ты меня всегда будешь любить?
– Всегда.
– И никогда не покинешь?
– Никогда.
– Даже если я буду ходить такая грязная, как твой друг?
– Не говори глупостей.
Официант, наклонившись и ставя поднос на столик, улыбается.
– Осталось еще немного «Уайт лэбел», сеньор.
– Вот видишь!
Мальчику, певшему фламенко, какая-то пьяная шлюха дала пинка. Реакция прохожих ограничилась пуританским осуждением:
– Черт, уже спозаранку наклюкалась! Что же она потом будет делать?
Мальчик не упал на землю, он ткнулся лицом в стену. Выкрикнул вдогонку пьяной несколько теплых слов, пощупал лицо и пошел себе дальше. У дверей следующего кабачка он снова запел:
Как-то раз один портняжка из сукна штаны кроил, увидал то цыганенок, что креветки разносил.
Вы, сеньор портной, скроите мне в обтяжечку штаны, чтоб, когда пойду я к мессе, все глазели барчуки.
Лицо мальчика напоминает мордочку домашней собачонки, грязной, алчной домашней собачонки – но лицо человека. Он еще слишком мал, чтобы горе изрезало его лицо морщинами цинизма или покорности, на лице у него выражение великолепной невинной глупости, выражение, в котором нет и намека на то, что он что-то понимает в происходящем вокруг. Все вокруг – чудо для цыганенка, который чудом родился, чудом кормится, чудом живет, и если способен еще петь, так это тоже истинное чудо.
За днем следует ночь, за ночью следует день. В году четыре сезона: весна, лето, осень, зима. Есть истины, которые чувствуешь нутром, как голод или желание помочиться.
Четыре каштана быстро съедены, и Мартин, с оставшимся у него реалом, проехал до станции «Гойя».
«Мы, неимущие, мчимся под всеми теми, что сидят в уборных. Станция «Колумб» – превосходно; тут герцоги, нотариусы и кое-где карабинеры Монетного двора. Как далеки они от нас – сидят там, наверху, почитывают газеты или рассматривают жирные складки своего брюха! Станция «Серрано» – сынки и дочки богачей. Сеньориты по ночам не гуляют. В этом районе жизнь заканчивается в десять часов. Теперь они небось ужинают. Станция «Веласкес» – тут девиц побольше, это приятно. На этой улице все очень чинно. Пойдемте в оперу? Хорошо. Ты в воскресенье был на бегах? Нет. Станция «Гойя» – здесь спектакль кончается».
Идя по платформе, Мартин притворно хромает – иногда у него бывает такая блажь.
«Я бы мог поужинать у Фило – не толкайтесь, сеньора, спешить некуда! – а если не даст, сама пожалеет, приду ровно через год!»
Фило – его сестра, жена дона Роберто Гонсалеса, этого дурня Гонсалеса, как зовет его шурин, служащего в собрании депутатов, республиканца из партии Алькала Саморы[16].
Чета Гонсалес живет в конце улицы Ибисы, снимает квартирку у домохозяев, исповедующих веру Соломонову, и, в общем, кое-как перебивается, хотя ценой тяжелого труда. Жена хлопочет до изнеможения – пятеро маленьких детей, а для присмотра за ними одна восемнадцатилетняя девчонка, муж набирает сверхурочные часы, где попадутся и где можно подработать; последнее время ему везет – он ведет счетные книги в парфюмерном магазине, куда ходит дважды в месяц, получая пять дуро за оба раза, да еще в булочной у одного толстосума на улице Сан-Бернардо, там ему платят тридцать песет. В худшие времена, когда судьба его не балует и он не находит сверхурочных часов, дон Роберто грустнеет, становится молчалив и хмур.
Из-за всего, что происходит вокруг, Мартин и его зять терпеть друг друга не могут. Мартин говорит, что дон Роберто – жадная свинья, а дон Роберто говорит, что Мартин – строптивая и наглая свинья. Поди разберись, кто из них прав! А что верно, так это то, что бедная Фило оказалась между молотом и наковальней, все дни только и думает, как бы предотвратить бурю.
Если мужа нет дома, она, бывает, зажарит брату яйцо или разогреет немного кофе с молоком, а если дон Роберто дома, тогда нельзя – он устроит ужасный скандал, обзовет бедного Мартина в старой куртке и рваных ботинках бродягой и паразитом, и Фило приберегает остатки от обеда в жестяной банке из-под галет, которую служанка выносит на улицу.
– Разве это справедливо, Петрита?
– Нет, сеньорито, конечно, нет.
– Ах, голубка, одна только радость, что ты здесь. Вот смотрю на тебя, и эти объедки мне кажутся слаще!
Петрита краснеет.
– Ладно, давайте сюда банку, холодно стоять.
– Не тебе одной холодно, глупышка!
– Извините, мне пора…
Мартину не хочется ее отпускать.
– Не сердись. А знаешь, ты стала настоящей женщиной.
– Ладно уж, молчите.
– Молчу, голубка, молчу. А знаешь, что бы я сделал, если б совесть позволила?
– Молчите!
– Обнял бы тебя крепко-крепко!
– Молчите!
В этот день мужа Фило не было дома, и Мартин мог съесть яичницу и выпить чашку кофе.
– Хлеба нет. Приходится докупать на черном рынке – для детей.
– Сойдет и так, спасибо, Фило, ты очень добрая, просто святая женщина.
– Не глупи.
Взгляд Мартина туманится.
– Да, святая, но святая эта вышла замуж за мерзавца. Твой муж, Фило, – мерзавец.
– Молчи, он порядочный человек.
– Что с тобой говорить! Как бы то ни было, ты уже родила ему пятерых поросяток.
Минута молчания. В одной из комнат слышится голосок ребенка, читающего молитву.
Фило улыбается.
– Это Хавьерин. Слушай, у тебя есть деньги?
– Нету.
– Возьми, вот две песеты.
– Нет, не стоит. С двумя песетами куда пойдешь?
– И то правда. Но знаешь, кто дает то, что у него есть…
– Да уж знаю.
– Лаурита, ты заказала платье, которое я выбрал?
– Да, Пабло. Пальто мне тоже очень идет, вот увидишь, я тебе понравлюсь.
Пабло Алонсо ухмыляется тупой, благодушной улыбкой мужчины, который завоевывает женщину не наружностью, а кошельком.
– Не сомневаюсь… В эту пору, Лаурита, тебе надо теплей одеваться – вы, женщины, можете одеваться изящно и в то же время тепло.
– Ну, конечно.
– Значит, договорились. На мой взгляд, вы слишком обнажаетесь. Смотри, чтобы ты у меня теперь не заболела!
– Нет, Пабло, теперь не заболею. Теперь я должна очень беречься, чтобы мы были счастливы…
Пабло милостиво разрешает себя ласкать.
– Я бы хотела быть красивей всех в Мадриде, чтобы всегда тебе нравиться… Как я тебя ревную!
Продавщица каштанов разговаривает с сеньоритой. У сеньориты впалые щеки и красные, будто воспаленные, веки.
– Какой холод!
– Да, ужасно холодный вечер. Но я и днем, бывает, окоченею, как воробей на морозе.
Сеньорита прячет в сумочку кулек каштанов на одну песету, свой ужин.
– До завтра, сеньора Леокадия.
– Всего хорошего, сеньорита Эльвира, спокойной ночи.
Сеньорита Эльвира идет по улице в направлении площади Алонсо Мартинеса. У окна кафе, что на углу бульвара, беседуют двое мужчин. Оба молодые – одному лет двадцать с чем-то, другому за тридцать; старший похож на члена жюри какого-нибудь литературного конкурса, младший, вероятно, писатель. Сразу ясно, что их беседа должна звучать примерно так:
«– Я представил роман под девизом «Тереса де Сепеда», в нем я коснулся некоторых граней той вечной проблемы, которая…
– Да, да. Не будете ли так любезны передать мне графин с водой…
– Пожалуйста. Я несколько раз его переделывал и, полагаю, могу смело утверждать, что вы не найдете в нем ни единого неблагозвучного сочетания.
– Очень интересно.
– Еще бы. Я, конечно, не знаю уровня произведений, представленных моими соперниками. Во всяком случае, я уверен, что здравый смысл и справедливость…
– Не тревожьтесь, мы относимся к своим обязанностям со всей серьезностью.
– Не сомневаюсь. Когда премией награждается произведение, обладающее бесспорными достоинствами, тогда не так обидно потерпеть неудачу; но очень горько, если…»
Сеньорита Эльвира, проходя мимо них, улыбнулась – привычка!
Брат и сестра опять с минуту молчат.
– Ты носишь фуфайку?
– Конечно, ношу, разве можно сейчас выйти на улицу без фуфайки?
– И на фуфайке инициалы П.А.?
– Это уж мое дело.
– Извини…
Мартин свернул сигарету, набив ее табаком дона Роберто.
– Извиняю, Фило. Знаешь, не говори со мной так ласково. Я не выношу сострадания.
Фило вдруг вспыхивает.
– Ты снова за свое?
– Да нет. Слушай, Пако не приходил сюда? Он должен был принести для меня пакет.
– Нет, не приходил. Петрита встретила его на улице Гойи, и он сказал, что в одиннадцать часов будет ждать тебя в баре Ортиса.
– Который теперь час?
– Не знаю. Должно быть, начало одиннадцатого.
– А где Роберто?
– Придет позже. Сегодня ему надо быть в булочной, раньше половины одиннадцатого он не вернется.
Снова несколько минут молчания, но теперь оно почему-то насыщено нежностью. Фило, глядя в глаза Мартину, говорит умильным тоном:
– Ты помнишь, что завтра мне исполняется тридцать четыре года?
– И в самом деле!
– Ты забыл?
– Да, забыл, не стану тебе врать. Хорошо, что ты сказала, я хочу сделать тебе подарок.
– Не дури, тебе только подарки делать!
– Какой-нибудь пустяк, просто на память.
Женщина кладет руки на колени мужчине.
– Я бы хотела, чтобы ты написал для меня стихотворение, как бывало когда-то. Помнишь?
– Да…
Фило с грустью опускает взгляд на стол.
– В прошлом году ни ты, ни Роберто не поздравили меня, оба забыли.
Фило произносит это ласковым голосом, хорошая актриса пустила бы здесь грудные нотки.
– Я проплакала всю ночь…
Мартин ее целует.
– Не будь глупенькой, можно подумать, что тебе исполняется четырнадцать лет.
– Старухой я стала, правда? Смотри, сколько морщин на лице. Теперь остается только ждать, пока вырастут дети, понемногу стариться и умереть. Как бедная наша мама.
В булочной дон Роберто старательно промокает итог последнего счета в бухгалтерской книге. Затем захлопывает ее и рвет листки с черновиками подсчетов.
На улице еще слышится песенка о штанах в обтяжечку и барчуках у мессы.
– До свидания, сеньор Рамон, до следующего раза.
– Всего лучшего, Гонсалес, до свидания. Большой привет супруге, желаю всем здоровья.
– Спасибо, сеньор Рамон, того же и вам желаю.
По арене для боя быков проходят двое мужчин.
– Я совсем окоченел. Холод такой, что язык к зубам примерзает.
– Да, да.
Брат и сестра беседуют, сидя в маленькой кухне. На погасшей плите горит маленькая газовая плитка.
– В это время никто не приходит, а внизу у нас плитка с «жуликом».
На газовой плитке греется небольшая кастрюля. На столе полдюжины барабулек ждут своего часа, чтобы попасть на сковороду.
– Роберто очень любит жареных барабулек.
– Изысканный вкус!
– Перестань, тебе-то что от этого? Мартин, дорогой, почему ты его ненавидишь?
– Я? Не я его ненавижу, это он ненавидит меня. А я это чувствую и защищаюсь. Я знаю, что мы люди разной породы.
Мартин впадает в риторический тон, говорит, будто профессор с кафедры.
– Ему все безразлично, он считает, что самое правильное – жить помаленьку, как живется. А я считаю иначе, мне не безразлично все, о нет. Я знаю, что есть добро и есть зло, что есть принципы, которые велят нам делать то и не делать этого.
– Ну-ну, не произноси речей!
– И правда. Увлекся!
Свет в электрической лампочке вдруг начинает мигать, потом ярко вспыхивает и гаснет. Робкие, голубоватые язычки газа тихо лижут бока кастрюли.
– Вот тебе и раз!
– Иногда это у нас бывает по вечерам, а сегодня вообще свет был очень плохой.
– По вечерам должен быть такой же свет, как всегда. Компания, видно, хочет еще повысить плату! Пока не повысят плату, вам не дадут хорошего света, вот увидишь. Сколько ты сейчас платишь за свет?
– Четырнадцать-шестнадцать песет, как когда.
– Так будете платить двадцать или двадцать пять.
– Что поделаешь!
– И вы бы хотели, чтобы все наладилось само собой, да? Очень разумно!
Фило молчит, а у Мартина в мыслях мелькает одно из тех блестящих решений, которые всегда оказываются нелепыми. Трепетный огонек газовой плитки придает лицу Мартина странное, загадочное выражение ясновидящего.
Когда гаснет свет, Селестино все еще стоит в задней комнатке бара.
– Веселенькая история! Эти бандиты вполне могут меня обворовать.
Бандиты – это посетители бара.
Селестино ощупью пытается выйти и опрокидывает ящик с бутылками содовой. Оглушительно грохоча, бутылки вываливаются на каменные плиты пола.
– Черт бы побрал это электрическое освещение!
У дверей слышится голос:
– Что там происходит?
– Ничего! Разбиваю свое добро!
Донья Виситасьон полагает, что один из самых верных способов улучшить условия жизни рабочего класса – это благотворительные лотереи, которые устраивает Дамский союз.
«Рабочие, – думает она, – тоже должны что-то есть, хотя многие из них самые настоящие красные и ради них не стоило бы стараться».
Донья Виситасьон – женщина добрая, она вовсе не считает, что рабочих надо доводить до голодной смерти.
Вскоре свет включают – сперва волосок краснеет, несколько секунд он напоминает кровавую жилочку, затем кухню внезапно заливает яркий свет. Свет более сильный и резкий, чем обычно, – коробочки, чашки, тарелки на кухонной полке так и сияют, словно только из магазина, даже кажутся как будто крупнее.
– А у тебя здесь очень мило, сестра.
– Чисто, только и всего…
– Еще бы!
Мартин с любопытством оглядывает кухню, словно видит ее в первый раз. Потом, поднявшись, берет шляпу. Окурок свой он погасил в раковине и аккуратно засунул в жестянку для мусора.
– Ладно, Фило, большое спасибо, я пошел.
– До свидания, Мартин, не за что благодарить, я бы с удовольствием накормила тебя чем-нибудь получше… Это яйцо я держала для себя, врач сказал, что я должна съедать по два яйца в день.
– Вот как!
– Брось, не переживай. Тебе оно нужно не меньше, чем мне.
– Пожалуй, что так.
– Какие времена, Мартин, не правда ли?
– Да, Фило, времена! Но ничего, рано или поздно все придет в порядок.
– Ты так думаешь?
– Не сомневайся. Это неизбежно, это так же нельзя остановить, как морской прилив.
Подойдя к двери, Мартин говорит полушепотом:
– В общем… А где Петрита?
– Ты опять за свое?
– Да нет, я просто хотел с ней попрощаться.
– Не стоит. Она сейчас с двумя младшенькими, они боятся темноты. Сидит с ними, пока не заснут.
Фило с улыбкой добавляет:
– Мне иногда тоже бывает страшно, как подумаю, что я могу внезапно умереть…
Спускаясь по лестнице, Мартин видит в поднимающемся лифте своего зятя. Дон Роберто читает газету. У Мартина появляется острое желание открыть дверцу лифта, чтобы зять застрял между этажами.
Лаурита и Пабло сидят друг против друга, между ними на столике изящная цветочница с тремя розочками.
– Нравится тебе здесь?
– Да, очень.
Подходит официант. Он молод, хорошо одет, черные волосы красиво завиты, движения изящны. Лаурита старается не смотреть на него, у Лауриты очень простое, несложное понятие о любви и верности.
– Для сеньориты – консоме, жареную камбалу и курицу вильеруа. Я буду есть консоме и отварного морского окуня с оливковым маслом и уксусом.
– Больше ничего не возьмешь?
– Нет, крошка, что-то не хочется.
Пабло поворачивается к официанту.
– Полбутылки сотерна и полбутылки бургундского. Вот и все.
Лаурита под столиком гладит ногу Пабло.
– Ты себя плохо чувствуешь?
– Нет, не то чтобы плохо, просто у меня после обеда будто камень лежал в желудке. Теперь прошло, но я не хотел бы, чтобы это повторилось.
Они смотрят друг другу в глаза и, положив локти на столик, берутся за руки, слегка отодвинув цветочницу.
В другом углу парочка, которая уже не держится за руки, смотрит на них, не очень-то скрываясь.
– У Пабло новая краля. Кто она?
– Не знаю, с виду похожа на прислугу. Тебе нравится?
– Гм, недурна…
– Ну так иди отбей ее, думаю, это тебе будет не слишком трудно.
– Начинаешь?
– Это ты начинаешь. Знаешь, милый мой, оставь меня в покое, у меня нет желания ссориться, я нынче не в драчливом настроении.
Мужчина закуривает сигарету.
– Слушай, Мари Тере, что я тебе скажу. Так мы с тобой не договоримся.
– Ах ты, бессовестный! Можешь оставить меня, если хочешь. Разве не этого ты добиваешься? Еще есть мужчины, которым я нравлюсь.
– Говори потише, ты, нечего орать на весь зал!
Сеньорита Эльвира кладет книгу на ночной столик и гасит свет. Мрак покрывает «Парижские тайны», а также стакан, до половины налитый водой, пару рваных чулок и футлярчик с остатками губной помады.
Перед тем как заснуть, сеньорита Эльвира всегда немного размышляет.
– Возможно, донья Роса права. Пожалуй, и в самом деле лучше мне опять сойтись со стариком, так я долго не протяну. Зануда он, но, в конце концов, что делать! Выбор у меня уж не такой большой.
Сеньорита Эльвира довольствуется малым, но и это малое так редко достается. Слишком долго она ничего не понимала в жизни, а когда начала понимать, у глаз уже были гусиные лапки, зубы выщербились и почернели. Теперь она и тому рада, что не надо идти в богадельню, что она может жить в своей жалкой конуре; а пройдет еще несколько лет, и она, наверно, будет мечтать о койке в богадельне, поближе к батарее отопления.
При свете фонаря цыганенок пересчитывает кучку медяков. День выдался неплохой: распевая с часу дня до одиннадцати вечера, он собрал один дуро шестьдесят сентимо. В любом баре за один дуро мелочью дадут пять с половиной песет – в барах всегда не хватает мелочи для сдачи.
Когда есть на что, цыганенок ужинает в таверне неподалеку от улицы Пресиадос, если сойти вниз по спуску Анхелес: порция фасоли, хлеб и один банан обходятся в три песеты двадцать сентимо.
Цыганенок усаживается, зовет официанта, дает ему три двадцать и ждет своего ужина.
После ужина он снова отправляется петь до двух ночи, а потом норовит вскочить на буфер последнего трамвая. Цыганенку – но я, кажется, об этом уже говорил – около шести лет.
В конце улицы Нарваэса есть бар, где Пако почти каждый вечер встречается с Мартином. Бар этот невелик; если идти вверх по улице, он по правую сторону, рядом с гаражом полиции. Хозяин бара, Селестино Ортис, был вместе с Сиприано Мерой во время войны командиром отряда; он довольно высок, худощав, со сросшимися бровями и рябоватым лицом; на правой руке носит массивное железное кольцо с портретом Льва Толстого на цветной эмали, заказанное на улице Колехиаты; у него вставная челюсть, и, когда она ему начинает мешать, он вынимает ее и кладет на стойку. Селестино Ортис уже много лет бережно хранит грязный, растрепанный экземпляр «Авроры» Ницше – это его настольная книга, его катехизис. Он поминутно заглядывает в эту книгу и всегда находит в ней ответ на свои духовные проблемы.
– «Аврора, – говорит он. – Размышление о моральных предрассудках». Какое великолепное название!
На титульном листе – овальная фотография автора, его имя, название книги, цена – четыре реала – и выходные данные: издательство «Ф. Семпере и Компания», Валенсия, улица Паломар, 10; Мадрид, улица Ольмо, 4 (филиал). Перевод Педро Гонсалеса Бланко. На обороте титула марка издательства: бюст девицы во фригийском колпаке, внизу его охватывает дугою лавровый венец, а сверху, тоже дугой, девиз: «Искусство и Свобода».
Некоторые абзацы Селестино целиком помнит наизусть. Когда в бар заходят полицейские из гаража, Селестино Ортис сует книгу под стойку, на ящик с бутылками вермута.
– Они, конечно, такие же дети народа, как и я, – говорит он, – но на всякий случай!..
Подобно деревенским священникам, Селестино убежден, что Ницше – это действительно что-то очень опасное.
Когда случится заспорить с полицейскими, он обычно цитирует им один-другой абзац, как бы в шутку, но никогда не говорит, откуда он это взял.
– «Сострадание – противоядие от самоубийства, ибо это чувство доставляет удовольствие и питает нас, в небольших дозах, наслаждением превосходства».
Полицейские хохочут.
– Слушай, Селестино, ты случайно не был раньше священником?
– Никогда! «Счастье, – продолжает он, – каково бы оно ни было, вносит в нашу жизнь воздух, свет и свободу движения».
Полицейские хохочут еще громче.
– И водопровод.
– И центральное отопление.
Селестино, возмущенный, с презрением сплевывает.
– Невежды несчастные!
Среди тех, кто к нему заходит, есть один полицейский-галисиец, парень себе на уме, с ним Селестино дружит. Обращаются они друг к другу на «вы».
– Скажите, пожалуйста, хозяин, вы всегда слово в слово это говорите?
– Всегда, Гарсиа, ни разу не ошибся.
– Вот это здорово!
Сеньора Леокадия, укутанная в платок, высовывает руку.
– Берите, тут восемь штук, один в один.
– До свидания.
– У вас есть часы, сеньорито?
Сеньорито расстегивает пальто и смотрит на серебряные часы луковицей.
– Скоро будет одиннадцать.
В одиннадцать за ней придет ее сын, оставшийся после войны хромым, он служит учетчиком на строительстве новых министерств. Он добрый парень, помогает матери собрать ее причиндалы, потом оба, взявшись под руку, уходят домой. Они идут по улице Коваррубиаса, сворачивают на улицу Никасио Гальего. Если остается несколько каштанов, съедают, если нет, заходят в какую-нибудь забегаловку и пьют кофе с молоком, да погорячей. Чугунок с углями старуха ставит рядом со своей кроватью – как-никак сохраняется немного жару, до утра греет.
Мартин Марко входит в бар, когда полицейские уже уходят. Селестино идет ему навстречу.
– Пако еще не приходил. Был тут днем и сказал, чтобы вы подождали его.
Мартин Марко делает высокомерно-недовольную гримасу.
– Что ж, подождем.
– Чашку кофе?
– Да, черного.
Ортис хлопочет у кофеварки, отсыпает сахарин, готовит чашку, блюдце, ложечку и выходит из-за стойки. Поставив кофе на столик, он обращается к Мартину. По его глазам, в которых появляется необычный блеск, видно, что вопрос стоит ему больших усилий.
– Вы уже получили деньги?
Мартин глядит на него, как на некое весьма удивительное существо.
– Нет, не получил. Я же говорил вам, что получка у меня бывает пятого и двадцатого.
Селестино почесывает затылок.
– Дело в том…
– В чем?
– Видите ли, с сегодняшним вы уже будете должны мне двадцать две песеты.
– Двадцать две песеты? Я их отдам. Я, кажется, всегда расплачивался полностью, когда были деньги.
– Знаю, знаю.
– Так что же? – Мартин слегка морщит лоб и говорит негодующим тоном: – Просто невероятно, что у нас с вами постоянно возникают подобные недоразумения! Как будто нас не объединяет столько общего!
– В самом деле! Словом, простите, я не хотел вас беспокоить, но, знаете, сегодня приходили за налогом.
Мартин горделиво и презрительно вскидывает голову, глаза его впиваются в прыщ, красующийся у Селестино на подбородке.
Он вдруг спрашивает умильным тоном:
– Что это у вас такое?
Селестино смущается.
– Пустяк, прыщик.
Мартин снова сдвигает брови и произносит голосом строгим и звучным:
– Вы что же, намерены обвинить меня в том, что существуют налоги?
– Помилуйте, я этого не говорил!
– Нет, друг мой, вы говорили нечто очень близкое. Разве мало мы с вами беседовали о проблемах распределения богатства и о налоговой системе?
Селестино вспоминает о своем наставнике и говорит с горечью:
– Но красивыми словами я же не могу уплатить налог!
– И это вас тревожит, лицемер вы этакий?
Мартин пристально глядит на Селестино, губы его кривит усмешка, в которой гадливость сочетается с состраданием.
– И вы еще читаете Ницше? Не много же вы из него усвоили. Да вы просто гнусный мелкий буржуа!
– Марко!
Мартин рычит, как лев.
– Да кричите, зовите сюда ваших друзей полицейских!
– Полицейские мне не друзья!
– Можете меня избить, мне на это наплевать! У меня нет денег. Понимаете – нет денег! И ничего в этом нет позорного!
Мартин поднимается и идет к дверям походкой победителя. У порога он оборачивается.
– И нечего вам хныкать, почтеннейший коммерсант! Как только я получу эти несчастные дуро, я вам их принесу, чтобы вы заплатили налог и успокоились. Подумаешь, совесть его замучила! А этот кофе запишите на мой счет и девайте его куда хотите! Я его пить не желаю.
Селестино опешил, он не знает, что делать. Он готов запустить нахалу сифоном в голову, но вовремя спохватывается: «Способность предаваться слепой ярости – признак того, что человек недалеко ушел от животного». Селестино убирает свою любимую книгу с бутылок и прячет в ящик. Да, бывают дни, когда твой ангел-хранитель поворачивается к тебе спиной и даже Ницше как будто переходит на противоположную сторону улицы.
Пабло попросил вызвать такси.
– Еще рано куда-либо ехать. Если хочешь, можем посидеть в кино, чтобы убить время.
– Как ты хочешь, Пабло. Главное, чтобы мы сидели совсем-совсем рядышком.
Таксист явился. После войны они почти все почему-то перестали носить фуражки.
– Такси ждет, сеньор.
– Благодарю. Пошли, малышка?
Пабло подает Лаурите пальто. Они садятся в машину, Лаурита шепчет:
– Вот жулье! Ты только взгляни, когда будем проезжать мимо фонаря: у него на счетчике уже шесть песет.
На углу улицы О’Донелла Мартин сталкивается с Пако.
В тот миг, когда до его слуха доносится «Привет!», он думает:
«Да, Байрон прав: если у меня будет сын, я для него выберу профессию самую прозаическую – либо адвокат, либо морской разбойник».
Пако кладет ему руку на плечо.
– Ишь ты, даже запыхался. Почему меня не подождал?
У Мартина вид лунатика, он как будто бредит.
– Еще немного, и я бы его убил! Вот свинья!
– Кто?
– Да тот, хозяин бара.
– Хозяин бара? Бедняга он! Что он тебе сделал?
– Стал напоминать о деньгах. Он отлично знает, когда у меня есть деньги, я всегда плачу!
– Ну, дорогой мой, ему, видно, приспичило!
– Да, чтоб налог платить. Все они хороши.
Мартин опускает глаза и тихо говорит:
– Меня сегодня из одного кафе взашей вытолкали.
– Что, побили?
– Нет, не побили, но близко к тому. Ах, Пако, я уже сыт по горло!
– Ладно, не расстраивайся, береги нервы. Куда идешь?
– Спать.
– Это самое лучшее. Хочешь, завтра встретимся?
– Как хочешь. Передашь через Фило, где ты будешь. Я к ней загляну.
– Ладно.
– Вот книга, которую ты просил. А писчей бумаги принес?
– Нет, не удалось достать. Может, завтра раздобуду.
Сеньорита Эльвира ворочается в постели, она расстроена – можно подумать, что ей не спится после чересчур роскошного ужина. Но нет, ей вспомнилось детство и позорный столб в Вильялоне – это воспоминание иногда мучает ее. Чтобы от него отделаться, сеньорита Эльвира принимается читать «Верую», пока не заснет; бывают ночи, когда это воспоминание так неотвязно, что приходится повторять «Верую» по сто пятьдесят – двести раз.
Мартин ночует у своего друга Пабло Алонсо на тахте в гардеробной. У него есть ключ от квартиры, и в уплату за гостеприимство он должен выполнять всего три условия: никогда не просить денег, никого не приводить в квартиру и уходить в полдесятого утра до одиннадцати вечера. Случай болезни не предусмотрен.
Утром, уходя из квартиры Алонсо, Мартин отправляется на почтамт или в Испанский банк – там тепло, можно писать стихи, делая вид, будто заполняешь телеграфные бланки или приходо-расходные квитанции.
Когда Алонсо дает Мартину пиджак поприличней – а он перестает их носить почти новыми, – Мартин Марко осмеливается сунуться в холл ресторана «Палас» в послеобеденные часы. Не то чтобы его привлекала роскошь, отнюдь, просто он стремится изучать разные сферы общества.
«Как-никак жизненный опыт», – думает он.
Дон Леонсио Маэстре, усевшись на чемоданчик, закурил сигарету. Он счастлив необычайно, напевает про себя «La donna è mobile», но с другими словами. В молодости дон Леонсио Маэстре как-то получил первый приз – живой цветок – на поэтических состязаниях, которые устраивались на острове Менорке, его родине.
Слова песенки, которую напевает дон Леонсио, разумеется, сложены в честь сеньориты Эльвиры. Он, однако, озабочен тем, что, как ни верти, ударения в первом стихе оказываются не на месте. Возможны три варианта:
1. Милая Эльвирита!
2. Милая Эльвирита!
3. Милая Эльвирита!
По правде сказать, ни один нельзя признать идеальным, но первый все же лучше других; в нем по крайней мере ударения на тех же местах, что в «La donna è mobile».
Прикрыв глаза, дон Леонсио ни на миг не перестает думать о сеньорите Эльвире.
«Бедняжечка моя! Как ей хотелось курить! Да, Леонсио, когда ты преподносил ей эту пачку, закраснелся ты, наверно, как маков цвет…»
Дон Леонсио так упоен любовными мечтами, что не ощущает холода от обитого жестью чемоданчика под своими ягодицами.
Сеньор Суарес выходит из такси у подъезда своего дома. В хромоте его теперь чувствуется что-то вызывающее. Он поправляет пенсне и заходит в лифт. Сеньор Суарес живет вместе с матерью-старушкой, отношения у них самые нежные – по вечерам, когда он ложится спать, матушка приходит укрыть его и благословить на сон грядущий.
– Как себя чувствуешь, сыночек?
– Отлично, мамуля.
– Ну так до завтра, если богу будет угодно. Укройся получше, чтоб не озяб. Отдыхай, золотце.
– Спасибо, мамуля, и ты отдыхай. Поцелуй меня.
– С удовольствием, сынок. Не забудь прочитать молитвы.
– Не забуду, мамочка. До завтра.
Сеньору Суаресу лет пятьдесят, его матушке года на двадцать два больше.
Сеньор Суарес поднялся на четвертый этаж, секция В, достал ключ и отпер дверь. Он намерен переменить галстук, причесаться, сбрызнуть себя одеколоном и под каким-нибудь благовидным предлогом поскорей смотаться из дому в том же такси.
– Мамуля!
По мере того как сеньор Суарес проходит по комнатам, его голос, призывающий мать, становится все более похожим на возгласы тирольских пастухов, которых показывают в кино.
– Мамуля!
В одной из ближайших ко входу комнат горит свет, но оттуда никто не ответил.
– Мамуля! Мамуля!
Сеньор Суарес начинает нервничать.
– Мамуля! Мамуля! Ах ты, боже мой! А вот сейчас я к тебе войду! Мамуля!
Подгоняемый какой-то непонятной силой, сеньор Суарес бросается вперед по коридору. Непонятная эта сила, вероятно, не что иное, как любопытство.
– Мамуля!
Уже взявшись за ручку, сеньор Суарес тут же пятится и бегом выбегает из квартиры. На ходу он повторяет:
– Мамуля! Мамуля!
Тут он чувствует, что сердце у него стучит часто-часто; перескакивая через ступеньки, он мчится вниз по лестнице.
– Везите меня на шоссе Сан-Херонимо, напротив здания конгресса.
Таксист отвез его на шоссе Сан-Херонимо, напротив здания конгресса.
Маурисио Сеговия, досыта насмотревшись и наслушавшись, как донья Роса оскорбляет своих официантов, встал и вышел из кафе.
– Уж не знаю, кто из них гнусней – эта жирная свинья в трауре или это сборище болванов. Ох, задали бы они ей все вместе когда-нибудь хорошую взбучку!
Как все рыжие, Маурисио Сеговия добродушен, но он не выносит несправедливости. И если он убежден, что официантам следовало бы сговориться и устроить донье Росе трепку, то лишь потому, что своими глазами видел, как она над ними измывается; пусть бы расквитались с ней – око за око, – тогда можно было бы начать новый счет.
– Все дело в том, какое кому сердчишко дадено – у одних оно пухлое и мягкое, как слизняк, но есть и такие, у кого оно небольшое и твердое, как кремень.
Дон Ибрагим де Остоласа-и-Бофарулл погляделся в зеркало, вскинул голову, погладил бороду и воскликнул:
– Господа академики! Я не хотел бы дольше отвлекать ваше внимание и т. д. и т. д. (Ну, это пойдет гладко… Голову держать повыше, горделиво… Следить за манжетами, иногда они слишком вылезают наружу, будто вот-вот вспорхнут в воздух.)
Дон Ибрагим зажег трубку и принялся ходить взад-вперед по комнате. Затем остановился и, положив одну руку на спинку стула, а другую, с трубкой, воздев кверху, как свиток, который обычно держат статуи ученых господ, продолжал:
– Как можем мы допустить – а именно этого желает сеньор Клементе де Диего, – чтобы владение по праву давности считалось законным путем присвоения известных прав вследствие пользования таковыми? Тут сразу бросается в глаза недостаточная обоснованность доводов, господа академики. Прошу простить за повторение, но разрешите мне еще раз, как я делал уже неоднократно, призвать на помощь логику; без нее в мире мысли и шагу не ступишь. (Тут наверняка раздастся ропот одобрения.) Разве не очевидно, о высокочтимые коллеги, что для того, чтобы чем-либо пользоваться, надо этим владеть? По глазам вашим вижу, что вы со мной согласны. (Скорее всего кто-нибудь из публики тихо подтвердит: «Очевидно, очевидно».) Затем, если для того, чтобы чем-либо пользоваться, надо этим владеть, то, изменив действительный залог этого предложения на страдательный, мы можем утверждать, что ничто не может быть используемо, пока оно не стало владением. Дон Ибрагим выдвинул ногу к воображаемой рампе и изящным жестом разгладил полу халата. Простите, фрака. Потом улыбнулся.
– Итак, господа академики, поскольку для того, чтобы чем-либо пользоваться, надо этим владеть, то для того, чтобы владеть, надо сперва приобрести. Не важно, под каким предлогом; я пока всего лишь сказал «надо приобрести», ибо ничто, абсолютно ничто не может стать владением без предварительного приобретения. (Тут меня, возможно, прервут аплодисментами. Надо к этому быть готовым.)
Голос дона Ибрагима звучал торжественно, как фагот. По другую сторону тонкой дощатой стенки возвратившийся с работы муж спрашивал у жены:
– Ну что, малышка уже покакала?
Дону Ибрагиму стало немного зябко, он поправил на шее шарф. В зеркале отразился черный галстук бабочкой, приличествующий вечернему костюму.
* * *
Дон Марио де ла Вега, издатель, куривший сигару, отправился ужинать с бакалавром, дипломированным по третьему циклу.
– Знаете, что я вам скажу? Незачем вам завтра приходить ко мне для разговора, придете прямо на работу. Я люблю решать дела вот так, на ходу.
Бакалавр сперва немного растерялся. Он хотел было заметить, что лучше бы ему приступить к работе через несколько дней, чтобы привести в порядок кое-какие дела, но подумал, что ему, чего доброго, могут вообще отказать.
– Да-да, очень благодарен, постараюсь работать как можно лучше.
– Это вам же пойдет на пользу. – Дон Марио де ла Вега улыбнулся – Итак, по рукам. А теперь, чтобы начало было добрым, приглашаю вас поужинать.
Глаза бакалавра затуманились.
– Ах, что вы…
Издатель предупредительно заметил:
– Ну, разумеется, если вы не заняты. Я вовсе не желаю быть назойливым.
– О нет, нет, не тревожьтесь, при чем тут назойливость, совсем напротив. Я сегодня свободен.
Набравшись смелости, бакалавр добавил:
– Сегодня вечером я совершенно свободен, я в вашем полном распоряжении.
В таверне дон Марио принялся нудно объяснять, что он, мол, со своими подчиненными всегда обращается хорошо, что ему приятно, когда его подчиненные довольны, когда его подчиненные преуспевают, когда его подчиненные смотрят на него как на отца и когда его подчиненные с любовью относятся к делам типографии.
– Если между директором и подчиненными нет сотрудничества, предприятие не может преуспевать. А когда предприятие преуспевает, это выгодно для всех: для хозяина и для подчиненных. Подождите минуточку, я должен позвонить, передать одно распоряжение.
Бакалавр, выслушав разглагольствования своего нового патрона, накрепко усвоил, что ему отведена роль подчиненного. Но на тот случай, если он вдруг ничего не понял, дон Марио во время ужина уточнил:
– Вначале будете получать шестнадцать песет, но о трудовом договоре чтоб и не заикаться. Понятно?
– Да, сеньор, понятно.
Сеньор Суарес вышел из такси напротив конгресса и направился по улице Прадо в кафе, где его ждали. Чтобы унять нетерпеливое волнение, от которого у него поджилки тряслись, сеньор Суарес предпочел остановить такси, не доезжая кафе.
– Ах, милый! Я прямо сам не свой. У меня дома, наверно, случилось что-то ужасное, мамуля не откликается.
Когда сеньор Суарес вошел в кафе, в его голосе появились еще более легкомысленные нотки, чем обычно, – ну точно голос потаскушки из дешевого бара.
– А, брось, не беспокойся! Наверно, она уснула.
– Да? Ты так думаешь?
Друг сеньора Суареса – щеголеватый бородач, на нем зеленый галстук, ярко-красные туфли и полосатые брюки. Зовут его Хосе Хименес Фигерас, и, хотя внешность у него прямо-таки потрясающая – только взглянуть на эту густую бороду и свирепый взгляд! – он известен под прозвищем Пепито Сучок.
Сеньор Суарес, ухмыляясь и краснея, говорит:
– Какой ты красавчик, Пепе!
– Молчи, скотина, еще услышат!
– Скотина! Нечего сказать, очень ты нежен!
Сеньор Суарес корчит капризную гримасу. Потом задумывается.
– Что могло случиться с мамулей?
– Да замолчишь ты наконец?!
И сеньор Хименес Фигерас, он же Сучок, корчит ответную гримасу сеньору Суаресу, он же Заднюшка.
– Слушай, золотце, мы сюда пришли для того, чтобы повеселиться или чтобы ты мне пел вечную свою песенку о дорогой твоей мамуле?
– Ах, Пепе, ты прав, не сердись на меня! Я, знаешь, так взволнован, что не помню, на каком я свете!
Дон Леонсио Маэстре сделал два капитальнейших вывода. Первый: совершенно ясно, что сеньорита Эльвира не какая-нибудь потаскушка, по лицу видно. Сеньорита Эльвира – девушка порядочная, из хорошей семьи, поссорилась, наверно, с родными, ушла из дому и хорошо сделала, черт возьми! Мы еще посмотрим, есть ли такое право – как полагают многие родители, – чтобы всю жизнь держать детей в кулаке! Сеньорита Эльвира, вероятно, ушла из дому, потому что ее семья уже много лет отравляла ей жизнь. Бедная девочка! Что говорить, жизнь каждого – это тайна, но все же лицо человека было и остается зеркалом души.
«Неужели кому-то могло бы прийти в голову, что Эльвира – гулящая девка? Боже упаси, вот глупость!»
Дону Леонсио Маэстре становится стыдно перед самим собой.
Второй вывод, к которому пришел дон Леонсио: надо после ужина зайти еще раз в кафе доньи Росы – может быть, сеньорита Эльвира опять будет там.
«А почему бы нет? Такие вот грустные бедные девушки, которым пришлось изведать всякие дрязги в семье, большие охотницы посидеть в кафе, где играет музыка».
Дон Леонсио Маэстре поужинал второпях, обмахнул щеткой костюм, снова надел пальто и шляпу и отправился в кафе доньи Росы. Нет, не совсем так, он просто решил прогуляться и по пути заглянуть в кафе доньи Росы.
Маурисио Сеговия пошел поужинать со своим братом Эрменехильдо, который приехал в Мадрид, надеясь получить назначение на должность секретаря профсоюзного центра в своем городке.
– Ну, как идут дела?
– Идут помаленьку… Кажется, неплохо идут.
– Есть какие-нибудь новости?
– Да, есть. Сегодня я повидался с доном Хосе-Мария, который служит в личном секретариате дона Росендо; так он мне сказал, что будет настойчиво поддерживать мою кандидатуру. Посмотрим, что им удастся сделать. Как ты думаешь, я получу назначение?
– Ну конечно, получишь. А ты сомневаешься?
– Эх, сам не знаю. Иногда мне кажется, оно уже у меня в руках, а иногда начинает казаться, что в конце концов я, чего доброго, получу коленкой под зад. Самое худшее – сидеть вот так, не зная, что тебя ждет.
– Не падай духом, всех нас господь слепил из одной глины. А кроме того, ты же знаешь – без труда не вытянешь и рыбки из пруда.
– Да, я с тобой согласен.
Дальше оба брата ужинают почти в полном молчании.
– Слушай, а у немцев-то дела серьезные.
– Да, мне тоже кажется, что запахло жареным.
Дон Ибрагим де Остоласа-и-Бофарулл, делая вид, будто не слышит вопроса соседа о том, как малышка покакала, снова поправляет шарф, снова кладет руку на спинку стула и продолжает:
– Да, господа академики, человек, который имеет честь говорить перед вами, полагает, что его аргументы не шиты белыми нитками. (Не прозвучит ли это «не шиты белыми нитками» вульгарно, слишком по-простецки?) Применив к интересующей нас юридической проблеме выводы из приведенного мною силлогизма («применив к интересующей нас юридической проблеме выводы из приведенного мною силлогизма» – не будет ли это длинно?), мы можем утверждать, что поскольку, чтобы чем-либо пользоваться, надо этим владеть, то, соответственно, чтобы пользоваться каким-либо, безразлично каким, правом, надо им также владеть. (Пауза.)
Сосед за стенкой осведомился о цвете. Жена ответила, что цвет нормальный.
– Но нельзя владеть каким-либо правом, многоуважаемое собрание, если оно предварительно не было приобретено. Полагаю, что доводы мои ясны, как вода кристально чистого ручья. (Голос: «Да, да».) Далее, если для того, чтобы пользоваться правом, надо его сперва приобрести, ибо невозможно пользоваться тем, чего не имеешь («Конечно, конечно!»), то как можно, рассуждая строго научно, предполагать, что возможен способ приобретения в силу давности пользования, как то утверждает профессор сеньор де Диего, известный многими блестящими идеями? Ведь это равносильно утверждению, что можно распоряжаться чем-то еще не приобретенным, каким-либо правом, которым еще не владеют! (Громкий гул одобрения.)
Сосед за стенкой спросил:
– Тебе пришлось поставить ей клизмочку?
– Нет. Я уже все приготовила, но она сделала сама. Представляешь, я купила банку сардин – твоя мать сказала, что в таких случаях лучше всего помогает масло из этих консервов.
– Ладно, не беспокойся, съедим их на ужин, и дело с концом. Мамаша моя помешана на этом масле из-под сардин.
Муж и жена с нежностью улыбнулись друг другу, обнялись и поцеловались. Бывают же такие удачные дни! Запоры у малютки стали уже всерьез их беспокоить.
Дон Ибрагим подумал, что, когда раздастся продолжительный гул одобрения, ему придется сделать небольшую паузу – надо будет опустить голову и как бы в рассеянности устремить взгляд на скатерть и стакан с водой.
– Полагаю излишним разъяснять, господа академики, сколь важно постоянно помнить о том, что пользование вещью – не пользование или распоряжение правом на пользование этой вещью, ибо права такого еще у нас нет, – которое в силу давности ведет к владению таковой в качестве собственности того, кто ее захватил, – это есть состояние, существующее de facto[17], но ни в коем случае не de jure[18]. (Превосходно!)
Дон Ибрагим победоносно улыбнулся и несколько секунд постоял, ровно ни о чем не думая. В душе – и по внешнему виду судя – дон Ибрагим был человеком вполне счастливым. Его не признают? Эка важность. А для чего существует История?
– В конце концов она всем воздаст по справедливости. И если в этом подлом мире гений не встречает признания, стоит ли беспокоиться – ведь через каких-нибудь сто лет от всех нас останутся одни скелеты!
Из этого сладостного забытья дона Ибрагима вывели отчаянные, пронзительные, беспорядочные звонки.
– Какая дикость, можно ли так безобразничать! А еще считаются воспитанными людьми! И наверно, даже не стыдятся!
Супруга дона Ибрагима, которая, сидя у жаровни, штопала чулок, пока муж ее ораторствовал, поднялась и пошла открыть дверь.
Дон Ибрагим прислушался. Звонил сосед с пятого этажа.
– Ваш супруг дома?
– Да, сеньор, он готовится к докладу.
– Могу я его видеть?
– Разумеется, о чем тут спрашивать.
Повысив голос, жена позвала;
– Ибрагим, это сосед сверху.
Дон Ибрагим ответил:
– Пусть войдет, почему ты его там держишь?
Дон Леонсио Маэстре был бледен.
– А, сосед! Что же привело вас к моему скромному очагу?
Дон Леонсио проговорил дрожащим голосом:
– Она умерла!
– Что?
– Умерла, говорю!
– Кто?
– Ну да, сеньор, умерла. Я потрогал ей лоб, он холодный как лед.
Глаза супруги дона Ибрагима округлились, как блюдца.
– Кто умер?
– Соседка рядом со мной.
– Соседка рядом с вами?
– Она самая.
– Донья Маргот?
– Да, она.
Дон Ибрагим вмешался:
– Мать этого потаскуна?
Дон Леонсио ответил утвердительно, а жена дона Ибрагима набросилась на мужа:
– Ради бога, Ибрагим, как можно так говорить!
– И она на самом деле мертва?
– Да, дон Ибрагим, мертва окончательно. Ее удушили полотенцем.
– Полотенцем?
– Да, махровым полотенцем.
– Какой ужас!
Дон Ибрагим, шагая туда-сюда по комнате, принялся отдавать распоряжения и призывать к спокойствию.
– Хеновева, сними трубку и вызови полицию.
– Какой там номер?
– Почем я знаю, милая, посмотри в книге! А вы, друг мой Маэстре, станьте на лестнице и никого не пропускайте ни вниз, ни вверх. Возьмите на вешалке трость. Я пойду за врачом.
Когда дону Ибрагиму открыли дверь в квартире врача, он с величайшим хладнокровием спросил:
– Доктор дома?
– Да, сеньор, подождите минуточку.
Дону Ибрагиму было известно, что доктор дома. Когда тот вышел узнать, зачем его спрашивают, дон Ибрагим, как бы не зная, с чего начать, спросил улыбаясь:
– Ну, как ваша малышка? Желудочек уже налаживается?
После ужина дон Марио де ла Вега предложил Элою Рубио Антофагасте, бакалавру по третьему циклу, выпить чашечку кофе. Было видно, что он расщедрился.
– Не хотите ли сигарку?
– О да, сеньор, весьма благодарен.
– Черт возьми, приятель, за что так благодарить!
Элой Рубио Антофагаста робко улыбнулся.
– Ну да, конечно. – И прибавил: – Вы знаете, я очень счастлив, что нашел работу. Верите?
– И тому, что поужинали?
– Да, сеньор, и тому, что поужинал.
Сеньор Суарес покуривает сигару, которой его угостил Пепе Сучок.
– Ах, какая вкусная сигара! Она пахнет тобой.
Сеньор Суарес смотрит в глаза своему другу.
– Пойдем выпьем по стаканчику? Ужинать мне не хочется, когда я с тобой, у меня пропадает аппетит.
– Ладно, пойдем.
– Можно я тебя угощу?
Заднюшка и Сучок, крепко взявшись под руку, пошли по улице Прадо вверх по левой стороне, где бильярдные залы. Встречные оборачивались им вслед.
– Зайдем на минутку поглядеть на игру?
– Нет, не хочу, мне там на днях чуть не съездили кием по физиономии.
– Вот скоты! И есть же такие некультурные люди, просто удивительно! Безобразие! Уж наверно, набрался ты страху, да, Сучочек?
Пепе Сучок нахмурился.
– Мамашу свою зови Сучочком, слышишь, ты!
Сеньор Суарес истерически взвизгивает:
– Ой, мамуля моя! Ой, что же это с ней случилось? Ой господи!
– Ты замолчишь?
– Прости, Пепе, я больше не буду говорить о моей мамочке. Ой бедняжечка! Слушай, Пепе, купи мне цветок! Я хочу, чтобы ты мне купил красную камелию, – раз я иду с тобой, надо, чтоб на мне был какой-нибудь знак запретного…
Пепе Сучок горделиво ухмыльнулся и купил сеньору Суаресу красную камелию.
– Засунь ее в петлицу.
– Куда прикажешь.
Доктор, удостоверившись, что старуха мертва, мертва бесповоротно, поспешил оказать помощь дону Леонсио Маэстре – у бедняги начался нервный припадок, он был почти без сознания и только отчаянно лягал ногами.
– Ах, доктор, как бы еще этот у нас не скончался!
Донья Хеновева Куадрадо де Остоласа была весьма встревожена.
– Не волнуйтесь, сеньора, тут нет ничего опасного, просто сильнейший испуг.
Дон Леонсио сидел в кресле, глаза у него закатились, изо рта текла пена. Дон Ибрагим между тем наставлял соседей:
– Спокойствие, прежде всего полное спокойствие. Пусть каждый глава семьи тщательно осмотрит свое жилище. Мы должны оказать помощь органам правосудия своей поддержкой и сотрудничеством, насколько это будет в наших силах.
– Отлично сказано, сеньор. В такие минуты правильней всего, чтобы один распоряжался, а мы все повиновались.
И жители дома, где произошло преступление, все как один испанцы, с большей или меньшей готовностью повторили эту знаменательную фразу.
– Приготовьте ему липового чаю.
– Сейчас, доктор.
Дон Марио и бакалавр Элой решили, что надо пораньше лечь спать.
– Ну что ж, друг мой, завтра за дело. Так?
– Да, сеньор. Вот увидите, вы будете довольны моей работой.
– Надеюсь. Завтра в девять утра у вас будет возможность показать свое усердие. Куда вы теперь направляетесь?
– Домой, куда же еще? Пойду спать. Вы тоже рано ложитесь?
– Да, постоянно. Я веду регулярный образ жизни.
Элой Рубио Антофагаста почувствовал позыв к подхалимажу – видимо, угодливость была для него естественным состоянием.
– Если не возражаете, сеньор Вега, я вас провожу.
– Как вам угодно, дружище Элой, весьма благодарен. Сразу видно, надеетесь, что авось вам перепадет еще сигара?
– Вовсе не потому, сеньор Вега, поверьте мне.
– Ладно уж, не прикидывайтесь святошей, все мы сперва были поварами, а уж потом монахами.
Хотя ночь была прохладная, дон Марио и его новый корректор, подняв воротники пальто, пошли еще прогуляться. Когда дону Марио выпадал случай поговорить на любимые темы, ни холод, ни голод, ни жара не были ему помехой.
Пройдя порядочный кусок, дон Марио и Элой Рубио Антофагаста наткнулись на кучку людей, стоявших на углу, тут же находились двое полицейских и никого не пропускали.
– Что случилось?
Какая-то женщина обернулась.
– Не знаю, говорят, преступление, зарезали двух пожилых женщин.
– Черт возьми!
В разговор вмешался мужчина.
– Не прибавляйте, сеньора, зарезали не двух, а только одну.
– Вам этого мало?
– О нет, сеньора, даже слишком много. Но все же я бы предпочел, чтобы их было две.
К группе присоединился юноша.
– Что происходит?
Ему ответила другая женщина:
– Говорят, совершено преступление, задушили махровым полотенцем девушку. Говорят, артисткой была.
Два брата, Маурисио и Эрменехильдо, надумали опрокинуть за галстук по стаканчику.