Читать онлайн Андрей Боголюбский бесплатно
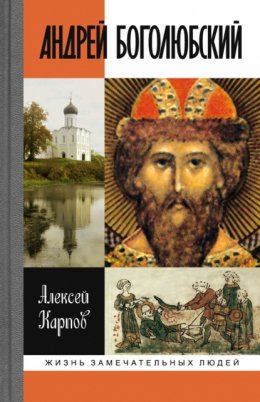
© Карпов А. Ю., 2014, 2020
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2020
Пролог, который уместнее было бы назвать эпилогом
Князя убивали долго, и смерть его оказалась ужасной. Заговорщики, числом двадцать человек, двинулись к княжеской опочивальне под покровом ночи. Но страх и трепет не покидали их. Ночи летом коротки, времени у заговорщиков было в обрез, и всё же они, не сговариваясь, свернули по пути к княжеской медуше, где хранились хмельные мёды и заморские вина. Вино прибавляет силы и дарит храбрость, хмель ударяет в голову – а того и надо было людям, решившимся на такое неслыханное преступление. «И тако, упившеся вином, поидоша на сени», – записывал позднее киевский летописец. О том, где стояла стража и кто из ратников нёс службу той ночью, заговорщики были осведомлены отлично. Да и стражники не забили тревогу, увидев приближавшихся к ним людей, – все они были им хорошо известны и подозрений не вызывали. А зря! Ибо те несколько человек, что были выставлены у дверей, ведущих к княжеской опочивальне, погибли первыми. Два-три удара мечом решили исход этой короткой схватки. Настолько короткой, что стражники не успели даже вскрикнуть, позвать на помощь. В «ложнице» – так называлось помещение внутри замка, предназначенное для сна, – князь был один. Он крепко спал. В передней комнате отдыхал его ближний слуга, парубок Прокопий. Заговорщики схватили Прокопия сонным, придушив его так, чтобы он не смог вымолвить ни слова. Один из заговорщиков подошёл к двери и тихонько постучал в неё:
– Господине, господине!..
– Кто там? – спросил князь спросонок.
– Прокопий, – тоненьким голосом, искусно подделываясь под парубка, произнёс убийца.
– О нет, паробче, то не Прокопий!.. – отвечал князь, распознав обман.
Надежды на то, что князь сам отомкнёт засов, не осталось. Убийцы набросились на дверь, начали выламывать её, крушить мечами. Князь вскочил, потянулся к висевшим на стене ножнам, но те были пусты – накануне вечером один из заговорщиков, чужеземец Анбал, выкрал меч, оставив князя безоружным. А ведь то был не простой меч! Князь привёз его из Вышгорода и берёг как зеницу ока – меч тот некогда принадлежал его сроднику, святому князю Борису, которого почитала небесным заступником вся Русская земля, а прежде всех – княжеская семья, его родичи. Но и святой Борис не мог помочь князю – ведь тот не сберёг его меч, великую святыню. И расплачиваться за это небрежение приходилось теперь самой жизнью…
Тем временем дверь поддалась, затрещала и рухнула внутрь опочивальни. Сквозь тесный дверной проём протиснулись двое убийц, первыми кинувшиеся на князя. Одного из них князь подмял под себя, со вторым схватился насмерть. Свечной огарок потух от резкого порыва воздуха, и в наступившей тьме трудно было различить лица, понять, кто с кем борется. Сдавленные крики, стон раненого, оказавшегося на полу, и сопение борющихся людей – вот что услышали те, кто ворвался в комнату следом. Один из убийц споткнулся о раненого, лежавшего на полу, и, думая, что это князь, прикончил его ударом меча. Но драка продолжалась. Кто-то принёс светильник. Князь защищался, как мог. Обернув левую руку плащом, он действовал ею, словно щитом, не чувствуя боли. Опытный воин, он находил возможность сражаться сразу со всеми – пользуясь теснотой, скученностью тел, хватаясь для защиты от нападавших за всё, что попадало под руку.
– О горе вам, нечестивые! – кричал он, уворачиваясь от ударов. – Бог отомстит вам за мой хлеб!
Но силы были слишком неравными. Град страшных ударов свалил князя. Его левая рука была изрублена, голова насквозь рассечена мечом. Бездыханным князь пал наземь.
Думая, что он мёртв, убийцы взяли своего погибшего товарища и выбрались наружу. Но князь очнулся. В оторопи он выполз за ними, с трудом приподнялся на ноги. Ужасная боль пронизывала всё тело, из груди исторгались хрипы и рыгание, его рвало и мутило. Весь в крови, он спустился по лестнице вниз и укрылся за лестничным столбом. Но кто-то из убийц услыхал шум, кто-то увидел в окне тень князя. Все гурьбой поспешили обратно. Князя на месте не было, и это привело злодеев в неописуемый ужас.
– Уже погибли! – восклицали они, дрожа от страха. – Если князь выберется живым, то никому из нас пощады не будет, всех казнит! Ищите его! Ищите!
Вновь зажгли свечи. Кровавый след вёл к лестнице и далее вниз, в подклеть. Князь сидел за восходным столпом, то есть за лестницей, и так молился из глубины сердца своего:
«Аще, Господи, суждено мне принять конец, то принимаю его. Аще и согрешил много, Господи, и заповеди Твои не сохранил, но ведаю, яко милостив еси… Господи, пусть и совершил я при жизни немало злого, но даруй мне отпущение грехов и сподоби мя, Господи, недостойного, принять конец сей, как принимали его святые мужи, ибо такие страдания и смерть такая выпадают святым мученикам Твоим…»
И когда он молился так, набросились на него окаянные убийцы. Один из них ударом меча почти напрочь отсёк руку князя, а другие пронзили тело его саблями и копьями.
– Господи, в руки Твои предаю свою душу, – успел прошептать князь, прощаясь с жизнью…
Так в ночь на 29 июня 1174 года, в субботу, в канун дня святых и всехвальных апостолов Петра и Павла, в княжеском замке града Боголюбова, в собственных покоях был убит князь Андрей Юрьевич, прозванный Боголюбским[1]. Событие это потрясло Русь. Но не меньше, а быть может, даже больше, чем само убийство, потрясает то, что случилось вслед за ним.
…Обезображенное и нагое тело Андрея было выволочено в «огород» – некое огороженное место на задворках княжеского дворца – и брошено там на потраву псам и добычу воронам. Одежды с князя были сорваны. Хоронить его никто не собирался. Больше того, когда на следующий день один из преданных князю людей, некий Кузьмище Киянин (то есть киевлянин родом), стал искать тело своего господина, ему пригрозили:
– Не смей трогать его! Так решили люди: хотим кинуть его псам на съедение! Если же кто прикоснётся к нему – тот нам враг. Убьём того!
Кузьма всё же сумел прикрыть нагое тело и, завернув его в ковёр, понёс в церковь. Но и церковь была заперта. Служители её – те самые, кому князь сделал при жизни столько добра и о которых так заботился, – не пожелали отомкнуть церковные двери и не разрешили положить тело в храм. Подобно большинству других жителей Боголюбова, они попросту перепились, ибо княжеская медуша, отворённая теперь для всех, манила их куда больше, чем алтарь собственного храма. Кузьма оставил тело в церковном притворе, и здесь пролежало оно несколько дней, пока наконец игумен Арсений не совершил погребальную службу и не вложил тело в каменную гробницу…
В городе же творилось невообразимое. Все словно обезумели. Казалось, что смерть князя освободила людей не только от его власти, но и от любых человеческих законов, от любых нравственных норм. Всеми овладела единственная страсть – к убийству и грабежу.
Грабили всё и у всех. Ещё в самую ночь убийства разгромлены были княжеские палаты. На следующее утро и в течение ближайших двух или трёх дней толпа громила всё, что попадало ей под руку. Из княжеского дворца выносили то, что не успели вытащить или чем побрезговали убийцы. Грабили дома княжеских «делателей» – мастеров, приглашённых князем для украшения храмов и палат во Владимире, Боголюбове и других городах, – ювелиров, резчиков по камню и прочих. Здесь, в Боголюбове, по соседству с князем, жили и свои, владимирцы и суздальцы, и выходцы из других русских земель, и иноземцы – но различий между ними не делали, не щадили ни тех, ни других, ни третьих. Громили дома посадников и тиунов – управляющих князя, княжеских слуг и «мечников» – судий; этих ненавидели люто – за творимые беззакония, а потому надеяться на пощаду им не приходилось. Грабили любого, кто казался побогаче и почестнее. Мужчин и женщин равно вытряхивали из одежд, срывали с них украшения, а самих убивали; женщин прежде насиловали. И было так не в одном Боголюбове, но по всей округе и даже в стольном Владимире. И лишь на пятый или шестой день владимирские священники, выйдя с крестами и хоругвями на улицы города, сумели остановить всеобщее безумие…
Так страшно заканчивалось княжение Андрея Боголюбского. Так заканчивалась одна из самых великих эпох в истории Северо-Восточной Руси – время всеобщего подъёма, время процветания, когда по всему княжеству строились величественные белокаменные храмы, и сегодня поражающие наше воображение, когда создавались многие признанные шедевры древнерусской иконописи и литературы, когда затерянный в лесах Владимир на Клязьме превращался в новую столицу Руси, соперничавшую великолепием с древним Киевом, «матерью городам русским»… Но великие, или переломные, как их ещё называют, эпохи имеют обыкновение плохо отражаться на судьбах своих творцов. Мало кому из последних суждена бывает по-настоящему счастливая жизнь. А вместе с ними мучиться и страдать, гибнуть в многочисленных войнах или бессмысленных смутах приходится тысячам и тысячам подвластных им людей…
- …Чем эпоха интересней для историка,
- Тем она для современника печальней.
Так написал поэт о веке двадцатом[2]. Но слова его потому и стали крылатыми, что подходят почти к любой эпохе. Вот и время княжения Андрея Боголюбского они словно бы подразумевают и вполне могли бы стать эпиграфом к рассказу о нём.
Почему же случилось такое? Почему столь чудовищная смерть и посмертное поругание выпали на долю одного из самых выдающихся правителей в истории Русского средневековья?
Не будем спешить с ответами. К тому же признаемся сразу: однозначных и чётких, а тем более устраивающих всех ответов на эти вопросы мы всё равно так и не сумеем отыскать. В этой страшной развязке сокрыт извечный парадокс истории. И здесь же – одна из главных загадок в личности самого князя Андрея Юрьевича. Кем он был на самом деле? Кем вошёл в историю России? Устроителем и собирателем Руси, предтечей будущих русских самодержцев, великих князей и царей московских, как полагали московские книжники XV–XVI веков, а вслед за ними и многие историки? Ревнителем православной веры, с юности думавшим о Божественном больше, нежели о земном, и подчинившим всю свою жизнь служению Богу и торжеству Православия, каковым и по сей день почитают его, причтённого к лику святых, воцерковлённые люди? Или тираном и деспотом, гордецом и властолюбцем, готовым на всё ради достижения единственной цели – установления собственной власти? Ведь и такой взгляд на княжение Андрея Боголюбского присутствует в трудах историков, а отчасти и в свидетельствах современников. Или, как это обыкновенно бывает, в личности князя соединилось всё вместе: и первое, и второе, и третье? А может быть, и ещё многое другое?
О князе Андрее Юрьевиче написано немало, личность его давно привлекает к себе внимание историков[3]. И у каждого автора – свой Боголюбский, а значит, и свои ответы на те вопросы, что обозначены выше.
Так нужна ли ещё одна книга о нём?
И на этот вопрос трудно дать однозначный ответ – тем более мне, её автору. Наверное, всё-таки нужна. Хотя бы потому, что не установленными до сих пор остаются очень многие факты биографии князя, очень многие обстоятельства его жизни и политической деятельности, в том числе и такие факты и такие обстоятельства, которые имеют первостепенное значение и, можно сказать, определяют наши представления о нём.
Вот самый простой пример. Неизвестно даже приблизительное время его появления на свет. Обычно пишут, что князь родился около 1111 года. Между тем первое его упоминание в источниках относится лишь к 1147 году. Получается, что князь впервые становится хоть как-то заметен для летописцев, впервые начинает участвовать в сражениях – причём пока что находясь на вторых ролях – в возрасте, который для древней Руси можно назвать едва ли не преклонным! Но так ли это? И вправе ли мы доверять тем – якобы точным – сведениям, что приводятся в книгах о нём?
И таких примеров множество. Чуть ли не каждый шаг Боголюбского может быть поставлен под сомнение, чуть ли не каждое свидетельство о нём вызывает оживлённую дискуссию среди историков. А ведь именно князь Андрей Юрьевич был тем человеком, который, по существу, создал самостоятельное Владимирское княжество – политическое ядро будущей Великороссии, иными словами – ядро современной России. А потому всё, что он делал, можно сказать, каждый его шаг в роли владимирского князя оказали существенное влияние на ход нашей истории и заслуживают самого пристального внимания.
В сущности, мы знаем о князе ничтожно мало. Но даже то немногое, что сообщают о нём источники, всякий раз требует тщательной и кропотливой проверки, далеко не всегда и не во всём осуществлённой. И прежде чем предлагать то или иное толкование событий, связанных с его княжением, следует разобраться в том, что именно и из каких источников нам известно, какова степень достоверности этих источников, каково происхождение каждого из них, как они соотносятся друг с другом, чем объяснить противоречия между различными версиями одних и тех же событий (а они неизменно присутствуют в разных летописях) и т. д. Даже простая сводка этих известий, даже простой обзор тех источников, из которых можно почерпнуть что-то значимое для биографии князя, надо признать делом по крайней мере небесполезным. И именно такую задачу – свести воедино всё, что мы знаем о князе, – я прежде всего и ставил перед собой. В этом смысле книга об Андрее Боголюбском продолжает предыдущие мои книги о правителях древней Руси, начиная с княгини Ольги и князя Владимира Святого, чьи биографии выходили ранее в серии «Жизнь замечательных людей».
Не мне судить о том, насколько сумел я приблизиться к решению этой задачи. Но выпуская биографию в свет, я всё же надеюсь, что по её прочтении у читателя сложится свой образ этого непростого и во многом противоречивого человека, а может быть, появится повод поразмыслить и над теми парадоксами и кажущимися закономерностями исторического процесса, которые столь зримо и грубо вторгаются в нашу жизнь даже тогда, когда мы совсем не ожидаем этого.
Часть первая
Княжич
1120-е – 1155
Молодые годы
В первый раз имя князя Андрея Юрьевича появляется в летописи в связи с событиями начала 1147 года, когда он вместе со старшим братом Ростиславом был послан отцом в поход на Рязань. К тому времени Андрей был уже человеком вполне сложившимся, взрослым. В дальнейшем летописцы всё чаще и чаще будут вспоминать о нём. Но вот о детстве и юности нашего героя, о его становлении как личности ни из летописей, ни из других ранних источников нам ровным счётом ничего не известно. А потому и глава, посвящённая этому важнейшему отрезку в его жизни, по неизбежности оказывается куцей и не слишком информативной.
Это неудивительно. Ростово-Суздальская земля, которой правил отец Андрея князь Юрий Владимирович Долгорукий, считалась захолустьем, «залесьем», далёкой северо-восточной окраиной Руси, и то, что происходило здесь, не слишком волновало летописцев, трудившихся в стольном Киеве и близких к нему центрах – Вышгороде, Чернигове, Переяславле – или в Великом Новгороде. Своё же собственное летописание если и велось в то время в Ростове и Суздале, то до нашего времени, к сожалению, не сохранилось или сохранилось лишь фрагментарно, в виде отрывков, случайных вкраплений в более поздний летописный текст – времён киевского княжения Юрия Долгорукого или владимирского – самого Андрея и его младшего брата Всеволода. Не только Андрей, но и большинство его братьев впервые упоминаются на страницах летописи в связи с событиями, происходившими вне границ Суздальской земли.
Андрей был вторым или третьим сыном Юрия Долгорукого. Его старший брат Ростислав упоминается в источниках с 1138 года, когда он был посажен отцом на княжение в Новгород; следующий, Иван, – с 1146-го: осенью этого года он был послан отцом в помощь его союзнику, новгород-северскому князю Святославу Ольговичу, и получил от того в удел город Курск и «Посемье» (земли по реке Сейм, притоку Десны). Судя по этому сообщению, Иван был старше Андрея, вопреки позднейшим росписям сыновей Юрия Долгорукого, которые ставят Андрея на второе место, а Ивана – на третье. Но оба старших Юрьевича умерли ещё при жизни отца: Иван – в феврале 1147 года, а Ростислав – в апреле 1151-го. После этого Андрей и стал старшим среди наследников Юрия Долгорукого.
Всего у Юрия было одиннадцать сыновей. Старшие, и в их числе Андрей, появились на свет в первом браке; их матерью была половецкая княжна, дочь половецкого хана Аепы Осенева («Аепина дщерь, Осенева внука», как называет её летописец). Помимо Ростислава, Ивана и Андрея она принесла мужу ещё четверых сыновей – Бориса, Глеба, Ярослава и Святослава. Последний родился больным и в течение всей своей жизни оставался недееспособным; «от рожества и до свершенья мужьства бысть ему болесть зла, – сообщает о нём суздальский летописец, – …не да бо ему Бог княжити на земли». Не позднее 1136/37 года – надо полагать, после смерти половчанки – Юрий женился во второй раз, но на ком именно, в точности неизвестно. Обычно считают, что второй женой князя стала византийская принцесса, принадлежавшая к правящему в Империи роду Комнинов. И хотя мнение это зиждется не на показаниях источников, а на чисто логических допущениях, оно представляется более или менее вероятным. Наверное, не случайно после смерти мужа, изгнанная пасынком из Суздальской земли вместе со своими родными сыновьями, Андреева мачеха найдёт убежище не где-нибудь, а в Византии, и её сыновья будут обласканы императором Мануилом.
От второго брака у Юрия родились четверо сыновей: Мстислав, Василий (Василько), Михаил (Михалко) и Всеволод; последний появился на свет 19 октября 1154 года, за два с половиной года до смерти отца. Имелись у Юрия и дочери. Из летописей известно по меньшей мере о трёх, но их могло быть и больше, ибо сведения о представительницах женской половины княжеского семейства в летописи попадали нечасто[4].
Влияние матери-половчанки сказывалось на старших княжичах, в том числе и на Андрее. Впоследствии он без труда будет находить с половцами общий язык, воевать бок о бок с ними и принимать над ними команду. Но вот во внешнем облике князя это влияние проявилось совсем не так сильно, как можно подумать, глядя на его скульптурный портрет, выполненный выдающимся советским антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым в 40-е годы прошлого века. Как показали исследования останков князя, проведённые уже в наше время, бросающиеся в глаза «монголоидные» черты внешности Андрея Боголюбского – прежде всего разрез глаз, широкие выступающие скулы – были преувеличены Герасимовым – вероятно, под влиянием всё того же летописного известия о половецком происхождении его матери. Ныне облик Андрея однозначно определяется как принадлежащий к «среднеевропейскому типу»[5].
Брак Юрия Долгорукого с «Аепиной дщерью» носил политический характер. Его заключил отец Юрия князь Владимир Всеволодович Мономах в январе 1108 года в ознаменование и для подтверждения мира с половцами. Судя по косвенным свидетельствам источников, ко времени женитьбы Юрий едва достиг совершеннолетия, то есть, по меркам древней Руси, возраста двенадцати-тринадцати лет. Полностью к семейной жизни он ещё не был готов. Это обстоятельство необходимо учитывать при определении примерного времени появления на свет его сыновей, в том числе и Андрея.
В исторической литературе датой рождения Андрея Боголюбского обычно называют 1110, 1111 или 1112 годы[6]. (В 2011 году во Владимире и Москве было торжественно отпраздновано 900-летие князя.) Но все эти даты имеют под собой весьма непрочные основания. Они опираются на разыскания русского историка XVIII века Василия Никитича Татищева, который в своей знаменитой «Истории Российской», рассказывая об убийстве князя, указал, что Андрей «жил 63 года», или, в примечаниях к основному тексту: «63 или 65 лет»[7]. Татищев ссылался на будто бы сохранившиеся древние летописцы, в частности, на некую летопись суздальского епископа Симона, жившего в XIII веке. Кончину Боголюбского он датировал 1175 годом. Вычитание из этой даты названных им цифр даёт 1110 или 1112 год рождения князя; если же учесть, что Андрей погиб годом раньше, – то 1109-й или 1111-й. Последняя дата и стала «официальной». Однако никакой «летописи епископа Симона», на которую ссылался Татищев, по всей вероятности, никогда не существовало, и скорее всего мы имеем дело с собственными подсчётами историка XVIII века, который исходил из известной ему летописной даты брака отца Андрея, князя Юрия Долгорукого, с половецкой княжной, а также из предполагаемой им, но неверной даты рождения самого Юрия – 1090 год (она также была высчитана на основе всё того же летописного известия о браке). В действительности же Юрий родился лет на шесть позже[8] и, следовательно, произвести на свет сына (причём второго или третьего по счёту) к 1111 году никак не мог. Исследования костных останков князя Андрея Боголюбского также показывают, что умер он более молодым, чем казалось Татищеву. О явном несоответствии между его «паспортным» (то есть основанным на показаниях В. Н. Татищева) и «костным» возрастом писало большинство экспертов. Согласно последним и наиболее достоверным оценкам специалистов, князь умер в возрасте 45–55 лет, ближе к пятидесяти годам[9]. Получается, что родился он в 20-е годы XII века, ближе к середине десятилетия. Но и не позднее этого времени: наличие у князя более или менее взрослых детей к 1159/60 году (зимой указанного года его дочь была выдана замуж, а сын – может быть, и номинально – поставлен во главе войска, о чём речь впереди) не позволяет сдвинуть дату его собственного рождения во вторую половину 1120-х годов.
Это время суздальского княжения его отца Юрия Долгорукого. В те годы – и при отце, Владимире Мономахе, и при брате, Мстиславе, – Юрий редко покидал доставшийся ему «залесский» удел и почти не участвовал в общерусских делах. Удивительно, но за семь лет киевского княжения его брата Мстислава Великого (1125–1132) его имя вообще ни разу не упоминается в летописи! При этом Юрий ни на минуту не забывал о своих правах на отцовское и дедовское наследство: прежде всего на отчий Переяславль на Трубеже, родовое «гнездо» Мономашичей (ныне город Переяслав-Хмельницкий на Украине), а в перспективе – и на стольный Киев. Вскоре после смерти Мстислава, летом 1132 года, когда на киевский стол воссел следующий по старшинству его брат Ярополк, Юрий на короткое время занял Переяславль, но прокняжил в городе всего восемь дней и вынужден был покинуть его. Позднее, в 1134 году, по договору, заключённому с Ярополком, он вновь получил Переяславль, согласившись обменять его на Суздаль и Ростов «и прочую волость свою, но не всю». Но и второе княжение Юрия в Переяславле оказалось недолгим, поскольку не устроило слишком многих. Уже следующей зимой, в соответствии с договором, заключённым князьями Мономашичами с черниговскими Ольговичами – их троюродными братьями, Юрий передал Переяславль своему младшему единоутробному брату Андрею, прозванному Добрым, и вернулся в Суздальскую землю. Однако вся борьба и за Переяславль, и за Киев была ещё впереди. Один из наиболее беспокойных и воинственных князей своего времени, Юрий отнюдь не считал себя удовлетворённым и жаждал реванша.
Обилие сыновей служило для него своего рода запасом династической прочности. Сыновья должны были стать и наиболее надёжными его помощниками как в Суздальской земле, так и в борьбе за власть над Южной Русью. Между прочим, само наречение сыновей свидетельствовало об определённых амбициях суздальского князя. «В сложной и многоступенчатой системе наследования [княжеских] столов, сложившейся на русской почве, имя нередко определяло те династические перспективы, на которые новорожденный мог рассчитывать по замыслу своих ближайших родственников», – пишут современные исследователи княжеской антропонимики древней Руси[10]. Так, имя Ростислав, которое Юрий дал своему первенцу, прямо отсылало к имени его дяди, младшего брата Владимира Мономаха Ростислава Всеволодовича, княжившего в Южном Переяславле (он погиб в 1093 году в битве с половцами на реке Стугне). Будущий же Боголюбский, скорее всего, получил имя в честь прадеда, великого князя Киевского, а прежде князя Переяславского (и притом первого в ряду переяславских князей!) Всеволода Ярославича, звавшегося Андреем в крещении. К XII веку это имя стало восприниматься уже не просто как крестильное, но и как княжеское, родовое. Как известно, русские князья в течение долгого времени получали, как правило, по два имени – помимо княжеского ещё и христианское, данное при крещении. Но для Андрея Боголюбского это имя было единственным[11]. Он не первым в роду Мономашичей получил его. Под именем Андрей (и также одновременно и крестильным, и княжеским) известен его дядя, упомянутый выше князь Андрей Владимирович Добрый. Это имя пополнило собой не слишком длинный к XII веку список христианских имён тех из князей Рюриковичей, кто был особенно почитаем в княжеском семействе и чьи христианские имена стали восприниматься как княжеские, – помимо Всеволода (Андрея), это Креститель Руси Владимир Святой (в крещении Василий), святые Борис и Глеб (Роман и Давыд) и Ярослав Мудрый (Георгий, или Гюрги, Юрий, как произносилось это имя на Руси). Соответственно, имена Василий (Василько), Роман, Давыд, Юрий (Гюрги), Андрей и добавившиеся к ним Иван и Михаил (Михалко) расширили ограниченный круг собственно княжеских имён.
Нет полной ясности и относительно того, кого из соименных ему святых князь Андрей Юрьевич считал своим небесным покровителем. Имя Андрей прежде всего отсылало к памяти апостола Андрея Первозванного, особо почитавшегося русскими людьми. Напомню, что сам Киев находился под его незримым покровительством: по преданию, апостол своими руками поставил крест на днепровских кручах, предсказав будущее величие города. При князе Всеволоде Ярославиче в Киеве был основан Андреевский монастырь, а в Переяславле-Южном – церковь во имя Андрея на главных въездных воротах города. Для князя Андрея Юрьевича апостол Андрей был личным, «патрональным» святым, и день его памяти, 30 ноября, он отмечал особо – церковной службой, пожертвованием в храм, богатым угощением и раздачей милостыни. Но, в соответствии с традицией, сложившейся в древней Руси, князь почитал и других Андреев – мученика Андрея Стратилата, пострадавшего при римском императоре Максимиане (его память празднуется 19 августа), святого Андрея, архиепископа Критского, автора «Покаянного канона», который звучит во всех православных храмах на первой неделе Великого поста (память 4 июля; этот день позднее станет днём памяти и самого Андрея Боголюбского), святого Андрея Юродивого, по легенде, жившего в Константинополе в X веке (память 2 октября). Все они также должны были восприниматься им как небесные покровители, и к их заступничеству князь прибегал в молитвах в разные моменты своей жизни[12].
В переводе с греческого языка имя Андрей означает «мужественный». Надо полагать, будущий Боголюбский с юных лет старался соответствовать ему. «Мужеству тезоименитым» называет его летописец. Напомню, что в те далёкие времена очень высока была детская смертность. Выживали действительно сильнейшие. Как и прочие дети, не исключая и появившихся на свет в княжеских семьях, Андрей конечно же болел (в частности, современные антропологи выявили у него признаки перенесённого в детстве рахита – весьма распространённого тогда заболевания)[13]. И то, что он сумел справиться с болезнями, да и просто выжить, – пожалуй, главная из побед, одержанных им.
Надо сказать, что природа щедро одарила князя! Известно, что в зрелом возрасте он отличался недюжинной физической силой. Исследования тех же антропологов, изучавших его костные останки, показали, что Андрей был очень широк в плечах и даже в старости обладал развитой мускулатурой и мощной грудной клеткой. Особенно развиты были у него мышцы рук, натренированные для «активной силовой работы» («при отсутствии тонкой моторики», – замечают современные специалисты). Мощные мышцы ног выдают в нём прекрасного наездника, способного также и к длительным пешим перемещениям[14]. Его рост – около 170 сантиметров – для той эпохи считался чуть выше среднего. (В «Истории…» В. Н. Татищева князь описан так: «Ростом был невелик, но широк и силен вельми, власы чермные, кудрявы, лоб высокий, очи велики и светлы»[15]. Правда, насколько можно доверять этому словесному портрету, сказать трудно; не исключено, что перед нами плод сочинительства историка XVIII века. Едва ли какое-либо отношение к реальной внешности князя имеет и его описание в позднейшем «Иконописном подлиннике», заметно отличающееся от татищевского: «Подобием рус, волосы мало кудреваты, брада не велика, аки князя Бориса»; и далее о том, в каких одеждах следует изображать князя: «…ризы княжеские, шуба бархатная, багряная, выворот соболей, на главе шапка княжеская, опушка соболья, исподняя риза лазоревая, и в сапогах»[16].)
Конечно, с возрастом накопятся болезни, начнут сказываться многочисленные ранения, полученные в битвах. Но в молодые годы князь был полон сил и энергии; его отличали исключительная храбрость и неудержимость на поле боя: в битвах он один стоил нескольких воинов – в этом нам предстоит убедиться очень скоро, когда речь пойдёт о начале его военной карьеры. Свою молодецкую удаль Андрей проявлял и во время охоты – излюбленного занятия всех русских князей; об этом мы тоже будем говорить отдельно.
Однако физическая крепость и доблесть – это лишь одна сторона его деятельной натуры. Как и другие потомки великого киевского князя Владимира Мономаха, Андрей должен был хорошо знать знаменитое «Поучение» своего деда, которое бережно сохранялось в княжеской семье. Обращаясь к сыновьям и всем, «кто прочтёт грамотицу сию», Мономах рисовал тот идеальный образ, которому следовал сам и которому должны были следовать другие князья. И главными здесь были отнюдь не телесные, но нравственные добродетели, идеалы богобоязненности и милосердия, трудолюбия и смирения, глубокой ответственности князя не только перед своими подданными, но перед Богом. «Прежде всего, Бога ради и души своей, страх Божий имейте в сердце своём» – эта первая и главная заповедь Мономаха являла собой и завет отца детям, и наставление князьям, и – в полном смысле этого слова – его политическую программу, ибо исполнение христианского долга, следование путём общеизвестных христианских истин и было, по его убеждению, единственной прочной основой подлинно справедливого мироустройства, единственным способом сохранения мира и согласия между князьями. Исполнять эту заповедь на деле, в реальной жизни, оказывалось очень трудно, почти невозможно, – но Андрей искренне стремился к этому. «Поучение» Мономаха содержало и обычные житейские правила поведения, которыми должны были руководствоваться его дети и внуки. «Более же всего убогих не забывайте, но сколько можете по силам вашим, кормите, и сироте милостыню подавайте, и вдовицу сами оправдывайте, а не давайте сильным погубить человека, – учил Мономах. – Ни правого, ни виноватого не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет достоин смерти, не губите никакой души христианской… Если же будете крест целовать братии или ещё кому, то, проверив сердце своё, на чём можете устоять, на том целуйте, а дав целование, соблюдайте его, чтобы, нарушив, не погубить души своей. Епископов, и священников, и игуменов почитайте; с любовью принимайте от них благословение, и не отстраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы принять по их молитве от Бога. Более всего гордости не имейте в сердце и в уме…» И далее: «Старых почитай, как отца, а молодых – как братьев. В дому своём не ленитесь, но за всем смотрите… На воевод не полагайтесь; ни питью, ни еде не потворствуйте, ни спанью… Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда: оттого ведь душа погибает и тело. Куда бы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам ни своим, ни чужим вред причинять ни сёлам, ни посевам, чтобы не начали проклинать вас. Куда же пойдёте и где остановитесь, напоите, накормите жаждущего. А более всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришёл: простолюдин ли, или знатный, или посол. Если не можете одарить – то пищей и питьём: они ведь, проходя, прославят человека по всем землям или добрым, или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. И мимо человека не пройдите, не поприветствовав, доброе слово ему скажите. Жену свою любите, но не дайте им над собою власти. А вот вам конец всему: страх Божий имейте превыше всего». И ещё: «Чего умеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь… Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что доброе, прежде всего к церкви: да не застанет вас солнце в постели…»[17]
Несомненно, Андрей старался следовать этим заветам, понимая и принимая их вполне буквально. Как нам предстоит убедиться, его – во всяком случае в молодые годы – отличали особая совестливость, милосердие, чувство справедливости, которые он будет проявлять даже во время военных походов. Это качества, которые не так часто встречаются среди князей. Лихой вояка, он предпочитал мир ссоре и не раз пытался остановить отца, желавшего воевать и дальше. Войну, пролитие крови он искренне считал тягчайшим испытанием для себя и, выступая на брань, исповедовался перед своим духовным отцом, принимал причастие, отстаивал литургию в храме – на этот счёт у нас есть надёжные свидетельства источников, и мы ещё будем говорить об этом. Любовь к слову Божию, к чтению книг, забота о церковном строительстве – это тоже отличительные черты его характера, как и отвращение к пьянству, неприятие хмельного. А милосердие и заботу о нищих летописцы будут ставить в особую заслугу князю, сравнивая его в этом отношении с Крестителем Руси Владимиром, чья благотворительность вошла в легенду.
Да и другие призывы Мономаха находили горячий отклик в сердце его внука. «Сий благоверный и христолюбивый князь Андрей от млады версты (то есть с юных лет. – А. К.) Христа возлюбив и Пречистую Его Матерь… яко полату красну душу украсив всими добрыми нравы, – напишет о нём летописец, автор посмертной похвалы, включённой в рассказ о его трагической гибели. – …На весь бо церковный чин и на церковникы отверзъл [ему] Бог сердечнеи очи; [и] не помрачи ума своего пьяньством, и кормитель бяшеть черньцемь и черницам и убогым, и всякому чину яко вьзлюбленый отець бяшеть; паче же милостынею бяше милостив… Мужьство и ум в немь живяше, правда же [и] истина с ним ходяста, [и] иного добродеяния много в нем бяше, и всяк обычай добронравен имеяшеть…»[18]
Впрочем, мы опять забегаем вперёд. В рассказе о жизни Боголюбского мы встретимся и с совсем другими свойствами его натуры, другими, негативными отзывами о нём современников. Но летописец, автор посмертной похвалы, словно бы забывает об этом. Мученическая кончина очищала князя от прежних прегрешений, и его предшествующая жизнь стала восприниматься как приготовление к подвигу, а описание его жизни приблизилось по жанру к настоящему житию святого.
В рассказе о юности Андрея Боголюбского нельзя обойтись ещё без одной пространной цитаты. Когда в начале XVIII века князь будет причислен к лику святых, во владимирском Свято-Боголюбском монастыре напишут его Житие. Понятно, что в распоряжении составителей Жития не было никаких свидетельств о детстве и юности князя, а потому, повествуя о нём, они следовали некоему заданному шаблону, агиографическому образцу, воссоздавая идеальный образ святого, идеальную картину его возмужания и обретения им христианских добродетелей, в числе которых оказались и благомыслие, и кротость, и почти монашеский аскетизм, душевная и физическая чистота, и любовь к духовному чтению и церковным песнопениям:
«…От юного бо возраста и от младых ногтей Христа возлюбив, от мирских суемудрий отврати себе, душетленных же и богоненавистных игр и бесовских сонмищ до конца возгнушався: ни на что бо ему бе тщание от сущих мира, точию и поучением книжным и к церковному пению. Гласы божественными всегда оглашаше ушеса своя, святых книг поучений сладце послушающи, отнюду же притяжа себе зачало премудрости: страх Божий и премудрость разума писаний святых. Всегдашния же бе у него бдения всенощная и утаенных молитв к Богу присвоение; многой же пищи и сладких яств (в другом варианте: «сладких аромат». – А. К.) и любоплотия до конца отвратися, сим всем телу своему немилостив враг бысть; чистотою украшен, милостынею к нищим богат… бяше же измлада тих и кроток зело и боголюбив, яко всем зрящим дивитися; и сего ради Бог бяше с ним неотступно… Сей святый великий князь Андрей, яко от утренния зари светозарное солнце, на небесную высоту деяний божественных пресветло возшед, и яко крин (лилия. – А. К.) цветяше в добропребываниих день и нощь, преспевая в законе Господни».
А вот как чуть ниже описываются столь же идеальные внешний облик и душевные качества князя: «Вкупе же и видом благородия и телесным благолепием вельми украшен, паче всех сродник своих: благородием бо и благолепием лица предзыде их, яко солнце всех светил; храбростию же и силою в воинстве, и смыслом благоразумия, и премудростию Божественных писаний зело восхвален. Тако его Бог почте и украси прежде будущих в житии сем, яко верна своего угодника!»
Не станем рассуждать о том, насколько эти восторженные слова агиографа XVIII века могли соответствовать действительности. Скажем о другом. Как бы там ни было в молодости, время наложит заметный отпечаток на князя. Бывший образчиком множества добродетелей, которые признавались и его современниками, он с течением лет будет меняться, и не всегда в лучшую сторону. Совестливость и сочувствие чужой беде, о которых мы говорили выше, со временем уступят место осознанию собственной непогрешимости и правоты – всегда и во всём. И слова Мономаха: «Паче всего гордости не имейте в сердце и в уме» – словно бы в насмешку будут оттенять самую, пожалуй, заметную черту в характере позднего Андрея Боголюбского, которого современник-летописец с упрёком обвинит именно в гордости и непомерном высокоумии.
Что ж, бывает и так. Самые лучшие, самые притягательные свойства характера с течением жизни порой превращаются в свою противоположность – и в истории Андрея Боголюбского нам ещё предстоит столкнуться с этим.
Брак с Кучковной
Ещё один эпизод в биографии князя Андрея Юрьевича нашёл отражение исключительно в поздних, почти не поддающихся проверке источниках. Речь идёт о женитьбе князя.
Об этом рассказывается в так называемой «Повести о начале Москвы» – сочинении некоего московского книжника XVII века. В центре повествования здесь – основание Юрием Долгоруким «царствующего великого града Москвы» – «третьего Рима», «зачало» чему, как выясняется, «бысть не без крове же, но по пролитию же и по заклании кровей многих»[19]. Шествуя из Киева «во Владимир град к сыну своему князю Андрею Юрьевичу», рассказывает автор, Юрий «прииде на место, иде же ныне царьствующий град Москва». В то время «обо полы Москвы реки», то есть по обоим её берегам, находились «сёла красныя», которыми владел некий весьма богатый «болярин» по имени Кучка, или Кучко, Стефан Иванович (полностью его имя приводится лишь в некоторых списках памятника). «Возгордевся зело», боярин отказался почтить князя «подобающею честию, яко же довлеет (подобает. – А. К.) великим княземь, но и поносив ему к тому жь». «Не стерпя хулы его той», князь повелел «того болярина ухватити и смерти предати»; сам же «взыде на гору, и обозрев с неё очима своими семо и овамо по обе страны Москвы реки и за Неглинною, и возлюби сёла оныя, и повелевает на месте том вскоре соделати мал древян град, и прозва его званием реки тоя – Москва град по имени реки, текущия под ним».
(В одной из версий «Повести…» начало истории с боярином Кучкой изложено по-другому: Юрий якобы сам послал его из Киева во Владимир к сыну своему Андрею, «занеже в то время бысть князь Андрей Юрьевич болен вельми». Андрей «пожалова» боярина «многими дары» и отпустил обратно к отцу; по дороге тот остановился на реке Москве, и эти места так понравились ему, что по прибытии в Киев он выпросил их для себя у князя Юрия Долгорукого[20]. В других источниках о болезни Андрея сведений нет.)
У боярина Кучки остались дети: двое сыновей, «млады суще и лепы зело», звавшиеся Пётр и Аким (Яким), и «дщерь едина», «такова же благообразна и лепа суща, именем Улита» (впрочем, и эти имена присутствуют не во всех списках «Повести…»). Юрий Долгорукий отослал их к своему сыну Андрею. «И потом князь великий отходит во Владимир к сыну своему князю Андрею Боголюбскому и сочетовает его браку со дщерию Кучковою, с нею же князь Андрей и сыны приживе, но млады отъидоша к Богу (в некоторых вариантах в единственном числе и с дополнительной подробностью: «…и единаго сына приживе, и млад отиде ко Господу, от злые оные своея жены»[21]. – А. К.). И быв у него отец его великий князь Юрьи Владимирович довольно время… и тако возвращается… в Киев, с ним иде и сын его князь Андрей Юрьевич Боголюбский».
Эта история датируется в «Повести…» сугубо апокалиптическим 6666 годом, то есть 1158-м от Рождества Христова, – совершенно неправдоподобным, если учесть, что к тому времени Юрия Долгорукого уже не было в живых. Да и вообще, весь этот рассказ мало похож на правду, хотя некоторые подробности, несомненно, заслуживают внимания.
Так, вполне исторической личностью был сам боярин Кучка (Кучко). Его имя сохранилось в топонимике Северо-Восточной Руси: волость «Кучка» упоминается в Суздальской земле, а урочище «Кучково поле» известно в средневековой Москве, в районе позднейших Сретенских ворот. В XII веке саму Москву нередко называли Кучково («Кучково, рекше Москва»), что свидетельствует о её бывшей принадлежности названному лицу. Летописям известны и сыновья Кучки, Яким Кучкович с братом, а также некий Пётр, «Кучков зять» (в «Повести…» Пётр и Яким ошибочно названы братьями). Вполне вероятно, что на дочери Кучки и в самом деле был женат князь Андрей Юрьевич, чем и объясняются пребывание Кучковичей при его дворе и их столь заметное впоследствии влияние на князя.
К какому же времени относится брак Андрея с Кучковной? И на этот вопрос можно ответить лишь приблизительно. Как известно, первое упоминание Москвы в летописи датируется 1147 годом, когда этот город, или, точнее, некое укрепление на месте будущего города, принадлежало уже князю Юрию Владимировичу Долгорукому, пригласившему туда своего союзника, новгород-северского князя Святослава Ольговича. Следовательно, расправа с Кучкой, как и женитьба Юрьева сына имели место ранее этой даты. Известно и то, что дочь Андрея Боголюбского была выдана отцом замуж зимой 1159/60 года; тогда же, по летописи, в первый раз принял участие в военных действиях его старший сын Изяслав, поставленный отцом во главе войска[22]. Очевидно, и тот и другая достигли возраста по крайней мере тринадцати-четырнадцати лет. А значит, появились на свет никак не позже 1145 года, а сам князь вступил в брак ещё раньше, скорее всего, в начале 40-х годов XII века.
Вступление в брак – поворотное событие в жизни князя, свидетельство его полной дееспособности, зрелости. Ещё более важным событием было рождение сына – будущего князя, продолжателя династии. Андрей в этом смысле оказался на высоте. Всего по источникам известны четверо его сыновей. Летописи называют троих – Изяслава, Мстислава и Георгия (Юрия). Последний появился на свет уже после смерти Юрия Долгорукого, почему и получил его имя. Ко времени смерти Андрея он был совсем мал. Ещё один, Глеб, в ранних летописях не упоминается; его имя известно лишь из поздних, не слишком надёжных источников[23]. Все сыновья Андрея получили значимые имена, принадлежащие к княжескому именослову. Изяслав, по всей вероятности, был назван в честь второго сына Владимира Мономаха, княжившего в Курске и претендовавшего на Муром (Изяслав Владимирович погиб ещё юным в междоусобной войне со своим двоюродным дядей Олегом Святославичем Черниговским); Мстислав – в честь другого Мономашича, великого князя Киевского; Юрий, как уже говорилось, – в честь деда, Юрия Долгорукого, а Глеб, скорее всего, получил имя в честь своего дяди, князя Глеба Юрьевича, княжившего в Переяславле-Южном, а позднее и в Киеве. Забегая вперёд скажу, что трое из четырёх сыновей Андрея умрут при жизни отца. Впрочем, о их судьбе, равно как и о судьбе Юрия, пережившего отца и оставившего заметный след в истории не только России, но и Грузии, мы ещё будем подробно говорить на страницах книги.
Имелись у Андрея и дочери. Одна – та самая, которая была выдана замуж в 1159/60 году. В. Н. Татищев называет и её имя – но в разных местах своей «Истории…» по-разному: в одном случае Ростислава, в другом – Мария[24], и едва ли его свидетельства на сей счёт могут быть приняты на веру. О второй дочери князя известно лишь из краткой летописной записи о её смерти в 1166 году; впрочем, в данном случае не исключена какая-то путаница в летописном тексте[25].
Все ли дети Андрея Юрьевича появились на свет в одном браке? По-видимому, нет. Известно, что третий сын Андрея Боголюбского Юрий был ещё совсем «дитя», даже не отрок, когда у его второго сына Мстислава родился первенец. А это косвенно может свидетельствовать о том, что матери у обоих Юрьевичей были разные. О том же говорят и показания поздних источников, к которым, правда, полного доверия быть не может. В так называемом Тверском летописном сборнике, составленном в XVI веке, а также в ряде других летописцев Андреева супруга именуется «болгаркой родом», и надо полагать, что речь идёт не о Кучковне, а о второй жене князя. Судя по летописному рассказу, Андрей вступил с ней в брак после своего знаменитого похода на Волжскую Болгарию в 1164 году. Если так, то Кучковна к тому времени либо умерла (о чём прямо сообщает Татищев в одном из вариантов своей «Истории…»)[26], либо была оставлена князем. Правда, это противоречит дальнейшему рассказу «Повести о начале Москвы» об убийстве Андрея Боголюбского, в котором фигурирует именно «Кучкова дщерь» (по версии указанных выше летописей, в убийстве Андрея была замешана «болгарыня», мстившая мужу за разорение родной земли).
Вернёмся к «Повести о начале Москвы». Ещё одним сюжетом этого произведения и стало убийство князя Андрея Юрьевича. Жене князя отведена здесь зловещая роль мужеубийцы, а рассказ о её вражде с мужем высвечивает ещё одну черту в характере и образе жизни Андрея Боголюбского. Впрочем, не будем забывать о том, что и в данном случае мы имеем дело отнюдь не с реальным владимиро-суздальским князем, но с князем-мучеником и святым, чей образ выписан автором в лучших традициях агиографического жанра.
«Сей… благоверный великий князь Андрей, – продолжает автор «Повести…», – …ни о чесом земном печашеся, но токмо достизаша небесная…»: отвращаясь греха, он предавался сну только «на жестокой посланней постели» и «плотского смешения с женою до конца ошаяся (уклонялся, избегал. – А. К.)», так что «ниже во снех ему соблазны женская мечтахуся» (то есть даже во сне не соблазняясь греховными помыслами). Это пришлось не по нраву его любострастной супруге, требовавшей от мужа «пригорновения (то есть ласок. – А. К.) и плотскаго смешения». Злобствуя на мужа, княгиня вовлекла в заговор братьев, находившихся у князя «в велицей чести»: «с ними убо жена его совещася зломыслием на господина своего великого князя Андрея Юрьевича». А дальше, как мы уже знаем, последовала кровавая развязка…
Исследователи допускают, что в убийстве князя и в самом деле могла участвовать его жена (впрочем, об этом речь пойдёт позже, ближе к концу книги). Но вот остальные подробности, приведённые московским книжником XVII века, включая его объяснение причин, по которым княгиня пошла на неслыханное преступление, – не более чем вымысел, плод досужей фантазии и литературных вкусов автора, результат его начитанности в тогдашней исторической беллетристике. Об этом можно говорить с достаточной степенью уверенности – хотя бы потому, что и характеристика князя, включая его отказ от плотского сожительства с супругой, и характеристика супруги дословно заимствованы из другого источника и относятся совсем к другой исторической эпохе и другим историческим персонажам. Источник этот давно уже выявлен исследователями – это рассказ так называемого Русского Хронографа в редакции 1512 года об убийстве византийского императора Никифора Фоки, жившего в X веке; причём главным организатором убийства – как и в случае с Боголюбским – названа здесь жена Никифора царица Феофано, которой молва приписывала смерть по крайней мере трёх императоров – двух мужей и одного свёкра. В Хронографе читаем почти то же, что в «Повести о начале Москвы»: царь Фока «…долу легания на жестокопостланней постели… и плотскаго смешениа до конца ошаяся и ни во снех мечташеся ему… Но бяху неугодна сиа царици, требоваше пригорновениа и плотьскаго смешениа…» и т. д.[27] Рассказ же этот попал в Хронограф из славянского перевода «Хроники» византийского историка XII века Константина Манассии. Ни к Андрею Боголюбскому, ни к русской истории никакого отношения он не имеет.
На самом же деле Андрей относился к своей супруге (правда, опять-таки неясно, к какой именно) с искренней любовью и даже нежностью. Мы крайне редко имеем возможность судить о подобных вещах, особенно когда речь идёт о столь отдалённой эпохе. Но здесь случай исключительный, особый, ибо в нашем распоряжении имеется уникальный источник, проливающий свет на эту, обычно закрытую от посторонних глаз сферу жизни князя. В созданном при его непосредственном участии Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией Матери (в так называемом «Чуде 4-м») описан эпизод, имевший место во Владимире в первой половине 60-х годов XII века, скорее всего ещё до похода князя на Волжскую Болгарию. Однажды, на праздник Успения Пресвятой Богородицы (15 августа неизвестного года), князь, как обычно, пребывал в церкви, на заутрени, и вместе со всеми пел величание Пречистой Деве. Но «сердцем, – пишет автор Сказания, – боляше, бе бо княгини его боляше детиною болезнию», то есть должна была разрешиться от бремени, но никак не могла этого сделать. По окончании службы князь омыл Владимирскую икону водою и ту воду послал княгине; «она же вкуси воды тоя и роди детя здраво, и сама бысть здрава том часе молитвами Святая Богородица»[28]. По всей вероятности, здесь идёт речь об обстоятельствах рождения либо сына Юрия, либо некой дочери князя, из других источников неизвестной. Но эта удивительная подробность – о том, как князь «боляше сердцем» за свою жену (повторю ещё раз: подробность совершенно уникальная, немыслимая в летописном повествовании о князьях того времени!) – многое говорит нам об Андрее Юрьевиче и о свойствах его души. В этом рассказе он предстаёт перед нами не суровым воином, не знающим страха и упрёка, но нежным и заботливым супругом. А вот какие чувства питала к нему столь горячо любимая им жена и не она ли замешана в заговоре против него и его жестоком убийстве – об этом нам остаётся только гадать.
Под отцовскими стягами
Юные свои годы князь Андрей почти безотлучно провёл в Суздальской земле, к которой успел прикипеть всей душою[29]. Но летописи, как уже было сказано, начинают замечать его только тогда, когда он покидает суздальские пределы. А делать это ему приходилось исключительно по воле отца, втянутого в долгую и упорную борьбу за Киев с другими русскими князьями. Поход на Рязань, с которого мы начали своё повествование, и стал одним из звеньев в длинной цепи событий, связанных с этой борьбой.
Ещё Владимир Мономах при своей жизни определил порядок, по которому стольный Киев должен был остаться за его потомками, а именно за представителями старшей ветви, идущей от его старшего сына Мстислава. Но пока что порядок этот держался в тайне. Выполняя волю отца и следуя договорённости с братом, князь Ярополк Владимирович, занявший киевский стол после смерти Мстислава в апреле 1132 года, перевёл старшего Мстиславича Всеволода из Новгорода в Переяславль – дабы впоследствии, после его смерти, тот сел на княжение в Киев (благо сам Ярополк был бездетен). Против этого и выступил Юрий Долгорукий, разгадавший замысел брата. Борьба за Переяславль продолжалась несколько лет, в течение которых город несколько раз менял своего владельца, и завершилась лишь зимой 1134/35 года. Новым переяславским князем стал младший брат Юрия Андрей, не имевший особых амбиций, а потому и не внушавший опасений другим князьям. Но борьба эта дорого обошлась князьям «Мономахова племени». Былая сплочённость уступила место вражде – прежде всего между Юрием и его племянниками, сыновьями его старшего брата Мстислава, и самым энергичным и талантливым из них – князем Изяславом Мстиславичем (его старший брат Всеволод умер в Пскове в феврале 1138 года). Этим и воспользовались давние противники Мономашичей – князья Черниговского дома, принявшие участие в войне на стороне Мстиславичей. Глава Черниговского дома, князь Всеволод Ольгович, находился в свойстве с Мстиславичами, будучи женат на их сестре. Он всячески поддерживал шурьёв, не забывая, впрочем, и о собственных интересах: именно в результате войны 1134/35 года Ольговичам отошли город Курск и «Посемье», некогда входившие в состав Переяславской волости. Так тщательно выстроенная Мономахом конструкция будущего устройства Русской земли при полном господстве его дома рассыпалась, обратилась в ничто – во многом из-за неудовлетворённых амбиций его шестого сына Юрия Долгорукого, не пожелавшего примириться с отведённой ему ролью правителя отдалённого «Залесского» удела. И когда 18 февраля 1139 года в Киеве скончался князь Ярополк Владимирович, князья «Мономахова племени» удержать Киев не смогли. Занявший место брата следующий по старшинству сын Мономаха Вячеслав, князь слабый и безвольный, не способный действовать самостоятельно, сумел продержаться на киевском столе всего десять дней: 22 февраля 1139 года он вступил в Киев, а уже 5 марта был изгнан из города Всеволодом Ольговичем, который и стал новым великим князем Киевским.
Карта 1. Общая схема русских княжеств XII века (по И. А. Голубцову)
Юрий узнал о случившемся с большим опозданием. Конечно же он не смирился. Однако его попытка организовать совместный с племянниками поход на Киев успехом не увенчалась. Изолированный в своём «залесском» углу, он не имел возможности влиять на ход событий.
Всё поменялось после смерти Всеволода Ольговича в самом конце июля или начале августа 1146 года. Незадолго до смерти Всеволод объявил своим преемником брата Игоря, ссылаясь при этом на пример Владимира Мономаха: «Володимир посадил Мьстислава, сына своего, по собе в Киеве, а Мьстислав Ярополка, брата своего. А се я молвлю: оже мя Бог поиметь, то аз по собе даю брату своему Игореви Киев». С этим решением главы Черниговского дома должны были согласиться не только его родной брат Святослав, князь Новгород-Северский, но и двоюродные братья Давыдовичи, Владимир и Изяслав, княжившие в Чернигове, а также Изяслав Мстиславич, ставший к тому времени князем Переяславским (его дядя, Андрей Добрый, умер в январе 1142 года). Все они целовали крест на том, чтобы признать Игоря киевским князем. Но, как оказалось очень скоро, и Давыдовичи, и Изяслав Мстиславич целовали крест не с чистым сердцем, но лишь для вида. Признавать Игоря в его новом качестве они не собирались.
Ольговичей не любили в Киеве, и князь Изяслав Мстиславич не замедлил воспользоваться этим. Вступив в тайные переговоры с киевлянами и заручившись их поддержкой, он двинул свои полки на Игоря. Поддержали Мстиславича и так называемые «чёрные клобуки» – торки, берендеи и другие «свои поганые», расселённые ещё в XI веке на окраинах Русской земли, в Поросье (землях по реке Рось), в пределах Киевского и Переяславского княжеств, и несшие здесь, помимо прочего, сторожевую службу, выполняя роль своего рода буфера между Русью и Степью. И когда 13 августа 1146 года у валов Киевской крепости началось сражение, киевское войско перешло на сторону Изяслава. Дружины Ольговичей были рассеяны и большей частью перебиты; князья обратились в бегство. Святославу Ольговичу удалось бежать за Днепр; Игорь же, болевший ногами, заехал в болота и спустя три дня был схвачен и приведён к Изяславу. Новый киевский князь повелел заковать своего недавнего соперника в железа и отправил в Переяславль, где посадил в «поруб» – монастырскую темницу без окон и дверей. (Там князь сильно разболелся и в январе 1147 года, с позволения Изяслава, принял монашеский постриг, после чего был переведён в Киев, в Фёдоровский монастырь. Судьба Игоря сложится трагически: 19 сентября того же 1147 года, в отсутствие в городе Изяслава, князь-инок будет растерзан обезумевшей от ненависти толпой, выразившей таким страшным способом поддержку любимому Изяславу.) Изяслав сумел найти общий язык и с Давыдовичами. Черниговские князья слишком долго находились на вторых ролях, оттеснённые двоюродными братьями. И теперь, после катастрофы, постигшей «Ольгово племя», они думали прежде всего о том, как бы устранить возможных соперников в борьбе за черниговский стол и заполучить их волость – Северскую землю. Испросив разрешение на войну у Изяслава Мстиславича и получив от него помощь, братья Давыдовичи двинулись к Новгороду-Северскому. Князю Святославу Ольговичу не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к Юрию Долгорукому. Суздальский князь ни при каких условиях не признал бы права своего племянника на киевский стол. Едва ли не единственный из тогдашних князей, он обладал таким экономическим и военным потенциалом, который позволял ему вести борьбу за Киев со всеми Мстиславичами и Давыдовичами сразу.
Так началась новая война, в которой союзником Юрия стал князь Святослав Ольгович. Юрий выразил готовность помочь ему. Однако при этом выговорил несколько условий: во-первых, Святослав должен был признать его «старейшинство», а во-вторых, сыну Юрия Ивану должны были перейти Курск и «Посемье» – те самые территории, которые некогда брат Юрия Ярополк передал брату Святослава Всеволоду и в которых после этого княжил сам Святослав. Ольгович на все условия согласился. В конце ноября или в декабре 1146 года Юрий, собрав войско, двинулся было в Черниговскую землю – на соединение со Святославом. Однако дойти ему удалось только до Козельска – небольшой крепости на реке Жиздре, левом притоке Оки. Его дальнейшему продвижению воспрепятствовал великий князь Изяслав Мстиславич, который тоже не сидел сложа руки.
Когда Изяславу стало известно о союзе между Юрием и Святославом и о намерении Юрия принять участие в военных действиях, он немедленно отправил гонцов к муромскому и рязанскому князю Ростиславу Ярославичу, веля тому напасть на владения Юрия. Муромские князья имели свои счёты с суздальскими. Ростислав, двоюродный брат Ольговичей и Давыдовичей, стал муромским князем совсем недавно, после смерти в 1145/46 году своего родного брата Святослава. Он изгнал племянников, сыновей Святослава Ярославича, из княжества, а главным городом сделал Рязань, в которой княжил и раньше. На решимость Ростислава принять участие в войне, по всей вероятности, повлияло то, что изгнанные им племянники нашли пристанище у Святослава Ольговича и Юрия Долгорукого. Победа этих князей неизбежно должна была поколебать позиции Ростислава в собственном княжестве. А потому он с готовностью подчинился требованию Изяслава Киевского и принялся, по выражению летописца, «стеречи» суздальские волости, то есть изготовился к нападению, а затем, наверное, и напал на них. Но расчёт его оказался неверным. Узнав о действиях рязанского князя, Юрий повернул обратно, ограничившись тем, что отпустил к Святославу Ольговичу своего сына Ивана с небольшой дружиной (позднее он пришлёт ему и более внушительное подкрепление).
Упомянутый выше поход сыновей Юрия Ростислава и Андрея на Рязань и был ответом на действия Ростислава Рязанского. Юрьевичи выступили в январе – феврале 1147 года[30]. Рязанский князь принять бой не решился и бежал в Половецкую землю, к тамошнему князю Елтуку, своему союзнику. Вынужден был покинуть Рязань и его сын Глеб, которого, по сведениям поздних рязанских источников, тогда же приняли на княжение в город Друцк, в Полоцкой земле. Никаких иных сведений о действиях Юрьевичей источники не приводят, но есть основания полагать, что результатом похода стало временное подчинение Муромской и Рязанской земель суздальскому князю. На княжение туда Юрий посадил союзных ему сыновей князя Святослава Ярославича: в Муром – Владимира, а в Рязань – сначала Давыда, а после его смерти в следующем году – Игоря. Правда, союз с Рязанью просуществует лишь до тех пор, пока сам Юрий будет оставаться в Суздальской земле. Когда же он покинет её и уйдёт на княжение в Киев (это случится в 1149 году), Ростислав Ярославич вернёт себе Рязань, а ставленникам суздальского князя придётся бегством спасаться из города.
Как видим, о каких-либо самостоятельных действиях Андрея Боголюбского в этом первом для него известном из летописей военном предприятии сведений нет – его имя значится вторым, после имени его старшего брата Ростислава, что свидетельствует о его подчинённом по отношению к брату положении. Но результаты похода оказались блестящими – и в этом, несомненно, была заслуга и Андрея.
В рассказе о дальнейших событиях войны – до начала первого киевского княжения Юрия Долгорукого – имя Андрея также не упоминается. В отличие от имён его братьев – младшего Глеба и старшего Ростислава. Именно Глеб, а не Андрей, был послан отцом взамен умершего Ивана к князю Святославу Ольговичу; к нему же перешли и права на Курск и «Посемье», обещанные ранее Ивану. Отличавшийся храбростью, но не всегда осмотрительностью, Глеб развил кипучую деятельность. В конце лета или осенью 1147 года он без боя занял Курск, изгнав оттуда Изяславова сына Мстислава, затем Городец Остёрский, некогда принадлежавший его отцу Юрию (на реке Остёр, левом притоке Десны, на пограничье Переяславской, Черниговской и Киевской земель), после чего попытался захватить и Переяславль, но потерпел неудачу и с большими потерями был отброшен от города князем Мстиславом Изяславичем. Когда к Городцу подошли основные силы Изяслава, Глеб в течение трёх дней выдерживал осаду, но затем был вынужден сдаться, признав права Изяслава на Киев. Что же касается Ростислава Юрьевича, то он пытался вести самостоятельную игру, действуя независимо от отца и даже, кажется, вопреки его интересам. Так, посланный отцом весной или летом 1148 года на помощь князьям Давыдовичам (с которыми Юрий к тому времени помирился), Ростислав вступил в переговоры с Изяславом Мстиславичем, заключил с ним мир и получил от него ряд городов, в том числе и тот самый Городец Остёрский, из которого был выведен его брат Глеб. Историки спорят о причинах, которые толкнули Ростислава на этот шаг: стало ли это следствием умелой дипломатии Изяслава, предательства ли Давыдовичей, о котором своевременно узнал Ростислав, или же результатом его действительной размолвки с отцом («Отець мя переобидил и волости ми не дал», – жаловался Ростислав своему двоюродному брату). А быть может, перед нами не что иное, как хитроумная комбинация, придуманная самим Юрием Долгоруким для того, чтобы вернуть себе Городец Остёрский, а заодно внести раскол в лагерь противника (так полагал, например, В. Н. Татищев, считавший, что «сластолюбивый и свирепый нравом» Ростислав был послан отцом в Киев «для ухищрения Изяслава», что впоследствии и открылось). Так или иначе, но в походе на Суздальскую землю, организованном в феврале – марте 1149 года братьями Мстиславичами – Изяславом Киевским и Ростиславом Смоленским, – Ростислав Юрьевич участия не принимал. По возвращении же из похода Изяслав Мстиславич обвинил двоюродного брата в том, что тот в его отсутствие злоумышлял против него: «…удумал был тако: оже (если бы. – А. К.) на мя Бог отцю твоему помогл, и тобе было, въехавши в Киев, брата моего яти, и сына моего, и жена моя, и дом мой взяти». Ростислав пытался оправдаться, но безуспешно: Изяслав слушать его не захотел и отослал обратно к отцу, причём обставил всё так, чтобы как можно сильнее унизить его. Была ли вина Ростислава действительной, или его оклеветали перед Изяславом, неизвестно. Князя посадили в «насад» (ладью) и всего с четырьмя слугами выслали в Суздаль; дружину бросили в заточение, а всё имущество, включая оружие и коней, отобрали. Юрий воспринял случившееся как оскорбление, нанесённое ему лично, а сына простил (если тот действительно был виноват перед ним). Изгнание Ростислава и лишение его удела стали поводом для новой войны между Юрием и Изяславом. «Тако ли мне нету причастья в земли Русстей и моим детем?!» – патетически восклицал суздальский князь, готовясь к выступлению на Киев. Напомню, что «Русской землёй» в XI–XII веках называли преимущественно Южную Русь – прежде всего Киевскую и Переяславскую земли.
Андрей, по всей вероятности, пребывал при отце – и зимой 1149 года, когда войска Изяслава и Ростислава Мстиславичей разоряли северо-западные области Суздальской земли – Кснятин, Углич, Мологу и Ярославль (до настоящих военных действий тогда не дошло: к Суздалю, где находился с войсками Юрий, князья идти не решились, а вскоре, опасаясь распутицы, повернули к Новгороду, ведя за собой обозы с захваченным добром и множество пленных); и летом, когда Юрий сам выступил в поход на Изяслава. Участвовал Андрей и в судьбоносной для его отца битве у Переяславля 23 августа того же года. Тогда Юрий расположил полки своих сыновей «по праву», то есть на правом крыле, а «по леву» – дружины своих союзников, Святослава Ольговича и его племянника Святослава Всеволодовича (сына Всеволода Ольговича); сам же встал в центре. И именно мужество и стойкость Юрьевых сыновей и их ратников решили исход сражения. Хотя сам Изяслав Мстиславич, наступавший на левое крыло Юрьева войска, сумел смять и прорвать полк Ольговичей и опрокинуть половину полка самого Юрия, его собственный левый фланг не выдержал удара Юрьевичей и их дружин, поддержанных союзными им «дикими» половцами. «И бысть сеча зла межи ими, – свидетельствует летописец, – и первое побегоша поршане (жители Поросья, то есть «чёрные клобуки». – А. К.), и потом Изяслав Давыдовичь, и по сих кияне»[31]. На сторону Юрия перешли и переяславцы, признавшие в нём своего князя. Победа суздальского войска оказалась полной. Осознав безнадёжность своего положения, Изяслав бежал и, «сам-третей», то есть всего с двумя спутниками, переправившись через Днепр у Канева, укрылся в Киеве; туда же собрались и остатки его дружины. На следующий день князь держал совет с киевлянами и братом Ростиславом: киевляне по-прежнему благоволили ему, но биться за него с Юрием отказались. Ростислав отправился в свой Смоленск, а Изяслав – на Волынь: готовиться к новой войне с Юрием. В этой новой войне киевляне обещали поддержать его. «Ведаета, – говорили они Изяславу и его брату, – оже нам с Гюргем не ужити (не ужиться. – А. К.). Аже по сих днех кде узрим стягы ваю (ваши. – А. К.), ту мы готовы…» Ещё три или четыре дня спустя в Киев торжественно вступил князь Юрий Владимирович Долгорукий, наконец-то исполнивший свою мечту и воссевший на «златом» киевском престоле. Киевляне приветствовали его, выражая полнейшую покорность – по крайней мере внешне. Тогда же, по вокняжении, Юрий «урядился» с Давыдовичами и со Святославом Ольговичем, которому были возвращены и Курск с «Посемьем», и принадлежавшие ранее Давыдовичам области по реке Сновь (в Черниговской земле), и ряд других городов. За Давыдовичами остался Чернигов. Раздал Юрий княжения и своим сыновьям, рассадив их в ближних к Киеву городах. Старшему, Ростиславу, достался «отчий» Переяславль, Борису – Белгород (близ Киева), Глебу – Канев. Андрей был посажен отцом в Вышгород (это второе упоминание его имени в летописи)[32]. Вышгород представлял собой не только сильную крепость, прикрывавшую Киев с севера, со стороны Чернигова, но и один из главнейших духовных центров древней Руси, ибо именно здесь хранились святые мощи князей-мучеников Бориса и Глеба – небесных покровителей всего Русского государства и княжеского семейства в особенности. Первое княжение Андрея в Вышгороде оказалось очень непродолжительным, однако, как нам ещё предстоит убедиться, этому городу суждено будет сыграть особую роль в его судьбе.
На княжении в Суздале Юрий оставил одного из своих младших сыновей – юного Василька, родившегося во втором браке. Возвращаться сюда Юрий не собирался, хотя и понимал, что ресурсы Суздальской земли необходимы ему и обойтись без них он не сможет. Старшие же сыновья должны были неотлучно находиться при нём. Ибо и Юрию, и всем остальным было ясно, что борьба за Киев ещё далека от своего завершения.
«Мужество паче всех»
Первое киевское княжение Юрия Долгорукого продолжалось немногим менее года. Андрей по-прежнему участвовал во всех военных предприятиях отца, действуя, как правило, вместе со старшим братом Ростиславом.
В январе 1150 года, получив известие о том, что Изяслав Мстиславич собрал у себя «угров» и «ляхов» (то есть венгерские и польские войска) и готовится к походу на Киев, Юрий двинул свои полки на Волынь. Андрей и Ростислав шли впереди его войска и первыми вступили в Пересопницу – город на правом берегу реки Стублы (притока Горыни), на пограничье Киевской и Волынской земель (в нынешней Ровенской области Украины). Здесь княжил старший брат Юрия, «незлобивый» Вячеслав Владимирович. Обиженный в своё время племянником Изяславом и опасавшийся его крутого нрава, Вячеслав предпочёл поддержать Юрия и сам позвал брата защитить его. Вслед за старшими сыновьями в Пересопницу вошли и полки Юрия; подоспела и помощь из Галича, от нового союзника Юрия, могущественного галицкого князя Владимира (Владимирка) Володаревича, которого побаивались не только русские князья, но и правители сопредельных государств. На стороне Юрия воевали и половцы. Хотя они и считались злейшими врагами Руси и причиняли русским землям великие бедствия, князья в своих бесконечных войнах охотно прибегали к их помощи, и редкая междоусобица обходилась без их участия. Изяслав Мстиславич со своими союзниками – польскими князьями и венгерскими воеводами – находился в то время к западу от Горыни – в Луцке, городе на реке Стыри (притоке Припяти), а затем продвинулся ещё немного на восток и остановился у небольшого городка Чемерин. Однако до сражения на этот раз не дошло. Дядья и племянник вступили в переговоры друг с другом; польские и венгерские союзники Изяслава с видимой радостью покинули русские пределы, а сам Изяслав возвратился во Владимир-Волынский. Казалось, дело идёт к миру, но договориться князьям так и не удалось. Юрий расценил миролюбие племянника как проявление слабости и, несмотря на уговоры брата Вячеслава, возобновил военные действия. «Выжену (изгоню. – А. К.) Изяслава, а волость его всю переиму» – такие слова князя приводит летописец.
Вместе с сыновьями Ростиславом, Андреем, Борисом и Мстиславом, а также братом Вячеславом (который хотя и пытался перечить Юрию, но во всём вынужден был подчиняться ему) Юрий направился к Луцку. В авангарде, как и раньше, двигались его сыновья, а также летучие половецкие отряды во главе с приставленным к ним опытным воеводой Жирославом (или Жидиславом, как по-другому звучало его имя). Причём Андрей с половцами действовал несколько впереди, а Ростислав с братьями следовал за ним. В Луцке же в то время находился младший брат Изяслава, князь Владимир Мстиславич (он был рождён во втором, новгородском браке Мстислава и приходился остальным братьям «Матешичем», то есть сыном от мачехи, как его чаще всего и называли). Он и готовил город к обороне.
Поход к Луцку и сражение за Луцк представляют для нас особый интерес, поскольку впервые дают возможность взглянуть на князя Андрея Юрьевича в боевой обстановке, увидеть его живой образ, ярко выступающий за летописными строками. Это не частый случай в русском летописании. Столь отчётливо выраженные личностные, индивидуальные черты в изображении князя свидетельствуют о том, что уже в начале своей военной карьеры Андрей выделялся на фоне других князей – прежде всего своей отчаянной храбростью.
Двигаясь к Луцку, Юрьевичи остановились на ночь у Муравицы – какого-то населённого пункта на востоке Волынской земли. Что здесь произошло, доподлинно неизвестно – летописец выражается довольно туманно и неопределённо: «…ставшим им у Муравици, и бы[сть] [в] ночь пополох зол», так что половцы вместе с воеводой Жирославом в страхе бежали. О причине «пополоха» никто ничего не знал; с минуты на минуту ожидали нападения основных сил противника. Ростислав, остановившийся не доходя Муравицы, потребовал, чтобы Андрей немедленно явился к нему. Тот брата не послушал, но остался на месте – «стерпе пополох той». При этом Андрей оказался без большей части дружины и без половцев; угроза попасть в плен представлялась вполне реальной, о чём ему и не замедлили напомнить: «Андреева же дружина, приездяче к нему, жаловахуть: “Что твориши, княже?!” и “Поеди, княже, прочь, аже ли (то есть в противном случае. – А. К.), добудем сорома”». Пленение князя и в самом деле стало бы «соромом» (срамом), легло бы несмываемым пятном на дружину, однако перебороть страх ни половцы, ни дружинники Андрея и его брата Ростислава не смогли. В отличие от самого Андрея: «Андрей же не послуша их, но, възложи надежю на Богъ, пережда до света». Утром выяснилось, что ничего страшного за ночь не произошло; угроза оказалась мнимой. Андрей «похвали Бога, укреплешаго и (укрепившего его. – А. К.), и еха к брату своему и половецьским князем»[33].
Оправдан ли был риск? Может быть и нет. Но рассуждать на этот счёт можно лишь с точки зрения здравого смысла, который в условиях войны, особенно войны той эпохи, далеко не всегда определял логику поведения сторон. Андрей не просто проявил храбрость и выдержку, что само по себе не могло не вызывать уважения. Важнее другое: он открыто объявил о том, что возлагает упование на Бога – и оказалось, что Бог на его стороне. А это давало ему такое моральное преимущество, которым мог похвастаться далеко не каждый князь. Обратим внимание ещё на один аспект произошедшего. Андрей, очевидно, позаботился о том, чтобы этот эпизод – совершенно незначительный в истории той войны – остался в памяти современников, был зафиксирован неким близким к нему книжником, летописцем из его окружения, – благодаря чему мы и можем прочитать о нём сегодня. Что и говорить, похвальная предусмотрительность. И она характеризует Андрея как человека не только храброго, но и дальновидного, способного извлечь из своей храбрости вполне ощутимую выгоду, – по крайней мере уже после того, как горячка боя осталась позади. Историки древнерусского летописания определённо пишут о существовании некоего особого «Летописца Андрея Боголюбского», который вёлся в окружении князя в конце 40-х – начале 50-х годов XII века и следы которого сохранились в отдельных статьях Ипатьевской и Лаврентьевской летописей за эти годы[34].
В ещё большей степени храбрость Андрея проявилась несколько дней спустя, а именно 8 февраля 1150 года, в сражении у стен Луцкой крепости. Причём храбрость князя граничила с безрассудством. В отличие от эпизода у Муравицы, на этот раз он подвергал свою жизнь действительно смертельной опасности – и вновь рассказ о случившемся нашёл своё место в летописном изложении событий.
Когда Андрей, покинув Муравицу, соединился с братьями и половецкими князьями, они решили отступить ещё немного назад, чтобы дождаться отца. Однако оказалось, что Юрий с основными силами движется к Луцку другим путём; более того, он обогнал сыновей и уже подошёл к городу. Юрьевичи также двумя путями устремились к Луцку. Андрей по-прежнему двигался в передовом отряде. Когда он приблизился к городским стенам, то увидел развёрнутые стяги своего отца; тот уже вступил в битву. Впрочем, сражение протекало довольно вяло: лучане и «пешцы» Владимира «Матешича», выйдя из города, перестреливались с ратниками Юрия из луков, не сближаясь с ними. Сыновья Юрия поспешили поддержать отца. Но действия Андрея при этом оказались не понятыми его братьями: «не ведущим [им] мысли брата своего Андрея, яко хощеть ткнути на пешие (то есть атаковать «пешцев». – А. К.), – объясняет летописец, – зане и стяг его видяхуть не възволочен (не развёрнут. – А. К.)». Андрей начал действовать без всякой предварительной подготовки, не обставляя своё наступление привычными внешними атрибутами, вроде разворачивания стягов или трубных сигналов к бою. «Не величаву бо ему сущю на ратный чин, но похвалы ищющю от единого Бога, – свидетельствует летописец, – темь же пособьем Божьим, и силою крестною, и молитвою деда своего (Владимира Мономаха. – А. К.) въехав преже всех в противныя, и дружина его по нем, и изломи копье свое в супротивье своем». «Изломить копьё» означало начать битву, вступить в непосредственное соприкосновение с противником. Но лучане принимать бой не собирались. Видя стремительное нападение нового врага, «пешцы» отступили к крепости по «гробли», то есть по оборонительному валу. Андрей едва ли не в одиночку устремился за ними. Его порыв не поддержали не только братья, по-прежнему не понимавшие его действий, но и собственная дружина, за исключением двух «меньших детских», то есть двух младших дружинников, княжеских слуг, которые, «видев же князя своего в велику беду впадша», бросились ему на выручку. Положение Андрея было отчаянным, «зане обьступлен бысть ратными (врагами. – А. К.), и гнаста по нем». Во время этой лихой схватки его конь был ранен двумя копьями, третье воткнулось в переднюю луку седла. «А с города, яко дождь, камение метаху на нь (на него. – А. К.), един же от немчичь (немецких наёмников, служивших Изяславу Мстиславичу. – А. К.), ведев и (то есть узнав его. – А. К.), хоте просунути рогатиною, но Бог сблюде»[35]. Андрей уже готовился проститься с жизнью, вспоминал о несчастной судьбе другого русского князя, павшего в битве со своими сродниками, – великого князя Киевского Изяслава Ярославича (погибшего в битве на Нежатиной Ниве в 1078 году): «помысли и рече собе в сердци: “Се ми хочеть быти Ярославича смерть”[36], и помолися к Богу, и, выня меч свой, призва на помочь собе святаго мученика Феодора (Феодора Стратилата, память которого праздновалась в тот день. – А. К.), и по вере его избави и Бог без вреда и святый мученик Феодор». В неменьшей степени Андрей был обязан спасением своим «детским», один из которых, защищая его, погиб. А ещё – собственному коню: хотя тот и был «язвен велми», то есть сильно изранен, но всё же сумел вынести князя из схватки. Сразу же после этого конь (по-древнерусски «комонь») пал. «Жалуя комоньства его», Андрей повелел похоронить коня на высоком берегу Стыри – с почестями, подобающими таковому подвигу. Вот и ещё один штрих для характеристики князя, свидетельство особой чувствительности его натуры. Впрочем, это можно рассматривать и как свидетельство живучести тех, ещё языческих, представлений о боевом коне и его роли в судьбе всадника, которые проявились, например, в истории величайшего воителя древности Александра Македонского, хозяина знаменитого Буцефала, или легендарного русского князя Олега Вещего.
Подвиг Андрея был по достоинству оценён современниками. И его отец Юрий, и дядя Вячеслав, и другие князья «вся радовахуся, видевше жива, и мужи отьни (отцовская дружина. – А. К.) похвалу ему даша велику, зане мужьскы створи паче бывших всих ту», – отмечает тот же летописец. И здесь в действиях князя современники увидели прежде всего не безрассудство и неоправданный риск, но Божье изволение, явственно проявившееся на нём. «Многажды бо Бог уметаеть в напасть любящая Его, но милостью Своею избавляеть» – вот главная мысль всего летописного рассказа.
(В поздней Никоновской летописи XVI века акценты смещены и оценки действиям князя даны иные, пожалуй, более понятные нам, с точки зрения наших сегодняшних представлений о военном искусстве и оправданности тех или иных действий. Когда Андрей явился к отцу и другим князьям, те, «видеша его пришедша к ним жива и охапивше (обняв. – А. К.) его, от радости начаша плакати, глаголюще сице: “Почто, возлюбленне, сам себе в напасть даеши?!.. Несть убо се мужество, но неискуство и неучение”. И много наказавше его утешиша, и сняша с него доспех, и много ран, не имуще крови, обретоша на нём».)
Осада Луцка продолжалась три недели. Стойкость защитников города сорвала планы Юрия по завоеванию Волыни. Вновь начались переговоры о мире. Юрию пришлось пойти на них в том числе и потому, что за мир ратовал его союзник, а в скором будущем и сват, князь Владимирко Галицкий (в том же 1150 году дочь Юрия Ольга будет выдана замуж за его сына Ярослава). С его мнением приходилось считаться. Создатель единого Галицкого княжества, изворотливый и умелый политик, Владимирко уже давно враждовал с Изяславом Мстиславичем. Но полное поражение Изяслава не входило в его планы: более всего он противился объединению в одних руках Киева и Волыни (что непременно произошло бы в случае победы Юрия), справедливо усматривая в этом угрозу для своего княжества. А потому, когда Изяслав обратился к нему с просьбой о посредничестве, Владимирко охотно согласился.
Ход начавшихся переговоров позволяет увидеть Андрея ещё с одной стороны. Оказывается, отчаянная храбрость уживалась в нём с миролюбием – сочетание, редко встречающееся в военной среде. Примечательно, что двое старших Юрьевичей – Ростислав и Андрей, всегда действовавшие заодно друг с другом, – заняли при обсуждении вопроса о мире диаметрально противоположные позиции. Ростислав так и не простил Изяславу Мстиславичу обиду, которую тот нанёс ему в Киеве, а может быть, чувствовал за собой какую-то вину перед ним – и потому решительно воспротивился мирным переговорам[37]. В этом его поддержал другой князь, оказавшийся в окружении Юрия Долгорукого, – Юрий Ярославич, сын бывшего владимиро-волынского князя Ярослава Святополчича, вероятно, имевший свои виды на Волынь. Андрей же проявил себя горячим сторонником мира. «Сущю бо ему милостиву на свой род, паче же на крестьяны (христиане. – А. К.)», – пишет о нём всё тот же летописец, его восторженный почитатель. Андрей стал уговаривать отца не слушать злые советы Ярославича, но помириться с Изяславом: «Примири сыновца к собе, не губи отцины своея». А затем повторил формулу, к которой всегда прибегали князья, желая остановить войну: «Мир стоит до рати, а рать до мира». Андрей, несомненно, умел говорить ярко и образно, обладал даром красноречия, что в те времена высоко ценилось среди князей. Заметим, что в его речи (текст которой в летописи, к сожалению, дошёл до нас не полностью, но с существенными пропусками) были повторены слова библейского псалма, которые когда-то цитировал князь Владимир Всеволодович Мономах в своём знаменитом письме Олегу Черниговскому, предлагая тому помириться: «Отце господине, помяни слово писаное: “Се коль добро [и коль красно], еже жити братие вкупе!” (ср.: Пс. 132: 1)». Если мы вспомним, что всего несколькими неделями раньше, в сражении у Луцка, Андрей уже обращался к небесному заступничеству своего великого деда, то вполне можем признать, что и в данном случае он ссылался не на одну только Псалтирь царя Давида, но и на письмо Мономаха, которое, вероятно, знал наизусть.
В марте, предположительно в двадцатых числах, мир наконец-то был заключён. По его условиям, Киев оставался за Юрием, а Владимир-Волынский – за Изяславом. Юрий обещал также вернуть добычу и челядь, захваченные им в битве у Переяславля. Впоследствии невыполнение именно этого пункта договора стало причиной новой войны между князьями.
Что же касается Андрея, то в его судьбе после заключения мира произошла важная перемена. По возвращении в Киев Юрий вызвал к себе брата Вячеслава. Речь шла о том, чтобы передать ему Киев, на который старший из братьев, несомненно, имел больше прав, чем Юрий. Договорённость на этот счёт существовала между ними и раньше («Аз Киева не собе ищю, – якобы говорил Юрий, отправляясь на войну с Изяславом, – оно у мене брат старей Вячьслав, яко и отець мне, а тому его ищю»). Однако из этой договорённости ничего не вышло. По выражению летописца, Юрия «размолвиша» с братом бояре. «Брату твоему не удержати Киева, – вполне резонно заявили они. – Да не будеть его ни тобе, ни оному». Несколько иная версия представлена в поздней Никоновской летописи, где отказ Юрия от передачи киевского стола брату объясняется происками его сыновей – правда, всех ли или только некоторых (прежде всего, Ростислава?), неизвестно. Вступление Вячеслава в Киев «неугодно бысть сыновомь князя… – писал московский книжник, – князю же Юрью Владимеричю не слушающу детей своих, они же начаша глаголати бояром отца своего. Бояре же собравшеся и шедша, реша великому князю…». Так или иначе, но в словах бояр была очевидная истина: без поддержки Юрия простодушный и недалёкий умом Вяче-слав не мог удержать Киев. Да Юрий и без них должен был понимать это. Вероятно, бояре лишь озвучили его собственные мысли, позволили при принятии решения сослаться на то, что он якобы подчиняется чужой воле. Именно так летопись объясняет действия князя: «послушавшю бояр», Юрий вывел из Вышгорода своего сына Андрея и дал Вячеславу вместо Киева Вышгород. Пересопницу же, бывшую волость Вячеслава, Юрий забрал себе. Сюда он направил на княжение своего сына Глеба, который заодно получил и принадлежавший тому же Вячеславу Дорогобуж. Вячеслав подчинился, хотя решение брата сильно обидело его, и он ещё припомнит это Юрию. Кому достался Канев – прежняя волость Глеба Юрьевича, источники не сообщают. Равно как молчат они и о реакции Андрея Юрьевича на случившееся.
Выбор Глеба в качестве князя, который должен был «стеречь» волости Изяслава, можно признать ошибкой Юрия Долгорукого: со своей задачей, как мы увидим, Глеб не справится. Андрей же никакой волости взамен Вышгорода, кажется, не получил. Вероятно, безрассудная храбрость, проявленная им у Луцка, произвела впечатление на отца. Пока что Андрей должен был находиться рядом с ним в Киеве.
* * *
Обвинив Юрия в неисполнении крестного целования, а именно в отказе вернуть захваченное у Переяславля добро, Изяслав вновь выступил из Владимира-Волынского. Недостаток сил, которыми он располагал, с лихвой компенсировали его решительность и несомненные полководческие дарования.
Юрий и его сыновья оказались не готовы к новому повороту событий. Глеб, которому надлежало «сторожить» Изяслава, был застигнут врасплох: Изяславу удалось «изъехать», то есть обойти его, отрезав его дружине пути отступления в город. Сам Глеб едва успел вбежать в Пересопницу, однако дружина, «товары» и кони были захвачены Изяславом. Пришлось и Глебу сдаваться на милость двоюродному брату – заметим, уже во второй раз за три года. Изяслав отнёсся к нему с подчёркнутым уважением: посадил обедать с собой, а позднее и вовсе отпустил к отцу. Он всячески показывал, что воюет не с сыновьями Юрия, но лишь с их отцом. «Вы мне братия своя, до вас нету речи никоеяже, – говорил он Глебу. – Но обидить мя твой отець, а с нами не умееть жити». Это были почти те же самые слова, с которыми некогда Изяслав обращался к старшему Юрьеву сыну Ростиславу, когда тот пришёл к нему в Киев: «Всих нас старей отець твой, но с нами не умееть жити. А мне дай Бог вас, братию свою, всю имети и весь род свой в правду, ако и душю свою». То, как действовал Юрий, коробило Изяслава Мстиславича. Он отстаивал свои «отчинные» права на Киев, заветы своего деда Владимира Мономаха, но вместе с тем и «правду» (конечно, в его собственном понимании), «рыцарские», если так можно выразиться, принципы ведения войны. Однако рассорить Юрьевичей с отцом ему так и не удалось.
Юрий тоже не сумел угадать замысел своего племянника. Если он и ожидал нападения, то, вероятно, с «главного», западного направления. Однако Изяслав повернул на юг, в земли «чёрных клобуков», которые «с радостию великою» начали стекаться к нему «всими своими полкы». Они и раньше охотно поддерживали Мстиславичей, и теперь готовы были воевать против нелюбимого ими Юрия. Так силы Изяслава сразу же увеличились многократно. Начали сбываться и слова киевлян, обещавших поддержать Изяслава в случае его новой войны с Юрием. Юрий же не оценил вовремя угрозу, слишком поздно обратился за помощью к своему свату Владимирку Галицкому и черниговским князьям. Тем требовалось время для того, чтобы собрать полки. Не видя возможности защищать Киев, Юрий решился бежать: «и перебеже за Днепр с сынми своими», как сообщает Киевская (Ипатьевская) летопись. В Хлебниковском списке той же Ипатьевской летописи сказано иначе: «с сыном своим» – то есть, вероятно, с одним только Глебом. (Или, может быть, с Андреем?) Всё это происходило, вероятно, в самом конце весны или начале лета 1150 года[38]. Юрий укрылся в Городце на Остре. Его старший сын Ростислав, напомню, сидел в Переяславле. Два этих города и стали его главными опорными пунктами в Южной Руси.
И всё же поход Изяслава во многом оставался авантюрой. Сил для того, чтобы сохранить за собой киевский стол, у него явно недоставало. А потому, когда союзники Юрия начали стягивать свои полки к Киеву, удержать город он не смог. В конце августа того же 1150 года Изяслав попытался было принять бой, собрал войско из верных ему «чёрных клобуков» и киевлян и направил его против подошедшего Владимирка Галицкого, который казался ему наиболее опасным противником. Однако собранная им рать попросту разбежалась, убоявшись силы галицкого князя и многочисленности его войска. Пришлось возвращаться на Волынь и Изяславу. Так, с помощью союзников, спустя три месяца после своего бегства из Киева, Юрий вновь занял великокняжеский стол. Киевляне поспешили признать его – очевидно, стремясь не допустить в город Владимирка, стоявшего со своими полками возле самых городских стен. Этого князя – совершенно чужого и враждебного им – они страшились ещё больше, чем Юрия.
Казалось, для Юрия всё складывается вполне благополучно. Но за время его трёхмесячного отсутствия в Киеве произошло событие, внешне весьма незначительное, но оказавшее существенное влияние на ход последующей борьбы за великокняжеский стол. Изяславу удалось примириться со своим дядей, князем Вячеславом Владимировичем. И не просто примириться, а заключить с ним договор, рассчитанный на длительную перспективу. Задуманная им политическая комбинация полностью меняла расстановку сил, переводила его отношения с Юрием Долгоруким в совершенно новую плоскость. В вышгородской церкви Святых Бориса и Глеба, у самых гробниц князей-мучеников, Изяслав и его дядя целовали крест на том, что отныне «Изяславу имети отцемь Вячеслава, а Вячеславу имети сыном Изяслава». Теперь Изяслав мог претендовать на Киев и править в Киеве, прикрываясь «старейшинством» Вячеслава, как бы от его имени. Сама идея этого политического альянса – заслуга даже не Изяслава, а его брата Ростислава Смоленского, князя весьма умного и дальновидного, неохотно принимавшего личное участие в междоусобных войнах, но при любых раскладах безоговорочно поддерживавшего своего брата. Простодушного Вячеслава договор с племянником вполне устроил. Изяслав же таким хитрым способом пресёк претензии на «старейшинство» со стороны Юрия Долгорукого, лишил суздальского князя главного козыря, который давал ему преимущественные права на великокняжеский стол, с точки зрения тогдашних представлений о «старейшинстве».
Впрочем, сейчас нас интересует не столько Юрий, сколько его сын Андрей. В борьбе отца за Киев он по-прежнему принимал самое деятельное участие.
Так, вскоре после первого изгнания отца из Киева Андрей направился в Переяславль, к своему брату Ростиславу. Отец послал его туда по просьбе самого Ростислава. Дело в том, что Изяслав Мстиславич сразу же по вокняжении в Киеве поручил своему сыну Мстиславу Канев, «веля ему оттоле Переяславля добыти». Сделать это Мстислав должен был, опираясь прежде всего на «чёрных клобуков». Собирая вокруг себя отдельные их роды, Мстислав обратился за поддержкой к турпеям – многочисленному торкскому роду, расселённому по левому берегу Днепра, в пределах Переяславского княжества. Узнав о его намерениях, Ростислав тотчас послал за помощью к отцу. С этой помощью и явился к нему Андрей. Сам же Ростислав поспешил к Сакову – главному городу в земле турпеев. Ему удалось захватить кочевников врасплох: «поимав» их, князь отогнал их к Переяславлю, под защиту городских стен. Трудно сказать, вошли ли турпеи в состав его войска и, если вошли, насколько оказались надёжны. Но такова уж была обычная практика русских князей в отношении «своих поганых»: когда опасались, что они могут перейти на сторону противника, их силой изгоняли с прежних мест обитания или «переимали» их жён, детей и имущество. Ну а пока Ростислав гонялся за турпеями, Андрей находился в Переяславле, готовя город к возможному нападению Изяслава или его сына[39].
Старший брат Андрея Ростислав – фигура во многом противоречивая. Поздние источники изображают его человеком коварным и мстительным (в чём мы уже имели возможность убедиться). Но в Суздальской земле он оставил по себе добрую память: спустя много лет после его смерти жители Ростова и Суздаля будут вспоминать о том, что князь Ростислав Юрьевич «добр был, коли княжил у нас» (или, в другом варианте летописи: «коли жил у нас»)[40]. Судя по этим словам, Ростислав добился от отца какой-то волости в Суздальской земле и правил ею до своего ухода на юг вполне разумно, не ссорясь с местными «мужами». Неясными остаются и их взаимоотношения с Андреем. Братья всегда помогали друг другу, это правда – но насколько искренни они были при этом? Задаваться таким вопросом приходится потому, что позднее, став суздальским князем, Андрей с крайней неприязнью будет относиться к сыновьям Ростислава и даже выгонит племянников из своей земли.
Но вернёмся к событиям 1150 года. Уже после возвращения Юрия в Киев Андрею пришлось продемонстрировать и свои дипломатические способности. Готовясь к войне с Изяславом, Юрий послал за помощью к половцам – своим всегдашним союзникам. Но когда половцы наконец-то собрались и подошли к Переяславлю, их помощь оказалась не нужна: Юрий овладел Киевом без них. Однако союзники Юрия не привыкли возвращаться домой с пустыми руками. Поскольку поживиться за счёт врагов Юрия им не удалось, они принялись разорять окрестности Переяславля: «пакостящим ся людем, сбегшимъся в град», так что те не имели возможности даже выпустить за городские стены свой скот.
Ни Юрий, ни союзные ему черниговские князья ещё не распустили своих полков. Сначала Юрий послал к Переяславлю младшего из черниговских князей Святослава Всеволодовича, дабы тот «укротил» половцев и «воротил» их обратно в степи. Но сделать это – несмотря на традиционные связи черниговских князей с «чужими погаными» – Святославу не удалось: кочевники продолжали свои бесчинства. Пришлось вновь посылать в Переяславль Андрея. Какие аргументы тот нашёл, использовал ли своё родство с половцами по матери или ограничился щедрыми подарками и посулами, неизвестно, – но половцев удалось «укротить», то есть заключить с ними мир, после чего они наконец покинули пределы Руси. Это случилось незадолго до 14 сентября – праздника Воздвижения честного креста. Летописец называет этот день – единственный хронологический ориентир во всём рассказе о событиях, связанных со вторым вокняжением Юрия в Киеве, – только потому, что Андрей задержался в Переяславле. Он с искренней ревностью относился ко всем православным обрядам и остался у брата «праздника деля»: «праздноваша у церкви Святаго Михаила честный праздник Креста Господня» и лишь «на утрий день» возвратился к отцу в Киев. Андрей и позднее с особым чувством будет относиться к кресту – символу торжества христианской веры. И в его позднейшей истории почитание креста принесёт ему одну из наиболее значимых побед.
Той же осенью 1150 года Андрей получил от отца Пересопницу – город, который в событиях этой войны играл особую роль. Помимо Пересопницы и Дорогобужа, ему достались также Туров и Пинск – города, являвшиеся центрами самостоятельных княжеств еще в X веке, но к середине XII века вошедшие в состав Киевской земли. Всё это были прежние волости князя Вячеслава Владимировича, по-прежнему пребывавшего в Вышгороде. «Андрей поклонивъся отцю своему и шед, седе в Пересопници», – свидетельствует летописец[41]. Находясь здесь, Андрей должен был сдерживать Изяслава Мстиславича. Но можно думать, что, наделяя сына столь значимыми городами, Юрий стремился в какой-то степени удовлетворить его княжеские амбиции. Он по-прежнему не желал видеть своих старших сыновей в Суздальской земле, предназначая её исключительно для младших. Старшие же, и Андрей в их числе, должны были закрепиться на юге, сделаться здесь «своими». Насколько это трудно, если не сказать – невозможно, Юрий ещё не осознавал – по всей вероятности, в отличие от Андрея. Княжение в Пересопнице или Дорогобуже вряд ли пришлось Андрею по нраву. Здесь его явно не любили. Не из-за каких-то его личных качеств – исключительно как Юрьева сына.
Впрочем, за время своего недолгого владения Туровом Андрей, кажется, сумел найти общий язык с некоторыми влиятельными людьми в городе. Так, известно о его знакомстве с будущим туровским епископом, а тогда, вероятно, ещё монахом и «столпником» (затворником), уроженцем Турова Кириллом – крупнейшим писателем домонгольской Руси. Мы ещё будем говорить о их переписке, относящейся к следующему десятилетию и связанной с острым церковно-политическим кризисом, поразившим Северо-Восточную Русь в годы княжения Андрея Боголюбского.
Второе киевское княжение Юрия Долгорукого оказалось ещё короче, чем первое. Ближе к зиме в Пересопницу, к Андрею, прибыли послы из Владимира-Волынского. «Въведи мя к отцю твоему в любовь», – просил Изяслав Мстиславич двоюродного брата. А далее жаловался на свою злую судьбу: «…Мне отцины в Угрех нетуть, ни в Ляхох, токмо в Руской земли. А проси ми у отца волости Погорину». Однако переговоры о мире были лишь одной – и, кажется, даже не главной – целью его посольства. На самом деле, как замечает летописец, посланцы Изяслава исполняли ещё одну роль – лазутчиков. Князь повелел им «розирать» (разведать) расположение Андреевых войск: «како город стоить». Изяслав хорошо помнил о том, как ловко «изъехал» прежнего пересопницкого князя Глеба Юрьевича, и теперь хотел повторить то же с его братом.
Андрей поверил в искренность его мирных намерений, а потому обратился к отцу с очередной просьбой пойти навстречу волынскому князю и тем самым завершить войну. При этом он готов был уступить часть собственной волости – Погорину (земли по реке Горынь). Очевидно, Андрей хорошо понимал всю опасность войны с Изяславом и всю непрочность положения Юрия в Киеве. Однако Юрий на уговоры сына не поддался и волости по Горыни Изяславу не вернул. А вот относительно сбора информации о «наряде» и «строении» города не всё ясно. В военном отношении Андрей, несомненно, обладал большим опытом, чем его брат Глеб, и лазутчикам Изяслава пришлось признать это. Они вернулись к своему князю, убеждённые в том, что взять Пересопницу хитростью или силой не представляется возможным. «Не сбыся мысль его, – пишет об Изяславе летописец, сторонник Андрея, – зане бе утвержен город и дружину (Андрей. – А. К.) совокупил». Но всё же какие-то полезные для себя сведения Изяслав получил: во всяком случае, позднее он будет действовать в окрестностях Пересопницы весьма успешно.
Собственно военные действия начались в конце зимы, предположительно, во второй половине февраля или начале марта 1151 года. Изяслав вместе с братом Владимиром, сыном Мстиславом, а также городенским князем Борисом (двоюродным братом по матери) и присланным ему на помощь десятитысячным венгерским войском подступил к Пересопнице. Остановившись в окрестностях города, немного выше по течению Стублы, он сжёг тамошние укрепления (Заречск). Андрей затворился в Пересопнице вместе со своим двоюродным братом, юным Владимиром, сыном Андрея Доброго. В его задачу входило угрожать Изяславу внезапной вылазкой, а главное – дожидаться подхода галицкого князя Владимирка Володаревича. (Изяслав Мстиславич сделал всё, чтобы нейтрализовать самого опасного из своих противников и даже упросил венгерского короля начать войну с Владимирком. Но война эта закончилась ничем: Венгрия всё больше втягивалась в военное противостояние с Византийской империей, а потому не могла отвлекаться ещё и на длительную и многотрудную борьбу с Галицким княжеством.) Вскоре стало известно, что Владимирко со своими полками выступил в поход. Положение Изяслава сделалось угрожающим: в тылу у него находились и Владимирко, и Андрей, а впереди в любой момент мог оказаться Юрий с многочисленным войском. Но опасность только придала силы князю. Именно в этом походе Изяслав во всём блеске явил своё полководческое искусство. План его был прост. Он решил со всеми имеющимися силами продолжить движение к Киеву, оставив в тылу и Андрея в Пересопнице, и Владимирка. Если галицкий князь сумеет настигнуть его, рассуждал Изяслав, он примет бой («како Бог розсудить с ним»); если же раньше придётся встретиться с Юрием, то «с теми суд Божий вижю, како мя с ним Бог росудить». Судьбу Киева должны были решить не численное превосходство той или иной рати, но напор, стремительность и неожиданность действий. Со всем своим войском Изяслав устремился к Дорогобужу, и оказалось, что дорогобужцы, как и жители других городов по пути к Киеву, рады признать его своим князем.
Между тем Владимирко и Андрей действовали по всем правилам ведения войны. Сославшись друг с другом[42], они договорились о совместном преследовании противника. Андрей покинул Пересопницу и соединился с Владимирком у городка Мыльска (ныне село в Ровенской области Украины). Князья переправились через Горынь и, пустив вперёд «сторожу», сами «с силою великою» устремились за Изяславом. Началось преследование одного войска другим. Продвигаясь к Киеву, Изяслав последовательно переправлялся через реки Случь, Уж и Тетерев. У Святославлей Криницы (где-то между Ужем и Тетеревом) Владимирко и Андрей наконец-то нагнали его. Оба войска расположились так, что волынские сторожа могли видеть галицкие огни, а галичане – огни Изяславовой рати. Но Изяславу и на этот раз удалось перехитрить преследователей. Он повелел своим воинам разложить побольше костров, а сам ночью снялся с места и перешёл к Мичску – городу на Тетереве. И здесь его также встретили как князя. От Звижденя – следующего города по пути к Киеву – князь направил своего брата Владимира к Белгороду, обещая следовать за ним с основными силами. Белгород был форпостом, «пригородом» Киева, непосредственно прикрывавшим его с запада. Здесь сидел сын Юрия Борис, проявивший в эти дни удивительную беспечность. В то время когда Владимир Мстиславич подступил к городу, он пьянствовал «на сеньнице» со своей дружиной и «с попы белогородскими». Если бы не некий «мытник» (сборщик дани), вовремя заметивший неприятеля и успевший «переметать» мост через крепостной ров, Борис непременно попал бы в плен. Ему всё же удалось убежать к отцу в Киев, однако Белгород без всякой борьбы перешёл в руки Мстиславича. Успех был ошеломляющий. Оказалось, что Борис, а значит, и Юрий не имели точных сведений о наступлении Изяслава и совершенно не ожидали нападения! Оставив брата в Белгороде на случай появления здесь Владимирка Галицкого, Изяслав «исполчил» войско и вместе с венграми двинулся к Киеву. Юрию о случившемся стало известно только от сына Бориса. Когда тот прибежал к отцу, Юрий отдыхал в своей загородной резиденции на Красном дворе. Очевидно, все свои надежды он возлагал исключительно на галицкого союзника, даже не допуская мысли, что тот пропустит Изяслава к Киеву. Защищать город Юрий не решился – «убоявся киян, зане имеють перевет ко Изяславу», и, как и год назад, предпочёл бежать. Причем бежать немедленно, лишь с немногими людьми, даже не заезжая в Киев и бросив находящуюся там дружину.
События развивались настолько стремительно, что и Владимирко Галицкий с Андреем Юрьевичем оставались в неведении относительно происходящего. Остановившись у Мичска, они послали «сторожу» разведать, где находится противник, и только тогда узнали, что Изяслав уже занял Киев, а Юрий бежал за Днепр и укрылся в Городце Остёрском.
Во время преследования Изяславовой рати Андрей играл второстепенную роль, во всём подчиняясь галицкому князю. Однако теперь, узнав о постигшей их неудаче, Владимирко обрушил свой гнев прежде всего на него, считая Юрьева сына едва ли не главным виновником случившегося. Галицкий князь пришёл в крайнее раздражение. «Како есть княжение свата моего! – восклицал он, обращаясь к Андрею. – Аже рать на нь из Володимера идеть, а како того не уведати! А ты, сын его, седиши в Пересопнице, а другый [в] Белегороде, како того не устеречи!» А затем заявил, что возвращается в Галич и прекращает военные действия: «Оже тако, княжите с своим отцем, а правите сами, а яз не могу на Изяслава один поити…»[43] Испытать гнев галицкого князя пришлось и мичанам. Владимирко потребовал от жителей откуп серебром, угрожая в противном случае «взять» город «на щит», то есть подвергнуть его полному разграблению, а жителей увести в полон. Серебра у мичан не хватило; пришлось снимать серьги и шейные украшения с себя и своих жён и переплавлять их в гривны. «Володимер же поимав серебро и поиде, тако же емля серебро по всим градом, оли и до своей земли».
Андрей – по-прежнему в сопровождении двоюродного брата Владимира Андреевича – отправился к отцу. Князья приехали на устье Припяти, к «Давыдовой божонке» (вероятно, церкви Святого Глеба), здесь переправились через Днепр и поспешили в Остёрский городок. Когда Андрей встретился с отцом, рассказывает автор поздней Никоновской летописи, князья, «охапившеся (обнявшись. – А. К.), болезнене плакашася на долг час, сице глаголюще: “Увы нам! Како ся нам дети от врага нашего Изяслава Мстиславичя?!”»[44].
Между тем начиналась Страстная неделя. Юрий успел послать за помощью в Чернигов – к братьям Давыдовичам и в Новгород-Северский – к своему свату Святославу Ольговичу (его сын Олег женился к тому времени на дочери Юрия) и теперь ждал от них вестей. Другие гонцы с богатыми дарами отправились к «диким» половцам – словом, всё повторялось точно так же, как год назад…
Но беда, как известно, не приходит одна. 6 апреля 1151 года, в Великую пятницу – день самого строгого поста, – на рассвете, в Переяславле умер старший брат Андрея Ростислав. Вместе с братьями Глебом и Мстиславом Андрей приехал из Городца хоронить брата. Им и суждено было отдать князю последние почести и положить его тело в соборной церкви Святого Михаила, рядом с его дядьями Андреем и Святославом Владимировичами. Теперь Андрей становился старшим среди сыновей Юрия, его главной надеждой и опорой.
* * *
Не станем вдаваться в подробный пересказ событий новой кровопролитной войны за Киев. Андрей принял участие во всех её главнейших сражениях. Вместе с отцом и братьями, а также черниговскими князьями и пришедшими на зов Юрия Долгорукого «чужими погаными» он бился за Днепр, когда Юрий и его союзники долго и безуспешно пытались переправиться через реку, а воины Изяслава не давали им этого сделать. Тогда форсировать Днепр удалось лишь много южнее Киева, у Зарубского брода, почти напротив Переяславля. Автор Киевской летописи приписывал инициативу этого обходного манёвра самому Юрию и его сыновьям; согласно же суздальскому летописцу, замысел принадлежал Святославу Ольговичу и его племяннику Святославу Всеволодовичу. Не совпадают версии летописцев и относительно того, кто из князей возглавил атаку половецкого войска. Стремительно бросившись на конях в воду, половцы переплыли реку и опрокинули немногочисленное охранение, выставленное здесь Изяславом. Зная о том, что Андрей в те годы почти всегда действовал вместе с «погаными», можно предположить его личное участие в сражении за Зарубский брод.
Заметной оказалась роль Андрея и в битве, разыгравшейся у самых стен Киевской крепости. Когда Юрий всё-таки переправился через Днепр, Изяслав отступил к Киеву. Он окружил город несколькими оборонительными линиями. Здесь были и его брат Ростислав с сыном Романом и смоленскими полками, и Владимир «Матешич», и князь Борис Городенский, и Изяслав Давыдович Черниговский (его родной брат Владимир воевал тогда на стороне Юрия Долгорукого – так братья Давыдовичи впервые оказались во враждебных лагерях, и это имело для них роковые последствия). Были здесь и «чёрные клобуки»: берендеи, ковуи и печенеги, пришедшие к Киеву вместе со своими жёнами, детьми и всем скарбом. Подобного скопления войск стольный город Руси ещё не знал. Юрий и его союзники расположились у Лыбеди. Эта речка, местами пересыхающая, местами, наоборот, образующая искусственные пруды, стала последним естественным рубежом перед Киевом. Но натиск Юрьева войска оказался далеко не всеобщим; военные действия развернулись не по всей линии фронта, а лишь на отдельных участках. Андрей и на этот раз сумел проявить себя: действуя вместе с половцами, он и его юный двоюродный брат Владимир «налегоша силою» и переправились через так называемую Сухую Лыбедь – старое пересохшее русло реки. Как мы уже знаем, в пылу сражения Андрей начисто забывал обо всём, терял хладнокровие, а порой и просто рассудок. Так случилось и на сей раз. Устремившись на врагов, он вновь оторвался от собственной дружины, которая потеряла его из вида и даже не знала, где он, а потому и не смогла поддержать его порыв. Андрей гнался за «ратными» «малом не до полков их» и опять едва не оказался во вражеском окружении. К счастью, один из половцев успел ухватить его коня за повод и вернул князя назад; он, половец, а не князь, «лая дружине своей», за то, что те бросили своего князя («зане бяхуть его остали вси половци»)[45]. Но то была вина не столько половцев, сколько самого князя, который обязан был принять во внимание не одну только собственную храбрость, но и готовность остальных сражаться так же отчаянно и бесстрашно, как он. Андрей же этого не сделал. Воин, лихой рубака, в который уже раз победил в нём полководца. Сам он вновь уцелел, «съхранен Богом и молитвою родитель своих», – как обычно, не забывает отметить это обстоятельство автор летописи. Эта фраза сопровождает почти каждый его рассказ о доблестях Юрьева сына – порой, кажется, даже вопреки действительности.
Упомянул летописец и о князе Владимире Андреевиче. Подражая старшему товарищу, он тоже хотел было устремиться на «ратных», но был вовремя остановлен «кормильцем», сопровождавшим его в бою, – «зане молод бе в то время». «Кормилец» – это «дядька»-наставник, воспитатель, приставленный к князю ещё в юности. Такой «кормилец», несомненно, когда-то имелся и у Андрея. Но из летописей о нём ничего не известно, никакой роли в жизни князя он не играл. Вразумить Андрея, охладить его бешеный пыл оказалось некому – кроме разве что случайного половца, сражавшегося в тот день бок о бок с ним.
Битва продолжалась до вечера. Ещё на некоторых участках Юрьевы войска смогли переправиться через Лыбедь, однако развить успех им не удалось. По большей части воины ограничивались тем, что перестреливались с неприятелем через реку, то есть действовали весьма пассивно. Это дало возможность Изяславу Мстиславичу перестроить свои полки и всеми силами обрушиться на противника, опрокинуть его и обратить в бегство.
Но бегство это не было паническим. Юрьево войско отступало вполне организованно. Князья словно бы поменялись ролями: теперь Юрий отступал, а Изяслав двигался за ним. Суздальский князь осознанно уклонялся от битвы – он ждал подхода галицкой рати, ибо его сват Владимирко, откликнувшись всё же на очередной призыв о помощи, вновь двинул свои полки в Киевскую землю. Знал об этом и Изяслав, спешивший расправиться с Юрием до появления галицкого князя. Войска кружили на месте, останавливались и вновь приходили в движение. В результате этого маневрирования Изяславу удалось оттеснить Юрия на позиции, не слишком удобные для его многочисленного войска. Обе рати расположились у небольшой болотистой речки Малый Рутец, притока Большого (или Великого) Рута, являющегося, в свою очередь, притоком реки Рось, впадающей в Днепр ниже Канева. Здесь, на Перепетовом поле, и произошло самое кровопролитное из всех сражений этой несчастливой для Юрия войны.
Первым из Юрьева войска – и это стало уже традицией – в сражение вступил князь Андрей Юрьевич. Летописец и на этот раз особо отметил его личное мужество, но вместе с тем и распорядительность, желание поднять боевой дух войска. Впрочем, последнее князю не удалось. «Андрей поча рядити (устраивать. – А. К.) полк отца своего, зане бе старей тогда в братье», – сообщает летописец. Видя же, что половцы остались сзади и колеблются, князь устремился к ним: «и к тем гнав и укрепле е на брань». А оттуда «въеха в полк свой и укрепи дружину свою». Когда же битва началась, Андрей «възмя копье, и еха на перед, и съехася переже (прежде. – А. К.) всих, и изломи копье свое». Он словно бы искал смерти на поле боя. В пылу схватки под князем ранили коня в ноздри, так что конь начал «соватися (метаться. – А. К.) под ним, и шелом спаде с него, и щит на нем оторгоша (оторвали. – А. К.)», но «Божьем заступлением и молитвою родитель своих» князь и на сей раз «схранен бе без вреда»[46]. Увы, исход сражения определили отнюдь не его бесстрашие и отвага, тем более что ни отвагой, ни бесстрашием Изяслав Мстиславич не уступал Андрею, а воинским искусством, умением «устраивать» свои полки – явно превосходил его.
«Бысть сеча зла и крепка» – так пишет киевский летописец о побоище на Руте. Первыми из Юрьевой рати бежали половцы. Они хороши были при преследовании неприятеля, захвате добычи, но совершенно не отличались стойкостью и не годились для правильного сражения. Несмотря на все усилия Андрея, пытавшегося «укрепить» их «на брань», кочевники покинули поле боя, не пустив даже и по стреле в сторону неприятеля. За половцами последовали черниговские Ольговичи, а за ними – и сам Юрий со своими сыновьями. Бегство оказалось очень тяжёлым. Маневрируя и уклоняясь от боя, Юрий загнал своё войско в труднопроходимую топкую местность. При переправе через Большой Рут многие утонули – «бе бо грязок», уточняет летописец. Среди прочих ещё в начале битвы погиб черниговский князь Владимир Давыдович. Его смерть тяжело подействовала на черниговских союзников Юрия и совершенно расстроила их ряды. «И ины многы избиша, – продолжает летописец, – и половечьские князе многы изоимаша, а другые избиша». Так Юрий потерпел самое жестокое поражение за всю историю своего противостояния с Изяславом. Вместе с сыновьями он бежал к Треполю, здесь переправился через Днепр и поспешил в Переяславль. Из его огромного войска лишь немногие сумели присоединиться к нему.