Читать онлайн Болевые точки психотерапии: принимая вызов бесплатно
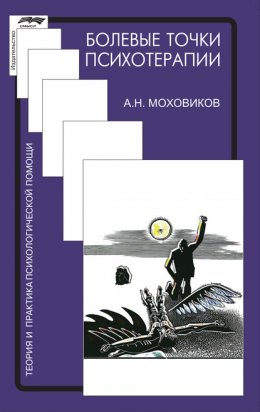
Серия «Теория и практика психологической помощи»
Редакторы-составители серии Д.А. Леонтьев и А.Н. Моховиков
В оформлении обложки использована гравюра В. Маттойера «Вопреки всему»
© Моховиков А.Н., наследники, 2018
© Издательство «Смысл», 2018
От редакторов
Эта книга представляет собой сборник статей и лекций последних лет Александра Моховикова (1955–2015), ученого, преподавателя, психотерапевта, просветителя, организатора психологической помощи и подготовки специалистов в нескольких важных областях. Безвременная смерть Александра отозвалась болью сотен и тысяч людей, несущих в себе свет его личности.
Александр Моховиков имел богатый послужной список. Получив медицинское образование и сравнительно рано защитив кандидатскую диссертацию, он достаточно быстро выдвинулся в ряд ведущих специалистов на постсоветском пространстве по проблемам суицидологии, подходя к ней прежде всего психологически, через призму понятия душевной боли, публиковался не только на Украине и в России, но и в зарубежных изданиях, развивал контакты с ведущими в мире специалистами. В поисках подходов к профилактике суицидов он занялся вопросами телефонного консультирования, как научно-методическими, так и организационными, и по праву считается одним из основателей служб кризисной телефонной помощи в Украине и России; его фундаментальное руководство «Телефонное консультирование», выходящее сейчас уже четвертым изданием, стало настольной книгой психологических консультантов, не только телефонных.
С конца 1990-х гг. он начал всерьез заниматься психотерапией, в частности гештальттерапией. История его отношений с гештальттерапией отражена в предисловии и послесловии к данному изданию. Перечислим регалии: вице-президент Общества практикующих психологов «Гештальт-подход» (Москва), ведущий тренер и член профессионального совета Московского гештальт института, директор Украинского филиала Московского гештальт института, основатель и президент Всеукраинского общества практикующих психологов «Гештальт-подход» (Одесса). Этой области он посвятил себя после 2000 г. практически полностью, отодвинув на задний план академическую карьеру и довольствуясь статусом доцента кафедры клинической психологии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова; его неформальный статус был неизмеримо выше формального. Время от времени он задумывался о защите докторской диссертации, но на это у него не было времени, после 2001 г. он не выпустил ни одной своей книги (хотя подготовил к изданию больше десятка переводных книг и антологий), да и научные статьи публиковал нерегулярно. Тем не менее ему принадлежат более 200 научных работ, в том числе несколько монографий и изобретений в области клинической, социальной, судебной психиатрии, суицидологии, психологического консультирования и психотерапии.
Самым важным его профессиональным делом, тем, о чем он размышлял, чем жил и работал в последнее время, – была философия психотерапевтической практики. Александр Моховиков представлял психотерапию, в частности гештальттерапию, как культурную практику, как стиль жизни, который предполагает определенные философские основания. Этими основаниями для него были философия экзистенциализма и феноменологии. Именно с экзистенциально-феноменологической точки зрения он рассматривал психотерапевтический процесс, психотерапевтическую деятельность в целом и жизнь психотерапевтического сообщества. Терапевтические отношения Александр Моховиков понимал как форму столкновения и терапевта, и клиента с пограничной ситуацией в духе Карла Ясперса. Оригинальная трактовка Моховиковым идей Ясперса внесла значительный вклад в практику кризисной психотерапии. Сформулированные им дилеммы развития для каждой специфической пограничной ситуации выступили своего рода картой экзистенциального кризиса, картой той местности, где даже опытный специалист может потеряться. В своей работе, как и в жизни, Александр Моховиков не прятался за социальной ролью терапевта, врача, преподавателя, а был готов принимать вызовы бытия. Философские основания профессии были для него не декларацией, а личной жизненной философией.
Имея серьезный бэкграунд в виде полученного образования, опыта клинической практики, научной и преподавательской деятельности, А. Моховиков искал подход к клинической реальности, к дилемме несовместимости естественно-научного и феноменологического подходов в клинической диагностике, который бы соответствовал его философскому мировоззрению. И последние его работы и выступления так или иначе вращаются вокруг этой проблематики.
А. Моховиков считал, что психотерапевт должен «уметь находиться в диагностическом расщеплении и одновременно обладать навыками сочетания этих двух разнородных подходов». Наиболее близки ему в этом вопросе были Карл Ясперс и Людвиг Бинсвангер. С их идеями он соглашался, спорил, развивал их. Так, Ясперс, пытаясь соотнести феноменологическую и естественно-научную установки, сближал понятия «феномен» и «симптом», определяя последний как «субъективный феномен». А Моховиков, в свою очередь, доказывал, опираясь на базовые принципы гештальт-подхода, что феномен гораздо ближе к понятию синдрома. Ведь когда клиницист проводит диагностику, он воспринимает психопатологическое состояние пациента не по частям, а как нечто целое, как завершенную форму, как совокупность составляющих его элементарных частиц (симптомов), то есть как синдром. Вслед за Бинсвангером, он отклоняет дихотомию «норма-патология» и рассматривает условную ненормальность психически больного как новую форму бытия-в-мире, которая познается через экзистенциальные структуры и процессы – модусы бытия. Анализ шести модусов бытия, сопровождающийся блестящими клиническими иллюстрациями, задает четкие ориентиры для экзистенциально-феноменологической диагностики психических заболеваний.
Семь лекций и статей А. Моховикова последних лет были выпущены в прошлом году в книге: Гештальт Александра Моховикова. Лекции. Статьи. Размышления / сост. Е. Гончарук. Львов: Лига-Пресс, 2017. На ее основе было приготовлено данное, расширенное издание, в которое вошли уже 10 материалов, не считая нового введения и послесловия. Оно выходит в московском издательстве «Смысл», в развитие которого Александр внес немалый вклад. Составители благодарят семью А.Н. Моховикова за предоставленные права на издание, а также всех, кто помогал в подготовке книги к печати.
Е. Гончарук, Д. Леонтьев
Предисловие к первому изданию
Мы познакомились с Сашей в 1988 г. Я была одной из энтузиасток «самодельного» «Телефона доверия», а он уже был кандидатом медицинских наук, работал на кафедре психиатрии и в клинике. Очень хорошо помню нашу первую встречу. Мы с моей коллегой, тоже энтузиасткой, ехали на встречу с Борисом Григорьевичем Херсонским в «сумасшедший дом». Улыбаюсь. Он там работал, заведовал отделением. Мы с коллегой очень волновались – впервые такое нестандартное место посещаем. Помню, как мы робко постучали и дверь нам открыл Саша. Он казался тогда большим и грозным. Смерил нас таким существенным взглядом с головы до ног. Мы пропищали что-то вроде: «Нам нужен Борис Григорьевич», и Саша очень иронично и громко сообщил: «Борис Григорьевич, это к вам». Тогда он сильно ошибся. Этот визит значительно больше был к нему. Лет на 25 с гаком… Раньше таких, как Саша, называли «человек энциклопедических знаний». Сейчас, увы, это выражение можно встретить крайне редко, впрочем, как и обладателей этих самых знаний. Чем Саша жил? Что любил? Этого всего очень много. Книги, хорошее кино, музыку, историю, антропологию, психиатрию, суицидологию, философию, психологию… Собирал живопись психически больных людей. Если обобщить – он любил жить. Жить медленно, много мыслить, философствовать и с удовольствием вести интеллектуальные беседы и споры… С грустью думаю о том, что темп его жизни с каждым годом все больше ускорялся, а ее срок оказался не очень велик. Увы, так бывает часто с теми, кто живет полной грудью и сразу на чистовик. Он рассказывал, что мечтал заниматься антропологией и очень любил историю. Я думаю, эту мечту Саша отлично реализовал в своей увлеченности путешествиями. Саша любил камни, античные камни, что-то особенное с ним происходило в этих местах. Его лицо становилось одухотворенным, глаз горел. Мне казалось, что про каждый камушек он знал отдельный миф или легенду. Долго вся компания не могла придумать, как его отвлечь и увлечь чем-нибудь другим. А еще племена: Папуа – Новая Гвинея, Мексика, Африка, Таиланд и т. д. Саша был в этих местах похож на умиленного Гулливера, аборигены отвечали ему взаимностью. А еще (немного по секрету) его восхищали местные, почти первобытные женщины, пугающие и прекрасные одновременно в своей простоте и наготе. Спокойные, мирные, основательные, кормящие большой грудью своих малышей.
С нами мало что в этой жизни происходит случайно. Я убеждена, что в профессию мы всегда приходим откуда-то и зачем-то. Саша не очень любил говорить о себе. Хотя с близким кругом он бывал открыт. Благодаря этому я знаю несколько историй, которые, как мне кажется, прольют свет на его особый профессиональный интерес. Имя этому интересу – феноменология психической боли. Он всю свою профессиональную жизнь продолжал ее исследовать и описывать. Я думаю, он искал ответы на вопросы, которые задал себе очень давно.
Первая история. В 9 лет он оказался в санатории для детей с онкологией. Самым ярким воспоминанием была пустая кровать мальчика, с которым вчера они играли, а ночью тот умер. Я думаю, пережитый тогда детский страх, вперемешку с отчаянием и любопытством перед могуществом смерти, во многом повлиял на выбор жизненного пути. Психиатром Саша был детским. Очень хорошим и грамотным. Как будто мир ребенка-аутиста ему был понятен лучше, чем всем вокруг. Потом суицидология, «Телефон доверия», клиническая психология и, наконец, психотерапия суицидов.
Еще одна история. Близкий Сашин друг разбился в автокатастрофе. Авария случилась в новогоднюю ночь. Друг поругался с девушкой и на полной скорости в гололед не справился с управлением. Саша дежурил в реанимации в ту ночь. Нужно было делать вскрытие. Я уже не помню, почему это нужно было делать так срочно, не помню деталей, помню только ошарашивший меня факт – вскрытие пришлось делать Саше. Он иногда вспоминал эту историю, когда ему задавали вопросы: «Почему суицид?», «Почему такая странная тема?». Мне кажется, из таких вот историй и сложился его путь между любовью к жизни и уважением к смерти.
И еще одна история. Будучи студентом-интерном, Саша попал в одно из отделений психоневрологического стационара, где пожилая медсестричка призывала говорить всех шепотом, потому как в маленькой комнатке, за занавеской, умирал уже совсем сумасшедший бывший главврач этого заведения. Эта история о том, как появилась в Сашиной жизни психотерапия. Он рассказывал, что в какой-то момент своей медицинской карьеры очень ясно понял, что легко может повторить судьбу этого человека. И стал искать. Ушел из клиники. Пришел преподавать в университет. Долгие годы развивал тему превенции суицидов – книги, лекции в разных странах, самая крупная школа подготовки консультантов «Телефона доверия», большие международные конференции и симпозиумы. Мы долго дежурили с Сашей в паре на «Телефоне». Лет семь.
Для него всегда был один путь в профессию – если я что-то пишу или говорю людям, я должен это сначала пройти сам. Он не умел хитрить. Потом, придя в гештальт-терапию и возглавив большое сообщество, он продолжал держаться за эту свою ценность. Помню, как злился на тех, кто рвался преподавать, не видя в глаза живых клиентов. Он был категоричен и временами суров к тем, кто не хотел учиться. И очень злился, когда замечал у коллег отсутствие интереса к конкретному человеку на фоне постоянного интереса к деньгам. У Саши, без всяких сомнений, всегда была своя правда и своя совесть. Мне кажется, если бы он родился в другое время, из него получился бы прекрасный путешественник-первопроходец – большой, устойчивый, строгий, упрямый, немного циничный, в каких-то вопросах по-детски наивный, верящий в то, что только интерес человека к самому себе может сделать мир лучше. Он не верил политикам и лозунгам, но до последнего дня верил отдельному человеку и книгам. Он очень любил думающих людей. Был не всегда добр к ленивым. Он умел видеть удивительные, никому не заметные детали и мог не заметить что-то большое и простое. Мне много раз хотелось сказать ему спасибо. И каждый раз я вспоминала, что Саша очень по-своему относился к благодарности. Он не очень любил, когда его благодарили. Развивал идею про связь благодарности и высокомерия. Но сегодня я думаю, что просто смущался. Я очень надеюсь, что эта книга поможет вам найти свои ответы на вопросы, которые перед собой ставил Александр Моховиков.
Алла Повереннова
президент ВОППГП «Украинский гештальт институт»
Психическая боль: природа, диагностика, особенности гештальттерапевтической работы с клиентом[1]
Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не осознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного – хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в этот ужасный мир, где он провел весь день и где только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.
Иван Бунин «Дождь»
Невыносимая психическая или душевная боль, ведущая к страданию, является выражением утраты смысла жизни (от книги Иова через Серена Кьеркегора к Мартину Хайдеггеру и Людвигу Бинсвангеру) и возникает при столкновении с ситуациями изоляции, одиночества, свободы или умирания. Именно она превращает вопрос о жизни или смерти в центральную проблему философии (в концепциях Альбера Камю и Жан-Поля Сартра), литературы (от древнеегипетского «Спора разочарованного со своей душой» до поэзии Райнера Марии Рильке и Дэвида Лоуренса) и является важным аспектом психотерапии и консультирования клиентов с суицидальными тенденциями (от Зигмунда Фрейда до Ирвина Ялома и Эдвина Шнейдмана).
Немецкий философ ХХ в. Эрнст Юнгер, близкий к национал-большевизму, в своем эссе «О боли» (1934) писал: «Существует несколько великих и неизменных критериев, которые выявляют значение человека. К ним принадлежит боль; она есть самое суровое испытание в той цепи испытаний, которую обычно называют жизнью. Поэтому исследование боли оказывается, пожалуй, непопулярным занятием <…> Боль является одним из тех ключей, которые не только подходят к наиболее сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому миру. Приближаясь к тем точкам, где человек оказывается способным справиться с болью или превзойти ее, можно обрести доступ к истокам его власти и к той тайне, которая кроется за его господством. Скажи мне, как ты относишься к боли, и я скажу тебе, кто ты!» (Юнгер, 2000, с. 473–474).
Знаменитый американский психолог Эдвин Шнейдман, один из основоположников современной суицидологии, описал 10 общих психологических черт, свойственных суицидальному поведению. В своих последних работах особое внимание он уделяет невыносимой психической (душевной) боли (psychache) как общему стимулу самоубийства (Шнейдман, 2001а, б). Психическая боль, полагает Э. Шнейдман, тесно связана с фрустрированными витальными психологическими потребностями (в принадлежности, любви, безопасности и т. д.) и внутренним амбивалентным отношением человека к предпринимаемому суицидальному действию. Согласно Э. Шнейдману, «если прекращение своего потока сознания – это то, к чему движется суицидальный человек, то душевная боль – это то, от чего он стремится убежать. Детальный анализ показывает, что суицид легче всего понять как сочетанное движение по направлению к прекращению своего потока сознания и бегство от психической боли и невыносимого страдания <.> речь идет именно о психической боли, метаболи, боли от ощущения боли» (Шнейдман, 20016, с. 354). Человек стремится спасти себя и выжить ценой «убийства» в себе невыносимой психической боли. Не случайно в клинической суицидологии существует правило: если снизить интенсивность страдания – подчас весьма незначительно, – то человек выберет жизнь.
Вместе с тем психическая боль является общим и весьма распространенным переживанием для подавляющего большинства людей: не существует, пожалуй, ни одного человека на свете, который совершенно не испытывал бы глубоких и болезненных чувств, касающихся экзистенциальной проблемы «быть или не быть», в определенные, кризисные периоды своей жизни. Для суицидолога следующий практический вопрос является насущным: какие качества психической боли превращают ее в нестерпимую и, следовательно, неотвратимо ведущую к самоубийству? По своей сущности психическая боль представляет собой сложное аффективно-когнитивное и аксиологическое образование, и, соответственно, конституирующие ее характеристики (эмоциональные, когнитивные, ценностно-смысловые) играют определяющую роль в суицидогенности.
Целью данной статьи является по возможности полное рассмотрение психической боли с использованием понятийного аппарата и феноменологических принципов гештальт-подхода. В задачи исследования входят освещение ее природы, феноменологии, связи проявлений психической боли с фрустрацией основных метапотребностей в ходе жизненного цикла человека, психологической диагностики психической боли и принципиальных аспектов гештальт-консультирования и гештальттерапии клиентов в контексте актуальных запросов суицидологической практики.
Феномен боли с точки зрения гештальт-подхода
Объединив холистический подход, принятый в гештальтпсихологии и современной гештальттерапии, и новые взгляды, возникшие в послеперлзовский период ее развития (С. Шон, Г. Вилер, Ж.-М. Робин – Робин, 1994; Schoen, 1994; Wheeler, 1998, 2000), в частности динамическую теорию личности (Д.Н. Хломов – 1996), можно представить концепцию боли следующим образом.
Боль определится как универсальный признак, указывающий на разрушение или угрозу разрушения целостности границ между организмом и окружающей средой на одном или нескольких следующих уровнях: физическом (телесном), психическом (эмоциональном), экзистенциальном или уровне взаимоотношений с другими людьми. Взаимодействие между человеком и окружающей средой происходит посредством контакта (самоосознавания), в ходе которого возникает психическая реальность и происходит психологическое развитие личности. Процесс контактирования означает создание, трансформацию или разрушение границ между организмом и окружающей средой, то есть их изменение и создание нового. Любое новое становится не только интеграцией изменений, происходящих в ходе цикла контакта (Wheeler, 2000), но процесс его возникновения чреват травмой, ведущей к расщеплению (шизоидная травма), отчуждению (нарциссическая травма) или непродуктивности («пограничная» травма). Следовательно, боль является универсальным спутником любого интенсивного изменения на любом уровне (рис. 1).
Чем сильнее и драматичнее происходящее изменение, тем интенсивнее его спутник – боль и окрашивающие ее чувства. В определенных ситуациях она становится нестерпимой, и тогда возникает трагический выбор между желанием дальнейших изменений, которые и являются психологической сущностью жизни, и болью (страданием), которую они причиняют.
Человек защищается от боли и заодно от изменений тем, что не допускает контакта, используя механизмы интроекции, проекции, ретрофлексии, дефлексии или конфлюэнции. Эти нарушения контактной границы (или механизмы защиты в гештальттерапии) временно способствуют преодолению эмоций, связанных с болью, например, посредством состояний скуки, которая есть не что иное, как попытка растворения боли во времени. Вместе с тем эти механизмы играют важную роль в возникновении определенных форм суицидального поведения (интроективных, проективных, ретрофлексивных и конфлюэнтных самоубийств) (Моховиков, 2001а).
Рис. 1. Феномен боли в контексте гештальт-подхода
Интроективный вектор самоубийства. При интроекции цикл контакта с окружающей средой прерывается на стадии возникновения фигуры: человек принимает внутрь себя имеющие внешнее происхождение ценности, стандарты, нормы или правила и заменяет собственное стремление желанием другого человека или группы. Обычно без «здорового» использования интроекции невозможно воспитание и обучение, которые предполагают ассимиляцию полученного опыта. В самом деле, в детстве нередко говорят: «Делай то или не совершай этого», – и, подчиняясь, ребенок интроецирует приказ взрослого в качестве подобия собственной воли. В дальнейшем при неоднократном воспроизведении подобная ситуация обеспечивает человека неосознаваемым опытом: «В жизни надо делать то и не следует совершать этого». Таким образом, иногда чужой опыт настолько заменяет собственные желания и потребности, что в процессе взросления человек утрачивает способность к идентификации «своего» и отвержению «чужого».
Поскольку ориентированный на чрезмерную интроекцию человек поступает так, как хотят другие, то интроективный вектор наиболее полно представлен в случаях альтруистических самоубийств Э. Дюркгейма (Дюркгейм, 1994), которые совершаются, если авторитет общества или группа подавляют идентичность человека, и он жертвует собой ради блага других или какой-либо социальной, философской или религиозной идеи. Многочисленные случаи самопожертвований «за идею», будь то японского самурая эпохи Средневековья, приверженца протопопа Аввакума в России XVII в., эталоны «мужества» советской эпохи типа Зои Космодемьянской и Александра Матросова или некоторые «рациональные» самоубийства, вполне описываются интроективным вектором самоуничтожения. Особенно чувствительным к вторжению интроектов оказывается подросток. С одной стороны, он готов пожертвовать чем угодно, лишь бы отстоять свою независимость, интуитивно осознавая преимущества личного выбора, но, с другой стороны, в наследие от детства ему достается чрезмерная подверженность влиянию интроектов, которую, например, используют адепты деструктивных культов в ходе процедуры «контроля сознания» (Хассен, 2001).
Проективный вектор самоубийства. С помощью проекции индивид что-то реально принадлежащее ему приписывает окружающей среде. Обычно приписывание касается желаний или эмоций, за которые человек не хочет брать на себя ответственность. Таким образом, происходит отвержение некоторой реальной части своего «Я», например, в контексте обсуждаемой проблемы проявлений деструкции или аутоагрессии. Не признавая эти части в себе, человек начинает находить их в других людях. В силу проективной установки он постепенно отстраняется от людей, которые кажутся ему враждебно настроенными, желающими зла или несущими опасность, изолирует себя от окружающей среды и испытывает подавленность или депрессию. Описываемый суицидальный вектор формируется различными видами проекции (дополнительной, когда другим приписываются чувства и желания, с помощью которых возможно оправдание своих действий, катартической, состоящей в освобождении от своих отрицательных качеств, наделении ими других, и аутистической, если окружающим приписываются собственные мотивы и желания). При чрезмерной проекции наблюдается описанный Э. Дюркгеймом (1994) феномен аномии, возникающий вследствие неудач в приспособлении к социальным изменениям, которые нарушают взаимные связи личности и группы, и ведущий к самоуничтожению. Общеизвестными являются данные о существенном учащении аномических самоубийств во времена социальных катаклизмов и экономических кризисов.
Ретрофлексивный вектор самоубийства. При ретрофлексии человек останавливает цикл контакта непосредственно перед осуществлением конкретного действия. Формируется поддерживаемая заботящимся окружением замкнутая личностная система, в которой большинство чувств или желаний остается внутри: человек сам себя любит, ненавидит или ведет с собой нескончаемый внутренний диалог. Преобладающий стиль поведения состоит в том, что он делает самому себе то, что хотел бы сделать другому человеку (или получить от него). Чаще всего подобный индивид не позволяет себе проявлений агрессии в отношении объектов, на которые они в действительности направлены, и в силу стыда или иных чувств обращает ее против себя. Крайней точкой развития ретрофлексии становится самоубийство: человек убивает себя вместо уничтожения того, кто заставил его страдать. Таким образом, ретрофлексивный вектор суицида объединяет по крайней мере два признака знаменитой триады Карла Меннингера: одновременное желание убить и стремление быть убитым (Меннингер, 2000). Например, Акутагава Рюноскэ описывает их в «Зубчатых колесах» следующим образом: «Жить в таком душевном состоянии – невыразимая мука! Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю» (Акутагава Рюноскэ, 1974, с. 620). Более всего ретрофлексивный вектор характерен для эгоистического самоубийства Э. Дюркгейма (Дюркгейм, 1994) и эготического суицида Э. Шнейдмана (Shneidman, 1968). Последний является следствием внутрипсихического конфликта между различными частями души самоубийцы, единственным способом разрешения которого становится аутодеструкция или аннигиляция Self. Уходя от совершения действий в окружающей среде и чувствуя себя отчужденным от общества, семьи или друзей, человек сжимает весь мир до размеров самого себя и, ничего не ожидая от других, превращает свою личность в арену, на которой происходит трагическое действо суицидального сценария. Ретрофлексивные самоубийства характеризуются продуманностью деталей и способа заранее планируемого акта саморазрушения. Именно при подготовке к нему в воздухе надолго повисает гамлетовский вопрос «Быть или не быть?», завершающийся суицидальным чувством беспомощности – безнадежности: «Я ничего не могу сделать (кроме совершения самоубийства), и никто не может мне помочь (облегчить боль, которую я испытываю)». К ретрофлексивным самоубийствам относится знаменитый аналитический случай Элен Вест, описанный Л. Бинсвангером, К. Роджерсом и Р. Мэйем (Бинсвангер, Мэй, Роджерс, 2001; Мэй, 2001; Бинсвангер, 2001; Роджерс, 2001). Из дневника Элен Вест: «Ужасно – не понимать себя. Я стою перед собой как перед чужим человеком: я боюсь за саму себя и боюсь тех чувств, во власть которым я отдана, против которых я беззащитна <…> Я чувствую себя совершенно пассивной, вроде сцены, на которой две враждующие силы кромсают друг друга», – пишет она, предложив одному из крестьян 50 тысяч франков за то, чтобы он немедленно застрелил ее (Бинсвангер, 2001, с. 115). Ретрофлексивным суицидом можно считать также смерть американской писательницы Вирджинии Вульф. В своей предсмертной записке она пишет: «Я определенно чувствую, что снова лишилась рассудка <…> И на этот раз нам этого не выдержать. Я точно не выздоровлю <…> Так что то, что я совершаю, кажется мне лучшим из того, что можно предпринять <…> Я не в состоянии больше бороться. Я знаю, что наношу вред твоей жизни, что без меня ты мог бы работать <…> Я не могу читать <…> Ты был таким терпеливым и невыразимо добрым со мной <…> Всему причиной была я, но определенность давала твоя доброта. Я не могу и дальше портить твою жизнь. Я не думаю, что два человека могли бы быть счастливее нас с тобой» (цит. по: Bell, 1972).
Конфлюэнтный вектор самоубийства. В гештальттерапии слияние, или конфлюэнцию, традиционно считают состоянием, в котором клиент препятствует возникновению фигуры и связанного с ней возбуждения. Таким образом, его психическая реальность представлена фоном. В жизни это состояние наиболее характерно для младенца, находящегося в слиянии с матерью. Позднее вполне вероятной становится конфлюэнция с определенной социальной группой, значимым человеком или каким-либо незавершенным переживанием (например, горем, которое описывается как «безграничное»). Вместе с тем опыт работы с конфлюэнтными суицидентами показывает, что конфлюэнция является состоянием с очень высокой энергией, которая обусловливает немалый риск, а также заразительность самоуничтожения. На кривой цикла контакта его скорее следует разместить вслед за эготизмом, крайней формой ретрофлексии. Человек не просто полностью закрывает границу в отношении действия, самого себя и перестает что-либо чувствовать, он спасается от переживания действия как принадлежащего ему самому ценой растворения своей личности и полной утраты идентичности в некоем «Мы». Описанная постэготическая конфлюэнция встречается не только среди суицидальных клиентов, но, например, является типичным состоянием для жертв тоталитарных сект.
Конфлюэнтный вектор является особенно важным при суицидальном поведении в молодом возрасте, когда возникает высокая степень слияния с группой, в частности, принадлежащей деструктивному культу (можно вспомнить самоубийства сектантов «Народного храма» в Гайане, «Ветви Давидовой» или «Объединенной церкви» Муна), или со значимым человеком, решившимся на аутоагрессивное действие (здесь перед нами предстает длинная, внушительная цепь реальных лиц и персонажей – от Ромео и Джульетты до современных кластерных самоубийств после суицида Мэрилин Монро, лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна и прочих харизматических личностей). Конфлюэнтные самоубийства как бы «поглощают» человека и характеризуются заразительностью, поскольку один суицид облегчает или приводит к возникновению последующего, то есть к «суицидальной волне» (Gould, 1990; Schmidtke, Schaller, Wasserman, 2001). В состоянии слияния человек не осознает своих чувств и потребностей, поэтому является весьма восприимчивым к аутоагрессивным действиям. Поскольку эти суициды часто выглядят внезапными и импульсивными, конфлюэнтных клиентов следует признать одной из серьезных групп риска.
Боль в истории жизни
Сила желания к дальнейшим изменениям и, соответственно, толерантность к боли на любом уровне связаны с успешным или неблагоприятным проживанием человеком в ходе личной истории трех основных метапотребностей: в безопасности, привязанности (связанности или принадлежности) и достижении (манипуляции). Их называют метапотребностями, поскольку они не имеют фиксированного объекта удовлетворения и могут быть удовлетворены прямо противоположными способами.
Появление различных видов боли связано с фрустрацией соответствующих метапотребностей в контексте личной истории клиента, что в кризисных ситуациях приводит к возникновению невыносимой психической боли (рис. 2).
Рис. 2. Психическая боль и основные метапотребности
В основном метапотребность в безопасности формируется в младенчестве, в первые месяцы жизни человека. В это время любые изменения являются хаотическими и непредсказуемыми и в силу чрезмерной зависимости индивида от контекста жизни оказываются чреваты витальными опасностями. Кажется, что не только реальные изменения, но и их потенциальная возможность несут угрозу жизни. Соответственно и проявления боли могут быть парадоксальными, например, полная анестезия, своего рода игнорирование боли на одном из уровней – телесном или психическом (эмоциональном) – и чрезмерная уязвимость на другом. В клинической психиатрии парадоксальность проживания боли давно описана у больных шизофренией и лиц с шизотипическими или шизоидными расстройствами личности, а также свойственна детям и подросткам с синдромом Каннера или Аспергера. Изменения на этой стадии развития не соотносятся с каким-либо объектом в окружающей среде или осознанием собственной отдельности и связаны с физической (телесной) и психической (эмоциональной) болью. Чаще всего боль вызывают интенсивная тревога, ужас, растерянность, беспомощность и безнадежность (рис. 3).
Рис. 3. Основные метапотребности человека и обусловленные ими эмоциональные проявления
Метапотребность в привязанности формируется вслед за обеспечением безопасности и связана с появлением в поле образа Другого, с которым можно находиться в контакте, совместно выживать, удовлетворять разнообразные потребности, то есть осуществлять изменения и чувствовать боль (боль привязанности, любви), или, наоборот, выходить из контакта, чувствовать свою отдельность (обязательно проявляющуюся в одиночестве) и, соответственно, дополнительно переживать экзистенциальную боль. Непереносимый опыт экзистенциальной боли, связанный с прерыванием ранней, позитивной привязанности, например, в силу отвержения близкими людьми в детстве, имеет двоякие последствия для дальнейшего развития человека и два возможных стиля историй жизни. Если из-за разрыва привязанности основы безопасности оказываются чрезмерно подорванными, то в силу невыносимости травмы индивид скрывается за контекстом жизни и возвращается на шизоидный уровень реагирования. Иная возможность состоит в том, что он заменяет чреватую опасностью привязанность – которая в качестве потребности может быть удовлетворена – зависимостью от другого человека (аддикция отношений или созависимость) или его алиментарных (аддикция к еде, алкоголизм, наркомания, токсикомания) и деятельностных суррогатов (азартные игры, сексуальная аддикция, работоголизм, культовая зависимость), которую в течение жизни невозможно насытить. Поддержание длительных отношений привязанности вызывает боль. Она связана с необходимостью принятия ценности другого человека и своей собственной реальной значимости. Избегая внутреннего хаоса, человек ищет внешней референции, но в аддикции сталкивается с постоянно неудовлетворенной потребностью в зависимости, в свою очередь вызывающей боль (боль ненасыщения). Она связана с широким спектром чувств, например страха, злости, обиды, зависти, ревности, жалости и стыда (рис. 3).
Развитие метапотребности в манипулировании (достижении) генетически связано с освоением игровой деятельности, которая в истории жизни предполагает приобретение свободы обращения с объектами окружающей среды. Изменения, происходящие в контакте, направленном на достижение, касаются установления, поддержания и прекращения отношений с Другими, что порождает боль, связанную с взаимодействием (конкуренцией) со значимыми людьми (боль унижения-признания). Обычно история жизни нарциссической личности ознаменована опытом ранней привязанности, хотя и прервавшейся, поэтому у нее сохраняются надежда на возможность нового аналогичного опыта и боль, связанная с неспособностью его осуществления в настоящем. Боль окрашивается страхом, стыдом, виной, огорчением, разочарованием, завистью (рис. 3).
В предлагаемой динамической гештальт-концепции боли появление различных ее видов следует эпигенетическому принципу развития человека, и нестерпимая психическая боль, описанная Э. Шнейдманом, является крайним выражением боли на каждом из уровней.
Диагностика психической боли
В диагностике состояний психической боли следует выделять патопсихологическую и феноменологическую диагностику в процессе консультирования или первичного терапевтического интервью.
В клинической психологии и суицидологии долгое время отсутствовали средства, способные оценить психическую боль, хотя косвенным образом об отдельных ее компонентах можно было судить по результатам применения (в течение уже почти трех десятилетий) шкал, исследующих депрессию, например шкал депрессии и безнадежности Бека, шкалы Гамильтона, а также ряда суицидологических опросников (Aish, Wasserman, 2001; Beck, Kovacs, Weissman, 1975; Bech, Raabeck Olsen, Nimeus, 2001; Beck, Weisman, Lester, Trexler, 1974; Brent, Kolko, 1990; и многие другие). Попытки создания в диагностических целях стандартизованных или полустандартизованных психодиагностических шкал для верификации душевной боли осуществлены лишь недавно.
В частности, Э. Шнейдман (Шнейдман, 2001а; Shneidman, 1999a, b) разработал несколько вариантов Шкалы оценки психической боли, являющейся инструментом для полуколичественного и качественного определения душевной боли. Все ее варианты состоят из следующих разделов: 1) шкалы оценки душевной боли у испытуемого в момент опроса; 2) проективной методики (в виде наборов репродукций картин или историй, рассмотрев или прочитав которые испытуемый оценивает психическую боль, ощущаемую персонажами, а затем выбирает одну из представленных на картинах ситуаций или историй, которая могла бы заставить его подумать о самоубийстве); 3) шкалы оценки наиболее интенсивной душевной боли, пережитой испытуемым в жизни; 4) списка отдельных чувств, из которых испытуемому предлагается выбрать три или четыре, наиболее выраженных в ситуации самой сильной душевной боли; 5) шкалы оценки способности выносить душевную боль; 6) краткого опросника об истории суицидальных мыслей и поведения у испытуемого; 7) раздела, отведенного для описания самой сильной пережитой испытуемым душевной боли и вызвавших ее обстоятельств. Шкала является компактной (на четырех страницах) с ясными и четкими инструкциями и вполне удобна для работы. В качестве инструмента оценки душевной боли у испытуемых ее варианты были переведены на русский язык и апробированы у различных групп испытуемых, в том числе и в ходе первичного терапевтического интервью (Моховіков, Донець, 2000; Моховиков, 2001а).
Изучая субъективный опыт столкновения подростков с неразрешимыми жизненными проблемами, исследовательская группа Университета Бар-Илан (Израиль) под руководством Израэля Орбаха установила, что он (субъективный опыт столкновения) имеет непосредственное отношение к возникновению у них суицидальных тенденций, безнадежности и психической боли, проявляется в чувстве утраты контроля над ситуацией, и предложила использовать для его измерения Шкалу субъективного опыта неразрешимости проблем (SEPI Scale), которая имеет четырехфакторную структуру и существенные психометрические возможности (Orbach, Mikulincer, Blumenson