Читать онлайн Сердце, которое мы не знаем. История важнейших открытий и будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний бесплатно
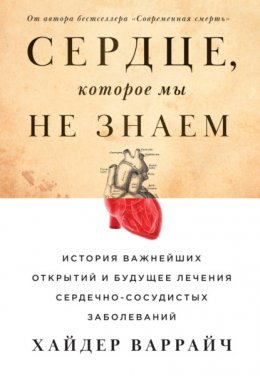
Переводчик Ксения Артамонова
Редактор Александр Анваер, врач первой категории, кардиолог, эндокринолог, реаниматолог, анестезиолог
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта О. Равданис
Корректоры Е. Аксёнова, А. Кондратова, Т. Редькина
Компьютерная верстка К. Свищёв
Адаптация оригинальной обложки Д. Изотов
Арт-директор Ю. Буга
Использованы иллюстрации из фотобанков
Jacket photographs: texture © Anita Poli / Shutterstock.com;
heart drawing © Ilbusca / Getty Images;
heart illustration © Sebastian Kaulitzki / Getty Images
© Haider Warraich, 2019
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2021
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
Глава 1
Мгла перед рассветом
Сердца людей полны сокровищ,
Хранимых тайно под замком.
ШАРЛОТТА БРОНТЕ. Вечернее утешение, 1846 г.
Прежде чем зайти в палату, я собрал вокруг себя других специалистов на маленькое коридорное совещание: убедиться, что все мы в курсе дела. Пациент поступил в больницу с серьезной инфекцией, которую подхватил во время круиза с супругой по Карибскому морю. Анализы подтвердили бактериальное заражение крови, возникшее, судя по всему, из-за мочевого катетера, который пациент использовал на борту лайнера. Инфекцию удалось подавить антибиотиками, но вот с его сердцем мы ничего сделать не могли. Проблема слабого сердцебиения беспокоила его давно: он регулярно наблюдался у кардиолога, ему десятки лет назначали сердечные препараты и даже поставили кардиостимулятор, чтобы синхронизировать сердечную деятельность. Но, несмотря на все эти усилия, он теперь стремительно приближался, казалось бы, к неминуемому финалу. Вся наша команда врачей была убеждена, что жить ему осталось недолго – в лучшем случае несколько месяцев. Все согласно кивнули напоследок, как футболисты перед выходом на поле или десантники перед прыжком из самолета. Мы вошли в палату и после стандартных представлений распределились по ней, как понатыканные в каждом углу освежители воздуха. По нашему общему решению первым заговорил я.
– От инфекции мы вас благополучно вылечили, но вылечить вашу сердечную недостаточность мы не можем.
– Погодите, что? У меня сердечная недостаточность? – перебил он и испуганно посмотрел на жену, которая тут же начала плакать.
– У него сердечная недостаточность? Нам никто не говорил, что у него сердечная недостаточность! Что вообще такое сердечная недостаточность? – запричитала она.
Я был совершенно обескуражен. Такие разговоры порой доходят в тот или иной момент до точки кипения, но тут пузыри пошли сразу, как включилась плита. Пациент прожил с сердечной недостаточностью почти 20 лет, и, судя по всему, его кардиолог успешно корректировал ее все это время, но каким-то неведомым образом сам больной не догадывался, что это такое и чем грозит, и – самое ужасное – никто ему об этом не рассказал. По неизвестной причине слова «сердечная недостаточность» никогда не звучали в его присутствии. Мне пришлось дать задний ход, быстренько свернуть в другую сторону и отложить разговор о том, что все мы смертны, до лучших времен. Правда, лучшие времена так и не наступили: две недели спустя пациент умер в отделении реанимации и интенсивной терапии.
От болезней сердца умирают чаще, чем от любых других болезней – даже рака. Более того, число смертей от заболеваний сердечно-сосудистой системы растет как в США, так и во всем мире[1]. Любое сердечно-сосудистое заболевание может, дойдя до определенной стадии, вызвать развитие сердечной недостаточности. В США сердечная недостаточность – самая распространенная причина госпитализации[2]. Ее жертвами становятся и богатые, и бедные, и молодые, и старые. Не так давно от нее умерли, например, поп-певец Джордж Майкл и бывшая первая леди Барбара Буш. Но при этом знают о такой болезни, как сердечная недостаточность, очень немногие, а понимают ее и того меньше. И хотя в современной обыденной речи слова «сердечная недостаточность» встречаются чаще, чем раньше, многие, как жена моего пациента, по-прежнему задают все тот же вопрос: «Что такое сердечная недостаточность?»
Можно сказать, что сердечно-сосудистые заболевания – недооцененное бедствие нашего времени.
Такое положение может показаться странным – ведь речь идет о болезни, от которой страдает так много людей: молодых и старых, мужчин и женщин, черных и белых, богатых и бедных. Но, несмотря на то, что число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний продолжает расти, в 2011 году на CNN вышла передача Санджая Гупты под названием The Last Heart Attack («Последний инфаркт»), в которой рассказывалось о технических новшествах, способных сделать нас «инфарктоустойчивыми». Мы их, правда, так и не дождались – и, скорее всего, не дождемся. Это было лишь одно из целой череды громких заявлений о победе над инфарктами в частности и сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще. Подобные заявления не прошли даром: исследования сердечно-сосудистых заболеваний и разработка новых способов борьбы с ними по сей день финансируются куда менее охотно, чем исследования других болезней – рака, например[3]. Разрабатывается меньше методов лечения, чем раньше[4]. А все потому, что в представлении многих битва с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже выиграна и выделять средства нужно на что-то другое: рак, деменцию или даже такие редкие болезни, как боковой амиотрофический склероз (БАС). Исследования рака груди, например, получают на каждый случай летального исхода в семь раз больше денег, чем исследования сердечно-сосудистых заболеваний[5]. СМИ с готовностью раздувают незначительные и недоказанные успехи в изучении других болезней, но при этом игнорируют доказанные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут спасти не одну жизнь[6]. Многие считают, что получить сердечно-сосудистое заболевание можно только по собственной вине, а еще по мере прогресса в кардиологии все больше уверяются в том, что такие проблемы грозят только пожилым людям, а молодых не касаются[7]. Даже некоторые из ведущих специалистов в области исследований сердечно-сосудистой системы глядят в будущее своей науки с пессимизмом. Несмотря на впечатляющее снижение числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний за несколько прошлых десятилетий, в последние годы этот процесс фактически остановился, а порой мы получаем тревожные данные о повышении смертности[8].
Но вместе с тем настоящие и будущие возможности по лечению и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний сейчас велики как никогда. То, что мы умудрились превратить инфаркт миокарда из смертного приговора во вполне подконтрольную ситуацию, – практически беспрецедентное событие в истории человечества. За последние несколько лет технологии получили такое распространение, что впору почувствовать себя героем научно-фантастического романа.
Сердце – мышечный орган, который пульсирует в вашей груди, пока вы читаете эти строки, и гонит кровь по всему телу, – это, пожалуй, тот орган, который мы более всего ассоциируем с жизнью что на одной, что на другой границе человеческого существования. Услышать сердцебиение плода – своего рода обряд инициации для каждой беременной женщины. Когда моя жена забеременела, мы смогли вздохнуть с облегчением только после того, как на восьмой неделе услышали во время визита к гинекологу пулеметную очередь сердцебиения – подтверждение того, что у нас будет ребенок.
Когда на другом полюсе своего существования человек падает без сознания на землю, любой, кто обладает хоть мало-мальскими знаниями о человеческом теле, рефлекторно хватает его за запястье и пытается нащупать пульс. Где пульс, там жизнь. Где нет пульса, там и жизни нет – и хорошо, если в этот момент кто-то рядом выпрямит локти, сцепит пальцы в замок и начнет проводить сердечно-легочную реанимацию.
Пульсирующее сердце обеспечивает циркуляцию крови в организме. Кровь проходит через артериолы, которые, как вьюнок, оплетают наши легкие, и забирает вдыхаемый нами кислород. Дальше эти веточки сливаются в более крупные сосуды, которые впадают в левые отделы сердца. А затем левая, более мускулистая и мощная, часть сердца проталкивает эту кровь по всему телу: к почкам, другим внутренним органам, конечностям, вплоть до каждого пальца рук и ног, и, что самое главное, к каждому бесценному нейрону нашего мозга. Органы высасывают из крови кислород, как вы высасываете через трубочку последнюю капельку газировки из стакана. Лишенная кислорода кровь возвращается в сердце, в правые его отделы, а оттуда проталкивается в оплетающие легкие артериолы, где вновь насыщается кислородом.
Эта беспрестанная циркуляция крови сродни какому-то божественному, дарующему жизнь паломничеству. Когда кровь достигает легких, нашего храма жизни, красные кровяные клетки (эритроциты) – а их приблизительно 5 миллионов в 1 кубическом миллиметре или в 1 микролитре – протискиваются в узенькие улочки, так непохожие на широкие магистрали, по которым они неслись до этого. Эти узенькие улочки называются капиллярами. Именно в капиллярах каждый эритроцит встречается лицом к лицу с невидимым источником жизни – воздухом. Вдыхаемый нами воздух задерживается в крошечных мешочках под названием «альвеолы», которые выглядят как виноградинки на стебле. Альвеолы опутаны сетью капилляров. Правда, хотя капилляры и альвеолы находятся в непосредственной близости, они не сливаются, не срастаются друг с другом. Но так как разделяют их совсем тонкие мембраны, эритроцитам удается абсорбировать кислород из воздуха и освободиться от углекислого газа, который они получили от тканей организма в обмен на кислород. По сути, каждая из этих миллионов красных кровяных клеток очищается – и сверкает так ярко, так живо, что кровь буквально меняет цвет: из тусклой, мутно-коричневатой, бескислородной венозной превращается в ярко-алую, насыщенную кислородом артериальную.
Сердце не храм, но оно обеспечивает храму неиссякаемый поток паломников. Его роль в нашей жизни так существенна, что стоит ему остановиться, как всего через несколько секунд в организме начинается необратимое разрушение. И это просто чудо, что сердце, которое сокращается за время средней человеческой жизни более двух миллиардов раз, дает подобные сбои только при катастрофических обстоятельствах.
Сердце – одна из самых сложных структур в человеческом организме, ответственная за жизненно важную работу. Это один из первых органов, которые формируются у человеческого плода. Поначалу оно выглядит как одна длинная трубка, но постепенно сворачивается, претерпевает фундаментальные, хотя и малозаметные со стороны изменения и превращается в знакомое нам четырехкамерное сердце. Чем больше его изучаешь, тем больше дивишься его сложному, но изящному устройству. Каждая деталь в сердце имеет свою функцию, и любое отклонение от нормы может создать угрозу для жизни. Это особенно актуально на этапе формирования сердца у плода.
Откуда плод знает, как ему превратить себя из одной-единственной эмбриональной клетки в самый сложный органический механизм в известной нам Вселенной – вопрос, который стоит обсудить подробнее. В каждом эмбрионе практически без какого-либо вмешательства извне оказывается заложено знание о том, как ему дальше развиваться. Это как шкаф из IKEA, который, фигурально выражаясь, может, согласно инструкции, собрать себя сам, только у плохо собранного шкафа могут в худшем случае с трудом выдвигаться ящики, а вот плохо собранное сердце – даже совсем с крохотным дефектом – грозит гибелью.
Природа создает нормальные сердца в 99 % случаев[9]. Звучит здорово, пока не задумаешься о том, что в одних только США тот самый 1 % новорожденных с пороками сердца – это 40 000 малышей в год[10]. Большинство из этих пороков не угрожают жизни и легко поддаются лечению, а многим и вовсе требуется только наблюдение. Но четверть от этого 1 %, то есть почти 10 000 младенцев, имеют тяжелейшие пороки сердца и нуждаются в серьезном хирургическом вмешательстве в течение первого года жизни.
Малейшее отклонение в устройстве человеческого сердца может иметь самые печальные последствия. У меня была пациентка, у которой одна из коронарных артерий – сосудов, которые поставляют кислород в сердечную мышцу, – пролегала по несколько иной траектории. Вместо того, чтобы подходить к миокарду напрямую, она протискивалась между двумя большими сосудами. Такое простое изменение маршрута было чревато тем, что в любой момент эту «дорогу жизни» могло заблокировать, стоило только пульсирующим крупным сосудам чуть сильнее зажать ее между собой, – и потому нам пришлось корректировать эту ситуацию хирургическим путем. Однако современные достижения в кардиохирургии позволяют подавляющему большинству детей с врожденными пороками сердца дожить до зрелого возраста.
Остальные 99 %, рожденные без очевидных пороков, зачастую живут с верой в то, что сердце идеально от природы. Но на самом деле в природе нет такого понятия, как идеальное сердце, потому что у разных организмов сердца разные.
На нашей планете обитает множество животных разных видов и, соответственно, существует множество разных типов сердец[11]. Сердце колибри бьется с частотой 1000 ударов в минуту, а слона – только около 30 ударов в минуту. Сердце синего кита весит почти 600 кг, размером оно с машину и с каждым сокращением выталкивает в аорту 350 л крови (человеческое – около 70 мл). У осьминогов три сердца: по одному в жабрах, которые играют у них роль легких, и одно – для остального тела. Сердце бирманского питона увеличивается вдвое в те дни, когда ему досталась неплохая добыча: мышь или даже олень, – чтобы обеспечить резкое усиление метаболизма, – а потом сжимается обратно до нормальных габаритов. А у собак размер сердца относительно общей массы тела больше, чем у всех других млекопитающих, о чем многие собачники, наверное, и так интуитивно догадываются.
В общем, хотя идеального сердца не существует, каждое сердце, по-видимому, идеально подходит именно тому телу, которому оно служит верой и правдой. Но если сердце такой безупречный механизм, почему в мире по сей день живут существа, которые прекрасно обходятся и без него? Наверняка многих из вас в те или иные моменты называли бессердечными, но, если говорить серьезно, на заре жизни все твари, что бродили по земле или плавали в океане, этого органа не имели. Многие из них существуют в том же виде по сей день, но в большинстве своем это крохотные беспозвоночные. У некоторых бессердечных организмов, таких как морские пауки, обогащенная кислородом кровь двигается по телу за счет пульсации кишечника[12]. Вопрос, который становится все насущнее по мере того, как мы подбираемся к возможности эффективной замены человеческого сердца, заключается вот в чем: а зачем нам вообще нужно сердце?
Хотя многие представляют сердце отдельным органом, на деле это лишь наиболее заметная часть целой сердечно-сосудистой системы. Сосредотачиваться на одном только сердце – все равно что думать, будто в аэропорту нет ничего, кроме командно-диспетчерского пункта. Все сосуды нашего тела – от артерии в стопе, которую можно нащупать между большим и вторым пальцем на ноге, до сосудов, снабжающих кровью глазное яблоко, – соединяются с сердцем.
Сердце – основа человеческого существования, хотя современная медицина, которая уже в корне изменила столь многие аспекты нашей жизни, вот-вот сбросит его с престола. За последние 10 лет была разработана технология, которая позволяет людям прожить еще много лет после того, как им отказало сердце. Раньше сердечная недостаточность была смертельным диагнозом, но теперь это просто хроническая болезнь, с которой живут годами. Новая технология берет на себя некоторые из важнейших сердечных функций. Искусственный левый желудочек – это аппарат вспомогательного кровообращения, механический насос, который хирургическим путем вшивается в сердце пациента и качает кровь за него. Если взять пациента с аппаратом вспомогательного кровообращения за запястье, то прощупать пульс, скорее всего, не удастся. Если приложить ухо к груди пациента с аппаратом вспомогательного кровообращения, будет слышно не сердцебиение, а жужжание насоса. Когда пациенту с аппаратом вспомогательного кровообращения становится плохо, ему порой нужен не врач и не хирург, а механик. Эти аппараты не только перевернули наше представление о способах борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями – они стали первым шагом к переосмыслению того, что значит быть человеком.
Последние 100 лет сердечно-сосудистые заболевания находились в центре научного внимания, и путь, который мы прошли в этой сфере, очень показателен для истории развития медицины в целом. Многие проблемы, с которыми пришлось столкнуться науке, – необходимость эмпирических доказательств, индустриализация научной деятельности, эпидемия фейковых новостей и хайпа, – особенно наглядны применительно к сердечно-сосудистым заболеваниям. Чтобы проследить, как менялись наши представления о сердце, нужно пройти по извилистой, петляющей из стороны в сторону дороге с колдобинами и крутыми виражами, на которых нам приходилось тормозить, и отрезками скоростной магистрали, по которым мы неслись прямиком в будущее, – той дороге, благодаря которой и достигли нынешнего понимания нашей биологической и человеческой сущности.
Только за то время, что я учился, методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний претерпели невероятные изменения. Возьмем, к примеру, ситуацию, когда клапан (аортальный), отделяющий сердце от аорты, – та наружная дверь, за которой богатая кислородом кровь пускается в свой путь по всему организму, – становится слишком плотным. Это поражение называют аортальным стенозом, который чаще всего настигает нас в преклонном возрасте и выражается в том, что мягкий и эластичный сердечный клапан становится твердым и кальцинированным. В тяжелых случаях аортальный стеноз приводит к тому, что сердцу приходится выталкивать кровь под чрезвычайно большим давлением, а также к сокращению объема крови, поступающей в аорту. Не так давно аортальный стеноз был смертным приговором, но потом нашелся врач, который, столкнувшись со случаем аортального стеноза, сумел ответить на один простой вопрос, и это в корне изменило положение дел.
Юджину Браунвальду уже почти 90, и он по сей день остается одним из самых продуктивных исследователей в области кардиологии. Однако, как рассказал мне недавно Браунвальд, в 1958 г. с ним приключилась такая история: он тогда работал в клинике Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health), куда поступил пациент с аортальным стенозом для решения вопроса о хирургическом вмешательстве. Операции на аортальном клапане, которые делались на открытом сердце путем установки искусственного клапана, были еще на стадии зарождения, и хирург спросил Браунвальда: «Какой, по-вашему, прогноз у этого пациента на ближайшие пять – десять лет?» Браунвальд не нашелся, что ответить, поскольку этого в то время никто не знал. «На что вы только годитесь? – возмутился хирург. – Вы не можете сами решить проблему с клапаном и даже не можете сказать мне, что будет, если ее не решу я». Тогда Браунвальд поставил себе задачу выяснить, что происходит при аортальном стенозе, и обнаружил, что после возникновения таких симптомов, как боль в груди, обмороки или сердечная недостаточность, пациенты буквально срываются в пропасть и умирают через несколько недель или месяцев, чем однозначно описал естественное течение заболевания[13]. Но операция на аортальном клапане – итог десятилетий технологического прогресса, о котором раньше не приходилось и мечтать, – могла отвести людей от края пропасти и обеспечить им долгую и здоровую жизнь.
Однако для многих пациентов такая операция была непосильным испытанием, и уж очень многим не позволяло ее провести слишком слабое здоровье. На другом берегу Атлантики французский кардиолог Ален Крибье работал над абсолютно радикальным решением этой проблемы. Он придумал операцию, в ходе которой через маленький надрез на ноге в бедренную артерию вводят длинный, тонкий пластиковый катетер с раздувным баллоном на конце. Когда баллон по ходу продвижения оказывается в отверстии отвердевшего аортального клапана, баллон раздувают, расширяя просвет в клапане. После того как Крибье впервые провел такую процедуру в 1985 г., метод разлетелся по миру, как пандемия гриппа, но радость была недолгой[14]. «Эта операция, как оказалось, только временно избавляла от симптомов и в лучшем случае немного повышала выживаемость», – рассказал мне Крибье в электронном письме. Надуть в отказывающем клапане баллон было все равно что лечить лейкопластырем проникающее ранение живота. Конечная цель Крибье была куда более высокой: он хотел превратить замену аортального клапана из операции на открытом сердце в минимально инвазивную процедуру по «имплантации протеза клапана внутрь пораженного кальцификацией естественного клапана, на бьющемся сердце, с использованием катетера и под местной анестезией». На его пути к тому, чтобы хотя бы попытаться разработать подобный метод, стояло множество преград, и самые труднопреодолимые из них не имели к науке и технологиям никакого отношения. «Самым большим препятствием были, однозначно, негативные оценки экспертов, – написал он мне. – Некоторые даже называли мою идею самой большой глупостью, которую они когда-либо слышали».
Но Крибье и не думал сдаваться. Он изобрел цилиндрический проволочный каркас длиной несколько дюймов с клапаном, извлеченным из сердца свиньи или коровы, внутри. После серии экспериментов на животных и трупах людей, в апреле 2002 г. он имплантировал первый такой клапан 57-летнему мужчине, умиравшему от тяжелой формы аортального стеноза, делать традиционную операцию которому было слишком рискованно[15]. Процедура прошла так удачно, что вся команда Крибье в очень французской манере распила шампанское с ним, в его кабинете, в тот же день.
Перематываем на 2010 г. – и вот уже я стою в операционной госпиталя Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне, где занимался научной работой, и у меня на глазах проводится первая в своем роде транскатетерная замена аортального клапана наподобие той, что ввел Крибье. Это была первая имплантация клапана такого типа в США – она состоялась в рамках большого клинического исследования, которое на тот момент еще только-только начиналось. В операционной было полно народу: там собралась целая толпа кардиологов, хирургов и анестезиологов. Несмотря на невероятное напряжение, мы все ощущали, что на наших глазах творится история. И неслучайно: с тех пор сотни тысяч людей избежали операций на открытом сердце и прошли через процедуру, способную без лишних затрат изменить в лучшую сторону судьбу человека с таким серьезным диагнозом.
Многие считают, что лучшие времена кардиологии уже остались в зеркале заднего вида. В одном интервью Юджин Браунвальд сказал: «Если бы я сейчас начинал свой путь заново, я бы выбрал нейробиологию, потому что следующие 40–50 лет в центре внимания будет нервная система, как в прошлые полвека было кровообращение». Однако, как вы увидите, золотой век кардиологии только начинается и, возможно, завершится он не повышением статуса сердца, а полной его узурпацией за счет разработки устройств, способных заменить человеческое сердце. Сердечно-сосудистые заболевания изучаются давно, но типы болезней, которые возникают у современных людей, причины их появления и способы лечения меняются. И если учесть, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями меняет само определение человеческой жизни и смерти, сейчас самое время познакомиться с прошлым и будущим болезней сердца, врачами и медсестрами, которые их лечат, пациентами, их близкими и сиделками. Все эти люди знают о болезнях сердца не понаслышке и могут рассказать о них много интересных историй.
Глава 2
Сердце: История любви
Сердца – дикие создания,
Поэтому наши ребра – это клетка.
ЭЛАЛУШ
Мы с женой и малышкой-дочкой сидели в кафе у залитого солнцем столика, когда к нам подошел бариста, осторожно неся в руках латте, который заказала моя супруга. Когда он поставил перед ней большую керамическую чашку с толстым краем, мы заулыбались. На пенной шапке, под облачком пара, поднимавшегося от горячего кофе, красовалось изящно прорисованное сердечко. Мы были в восторге.
Сердце не только орган, который поддерживает в нас жизнь, но и метафора, позволяющая выразить наши самые мощные, порой иррациональные порывы. Оно помогает музыкантам выйти из творческого тупика и дописать незаконченную песню. Оно помогает влюбленным высказать то, что поймет и прочувствует только их вторая половина. Нам даже необязательно знать, как сердце работает, как оно формируется и как устроен его изумительный механизм, чтобы восторгаться его и без того несомненным великолепием.
Однако сердце не только символ любви или счастья: чем лучше вы понимаете его реальные функции, тот манифест жизни, который оно неустанно провозглашает каждым своим ударом, тем больше перед вами раскрывается его истинная, естественная красота. Кардиологи посвящают свою жизнь изучению сердца, чтобы использовать полученные знания для того, чтобы чинить сердца людей – как в переносном, так и в прямом смысле. После окончания медицинского вуза проходит не менее десяти лет непрерывной клинической практики и после дипломного обучения, прежде чем врач приобретает опыт, необходимый для того, чтобы диагностировать, предотвращать и лечить недуги, которые могут поразить сердце за годы его тяжелого, непрерывного труда.
В работе кардиолога много плюсов, но есть один, на котором точно сходимся мы все: возможность восхищаться чистой, безупречной красотой сердца. Это словно лабиринт, который уводит вас все дальше и дальше, код, который невозможно расшифровать, – столь очевидно сердце в своем великолепии и вместе с тем столь скрытно в своих загадочных деталях. Изо дня в день мы при помощи передовых методов визуализации наблюдаем, как отбивают свой ритм сердца других людей – видим на рентгеновских экранах бесконечно повторяющиеся циклические движения стенок и клапанов сердца. Мы ведем с пациентами и их близкими долгие беседы о состоянии сердца и том лечении, которое они могут (или не могут, или не хотят) получить. Специалисты по интервенционной кардиологии, которые осуществляют инвазивные процедуры – в том числе вводят крошечные металлические стенты для расширения сосудов, снабжающих сердце кровью, – общаются с сердцем еще более интимно, но, пожалуй, никто не соприкасается с ним так непосредственно и не знает так много о его внутреннем лабиринте из сосудов и камер, как хирурги, которые имеют возможность буквально держать в руках чужие сердца.
На то, почему люди избирают эти профессии, есть масса причин, и большинство из них не столь романтичны. Однажды во время первого года моей кардиологической резидентуры, когда я спокойно спал темной ночью в городе Дарем штата Северная Каролина, на другой стороне планеты, в Пакистане, одного мужчину 60 с лишним лет бросило ранним утром в пот. Затем у него закружилась голова, и он сел в надежде, что непонятное состояние сейчас пройдет. Но его жена, моя мать, тут же догадалась: у отца инфаркт. В доме больше никого не было. Она не стала вызывать скорую, а посадила отца на заднее сиденье машины и помчалась в ближайшую больницу.
Примерно через час после того, как они добрались до отделения неотложной помощи, мама позвонила мне. За этот час отцу сделали электрокардиограмму; взглянув на нее, кардиолог сразу понял, что тут и правда инфаркт – причем серьезный. Врач вызвал бригаду из лаборатории катетеризации сердца, те примчались и немедленно забрали папу к себе. Буквально через несколько минут они ввели ему в бедренную артерию через маленький кожный разрез длинный, тонкий пластиковый катетер и, протолкнув его до сердца, обнаружили тромб, полностью перекрывший основной сосуд, по которому кровь поступала к сердечной мышце. Они раздавили тромб и вставили в просвет сосуда маленький металлический стент, восстановив кровообращение.
Мы созвонились с папой спустя всего несколько минут после окончания процедуры, и он рассказал мне, что все показались ему очень спокойными: не было никакой суеты, врачи просто выполняли свою работу. Правда, в этом случае их работой было спасение чужой жизни, и их своевременная реакция уберегла сердце моего отца от каких-либо последствий. Все это произошло, пока я спал. В современной медицине, где преобладают хронические болезни, очень мало таких моментов, вспоминая которые можно с уверенностью сказать, что ты спас чью-то жизнь. Но для тех, кто занимается сердечно-сосудистыми заболеваниями, подобные моменты вовсе не исключение – в этом как раз и состоит их работа. Более того, именно ради них многие и приходят в эту профессию.
Правда, не все истории любви имеют счастливый финал. У меня в памяти до сих пор хранится очень яркое впечатление от моего первого визита в кардиологическую клинику. Мне тогда было где-то шесть или семь лет. Одного моего дядю положили в ту самую больницу, куда мама привезла отца с сердечным приступом. Когда мы с родителями приехали навестить его, нас встретило очень странное объявление на двери: «Детям вход в больницу воспрещен». Ехать обратно было поздно, так что родители провели меня внутрь тайком, что для Пакистана тех лет было, пожалуй, в порядке вещей. Проходя по главному коридору, я вдруг услышал пронзительный вопль, а затем увидел молодую женщину в хиджабе, которая металась от стены к стене, заламывая руки, а потом рухнула на пол. Родные бросились к ней и попытались ее поднять, но она отчаянно боролась за свое право остаться на полу. И выла так, как в моем представлении никто в природе выть не мог. Я никогда раньше не слышал, чтобы человек издавал подобные звуки, и эта детская травма осталась со мной по сей день. Почти 20 лет спустя мне повезло куда больше, чем этой женщине. Ее отец не позвонил ей после сердечного приступа и никогда уже не вышел на связь.
Со временем, по мере того как менялось наше представление о механике сердца, изменилось и его метафорическое восприятие. Сердце уже не тайна за семью печатями – это машина, которая порой ломается и требует починки, у которой временами забиваются трубы и для которой иногда нужно вызывать сантехника. Если сердце ослабело, ему нужна не любовь, а топливо. Так что сердце как метафорический символ прошло такой же путь переосмысления, как и биологический орган, которым оно является.
И для медиков, и для романтиков сердце всегда было ослепительным, сверкающим миражом на горизонте, и всех их с давних пор одинаково влекло к нему. Отношение людей к сердцу всегда было связано с сильными до крайности ощущениями: тоской или эйфорией, агонией или восторгом, скорбью или упоением. Многие смельчаки брались разгадать тайны сердца и подчинить его себе – будь то словами и стихами или анализом и экспериментами. Пустившись по их следам в обратный путь, мы дойдем до Древнего Египта, где были созданы первые письменные памятники нашей науки.
Врачей и хирургов часто винят в том, что у них комплекс бога. Однако еще не так давно многие из них, скорее всего, и правда чувствовали, что обладают полной властью над своими пациентами и правом решать, как с ними быть. Если заглянуть еще дальше в прошлое, например во времена фараонов, врачей там вполне буквально считали богами. Но именно тогда, тысячи лет назад, мы начали делать первые детские шаги на пути к осознанию базовых принципов работы человеческого тела. Интересно, что долгое время мы гораздо лучше понимали мир вокруг нас, в котором мы лишь крошечные песчинки, чем тот мир, который таится у нас внутри.
Неприхотливое растение Cyperus papyrus, обитатель заболоченной местности в дельте Нила, из которого делали свитки для записи и хранения информации, – вот что дает нам сейчас возможность отправиться в прошлое и заглянуть в кладезь обширных знаний, которые накопило египетское общество, одержимое медициной, химией, архитектурой, метафизикой и искусством. Египтяне оставили после себя не только первые официальные свидетельства о медицинских изысканиях и оформившуюся профессию врачевателя, но и нечто еще более значимое. Сэр Уильям Ослер (1849–1919), знаменитый врач и один из основателей клиники Джонса Хопкинса, в 1913 г. сказал: «В записях, так дивно сохраненных в камне, мы видим, словно в зеркале, где-то отчетливее, где-то менее ясно, отражение поиска человеком истины, самые первые свидетельства его морального прозрения, начало непрекращающейся борьбы за социальную справедливость и признание личных прав. Но главное, [у них] раньше, чем у других народов, зародилась вера, простиравшаяся за границу смерти, – и благороднейшие из их памятников по сей день служат тому доказательством»[16].
Ничье имя не связано с возникновением медицины так отчетливо, как имя Имхотепа, жившего в XXVII в. до н. э. и ставшего одним из всего лишь двух людей незнатного происхождения, когда-либо удостоенных полного обожествления[17]. Современники признали Имхотепа богом врачевания, и храмы, которые были возведены в его честь и куда больные и немощные приходили за исцелением, надолго пережили его самого. Эти строения явились предшественниками современных больниц. Имхотеп был не только врачевателем, но и главным советником фараона Джосера и ведущим проектировщиком ступенчатой пирамиды – самого древнего памятника архитектуры из тесаного камня, сохранившегося по сей день. Он и правда был богом среди людей.
Хотя ни один из дошедших до нас медицинских трудов не принадлежит непосредственно перу Имхотепа, его наследие было задокументировано в папирусе Эдвина Смита, который дает нам некоторое представление о том, как обстояли дела с медициной 5000 лет назад[18]. Папирус относится к XVII в. до н. э., но исследователи полагают, что он является копией документа, созданного, вероятно, самим Имхотепом где-то между 3000 и 2500 гг. до н. э.[19] Папирус Эдвина Смита включает подробный анализ 48 случаев, в диапазоне от инфекционных заболеваний до ран и от головы до ступней, представленных в классическом, по нашим меркам, формате. Каждый случай предваряется заголовком, далее следуют данные врачебного осмотра и один из трех вариантов заявлений, которые делает врачеватель. Если речь идет о таком недуге, как воспалительный процесс на груди (случай 39), врач заключает: «Эту болезнь я вылечу» – и описывает способ лечения. Если в каком-то случае выздоровление не гарантировано, как, например, при возникновении опухоли на груди (случай 45), врач говорит: «С этой болезнью я буду бороться». И наконец, если недуг такой, что требует только наблюдения, как в случае с переломом ребер (случай 44), то врач делает вывод, что «болезнь неизлечима».
Египтяне сильно заблуждались в том, как устроено человеческое тело, и их ошибки еще несколько тысяч лет никто не мог исправить, но и справедливых замечаний они сделали немало. Египтяне верно считали сердце главным органом, ответственным за циркуляцию, и папирус Эдвина Смита содержит первое упоминание о связи пульса с сердцем. Иероглифы в поэтичной форме сообщают: «…Совместно с сердцем пульсирует каждый сосуд всех членов»[20]. Сейчас кажется, что об этом было несложно догадаться, но ведь через тысячу лет после этого греческий врачеватель Гиппократ был твердо убежден в том, что за кровообращение отвечает не сердце, а печень.
Только вот о какого рода циркуляции тогда шла речь? Египтяне полагали, что сердце – это центральный орган и от него по всему телу идут каналы, проводящие воздух, кровь, желчь, мочу, сперму, а также духов и даже душу самого человека[21]. Они также думали, что в сосудах пульсирует воздух, а не реальное эхо сердечных сокращений, проходящее по артериям. Более того, египтяне, как и многие наши современники, с трудом отделяли эмпирические данные о сердце от фантастических домыслов. Кровь, воздух и всякие телесные жидкости поступали, по их мнению, в сердце через какой-то принимающий сосуд (вероятно, аорту) и безвозвратно расходились по телу. Душа, хотя и обитала в районе сердца, имела еще одно место дислокации – возле ануса, поэтому поддержание чистоты ануса считалось важным ритуалом очищения души.
Все время существования своей цивилизации египтяне пристально изучали сердце, и их понимание этого органа становилось глубже. Изменилось даже то, как они изображали сердце: сначала это был шарик с восемью сосудами, похожий на раздутую резиновую перчатку, но потом оно приобрело более реалистичную форму кувшина. Сердце было вместилищем эмоций и духа, живым свидетельством о добрых и дурных поступках своего обладателя, поэтому было важно оставить его внутри тела при мумификации. Считалось, что, когда усопшего приведут на божий суд, Анубис, египетский бог загробного мира с собачьей головой, положит на одну чашу весов его сердце, а на другую – страусиное перо. Сердце, грехи которого потянут чашу вниз, будет отдано на съедение пожирательнице Аммат, гибриду крокодила, льва и гиппопотама, и усопший уже не сможет войти в загробный мир и будет обречен на вечные муки. А сердце, лишенное изъянов, легкое, как перышко, обеспечит усопшему проход в царство мертвых, где его ждет нескончаемая жизнь в мире и покое.
Грех не только отягощал сердце после смерти, но и мог стать причиной болезни при жизни. Эта идея легла в основу первых описаний ряда самых распространенных заболеваний сердца (таких, как сердечная недостаточность), с которыми мы сталкиваемся и пытаемся бороться по сей день[22]. Эти диагнозы были задокументированы в папирусе Эберса – одном из самых древних сохранившихся папирусов, написанном почти на 1500 лет позже папируса Эдвина Смита, примерно в 1500 г. до н. э., – который был куплен в 1873 г. немецким египтологом Георгом Эберсом у его египетского обладателя и переведен Генрихом Иоахимом. Многие полагают, будто сердечно-сосудистые заболевания – это бич современности, однако они поражают людей столько, сколько вообще существует сердце.
И в наши дни представления многих людей о сердечно-сосудистых болезнях мало отличаются от тех древних воззрений, и это связано с недостатком образования. Меня же с древними роднит обручальное кольцо, которое я ношу на пальце так давно, что кожа под ним стала глаже и на несколько тонов светлее, чем на всей остальной руке. Но еще дальше, чем мой долгий брак, уходит в прошлое традиция, вследствие которой многие из нас до сих пор носят обручальные кольца на безымянном пальце левой руки. Возможно, разгадка таится в свитке папируса длиной сотню страниц, написанном в 1555 г. до н. э. Этот документ, известный, как папирус Эберса, содержит энциклопедический объем информации – от средства для борьбы с куриной слепотой (печень быка) до самого первого описания диабета, однако его место в истории закрепили как раз-таки описания разных типов сердечно-сосудистых заболеваний.
По сей день мало что так ассоциируется у нас с потенциально смертельным заболеванием сердца, как образ человека, хватающегося за грудь с выражением страдания на лице. Кулак, прижатый к грудине, так называемый признак Левина, – это практически синоним angina pectoris (грудной жабы), или стенокардии. Стенокардия – ощущение сдавливания в груди, которое зачастую распространяется на левую руку и вверх по шее, – возникает из-за затруднения притока крови к сердцу, и если приступ затягивается, то может развиться инфаркт миокарда.
Здесь важно понимать, что, хотя сердце и качает безостановочно кровь для всего организма, та кровь, что проходит через него, вообще-то его само кислородом не снабжает. На самом деле сердечная мышца получает обогащенную кислородом кровь из особой системы сосудов, называемых коронарными (венечными) артериями. Коронарные (от слова «корона») артерии берут начало в том месте, где аорта выходит из сердца, и, как плющ, обвивают сердце, покрывая его стенку сетью, напоминающей туннели термитов. И вот, если такой тоненький сосуд на внешней стороне сердца заблокирует холестерин, у человека может начаться приступ стенокардии и он почувствует боль или сдавливание в груди. На протяжении большей части новой истории открытие стенокардии и ее первые описания считались заслугой британского медика Уильяма Гебердена (1710–1801), автора труда с весьма расплывчатым названием «Некоторые наблюдения нарушений в грудной клетке» (Some Account of Disorder of the Breast), который он представил Королевской коллегии врачей в Лондоне в 1768 г., а опубликовал в 1772 г.[23] Геберден предложил яркое и удивительно точное описание этой болезни, основываясь на анализе данных всего лишь 20 пациентов: «Те, кто ей подвержен, имеют приступы, во время которых испытывают болезненные и крайне неприятные ощущения в груди, и им представляется, что, усилься эти ощущения, их жизни придет конец». Геберден изучил пульс пациентов во время приступов стенокардии, но, поскольку на ощупь в пульсе сложно выявить какие-либо аномалии, пришел к неверному выводу, что источником боли является не сердце, а язва желудка, однако, несмотря на эту ошибку, он знал, что может произойти впоследствии: «Если… болезнь достигает пика, пациент внезапно падает на землю и почти мгновенно испускает дух». Не обнаружив опять же никаких аномалий при вскрытии пациентов со стенокардией и вновь упустив из виду коронарное кровообращение, Геберден пришел к такому выводу: «Поскольку причина этого не в каком-либо изъяне строения или жестоком разрушении необходимых для жизни органов, мы не должны терять надежду найти лечение».
Однако Геберден был далеко не первым, кто описал стенокардию. В действительности несколькими тысячелетиями раньше не менее захватывающее описание стенокардии было зафиксировано в папирусе Эберса – и тоже с предсказанием мрачного финала: «И если ты осматриваешь человека с болезнью в сердце и у него болят руки, грудь и сердце изнутри… смерть грозит ему»[24]. Более того, египтяне были, вероятно, на шаг впереди, поскольку называли безымянный палец левой руки – тот самый, на который многие люди надевают кольцо в знак сексуальной и эмоциональной связи и в который часто отдает боль при стенокардии, – «пальцем сердца». Они были убеждены, что стенокардия связана с сердцем, а не с желудком или другими внутренними органами, как думал Геберден. Позже возникло предположение, которое до сих пор пользуется широкой популярностью, – что сердце и безымянный палец напрямую связаны особой веной, vena amoris (веной любви).
Но помимо стенокардии, возникающей из-за сбоя кровоснабжения сердечной мышцы, египтяне также впервые описали другой тип заболевания сердца, который сейчас дает о себе знать чаще, чем когда-либо раньше, – сердечную недостаточность[25],[26]. Папирус Эберса определяет ее как ослабление сердечной мышцы, которое он в некоторых местах называет «слабостью или немощью» сердца, «коленопреклонением сердца». В других местах автор заявляет: «его сердце заскучало», но причину скуки указывает специфическую: «Это значит, что его сердце ослабело из-за жара ануса». У многих пациентов с сердечной недостаточностью отекают ноги и скапливается жидкость в легких, из-за чего затрудняется дыхание и возникает влажный кашель – это тоже упоминается в папирусе: «Его сердце полно воды. Это жидкость изо рта. Все члены его тела ослабли». Наконец, неизвестный автор папируса Эберса также засвидетельствовал смертельный для многих пациентов последний акт сердечной недостаточности, который по сей день без всякого предупреждения обрывает человеческие жизни, – фибрилляцию желудочков: «Когда сердце поражено болезнью, оно выполняет свою работу небезупречно. Сосуды, отходящие от сердца, перестают действовать, и их уже не ощутить под кожей… Если сердце дрожит, утрачивает мощь и опускается, болезнь усиливается». Это дрожание сердца, которое зачастую приводит к остановке кровообращения, возникает тогда, когда аномальный сердечный ритм, задаваемый желудочками – теми отделами сердца, которые качают кровь, – вызывает дрожь, порой превышающую 200 сокращений в минуту, из-за чего человек может погибнуть за несколько секунд. Риск развития желудочковой тахикардии или фибрилляции у пациентов с сердечной недостаточностью особенно высок.
Однако этим удивительным открытиям и подробным описаниям сердечно-сосудистых заболеваний во всех их многообразных проявлениях было суждено на много веков кануть в безвестность. Хотя западная медицина имеет во многих отношениях непосредственную связь с медициной египетской, значительная часть того, что было освоено в колыбели человеческой цивилизации, оказалась утрачена, и многие из описанных тогда состояний – в том числе стенокардия и сердечная недостаточность – будут «открыты» через сотни лет после того, как их на самом деле выявили. Причина тому – незнание языка древних: поэтому вместо того, чтобы перевести эти труды и воспользоваться сохраненным в них знанием, преемники погребли их под руинами времени.
Эти открытия так и остались бы для нас тайной, если бы не один из поразительно удачных моментов человеческой истории. Во время египетской кампании Наполеона в 1799 г. офицера Пьера-Франсуа Бушара назначили ответственным за перестройку старого оттоманского форта близ египетского города Рашид во французский форт Сен-Жюльен. Там он обнаружил большую гранитную плиту, которую предшественники использовали просто как строительный материал, но которая явно обладала большей ценностью. На плите был начертан древний текст, который, как выяснилось позже, представлял собой три версии одного и того же царского указа. Верхние два текста были на древнеегипетском языке, в двух формах его записи, а нижний – на древнегреческом. Камень был захвачен британцами и передан в Британский музей, где почти 20 лет спустя французский египтолог Жан-Франсуа Шампольон сумел, опираясь на свое знание древнегреческого языка, расшифровать египетские тексты и открыть миру всю древнеегипетскую цивилизацию с ее мириадами «капсул времени» в форме долговечных папирусов.
Но к тому моменту, когда Розеттский камень поразил коллективный разум человечества, древнеегипетская мудрость покрылась пылью двух тысячелетий, а основой для наших современных представлений о сердце и кровообращении стали труды греков и арабов. Научная теория, возникшая в Древней Греции и популяризированная Гиппократом и Галеном, определила наше восприятие не только человеческого тела, но и человеческой души. За те почти 2000 лет, что отделяли создание Розеттского камня от его повторного открытия, цивилизация оказалась по уши в крови, слизи, черной и желтой желчи – четырех жизненных соках (гуморах).
До того, как у человечества появилась возможность зайти в интернет и узнать о себе всю правду с помощью теста «Какой я персонаж из “Игры престолов”?», люди использовали для определения характера концепцию четырех жизненных соков. Хотя их идея состояла в том, чтобы свести все человеческое бытие в одну теорему, по сути, это был тест на тип личности – и он благополучно дожил до наших дней, так что вы сами можете отыскать его в сети и бесплатно пройти. Правда, мне разные тесты выдавали разные типы личности: один определил меня как сангвиника, а другой назвал флегматиком. Но вот эти четыре типа темперамента, связанные с четырьмя гуморами, послужили основой и для гораздо более распространенных тестов вроде типологии Майерс‒Бриггс.
Число гуморов (четыре) возникло не просто так[27]. В природе есть четыре основных качества: горячий, холодный, сухой и мокрый. Существует четыре главных элемента: земля, воздух, огонь и вода. Этим качествам и элементам соответствуют четыре человеческих темперамента: меланхолик, сангвиник, холерик и флегматик. И наконец, эти четыре темперамента связаны с четырьмя гуморами: черной желчью, кровью, желтой желчью и флегмой. Дисбаланс гуморов – источник всех болезней. И хотя эта теория существовала в Египте еще до Гиппократа и Галена, именно эти греческие врачеватели даровали ей такую славу, что она на много веков пережила их самих.
Гален, последователь Гиппократа, живший в середине II – начале III в., родился на территории современной западной Турции, прошел длинный путь обучения, в том числе в Александрии, где принял факел египетской медицины, а позже поднялся до статуса личного врача римского императора[28]. Он активно пропагандировал теорию кровообращения как «открытой» системы. Что это значит? Гален считал, что питательные вещества из пищи всасываются в кишечнике и перерабатываются в кровь в печени. Он предполагал, что все сосуды тела выходят из печени. Далее кровь расходится по венам ко всем органам и впитывается ими. Кровь, подходящая к правой стороне сердца, по его мнению, не отправлялась к легким, чтобы насытиться кислородом и вернуться назад, а просто перетекала из правого отдела в левый через маленькие поры в разделяющей их перегородке. Воздух попадал прямиком в левый отдел сердца, где смешивался с кровью, поступающей через эти самые невидимые поры. Гален, как и другие его современники, был убежден, что основная функция сердца – не качать кровь, а обогревать тело, а дыхание нужно для того, чтобы его остужать.
Теории, которых придерживался Гален, стали основой медицинской науки всего цивилизованного мира, распространившись по Европе и охватив арабский Восток и Византийскую империю. Но хотя Гален был, возможно, самым влиятельным врачом-ученым за всю историю человечества, он нисколько не продвинул науку вперед, а лишь укрепил ложные представления, существовавшие еще до него. Гален не прославился проведением тщательно продуманных экспериментов и ни разу не анатомировал человеческое тело. Да и время, в которое он снискал популярность, было на редкость неудачным. Вскоре после его смерти религиозные силы полностью подмяли под себя науку, на века оборвав в Европе любые эмпирические исследования. Галенова теория гуморов так легко влилась в теологию, что понадобилось еще полторы тысячи лет, чтобы в западную цивилизацию вернулось просвещение, а темные века наконец рассеялись.
Во время тех самых темных веков знамя интеллектуального поиска перешло в руки арабской цивилизации. Ибн ан-Нафис (1210–1288), родившийся близ Дамаска, в Сирии, был, как и многие интеллектуалы его времени, выражаясь современным языком, энциклопедистом, но главным предметом его изучения был глаз[29]. Однако природная любознательность заставила его выйти из-под безграничного влияния Галена и собственного наставника Ибн Сины (980–1037), известного на западе как Авиценна[30]. Гален не догадывался, что кровь из правого отдела сердца отправляется к легким и возвращается насыщенная кислородом. Он не думал, что сердце качает кровь – по его мнению, кровь пассивно перетекала из правого в левый отдел сквозь маленькие, невидимые поры в перегородке между ними. Но, конечно, поскольку он ни разу не анатомировал человеческое тело и не вскрывал человеческое сердце, все это было лишь его предположениями.
Даже сейчас, когда мы можем, вообще не прикасаясь к скальпелю, в мельчайших подробностях разглядеть бьющееся сердце, реальное анатомирование сердца дало мне куда больше знаний, чем самые высококачественные изображения. Хотя в современной медицине аутопсии проводятся редко, они способны перевести болезнь из категории «угрожающего жизни состояния» в категорию реальных объектов, которые можно увидеть и пощупать. Мало что заменит возможность изучить людские недуги на наглядном примере: потрогать затвердевшую сердечную мышцу человека, умершего от сердечного приступа, или своими глазами увидеть крошечный тромб, закупоривший стент, который был ранее установлен в коронарную артерию пациента.
В отличие от своих предшественников, Ибн ан-Нафис вскрывал человеческое сердце и воочию видел, что между правой и левой его частями нет никакой связи. Кровь, направляющаяся к легким из правого отдела сердца, получает дух жизни из воздуха, который мы вдыхаем, и возвращается в левый отдел сердца, чтобы оттуда отправиться по всему телу[31]. Хотя Ибн ан-Нафис не отказался полностью от основных идей Галена, он вполне ясно сформулировал свое отношение к расхожим представлениям о работе сердца: «Поэтому утверждения иных, будто место это пористо, ошибочны. Они основываются на предвзятом суждении, будто кровь из правого желудочка должна проходить сквозь эти поры – но это неверно!»[32]
Но хотя в исламском мире доводы Ибн ан-Нафиса были приняты, большинству европейцев они показались неубедительными – в том числе и Леонардо да Винчи, который также придерживался учения Галена. Авторитет Галена душил медицинскую науку, и так продолжалось до тех пор, пока уже в XVII в. на авансцену не вышел английский врач Уильям Гарвей, сумевший развенчать вековую догму. Его биография и реакция на его открытия способны многое рассказать о научном прогрессе, неумолимости статус-кво и борьбе, которую приходится вести, чтобы разрубить дурной узел из научных и религиозных представлений. Понятие «фейковые новости» вошло в наш обиход совсем недавно, но само явление так же старо, как языки, готовые вещать, и уши, готовые слушать.
Уильям Гарвей, родившийся в 1578 г. в английском городе Кенте, учился в кембриджском колледже Гонвилл-энд-Киз, но, чтобы получить лучшее медицинское образование в мире, ему пришлось отправиться в итальянскую Падую – Гарвард своей эпохи. Когда там учился Гарвей, руководителем кафедры математики был Галилей. Окончив курс, Гарвей вернулся в Англию, где в 1618 г. стал личным врачом короля Якова.
Вполне очевидно, что он не был бунтарем и мятежником и не ставил себе цель положить конец вековой доктрине. Более того, он не признавал многие математические открытия своего времени и был сильно увлечен теологической концепцией живого духа. Но вместе с тем он был ученым в истинном смысле этого слова. В своем главном труде Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus («Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных»), опубликованном в 1628 г., он написал: «…Я нахожу, что анатомы должны учиться и учить не по книгам, а препарированием, не из догматов учености, но в мастерской природы». Его интересовало не только получение истинных знаний, но и их проверка с учетом собственных гипотез. И в отличие от космоса, где истина может лежать за всеми мыслимыми пределами доступности, человеческое тело дает все возможности для наблюдений и исследований.
До эпохи Гарвея сам ход жизни воспринимался как линейный, из точки А в точку Б, без возврата. Питательные вещества, полученные из пищи в кишечнике, превращались в кровь и направлялись к тканям, где усваивались и пропадали навсегда. Но в это же время жил Коперник, который заявил, что Земля вовсе не статична – она постоянно вращается вокруг Солнца. И в этом круговом движении было что-то столь разумное и изящное, что не могло не тронуть душу Гарвея.
Чтобы проверить свою гипотезу о том, что кровь в теле движется по кругу и что артерии, уводящие ярко-алую кровь от сердца, на самом деле соединены с венами, подводящими темную кровь обратно к сердцу, он разработал такой простой, но изящный эксперимент, что любой ребенок восьми лет может не только повторить его, но и верно интерпретировать результат[33].
Сердце проталкивает насыщенную кислородом кровь в артерии. У артерий толстые стенки, что позволяет им выдерживать давление от сердечных сокращений и передавать эти сокращения дальше по всей своей длине. Вены, напротив, проводят кровь при низком давлении, поскольку они не связаны напрямую с камерой, выполняющей функцию насоса, и имеют, по наблюдениям Гарвея, клапаны, которые не позволяют крови течь обратно к тканям. Артерии и вены соединены микроскопическими сосудами под названием «капилляры», которые выглядят как сомкнутые пальцы, обхватывающие ткани своей паутинкой. Именно через эти тонкостенные капилляры кровь доставляет в ткани кислород и забирает из них двуокись углерода – соединение, образующееся после того, как кислород в ходе окисления углерода создает запасы энергии в организме.
Гарвей туго завязал жгут на локтевом сгибе человека – так туго, что передавил и артерию, проводящую кровь до кисти, и вену, по которой кровь идет обратно. От этого кровь начала скапливаться на пульсирующем участке артерии выше жгута, а биение в той же артерии ниже, на запястье, пропало.
Затем Гарвей повторил эксперимент, но на этот раз жгут был не таким тугим и пережимал только вену. В данном случае у человека по-прежнему ощущался пульс на запястье, поскольку артериальная кровь проходила в нижнюю половину руки. Но так как по вене кровь не могла вернуться от запястья к сердцу, она начинала скапливаться там, вызывая отек.
Доказав таким образом, что артерии и вены связаны между собой и что по артериям кровь движется от сердца к пальцам, а по венам – обратно, Гарвей поставил еще один невероятно простой эксперимент, чтобы доказать, что сердце действительно находится в центре всей этой системы[34]. Гарвей перевязал вены, входящие в сердце еще живой рыбы. Сердце рыбы почти сразу опорожнилось, поскольку оно продолжало толкать кровь вперед, но на обратном пути кровь скапливалась в районе лигатуры и не шла дальше. Далее Гарвей взял змею и пережал ей аорту – большую артерию, выходящую из сердца. Ее сердце тут же отекло и раздулось, и этот эффект пропал, как только Гарвей отпустил зажим. Конечно, человеческое сердце не совсем такое, как сердца рыб и змей, но в их устройстве достаточно сходств, чтобы считать выводы из этих экспериментов верными и для людей.
Вот так при помощи жгута и зажима Гарвей просто и понятно доказал, что вся кровь в организме безостановочно путешествует по одной большой замкнутой системе: круг за кругом, непрерывно, что у людей, что у животных, – и гонит ее вперед сердце, машинист этого безумного поезда.
Но как человечество отреагирует на истину после столетий непоколебимых заблуждений? К тому времени, когда Гарвей проводил свои опыты, труды и теории Галена стали чуть ли не священными и их не подвергали сомнению даже светлейшие из умов. Что будет, если люди узнают, что все их убеждения не просто слегка отклоняются от истины, а категорически не соответствуют ей во всех возможных смыслах? История Гарвея очень поучительна, так как, если вы оптимист, вы увидите здесь неизбежную победу истины и ее повсеместное принятие. В своем обращении 1906 г. сэр Уильям Ослер сказал: «Ни одно событие в истории науки так замечательно не демонстрирует постепенное выявление истины – через этапы обретения, краткий период обладания в тайне и блистательный период сознательного владения, – как открытие циркуляции крови»[35]. Но если вы пессимист, вы подумаете о том, какая у ложных убеждений крепкая хватка – особенно когда так многие заинтересованы в том, чтобы они сохранялись.
Гарвей, который на момент публикации своего труда был очень влиятельным человеком, осознавал, что он тоже не застрахован от расплаты за такую смелость. В «Анатомическом исследовании» он написал: «То, что осталось сказать о количестве и источнике крови, которая течет таким образом, относится к вещам столь новым и неслыханным, что я не только боюсь нанести себе вред, вызвав ненависть отдельных лиц, но и содрогаюсь оттого, что все человечество может превратиться в моего врага, – настолько привычка и обычай стали нашей второй натурой. Однажды посеянная доктрина пустила глубокие корни и завоевала уважение в обществе, ибо старые воззрения всегда оказывают сильное влияние на людей».
У Гарвея появились некоторые сторонники, но число его противников, находившихся в каждом уголке европейского континента, было значительно больше[36]. Рене Декарт положительно оценил теорию Гарвея в своем «Рассуждении о методе» (1637), но притом был убежден, что кровь движется не из-за сердечных сокращений, а из-за естественного, вложенного Богом в сердце тепла, под действием которого кровь расширяется и бежит по сосудам[37]. Объединяло всех оппонентов Гарвея то, что никто из них не ставил экспериментов, чтобы опровергнуть его заявления. А один из тех, кто все же решил проверить открытия Гарвея опытным путем, пришел к тем же выводам и стал впоследствии сторонником его теории[38]. Но благодаря близости Гарвея к королевской семье и высокому положению в Королевской коллегии врачей его теория все же нашла признание еще при жизни автора. Кроме того, Гарвей был человеком осторожным: он опубликовал книгу во Франкфурте, а не в Англии, чтобы не вызывать гнев своего непосредственного окружения. Он также принял большинство теологических постулатов того времени и использовал для обеспечения собственной безопасности свои политические связи. В итоге он отделался легче, чем Галилей, которого Папа обвинил в ереси и посадил под домашний арест.
Однако величайшим достижением Гарвея было, пожалуй, не столько само открытие, сколько то, каким образом он к нему пришел. Его истинным даром потомкам было внедрение искусства эксперимента и наблюдения в сферу медицинского образования и медицинских исследований. Многие молодые врачи стали под влиянием Гарвея повторять его опыты и со временем укоренили традицию порождения новых знаний посредством экспериментальной проверки гипотез. Но хотя эта традиция соблюдается по сей день, многое из того, за что выступал Гарвей, сейчас, похоже, опять оказалось под угрозой. В западном мире вообще и конкретно в США зашевелились давно дремлющие в общественном сознании антиинтеллектуализм и презрение к науке. Прорывные научные идеи подвергаются нападкам не только со стороны тех, для кого стипендия лишь удобное подспорье, но и со стороны ученых, чьим финансовым или интеллектуальным интересам эти идеи противоречат. На ум тут же приходят исследования климата: это та сфера, где многие из корыстных целей и вследствие укорененных предрассудков пытаются свернуть науку с верного пути. Только в наши дни в ход идут не вилы, а бурные дискуссии в Twitter и новые правительственные законы. И хотя кровопролитие в этой борьбе, к счастью, случается редко, она создает чувствительную помеху распространению знаний.
По мере того, как мы приближались к более точному пониманию физиологической функции сердца и ее значения для нас, параллельно происходил еще один, не менее важный процесс: переосмысление той роли, которую сердце играет в художественном, литературном, социальном и религиозном дискурсе. Роль сердца всегда выходила за рамки его биологической функции. И по сей день для большинства людей оно означает нечто большее, чем бездумный насос, равнодушно гоняющий кровь по нашему телу, – оно олицетворяет самую суть человеческой жизни с мириадами ее проявлений во всех культурах и в каждом моменте человеческой истории.
Метафорическое сердце, которое ветра перемен, казалось, веками обходили стороной, после «Анатомического исследования» Гарвея уже никогда не стало прежним. Гарвей изменил представления о сердце не только медиков и биологов, но и поэтов, философов и романистов, которые стали совсем иначе воспринимать и его роль в нашей жизни, и те качества, которые оно олицетворяет. Из органа, снабжающего организм теплом, оно превратилось в мышечный насос, гоняющий кровь по телу. Иная функция требовала и иного характера. В своей книге «Язык сердца, 1600–1750 гг.» (The Language of the Heart, 1600–1750) Роберт Эриксон замечает, что если Галеново сердце имело «в значительной степени воспринимающую или “фемининную” функцию», поскольку оно принимало и согревало кровь, то сердце Уильяма Гарвея вследствие своих ритмичных расширений и сокращений выполняло «более эякуляторную или “маскулинную” функцию»[39]. Своими научными открытиями и комментариями Гарвей породил «подспудную аллегорию эротической и божественной гармонии между сердцем-мужем и телом-женой».
Если раньше сердце считалось ключом к пониманию не только человеческой, но и божественной природы, то теперь в нем все чаще видели труженика, шестеренку, движущую ленту конвейера. Новые сведения о нервной системе заставили людей признать, что мозг не просто прокладка между ушами. В 1871 г. Чарльз Дарвин снял корону с сердца и решительно передал ее мозгу, назвав его важнейшим из всех органов. Для многих сердце стало не больше чем мулом, который плетется в грязи и тащит за собой свою повозку, не задавая лишних вопросов. В своем эссе «Болезнь как метафора» (1978) Сьюзен Зонтаг написала: «Сердечное заболевание предполагает слабость, неисправность механического свойства».
И сейчас, когда мы уже давно идем по пути плодотворного прорабатывания теории кровообращения, мы понимаем, что века ошибок и неверных заключений должны послужить нам уроком и заставить спросить себя: «Какие из наших нынешних убеждений могут в будущем оказаться эквивалентом невидимых пор Галена? Как вообще понять, с чего начинать свой поиск?» Чтобы разобраться с этим, давайте взглянем на наши современные сведения о сердце – на тот портрет, который создавался столетиями, к которому в равной степени приложили руку и ученые, и художники и который по сей день остается столь же загадочным и необъяснимым, как улыбка Моны Лизы.
Сердце располагается за ребрами, немного левее грудины, обращенное узким концом вниз и влево. В человеческом теле много важных органов, но лишь некоторые защищены так же хорошо, как оно. Размером сердце со сжатый кулак, и в отличие от всех других органов оно не знает отдыха: сердце должно постоянно сокращаться, постоянно двигаться, и, чтобы обеспечить ему для этого максимально комфортные условия, природа окружила его тонким фиброзным мешком с двойной стенкой под названием «перикард». Этот мешок содержит около 30 мл прозрачной жидкости, которая называется «перикардиальная жидкость». Перикард выполняет несколько функций. Он смазывает сердце, позволяя ему биться с наименьшими энергозатратами. Он также защищает сердце от внешних инфекций, которые могут возникнуть в ближайших к нему тканях. В отличие от сердца, которое плавает в своей оболочке, как плод в утробе матери, перикард соединяется с тканями и костями и таким образом удерживает сердце на одном месте, не позволяя ему скакать по всей грудной клетке. И наконец, благодаря своей неэластичности перикард не позволяет сердцу расширяться сверх меры.
Само сердце состоит из четырех камер: двух тонкостенных предсердий сверху и двух более крупных толстостенных желудочков снизу. Левое и правое предсердие разделяет тонкая перегородка – перегородка между левым и правым желудочками гораздо более толстая.
Две самые крупные вены организма – это верхняя и нижняя полые вены: одна идет от головы вниз, другая поднимается вверх от нижней части тела, обе они впадают в правое предсердие, направляя туда венозную кровь от всех органов. Через трехстворчатый клапан эта кровь перетекает из правого предсердия в правый желудочек. Клапаны сердцу нужны для того, чтобы не дать крови течь в обратном направлении, а перекачать ее туда, куда нужно. Правый желудочек, гораздо меньший по размеру, чем левый, выталкивает кровь в крупную легочную артерию, по которой кровь направляется к легким. Легочная артерия выходит из правого желудочка по направлению к голове и сразу же на выходе разделяется на правую и левую легочные артерии в форме буквы Т. Эти артерии продолжают ветвиться, как трещины на замерзшем озере, пока не превращаются в крошечные капилляры, оплетающие альвеолы – маленькие мешочки, в которых воздух из легких вступает в контакт с кровью, хотя и никак с ней не соприкасается. Эти капилляры, по которым теперь бежит яркая, насыщенная кислородом кровь, далее сливаются в тонкие венки, которые, сливаясь, в свою очередь, образуют четыре крупные легочные вены, несущие обогащенную кислородом кровь обратно к сердцу и впадающие в его левое предсердие. Затем эта кровь проходит через митральный клапан в левый желудочек – самую крупную и мощную часть сердца, ответственную за продвижение крови по всему телу (в отличие от правого желудочка, который гонит ее только в легкие). С каждым сокращением кровь выходит из левого желудочка через аортальный клапан в аорту, которая также разветвляется на сосуды и проводит ее во все уголки нашего тела.
Маленькие тонкостенные предсердия и большие мощные желудочки участвуют в ритмичных согласованных движениях, которые начинаются с первым ударом сердца и заканчиваются с его последним ударом. Когда предсердия, расслабляясь, расширяются, в них устремляется кровь – в правое предсердие кровь от всего тела, а в левое – от легких; в этот момент сокращаются желудочки, выталкивая кровь из сердца. Предсердия отделены от желудочков клапанами, которые отвечают за то, чтобы давление, создаваемое в желудочках во время их сокращения, называемого систолой, не выталкивало кровь обратно в предсердия, препятствуя их заполнению. Таким образом, предсердия отвечают за то, чтобы сердце было всегда заполнено кровью, и в этом заключается смысл их существования. После сокращения желудочков они расслабляются, расширяются и активно засасывают кровь из предсердий – через трехстворчатый клапан из правого и через митральный клапан из левого в правый и левый желудочки, соответственно. Для того чтобы максимально заполнить желудочки, предсердия сокращаются, пока желудочки находятся в расслабленном состоянии, то есть в диастоле. Такая последовательность сокращений и расслаблений позволяет идеально заполнить желудочки перед их сокращением. Поскольку же предсердия полны, когда сокращены желудочки, а желудочки полны, когда сокращены предсердия, постольку за время всего сердечного цикла объем сердца изменяется не более чем на 5 %. Эта поистине хореографическая согласованность движений предсердий и желудочков означает, что кровь в сосудистой системе все время и беспрерывно движется в одном направлении – через аортальный клапан в аорту, а через устья верхней и нижней полых вен в правое предсердие.
Важно понимать, что, хотя сердце в любой момент времени наполнено кровью, оно не извлекает из проходящего через него потока никакие питательные вещества. Сердце получает кислород из крови коронарных артерий, которые берут начало в устье аорты сразу за аортальным клапаном. Правая коронарная артерия выходит из аорты справа и снабжает кровью правый желудочек и бóльшую часть левого, а левая коронарная артерия разделяется на два крупных сосуда: переднюю нисходящую и огибающую ветви. Из этих двух передняя нисходящая ветвь обеспечивает кровью всю переднюю поверхность левого желудочка, от самого его верха до заостренного конца, который называется верхушкой, которую она огибает. Переднюю нисходящую ветвь можно назвать убийцей – не только потому, что из этих трех коронарных артерий она чаще всего закупоривается, вызывая инфаркт миокарда, но и потому, что ее окклюзия особенно опасна, так как эта ветвь охватывает на сердечной мышце самую большую территорию.
Болезнь может затронуть любую из описанных здесь составных частей сердца, от перикарда до проводящей системы, и, так или иначе, мы нашли способы обнаруживать, лечить, а в некоторых случаях и излечивать большую часть этих поражений. Прогресс в лечении болезней сердца – одно из самых впечатляющих достижений человечества.
Однако в действительности почти все то, что я тут описал, весь этот базис, на котором основан современный подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, может быть тотальным заблуждением. История науки показывает нам, что ничего абсолютного в ней не бывает: мы можем лишь сказать, что за последние 50 лет добились более ощутимых успехов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, чем в какие-либо иные времена. Более того, история исследований сердца также показывает нам, насколько хрупок и уязвим научный прогресс. Древние цивилизации были так близки к построению теории кровообращения – им, возможно, не хватило одного жгута на руке, чтобы понять истинное устройство сердечно-сосудистой системы, – но на смену им пришли почти полторы тысячи лет мрака. Как может прогресс быть столь неустойчивым? Возможно, порой все происходит так, как произошло в случае с вакцинами: они настолько успешно предотвращают болезни вроде кори, полиомиелита, оспы и коклюша, что люди просто забыли, каких усилий они стоили и ради чего создавались. Порой палки в колеса прогресса вставляет дезинформация. До недавних пор сахарная и табачная промышленности активно мешали проведению исследований, которые давали понять, что курение сигарет и избыточное потребление сахара приносит вред. Наша история ясно показывает, что нужно всегда оставаться начеку и оберегать знания, которые мы наконец обрели после тысячелетий неудач и регресса.
Сама наука тоже рискует превратиться ровно в то, с чем она, по идее, должна бороться. Уильям Гарвей и другие ученые пытались изменить подход к исследованию реальности с помощью научного метода: они верили, что нужно не повторять одни и те же «истины», а самостоятельно проверять их эмпирическим путем. Но многие врачи и ученые цепляются за идеи, словно за религиозные тексты, которые нельзя подвергать сомнению, хотя именно такие настроения научный метод и должен был одолеть.
Однако сейчас у нас есть преимущество: свет современных методов исследования позволяет заглянуть в самые сокровенные уголки сердца. И для начала я предлагаю присмотреться к одним из самых крохотных сосудов человеческого тела. Сердце всегда полно крови, питающей весь организм, но кровь, необходимую ему самому, оно получает по коронарным артериям, в которые оно завернуто, словно камень в бумагу. И в этой важнейшей области человеческого тела сосудистая бляшка диаметром 1 мм может стать вопросом жизни и смерти.
Глава 3
Невидимый слон на груди
Но у сердца крепкая память,
и я не позабыл нашу расчудесную столицу…
АЛЬБЕР КАМЮ. Падение
Раджив возвращался на родину, в Непал. Лететь туда из Северной Каролины, где он теперь жил, было очень далеко. Раджив, по его собственному утверждению, «спал, спал и спал» всю дорогу от Атланты до Стамбула, где ему предстояли долгие девять часов до пересадки.
Набрав покупок в Duty Free, он взял себе кофе и пошел по аэропорту в поисках хорошего местечка, где можно будет присесть, воткнуть ноутбук в розетку и наверстать все упущенное за время перелета. И вот, найдя наконец тихий уголок, Раджив почувствовал знакомое неприятное ощущение глубоко в горле.
В последние месяцы – особенно часто во время занятий спортом – Раджив стал ощущать жжение в горле. «У меня и раньше возникало это неприятное чувство, но обычно оно быстро проходило», – рассказал мне он. Как правило, в такие моменты он пытался откашляться, и в большинстве случаев ему от этого становилось лучше: «Я сразу старался выкашлять мокроту, и раньше мне это помогало. Но в тот раз ничего не получилось».
Раджив дошел до туалета, чтобы как следует откашляться, но ему становилось только хуже и хуже: «Было такое чувство, как будто я тону… Хотя я вдыхал воздух огромными порциями, мне казалось, что я не в состоянии его выдохнуть».
Раджив не мог понять, что происходит. Ему было всего 40 с небольшим, к врачам он не обращался почти десять лет: «У меня даже гриппа не было и температура никогда не поднималась». Но в этот раз он понял, что дело плохо: «Я понимал, что, если я хочу выжить, нужно дышать как можно быстрее и глубже».
Однако звать на помощь он не торопился: «Я подумал, что сейчас кто-нибудь обязательно решит, что у меня приступ Эбола или чего-то в таком духе».
К тому же он все еще надеялся, что сейчас это пройдет, как раньше, и он спокойно полетит домой к родителям, однако вскоре самочувствие ухудшилось настолько, что выбора уже не оставалось: он едва мог стоять на ногах. Весь в поту и уже на грани паники, Раджив подошел к сотрудникам охраны, которые тут же вызвали подмогу. «Вскоре прибыла бригада скорой помощи и уложила меня на носилки. Мне надели кислородную маску, но, кажется, от нее мне лучше не стало».
Медики были очень обеспокоены и сказали Радживу, что его нужно везти в местную больницу. У Раджива, однако, не было турецкой визы. Врачи тут же связались с сотрудником иммиграционной службы, который выдал самую быструю визу за всю свою службу, и вскоре Раджив все-таки очутился в больнице.
У Раджива никогда не было болей в груди или любых других симптомов, которые он ассоциировал с заболеванием сердца. Он когда-то курил, но бросил уже много лет назад. «Моему отцу за 80, и он курит с 12 лет. А врач недавно сказал ему, что у него организм 20-летнего парня», – поделился он со мной. Кроме того, Раджива можно было назвать спортсменом: он регулярно играл в ракетбол и занимался в качалке. И даже кардиограмма, которую ему сделали в аэропорту, не показала никаких проблем с сердцем.
Но, как позже узнал Раджив, тогда в международной нейтральной зоне он так близко подошел к смерти, что уже чувствовал ее ледяное дыхание. Два дня специалисты не могли поставить диагноз. На третье утро Радживу сказали, что его переводят в кардиологическое отделение интенсивной терапии.
– Мне сказали, что у меня случился инфаркт миокарда.
– И вы поверили? – спросил я.
– Нет.
Под заболеванием сердца большинство подразумевают сердечный инфаркт – патологический процесс с таким ореолом мифической угрозы, что в обыденной речи его наименование встречается не реже, чем в лексиконе врачей. От заболеваний сердечно-сосудистой системы умирает каждый четвертый американец, при этом инфаркт миокарда – одно из самых пугающих проявлений неполадок с сердцем – ежегодно поражает около миллиона жителей США[40]. Инфаркты настолько распространены, что почти у каждого найдется знакомый, который его перенес. И по мере того, как инфекционные заболевания в современном мире становятся все более редкими, число инфарктов миокарда только растет. Однако параллельно с этим меняется и наше представление о том, что считать инфарктом. Во многих случаях выявить его возможно только при помощи анализа крови. Новые данные, которые мы получаем о сердце, меняют и наше представление об инфарктах, об их причинах, о том, как их лучше лечить и как сделать так, чтобы они вообще не происходили.
Однако хотя мы добились невероятных успехов в преодолении последствий инфаркта миокарда, в наших знаниях о его причинах и способах его лечения остается много пробелов. Многие считают инфаркт современной проблемой, расплатой за сидячий образ жизни и переедание, но это далеко не так. Люди с древнейших времен хватались за грудь и надеялись, что свет не померкнет в их глазах навсегда.
Атеросклероз – вредоносный процесс формирования бляшек в кровеносных сосудах всего тела, приводящий к их сужению и порой катастрофическому закупориванию, – это основная причина инфарктов, инсультов, болезней нижних конечностей, чреватых ампутацией, и хронических заболеваний почек. Болезни сердца очень разнообразны, но чаще всего их проявления (как, например, при инфаркте миокарда) обусловлены атеросклерозом. Если сердечный приступ или инсульт случается как гром среди ясного неба, атакует свою жертву как выпрыгнувший из кустов голодный лев, атеросклероз делает свое дело неторопливо. Он может развиваться десятки лет, пока с головы до ног не стиснет несчастного своей удушающей хваткой и не начнет сдавливать его все сильнее и сильнее. Атеросклероз убивает больше людей, чем любое другое хроническое заболевание в мире. И хотя борьба с ним продолжается уже не первый день, мы, похоже, только сейчас начинаем понимать его истоки.
В прекрасный осенний день 23 сентября 1955 г. 64-летний мужчина играл в гольф на поле клуба Cherry Hills Country в Денвере, штат Колорадо[41],[42]. Последние несколько недель он был в отпуске, рыбачил в Скалистых горах, но работа никак не оставляла его в покое: его то и дело звали с поля в здание клуба – отвечать на телефонные звонки. Между партиями он перекусил гамбургером со сладким луком и вскоре, возле восьмой лунки, почувствовал несварение. Он бросил игру, а позже, уже в два часа ночи, проснулся от боли в груди. Врач решил, что это изжога, и дал ему морфина, отчего он уснул так крепко, что не просыпался до самого утра. На следующий день боль не прошла, и пациента отвезли в больницу, где наконец сделали электрокардиограмму и определили, что у пациента обширный инфаркт. Новости о случившемся быстро разлетелись во все концы. Это стало ударом для исторически крепкого фондового рынка США, который за два дня потерял $14 млрд.
За несколько десятилетий до того, как у Дуайта Эйзенхауэра, 34-го президента США, случился самый дорогой инфаркт миокарда в истории, в его сосудах поселился атеросклероз, который стал методично, по кирпичику строить ту коварную баррикаду, из-за которой Эйзенхауэр впоследствии оказался на волосок от смерти.
Микроскопические атеросклеротические бляшки появляются в кровеносных сосудах задолго до инфаркта[43]. Ток крови по сосудам в норме является ламинарным, то есть клетки крови движутся параллельно друг другу, как птицы, летящие в стае, – ровно и беспрепятственно. Однако в некоторых участках кровеносной системы на фоне увеличения скорости кровотока в местах сужений, разветвлений и изгибов сосудов ток крови становится не плавным, турбулентным. В результате создается усиленное давление на эндотелий – мембрану, выстилающую сосуды изнутри. Пехотинцы иммунной системы – лейкоциты – скапливаются под эндотелием и формируют воспалительный ответ, повреждая эндотелий. Со временем в поврежденных местах образуются заметные жировые отложения, и это уже первый сигнал о том, как события будут разворачиваться дальше. В развитых странах такие отложения можно обнаружить у большинства подростков – и дальше они медленно прогрессируют, становясь все более рельефными и занимая все больше места в просвете сосуда[44].
Возникшая таким образом неровность в сосуде еще сильнее нарушает ток крови, из-за чего эндотелий деформируется и повреждается дальше и под ним собирается все больше лишних клеток. У этих бляшек, как их называют, жировой центр (липидное ядро), но сверху они покрыты плотной оболочкой, так что содержимое бляшки всегда остается на месте. Зачастую в эти бляшки также поступает кальций – строительный материал наших костей и зубов – и цементирует их еще сильнее. Такие бляшки могут образовываться в любых сосудах тела, но, по всей видимости, они питают особую склонность к коронарным артериям сердца из-за турбулентного течения крови по обильно ветвящимся сосудам. Сужая просвет сосуда, который они поразили, эти бляшки ограничивают приток крови к тем или иным органам, но сами по себе они редко бывают смертельно опасными. Однако достаточно одного катастрофического события, чтобы они вмиг стали таковыми. Если по какой-то причине плотная фиброзная оболочка бляшки повредится, липидное ядро может выйти наружу и стать причиной грозного нарушения.
Как только организм обнаружит, что жировая сердцевина бляшки попала в кровь, он запустит на полную мощность механизм свертывания крови, то есть образования кровяного сгустка. Свертывание крови – естественная функция организма, которая защищает нас в случае травмы, не позволяя крови литься безостановочно. Однако в случае разрыва бляшки система свертывания получает ложный сигнал и коагулирует кровь там, где этого не стоило бы делать, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.
Когда атеросклеротическая бляшка вскрывается в коронарной артерии, она провоцирует инфаркт миокарда – три четверти инфарктов происходит именно по этой причине[45]. Когда то же самое случается в каком-нибудь сосуде мозга, это приводит к инсульту и утрате функций той части мозга, которую этот сосуд питал. И в целом разрыв бляшки – виновник множества внезапных смертей.
Почти у всех – если не у всех вообще – взрослых людей есть бляшки в каких-то из важнейших сосудов тела. Почему некоторые бляшки разрываются, а некоторые – нет и почему у одних людей это случается чаще, чем у других? Проблема в том, что разрыв бляшки редко возникает на тех участках сосудов, где этих самых бляшек больше всего, так что предсказать его очень трудно. И далеко не самые крупные бляшки, сильнее других преграждающие ток крови, оказываются самыми опасными. Почему же это происходит? Отчего тем тихим осенним днем бомба замедленного действия в сердце Эйзенхауэра вдруг решила рвануть?
Есть ряд особенностей, из-за которых некоторые бляшки более склонны к повреждению[46]. Относительно тонкая фиброзная оболочка и большое число мертвых клеток в центре – самые явные черты таких кандидатов. Также спровоцировать разрыв бляшки могут некоторые факторы окружающей ее среды, такие как специфический характер тока крови на этом участке сосуда и конкретно вокруг самой бляшки.
Самой большой загадкой атеросклероза всегда была не его кульминация, когда люди вдруг опускаются на корточки, не в силах вдохнуть, заговорить и пошевелить руками или ногами, ничего перед собой не видя, а иногда просто падают на землю без сознания, – нет, самой большой загадкой было и остается начало заболевания: то, как здоровый эндотелий превращается в нечто совсем иное.
За последние десять лет мы стали лучше понимать, какие процессы ведут к возникновению в организме человека этой мины замедленного действия, ответственной за большинство смертей во всем мире. Роль, которую наша иммунная система – сложный защитный механизм, неусыпно оберегающий наш внутренний мирок от большого и страшного внешнего мира, – играет в порождении атеросклероза, становится наконец вполне ясной. Чтобы разобраться, почему воспаление – физическая реакция иммунной системы на внешнюю реакцию – может в некотором смысле быть главной угрозой человеческой жизни, нужно вновь обратиться к нашим самым далеким предкам.
Шесть миллионов лет назад наши обезьяноподобные прародители бродили по лесам Восточной Африки, в любую минуту рискуя оказаться на грани вымирания. Весь день они были на ногах, в постоянном движении. Рацион у них по большей части был вегетарианский: они питались фруктами, листьями, орехами и кореньями[47],[48]. Вся эта пища была в основном углеводной, и гликемический индекс у нее был низкий, то есть она медленно переваривалась и лишь слегка повышала уровень сахара в крови. Затем климат изменился, и леса превратились в засушливые саванны – тогда наши предки перекочевали на побережье. Здесь их рацион изменился: они стали охотиться на животных и потреблять все больше белками и жирами. Так они перешли от углеводной пищи к пище, богатой белком и жиров. Считается, что это изменение рациона привело к увеличению нашего мозга – процессу под названием «энцефализация»[49]. А дальше, как говорится, уже совсем другая история: почти 300 000 лет назад настала эпоха человека разумного[50].
В прошлом люди жили совсем иначе, и последствия того образа жизни мы ощущаем по сей день. В хорошие времена все было отлично, но плохие времена могли быть такими, что хуже просто некуда. Порой нашим предкам везло на сытную добычу, но, когда ждать следующей, было неясно. Без сельского хозяйства у людей не было стабильного источника питания. Есть мнение, что эти колебания между пирами и голодовками привели к отбору так называемых бережливых генов, которые способствовали тому, чтобы организм запасал питательные вещества, а не выводил их излишки с мочой[51]. Так как мы потребляли очень мало сахара, эволюция отбирала гены, подавляющие активность инсулина – гормона, который снижает концентрацию сахара в крови. Это имело огромное значение для нашего мозга, который, в отличие от всех остальных органов, получает энергию исключительно из сахара. Хотя его масса составляет лишь 2 % от общей массы тела, он использует половину всего поступающего с пищей сахара. И вполне вероятно, что для того, чтобы нашему организму, и в особенности мозгу, хватало питания, мы стали эволюционировать в сторону подавления секреции инсулина – гормона, снижающего концентрацию сахара в крови. Предположительно, это одна из причин, почему инсулинорезистентность – центральная проблема диабета – сохранилась в ходе эволюции[52],[53].
Однако впоследствии этот бережливый генотип обернулся против нас, поскольку легкодоступная еда с высоким содержанием простых сахаров и высоким гликемическим индексом в сочетании с нашим в разы менее активным образом жизни привели, судя по всему, к глобальной эпидемии ожирения и диабета[54]. Ожирение и диабет – проблема не только богатых стран, они все чаще встречаются и в странах с низким уровнем дохода. Во время учебы в Пакистане я обследовал школьников в Карачи, самом большом мегаполисе нашей страны, и обнаружил, что четверть детей истощены, а еще четверть, напротив, имеют лишний вес или страдают ожирением[55]. И диабет, и ожирение – одни из главных факторов риска для развития атеросклероза.
Атеросклероз выдают за современную болезнь, побочный эффект меняющегося мира, в котором мы стали есть, работать, перемещаться и жить совсем не так, как раньше. Но, как мы понимаем сейчас, он преследует нас как минимум несколько тысяч лет.
19 сентября 1991 г. одна немецкая пара, взобравшись в австрийских Альпах на высоту 3000 с лишним метров, наткнулась на человеческое тело – оно лежало ничком и наполовину вмерзло в лед. Туристы продолжили свой путь и сообщили о находке властям, когда достигли хижины для отдыха. На следующий день в горы был направлен австрийский жандарм, но ему удалось высвободить тело изо льда лишь наполовину, а потом погода испортилась и работу пришлось прервать. Потребовались еще два дня и усилия множества скалолазов, которые разбивали и кололи лед ледорубами, зубилами, лыжными палками, топорами, дубинками, камнями и отбойным молотком, прежде чем находку удалось извлечь. Только тогда все поняли, что это не недавно погибший альпинист, а древняя мумия. Сейчас мы знаем, что ледяной человек Этци, как его прозвали после обнаружения, является древнейшим из найденных мумифицированных тел. Он умер примерно 5300 лет назад и на удивление хорошо сохранился благодаря глыбе льда, которая тысячи лет была его хрустальным гробом[56],[57].
Этци, мужчина среднего возраста, умер, пожалуй, от самого человеческого из всех недугов – убийства. Ученые нашли у него в левом плече наконечник стрелы. Но они также обнаружили нечто, что гораздо меньше ожидали увидеть: атеросклероз в обеих крупных шейных артериях, о котором свидетельствовали найденные там отложения кальция. Это было удивительное открытие: оказалось, что древнейшее из всех сохранившихся человеческих тел было поражено этой болезнью. Однако еще до того, как Этци извлекли из его ледяной глыбы, атеросклероз был обнаружен в кровеносных сосудах египетских мумий.
Аутопсии мумий, которые проводились в Европе в начале XX в., дали поразительные результаты. В своей работе 1911 г. Марк Руффер, современник знаменитого французского биолога Луи Пастера и один из первых ученых, проводивших вскрытия египетских мумий, заметил: «Интересно, что он [атеросклероз] был распространен и что 3000 лет назад он имел те же анатомические характеристики, что и сейчас»[58]. Через 100 лет после публикации труда Руффера были обнародованы результаты исследования многонациональной группы ученых, выполнявших компьютерную томографию мумий древних египтян, перуанцев и охотников-собирателей с Алеутских островов близ Аляски[59]. Команда ученых обнаружила вероятные или однозначные свидетельства наличия атеросклероза у трети из 137 обследованных мумифицированных людей. Хотя большинство из них умерли молодыми – в среднем 37-летними, те, у кого был обнаружен атеросклероз, прожили чуть дольше: порядка 42 лет. Только у 4 % был атеросклероз коронарных артерий. Это исследование породило трудный вопрос: откуда вообще атеросклероз у людей, которые ели здоровую пищу, были довольно подвижны и не имели тех современных факторов риска, которые мы ассоциируем с этой болезнью?
Как выяснилось, чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть еще дальше в прошлое. Испокон веков людей убивали не болезни сердца и не рак, а инфекции. Бактерии, вирусы, паразиты, патогенные грибы преследовали нас на всех стадиях нашего развития. Главный убийца человека не сам человек, а надоедливый комар – коварный носитель смертельной угрозы. Инфекции практически не оставляли ничему другому шансов на истребление людей. Поэтому, чтобы выжить, человечеству нужно было бороться не с сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком, которые еще в начале XX в. не были главными причинами для смерти, а с инфекциями[60].
Как же организм защищается от инфекций? Он создает агрессивную, параноидально сверхбдительную и воинственную иммунную систему, основу которой составляют иммунокомпетентные клетки. Веками эти наемники отрабатывали навыки боя на множестве болезнетворных организмов, проникавших в человеческое тело, но в последние годы ситуация изменилась: улучшение повседневной гигиены привело к тому, что инфекций и, соответственно, смертей, вызванных патогенными микроорганизмами, стало в разы меньше. Однако тысячелетия тренировок в перенасыщенной инфекционными агентами среде не прошли даром, и наша иммунная система по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности, хотя угроз, которые требуют такого яростного отпора, уже просто не существует. В итоге весь ее невостребованный арсенал простаивает без дела – и тогда она начинает пускать его в ход даже в самых ерундовых ситуациях. Поэтому теперь воспаление – стена, которую наша иммунная система возводит для защиты от инфекционной угрозы, эдакий биологический вариант десанта, высаженного на побережье Нормандии, – может оказаться нашим главным врагом.
При слове «воспаление» многие, наверное, представят себе воспаленный сустав: красный, распухший и болезненный – возможно, после инфекции. Кто-то вспомнит ощущения во время гриппа: лихорадку и озноб. Но, готов поспорить, никому в голову не придут сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз или разрыв бляшки. Однако знайте: воспаление – основная причина атеросклероза, и весь ход нашей эволюции привел к тому, что в нынешние времена оно стало опаснее любой болезни.
Хотя у древних людей и находят атеросклероз, они умирали в 20–30 лет, конечно, не из-за него. Их убивали инфекции. Как им было бороться с этим врагом? В те времена мало кто знал о том, как важна гигиена, у людей редко бывал доступ к чистой воде, не существовало антибиотиков, а вокруг вечно грудились полчища невидимых врагов, готовых напасть в любой момент. Защищаться можно было только внутренними силами – с помощью иммунной системы. Непрестанная и беспощадная атака инфекций, которой организм человека подвергался всю свою жизнь, заставляла его иммунную систему постоянно быть в состоянии боеготовности. Подтверждения этой теории были найдены в ходе новаторского исследования в отдаленном уголке Боливии. Если наши прежние представления о первобытных цивилизациях основывались в лучшем случае на научно обоснованных предположениях, проект «Здоровье и жизненный цикл цимане» (Tsimane Health and Life History Project) позволил воссоздать такую яркую картину прошлого, о какой мы раньше и не мечтали[61].
Народ цимане в Боливии – один из самых изолированных народов на земле. Они все еще находятся на стадии кочующих земледельцев – чуть более продвинутой, чем стадия охотников и собирателей. Они живут тем, что выращивают плантаны, рис и кукурузу, охотятся и ловят рыбу. В рамках исследования, которое финансируют Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health) и Национальный институт по проблемам старения (National Institute of Aging), большая группа медиков, антропологов, биохимиков и других специалистов следит за цимане от их первого до последнего вздоха. Цимане в среднем доживают до 40–50 с небольшим лет. Чтобы прокормить себя, они вынуждены охотиться до самой смерти, причиной которой, как правило, становится какая-то инфекция. Кроме того, большинство цимане заражены кишечными паразитами, из-за которых, судя по анализам крови, их организм находится в состоянии борьбы с воспалительным процессом чаще, чем у людей из более современных сообществ. Цимане, живущие в самых отдаленных районах, демонстрируют еще более высокие показатели наличия воспалительного процесса. Если помножить эти данные о цимане на то, что бóльшую часть своей истории человечество находилось на еще более примитивной стадии развития, можно понять, что при такой жизни (на вечном осадном положении) отбор проходили только те, кто мог эффективнее всего отражать атаки вирусов и микробов.
Заставить иммунную систему отряхнуться от сна могут еще и штуки вроде тех, что застряли в плече у Этци. При любом повреждении – нарушении священных границ, которые обеспечивают целостность нашего тела и всего его внутреннего содержимого, – иммунные клетки тут же бросаются на передовую. На протяжении всей нашей истории ранения и жестокие смерти – как преднамеренные, так и случайные – были обычным делом. Как и инфекции, травматические повреждения являлись одной из главных причин человеческих смертей на большем отрезке нашего существования – и еще одним поводом для гиперактивности нашей иммунной системы. Правда, времена изменились, и, хотя люди все еще получают травмы, будь то во время автомобильных катастроф или перестрелок, их число сейчас меньше, чем когда-либо в истории. Однако защитные механизмы, которые мы выработали для противостояния этим повреждениям, остаются все такими же мощными.
В общем, люди, обладавшие мощной воспалительной реакцией на травмы и инфекции, судя по всему, имели конкурентное преимущество, но теперь обстоятельства изменились. Насилие во всем мире сейчас находится на рекордно низком уровне – хоть кажется, быть может, что это не так. Благодаря вакцинам и общественной гигиене инфекции уже и близко не так распространены, как раньше. И потому иммунная система современного человек в некотором смысле напоминает набитый оружием шкаф, который держали на случай апокалипсиса, а апокалипсис так и не наступил. И теперь вполне очевидно: атеросклероз – это не что иное, как сопутствующий ущерб от того, что веками стоявшие на взводе орудия дали ошибочный залп по цели, которая сильно не дотягивает до угроз прошлого. Защитник в конце концов превратился в разрушителя.
Воспаление играет ведущую роль на всех этапах развития атеросклероза: от самого начала, когда в сосудах возникают еще незаметные изменения, до закономерного финала, когда какая-то хрупкая бляшка наконец разрывается, – оно и поворачивает ключ зажигания, и переключает скорости, и глушит мотор[62]. Центральная роль воспаления в появлении и прогрессировании атеросклероза подтверждается множеством данных. Все, что провоцирует усиление воспалительных процессов в организме, может повысить риск сердечно-сосудистого заболевания. По результатам нашего с коллегами исследования, это касается даже таких болезней, как псориаз[63]. Пациенты с псориазом имеют гораздо больше шансов получить инфаркт или инсульт, поскольку их иммунная система всегда срабатывает на 100 %, провоцируя не только болезненные поражения кожи, от которых они страдают, но и возникновение в сосудах атеросклеротических бляшек, а также их последующий разрыв.
Воспаление не просто надувает атеросклеротические бляшки – оно же и разрывает эти пузыри, вызывая выброс их содержимого в кровь. Активизировавшись во время острого воспалительного процесса, иммунные клетки под названием «макрофаги» могут разрушить фиброзные оболочки, которые удерживают содержимое бляшки, и спровоцировать разрыв. Любая вспышка воспаления (например, перенесенный грипп) повышает риск инфаркта миокарда. Именно это подтолкнуло научное сообщество к идее протестировать такие противовоспалительные средства, как колхицин, используемый для лечения подагры, и метотрексат, который назначают пациентам с тяжелой формой ревматоидного артрита, псориазом и даже некоторыми формами рака крови вроде лейкоза и лимфомы, на возможность снизить риск инфаркта миокарда[64],[65]. Хотя ряд лекарств, снижающих активность иммунной системы, никак не повлиял на вероятность сердечного приступа, в последнее время ученым все же удалось добиться весомых положительных результатов. Был проведен эксперимент с 10 000 испытуемых, в ходе которого действие канакинумаба – моноклонального человеческого антитела, применяемого для лечения системного ювенильного идиопатического артрита – сравнивали с эффектом плацебо[66]. Ни исследователи, ни пациенты не знали, кто получает лекарство, а кто плацебо. И хотя на смертности канакинумаб никак не отразился, инфаркты у пациентов, получавших этот препарат, случались реже. Разница была небольшая, но статистически значимая, и она послужила максимально убедительным доказательством того, что воспалительные процессы в значительной мере способствовали заболеваниям сердца и что в будущем при лечении сердечно-сосудистых заболеваний можно будет, вероятно, использовать те же методы, что и при лечении аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз или системная красная волчанка, при которых иммунная система атакует собственный организм.
Воспаление, однако, не может быть единственной причиной развития атеросклероза. В конце концов, заболевания сердца не были главным убийцей человека до начала XX в., а атеросклероз, очевидно, намного старше. И хотя атеросклероз, несомненно, поселялся еще в телах древних людей, он редко приводил к серьезным последствиям. То же можно сказать про современных цимане: несмотря на высочайшую активность воспалительных процессов, у них практически не бывает опасных для жизни форм атеросклероза, и умирают они, как правило, ровно от того, с чем так отчаянно борется их иммунная система, – в том числе от всякого рода инфекций. Но объяснение эпидемии атеросклероза среди современных людей было найдено в рамках другого масштабного исследования. Это исследование проводилось не в какой-нибудь отдаленной деревне, а в городе Фремингем штата Массачусетс, в 30 км к западу от Бостона. Оно послужило основой для большинства наших представлений о тех факторах риска, которые подталкивают современных людей в смертельно опасные объятия атеросклероза.
12 апреля 1945 г. Франклин Делано Рузвельт, бывший на тот момент уже 12 с лишним лет президентом США, позировал для портрета, сидя в кресле в своем доме на курорте Уорм-Спрингс, штат Джорджия[67]. Там также присутствовала его любовница Люси Мерсер – втайне от его супруги Элеоноры, от которой роман тщательно скрывался. США и их союзники были в одном шаге от сокрушительной победы над Германией и Японией, а сам Рузвельт только недавно в четвертый раз выиграл выборы на пост главы государства. Чуть ранее в этот день его гости «отметили, как хорошо он выглядит». По словам его личного врача Росса Макинтайра, президент находился в добром здравии. «Вдруг он пожаловался на ужасную боль в затылке, – спустя несколько лет напишет его кардиолог Говард Бруенн. – Через одну-две минуты он потерял сознание»[68]. Бруенн перепробовал все, в том числе сделал инъекцию адреналина прямо Рузвельту в сердце – совсем как в той сцене из фильма «Криминальное чтиво», где Винсент Вега в исполнении Джона Траволты вводит шприцем адреналин в сердце Мии Уоллес в исполнении Умы Турман, потерявшей сознание после передозировки героина. Но если Мия от этого укола пришла в себя, то Рузвельт так и не очнулся, и спустя два часа врач констатировал его смерть.
Эта новость, прозвучавшая в столь критический момент мировой истории, стала шоком для американского народа. Заболевания сердечно-сосудистой системы заняли первое место по числу смертей среди американцев, и шансов побороть их было очень мало либо не было вообще. Пока в США каждый второй умерший погибал от заболевания сердца, в обществе росла уверенность в том, что с этим ничего нельзя поделать – остается только привести дела в порядок и покорно ждать своего часа. Внезапная смерть действующего президента только усилила эти нигилистические пораженческие настроения: в то время казалось, что победить армию Гитлера проще, чем выстоять в войне, которая шла в наших собственных кровеносных сосудах.
Когда Рузвельт умер, мы почти ничего не знали о болезни, убивавшей больше американцев, чем могли мечтать все их внешние враги. Мы не только не знали, отчего она возникает, но и не понимали, как ее диагностировать – не говоря уж о том, чтобы лечить. Очень мало кто из врачей специализировался на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Рузвельт был далеко не первым действующим президентом США, умершим от атеросклеротического поражения сосудов. Когда в 1923 г. 29-й президент США Уоррен Гардинг скончался в номере отеля в Сан-Франциско от хронической сердечной недостаточности, его единственным доверенным врачевателем был гомеопат, который за несколько дней до смерти лечил его слабительным[69]. Даже личный врач Рузвельта Макинтайр был отоларингологом и имел слабое представление о болезни, настигшей президента.
За Рузвельтом к власти пришел Гарри Трумэн, который после победы над Германией и Японией взялся за еще более сложную и пугающую задачу – бороться с заболеваниями сердца. В июне 1948 г. он объявил о создании подразделения Национальных институтов здравоохранения, которое будет заниматься сердечно-сосудистыми заболеваниями, известного ныне как Национальный институт заболеваний сердца, легких и крови (National Heart, Lung and Blood Institute).
Перед институтом сразу возник непростой вопрос: как использовать средства, выделенные на его исследовательскую работу? Направить ли их на поиски более эффективных способов лечения пациентов, перенесших инсульт или инфаркт? Безусловно, это было бы полезным начинанием – обычно единственным методом лечения этих болезней был постельный режим. Однако институт подошел к своей задаче с другого конца. Вместо того, чтобы выяснять, как быть с последствиями инфаркта, руководство института решило, что нужно метить выше, и вознамерилось разобраться, как сделать так, чтобы инфарктов не было вовсе. Так началось Фремингемское исследование заболеваний сердца (Framingham Heart Study)[70],[71].
Чтобы понять, отчего у людей возникают сердечно-сосудистые заболевания, Служба общественного здравоохранения США (United States Public Health Service) решила провести долгосрочное исследование группы людей, которых можно было считать типичными представителями населения страны в целом. Фремингем, город рабочих преимущественно белой расы, был выбран из-за близости к Гарвардской медицинской школе, где работал Пол Дадли Уайт, самый знаменитый кардиолог США тех лет. Беспрецедентное для своего времени исследование началось с регистрации первого пациента 11 октября 1948 г., мониторинг первой группы из 5209 испытуемых в возрасте от 28 до 62 лет продолжался с 1948 по 1952 г. Первые результаты Фремингемского исследования заболеваний сердца были опубликованы в 1957 г., но программа продолжается до сих пор[72]. На новейшем этапе исследования к нему были привлечены внуки тех людей, которые участвовали в нем на его начальном этапе.
Возможно, главной заслугой Фремингемской программы стало внедрение в мышление врачей и пациентов понятия о факторах риска[73]. Она побудила врачей не сидеть сложа руки и следить за тем, как болезнь прогрессирует, а пытаться придумать способ, как вообще предотвратить ее появление за счет устранения тех факторов, которые приводят к ее развитию.
Одним из таких факторов риска, по данным Фремингемского исследования, оказалось повышенное артериальное давление. Сокращение левого желудочка сердца приводит к повышению давления в его полости, и это повышение передается в аорту и отходящие от нее артерии. Артериальное давление, которое измеряют обычно при помощи сжимающей руку манжеты, позволяет судить о том, какое давление создается в сосудах тела в целом. Систолическое давление – та цифра, что больше, – это давление, которое создает в сосудах сокращение сердца. Меньшая цифра, диастолическое давление, – это давление в сосудах в промежутке между сокращениями. В данной процедуре, кажется, нет ничего сложного, и ее проводят в мире, наверное, миллионы раз на дню, но при всем при том в наше время очень мало кто знает, как это правильно делается. Недавно студентов-медиков протестировали на знание всех этапов подготовки для корректного измерения артериального давления, и результат оказался шокирующим: из 159 опрошенных только 1 % правильно перечислил все 11 шагов[74]. Среди необходимых требований значатся: дать пациенту предварительно отдохнуть в течение пяти минут, проследить, чтобы он не сидел во время процедуры со скрещенными ногами, и использовать манжету подходящего размера. Однако пациенты или те, кто за ними ухаживает, все чаще измеряют артериальное давление на дому сами, поскольку люди в последнее время наконец стали понимать, что это, возможно, самые важные данные о состоянии организма, которые мы можем получить, даже если они выйдут у нас не совсем точными. И сейчас, после почти вековых блужданий во мраке, мы можем с уверенностью сказать, что снижение давления может спасти больше жизней, чем любое другое из известных человечеству медицинских вмешательств[75].
Уильям Говард Тафт, 27-й президент США, был, вероятно, первым президентом США, которому измерили кровяное давление. В своем письме, где были приведены результаты осмотра бостонским врачом в 1910–1911 гг., Тафт написал: «Он сказал, что давление у меня 210 – фух!»[76] Нормальное систолическое давление – это около 120 мм рт. ст. или ниже. В наше время давление Тафта стало бы поводом для срочной госпитализации, но тогда оно вызвало лишь вздох облегчения. Тафт был далеко не единственным президентом США, страдавшим повышенным артериальным давлением. Вудро Вильсон, пришедший к власти после Тафта, перенес по той же причине серию тяжелейших инсультов, которые превратили его в тяжелобольного, немощного человека. Его супруга Эдит Вильсон спрятала мужа от внимания общественности – даже от его собственного кабинета министров, убедив всех, что у него нервный срыв и, по сути, взяв на себя обязанности президента[77]. Недуг Рузвельта тоже был, с наибольшей степенью вероятности, связан с хронически повышенным давлением. Однако Рузвельту диагностировали повышенное давление и связанную с ним сердечную недостаточность всего за год до смерти – на тот момент его артериальное давление было равно 186/108 мм рт. ст.[78]
Несмотря на расстройство, которое, как мы теперь знаем, играет ведущую роль в развитии атеросклероза, даже самые привилегированные американцы своего времени, президенты, не получали лечения, направленного на борьбу с повышенным давлением. Более того, самые выдающиеся медики считали, что снижать артериальное давление вообще опасно. В 1912 г. сэр Уильям Ослер, знаменитый профессор медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, выступая перед врачами в Глазго заявил, что для пациентов с атеросклерозом «лишнее давление необходимо – из тех же соображений чистой механики, что и в любой обширной ирригационной системе со старыми, покрытыми илом магистралями и поросшими тиной каналами»[79]. Он даже уверял одного пациента, будто «это замечательно, что его мотор поддерживал давление примерно на уровне 180 мм рт. ст.». В 1937 г. Пол Дадли Уайт написал: «Повышенное давление – это важный компенсационный механизм, с которым не нужно бороться даже в том случае, если мы обретем над ним полный контроль»[80]. Скажу больше: повышение артериального давления называли (и до сих пор называют) эссенциальной гипертензией, поскольку считалось, что организму может быть необходимо дополнительное усилие, чтобы протолкнуть кровь ко всем важным органам. Британский врач Джон Хэй пошел еще дальше, он написал: «Главная опасность для человека с повышенным кровяным давлением – это обнаружение сего факта, поскольку тогда какой-нибудь идиот непременно попытается его понизить»[81].
Значимость высокого артериального давления и его связь с повышением риска инфаркта миокарда, инсульта и смерти были открыты совсем другой стороной, для которой этот вопрос был куда более тесно связан с финансовым аспектом, – страховыми компаниями. В 1914 г. – во времена, когда даже ведущие медики не видели в измерении давления большой необходимости, – медицинский директор страховой компании Northwestern Mutual Life Company написал: «Сфигмоманометр – необходимый инструмент обследования для страхования жизни, и не за горами те дни, когда все прогрессивные компании, специализирующиеся на страховании жизни, будут требовать его использования при осмотре любых потенциальных клиентов»[82]. В отчете, опубликованном в 1925 г. организацией Actuarial Society of America, была описана прямая взаимосвязь между увеличением веса и возраста и повышением артериального давления и обозначена зависимость между риском внезапной смерти и артериальной гипертензией[83]. Эти данные, правда, не вызвали особого интереса или любопытства у ведущих медиков того времени – но страховые компании не сдались. Более того, несколько десятков лет спустя, когда Фремингемскому исследованию грозили урезать бюджет, страховые компании взяли часть расходов на себя, понимая, насколько важны его результаты для определения величины страховых выплат.
В 1957 г., через десять лет после начала Фремингемского исследования, были опубликованы первые полученные данные. Исследование показало, что артериальная гипертония тесно связана с повышенным риском инфаркта миокарда[84]. В те времена инфаркты были настолько опасны, что во Фремингеме в трети случаев инфаркта больные умирали от него сразу и только примерно в половине случаев – выживали. Таким образом исследование популяризировало концепцию факторов риска, существующих отдельно от самой болезни, и дальнейшие результаты, опубликованные в 1965 г., указали также на достоверную взаимосвязь между высоким артериальным давлением и инсультом[85].
Ученые, проводившие Фремингемское исследование, думали, что их труд будет завершен на этапе публикации его основных выводов, но вскоре поняли, что натолкнулись на стену – стену в лице других медиков. Чрезвычайно убедительные данные, которые они собрали, никак не повлияли на методы ни самых именитых врачей того времени, ни работников крохотных частных клиник в провинции. А между тем миллионы людей продолжали гибнуть от последствий неконтролируемого повышения давления: после Второй мировой войны каждая вторая смерть, хотя бы отчасти, была сопряжена именно с артериальной гипертонией[86]. Даже в 1970-х, когда медицинская учебная литература начала признавать значимость артериального давления, акцент делался на нижнюю цифру – диастолическое давление, хотя ученые, проводившие Фремингемское исследование, настойчиво демонстрировали, что систолическое давление играет гораздо более важную роль. И только в 1980-х и 1990-х гг., после того, как их результаты были подтверждены масштабными клиническими испытаниями, медицинское сообщество наконец в полной мере приняло выводы Фремингемского исследования, которые последовательно публиковались уже несколько десятков лет и давно пользовались поддержкой страховых компаний.
Однако в наше время полемика об артериальном давлении приняла прямо противоположный оборот. Предметом споров, которые теперь бушуют в научных журналах (и в Twitter), служит не верхний допустимый предел артериального давления человека, а нижний предел рекомендуемой нормы. Мы совершили полный круг: от времен, когда до артериального давления крови почти никому не было дела, мы дошли до эпохи, когда диагноз «гипертензия» можно поставить практически любому взрослому человеку, поскольку установленная в настоящее время норма чрезвычайно низка. Я, как и многие другие, впервые узнал об этих расхождениях, когда, открыв одним ранним утром ноутбук, увидел на экране пуш-уведомление: The New York Times сообщала, что одно из крупнейших исследований, финансируемых Национальными институтами здравоохранения, под названием «Эксперимент SPRINT» было прервано раньше срока[87]. В большинстве случаев исследование прерывают из-за того, что комитет по безопасности заметил признаки его возможного вреда или бесполезности и решил остановить опыты, пока не пострадали другие испытуемые. Однако в данном случае причина была прямо противоположная. Исследование, в рамках которого изучался эффект от очень агрессивного снижения давления – даже ниже, чем до 120/80, показало, что эффект этот на удивление положительный. Полученные данные показались Национальным институтам здоровья настолько убедительными, что они даже не стали дожидаться, пока результаты исследования будут представлены на научной конференции или в журнальной статье. Они сразу выпустили пресс-релиз, за которым тут же последовала публикация на первой странице The Times, в комплекте с незамедлительным уведомлением для пользователей. Когда в соответствии с этими новыми данными были обновлены нормы артериального давления, 31 миллион американцев в одночасье узнали, что у них, оказывается, гипертония[88].
На то, чтобы артериальную гипертонию признали реальным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, ушло не одно десятилетие, но в итоге наука одержала верх над догмой. История сердечно-сосудистых заболеваний, как и многих других, наглядно показывает, что порой главной преградой для научного прогресса становятся «хранители традиций» и лидеры мнений в соответствующей области. Но эксперт по определению верен текущему статус-кво, и по мере роста его компетентности крепнет его связь с тем существующим объемом знания, на котором зиждется его авторитет. В медицинской науке отклонения от истины стоят тяжких человеческих потерь, и века неконтролируемой гипертензии, скорее всего, обошлись нам в миллионы миллионов жизней, оборвавшихся из-за инфаркта или инсульта. Но теперь все наши знания о вреде повышенного артериального давления подводят нас к самому важному вопросу: как с ним бороться?
Мэри была классическим воплощением крепкого здоровья. Эта худенькая, миниатюрная женщина прожила восемь десятков лет, ни разу не переступив порог больницы, однако в последние несколько месяцев она то и дело оказывалась в отделении неотложной помощи из-за пугающе высоких показателей артериального давления. Она не могла понять, что происходит, и даже сверяла показатели своего домашнего тонометра с теми, что давал аппарат бригады скорой помощи, чтобы убедиться, что ее прибор нормально работает. В итоге она очутилась в моем кабинете – и теперь нервно ерзала на стуле, надеясь, что кто-нибудь все же разберется с ее проблемой.
Высокое артериальное давление – такой мощный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, что сейчас оно считается главной причиной смерти и утраты трудоспособности по всему миру[89]. Почему же оно столь разрушительно? Усиленный ток крови в сосудах может нарушить целостность тонкой оболочки, выстилающей сосуды изнутри, – эндотелия. Из-за этого в нем возникают микроповреждения, и организм запускает свою ответную реакцию на травмы – воспаление. Воспаление ведет к атеросклерозу, который, в свою очередь, – к инфарктам и инсультам. Чрезвычайно мощные скачки давления могут вызывать разрыв сосудов, в том числе крайне важных, таких как аорта или сосуды, питающие головной мозг. За несколько секунд до геморрагического инсульта давление Рузвельта превышало 300 мм рт. ст. Из-за такого невероятного давления у него лопнул сосуд в голове – череп заполнился кровью, и президент умер[90].
Зажав сосуды мертвой хваткой, повышенное артериальное давление заставляет сердце напрягаться гораздо сильнее: оно вынуждено проталкивать кровь в почти полностью заблокированные сосуды. Поначалу сердце ведет себя так же, как любая другая мышца, которую заставили трудиться сверх меры, – оно гипертрофируется, то есть увеличивается объем сердечной мышцы. И хотя «большое сердце» в обыденной речи считается комплиментом, в реальности подобное увеличение – это, с большой вероятностью, предвестник сердечной недостаточности. Продолжая уплотняться все сильнее и сильнее, такое увеличившееся, мускулистое сердце может вскоре надорваться – нередко оно в какой-то момент просто разбухает и становится одутловатым и немощным.
Но чтобы бороться с повышенным давлением, нужно для начала разобраться, как вообще возникает гипертензия. Серые кардиналы, от которых зависит то, насколько расслаблены или напряжены кровеносные сосуды, – это два похожих на фасолины органа, расположенных в животе ровно на уровне пупка, ближе к позвоночнику, – почки.
Если выразить жизненную миссию наших почек одним словом, это слово будет «баланс». Почки не сторонники перемен – они трудятся для того, чтобы добиться постоянства состава внутренней среды организма. От решения двух основных задач, стоящих перед почками, зависит степень напряженности любого сосуда нашего тела: почки отвечают за то, какой объем крови циркулирует в организме и каков ее состав.
Рассуждая о человеческом теле, мы (я полагаю, это естественно) его одушевляем. Мы представляем его как личность, но для почек оно лишь раствор разных солей в последовательно соединенных трубках. Человеческое тело – давайте не будем забывать – на 70 % состоит из воды. Почки постоянно сканируют проходящую через них кровь, чтобы убедиться в том, что в ней не нарушен электролитный баланс. Из всех электролитов, содержащихся в крови, – натрия, калия, кальция, хлора, – почки уделяют особое внимание натрию.
Почки также отслеживают объем жидкости в организме и не дают нам, например, взять и раздуться как шарик. Или наоборот: предположим, вы долго не пили и в вашем организме возник дефицит жидкости. Это могло бы привести к сокращению тока крови и падению артериального давления, из-за чего у вас бы закружилась голова, поскольку из-за сниженного давления кровь достигала бы не всех частей вашего тела. В итоге из-за недостаточного кровоснабжения таких органов, как мозг, вы могли бы потерять сознание и, возможно, даже умереть. И единственное, что не дает случиться всему этому каждый раз, когда вы долго не пьете воду, – почки.
Почки отслеживают, какие соли и питательные вещества проходят через их узкие канальцы, словно они – иммиграционная и таможенная полиция в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. И больше всего их интересует натрий. По нему почки определяют, достаточно ли в организме воды: если натрия слишком много, это, как правило, значит, что кровь плохо разбавлена. В таком случае почкам приходится удерживать воду, пока концентрация натрия не понизится до нормального значения. Если натрия слишком мало, это значит, что в организме перебор воды – тогда нужно открыть шлюзы и выводить жидкость до тех пор, пока концентрация натрия не возрастет.
Теперь представьте, что вы полакомились аппетитной жареной курицей, которую щедро сдобрили солью и подали с обжаренной в масле листовой капустой. Весь натрий из этого блюда поступает прямиком в кровь и заставляет почки думать, будто в организме нехватка воды, из-за чего они начинают удерживать жидкость, увеличивают ее объем и одновременно повышают давление крови в сосудах. На самом деле у многих людей после соленой еды возникают явные отеки. Поэтому во многих случаях главная мера по борьбе с повышенным давлением – ограничение потребления соли. И кстати, во времена Рузвельта жесткий запрет на соль был едва ли не единственным способом понизить давление.
Хотя мы уже поняли, что мир вокруг представляет собой не что иное, как целый арсенал угроз нашему существованию, нужно отметить, что, пожалуй, никто из этого трусливого полчища не способен на большее коварство, чем соль. Рожденная от союза положительно заряженного иона натрия и отрицательно заряженного иона хлора, соль крайне опасна своей притягательностью. Во многих культурах она такая же неотъемлемая часть существования человека, как язык. Пристрастие к соли – нешуточное явление, хотя способность этого вещества вызывать привыкание и патологическую тягу начали признавать только сейчас[91],[92]. На самом деле наши взаимоотношения с солью не столь далеко уходят в прошлое, как кажется. На протяжении большей части человеческой истории люди потребляли всего около 0,25 г соли в день – и это та доза, которую наш организм привык воспринимать как норму. Сейчас люди всего мира в среднем употребляют по 4 г натрия в день, что вдвое превышает рекомендуемую дневную норму – 2 г. Почему это важно? Из-за своей связи с повышением артериального давления злоупотребление солью становится, по некоторым оценкам, причиной смертей 1,7 миллиона человек в год по всему миру[93]. Еще больше людей страдает от сердечной недостаточности, сердечных приступов, инсультов, аневризмы аорты и заболеваний артерий нижних конечностей. Так что если признать соль наркотиком, она будет самым опасным из всех существующих наркотических веществ. Для справки: все запрещенные наркотики вместе взятые провоцируют во всем мире 190 000 смертей в год[94]. И соль убивает не только со временем – передозировка соли также может привести к фатальным последствиям[95].
После операции на мозге у одной 19-летней француженки появились судороги. Вместо того, чтобы обратиться за врачебной помощью, ее близкие заключили, что она одержима дьяволом. Религиозное семейство показало ее местному священнику, и тот порекомендовал обряд экзорцизма[96]. Обряд начался в 11:00 в присутствии ее родителей и брата. «Целительное» воздействие, которому ее подвергли, включало беспощадное избиение тростниковым стеблем. К 17:00, когда обряд закончился, девушка уже потеряла сознание и едва дышала. Ее отвезли в ближайшую больницу, где она скончалась. Но убила ее не порка, а соленая вода, которую ее заставляли пить во время обряда. Из-за внезапного и быстрого поступления такого количества соли ее легкие и мозг переполнились жидкостью. Мозг раздулся так, что буквально распирал черепную коробку. Позже священника осудили за применение пыток. Другая девушка, 20-летняя израильтянка, впала в депрессию после рождения ребенка[97]. Ее также принудили пройти через религиозную церемонию в присутствии родных и близких, на которой ее тоже заставили глотать соленую воду – с тем же исходом.
Так если соль порабощает, как наркотик, и убивает, как наркотик, почему ее не ограничивают?
В 2016 г. Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало компаниям пищевой промышленности снизить содержание соли[98]. Как оказалось, 75 % употребляемой нами соли поступает не из солонки, а из полуфабрикатов и ресторанной еды[99]. Помимо очевидных виновников – супов из банок, пиццы и колбасных изделий – есть три менее явных вредителя: хлеб, колбасные изделия и курица[100]. Рекомендация управления была, однако, более чем мягкой. Возможно, тому послужили некоторые данные, которые позволяют предполагать, что слишком низкое потребление натрия тоже может причинить организму вред[101]. Само существование таких данных, указывающих на опасность ограничения соли в рационе, позволило сдержать гнев законодателей[102].
Главный вопрос, который волнует многих моих пациентов и людей, озабоченных своим здоровьем, очень прост: как выжить без соли? Соль, как говорится, единственный съедобный минерал, а также важнейший ингредиент одной из наших самых базовых, повседневных радостей. В Талмуде, ключевом тексте раввинистского иудаизма и главном источнике иудейского религиозного права и теологии, сказано: «Мир может жить без вина, но не может жить без воды; мир может жить без специй, но не может жить без соли»[103]. Ответ на этот вопрос не отыскать в исторических трудах или научных работах, поэтому я обратился к единственному знакомому мне человеку, для которого найти этот ответ было жизненно важной задачей, – к моей жене Рабейл.
Рабейл было 20 с небольшим лет, когда она узнала, что у ее отца случился инфаркт миокарда.
«Он был на конференции, и сразу после перерыва на ланч его вдруг стало тошнить. У него возникло ощущение, как будто кто-то тянет его за грудную клетку», – рассказала она мне. С ним вместе на конференции присутствовала врач, но это не помогло, поскольку она приняла его симптомы за пищевое отравление.
«Она решила, что ему нужен свежий воздух, посадила его в машину и катала с открытыми окнами по пробкам 45 минут. Но ему стало не лучше, а только хуже. В итоге она отвезла его в больницу».
Когда он попал в больницу, интерн, который первым посмотрел его электрокардиограмму, не смог ничего разобрать и велел ему отправляться домой. Но боль не утихала, и, когда ту же ЭКГ показали вышестоящему специалисту, его реакция была совершенной иной: «Когда более опытный врач посмотрел ЭКГ, он весь побледнел и сказал, что у отца обширный инфаркт и он вообще мог умереть еще в машине». Он тут же распорядился, чтобы отцу в тот же день провели операцию и освободили заблокированную артерию.
Мы с супругой женаты много лет, но в тот раз она впервые рассказала мне эту историю во всех подробностях. «Мы все были страшно напуганы. Он был еще совсем молод, – сказала она. – Я боялась, что потеряю его: он был таким энергичным, полным жизни, находился на пике карьеры – казалось, все это сейчас закончится».
Мой тесть не был одним из тех, у кого можно подозревать риск сердечного приступа. Он был стройным, не курил, не болел диабетом – единственным его недостатком была любовь к соленой еде. Теперь врачи велели ему солить еду как можно меньше. «Когда он был ребенком, у них дома на столе всегда стояло две солонки, – вспоминает моя жена, – и он солил каждый кусочек, прежде чем отправить его в рот».
Рабейл, которая впоследствии стала, к моему неописуемому восторгу, удивительно талантливым шеф-поваром и выпустила собственную поваренную книгу, в то время почти не готовила. «Амми [мама] всегда занималась готовкой сама, и после случившегося она просто начала подавать все в вареном виде, – рассказывает она. – Мы садились за стол, на нем появлялась тарелка бесцветных вареных овощей, аббу [отец] расстраивался и порой уходил из-за стола».
Отцу было противно чувствовать себя пациентом. Меньше чем через месяц после такого серьезного приступа он начал бунтовать – Рабейл поняла, что нужно что-то делать, и взяла кухню на себя: «Нужно было не просто решать, чем кормить отца, а переходить на здоровое питание всей семьей».
Если медленно снижать потребление соли, то, как и в случае с кофеином, через какое-то время начинаешь ее меньше хотеть. Вкусовые рецепторы перезагружаются. Когда людям говорят сократить потребление соли, они зачастую сокращают вообще все.
Рабейл начала импровизировать: «Вместо того, чтобы приправлять еду маслом и солью, я стала делать пасту из свежих овощей, йогурта, трав и специй и добавлять ее к мясу и бобам. Я также взяла на вооружение лимоны и стала использовать их сок как усилитель вкуса. И вдруг у меня начали получаться отличные блюда с минимальным количеством соли, а иногда и вовсе без нее, но при этом с насыщенным, ярким вкусом». Чтобы компенсировать отсутствие соли и масла, она пробовала самые разные комбинации специй, трав и овощей, избегая при этом готовых, напичканных солью приправ, большинство из которых содержали безумное количество натрия. Она также регулярно использовала кислую мякоть тамаринда, которая придавала еде интересный пикантный оттенок: «Соль все перебивает, но, когда ее потихоньку убираешь, начинаешь чувствовать естественную солоноватость мяса, бобов, круп, орехов и овощей».
Кошмар Рабейл, кажется, остался далеко позади: с тех пор, как ее отец перенес инфаркт, прошло уже больше десяти лет, и он по сей день находится в добром здравии. Но хотя сокращение объема потребляемой соли, безусловно, отличный первый шаг к тому, чтобы вырвать себя из когтей гипертонии и риска сердечно-сосудистых заболеваний, одного этого, скорее всего, будет мало. Вообще-то, убедительных доказательств тому, что ограниченное потребление соли ведет к улучшению здоровья, нет – даже для таких заболеваний, как инфаркт миокарда, который традиционно считался очень тесно связанным с переизбытком соли. Для врачей и ученых середины XX в., которые наблюдали, как умирает каждый второй больной с инфарктом, вызванным в значительной мере повышенным давлением, и не могли предложить никакого иного лечения, кроме запрета на соль, это было совершенно очевидно. Но одно удивительное открытие наконец привело специалистов к разработке лекарства, способного пресечь нежелательное повышение давления, – и пришло это решение из самых темных глубин непроходимых бразильских джунглей.
Почки – это невоспетые герои человеческого организма. Если бы на BuzzFeed вышла статья «Лучшие органы человеческого тела: вы ни за что не поверите, кто оказался на первом месте!», можете не сомневаться: почки точно не попали бы в топ-5. Они, очевидно, не такие источники интеллекта, как мозг, не такие труженики, как сердце, и не такие оплоты жизнедеятельности, как легкие, – они ответственные работники закулисья, благодаря которым все эти кичливые органы могут блистать в свете софитов.
Помимо относительной концентрации всевозможных электролитов в нашем организме, почки также занимаются общим объемом крови в наших сосудах. Как только почки обнаруживают, что в них поступает недостаточно крови, они запускают последовательность действий, которые повышают артериальное давление. Этот эффект впервые обнаружил Гарри Голдблатт, патологоанатом Кейсовского университета Западного резервного района (Case Western Reserve University) в Кливленде, штат Огайо[104]. В 1934 г. Голдблатт изготовил серебряную клемму и с ее помощью частично перекрыл ток крови в одну почку собаки, на которой он проводил свои эксперименты. У собаки повысилось артериальное давление. Это открытие стало квантовым скачком в исследованиях артериального давления, поскольку дало ученым модель для дальнейшего тестирования методов лечения гипертонии. За следующие несколько десятилетий удалось выяснить, что, когда почки регистрируют уменьшение поступления крови по почечным артериям (доставляющим кровь в почки), они выделяют гормон под названием «ренин». Ренин стимулирует выработку ангиотензина, а ангиотензин провоцирует сокращение кровеносных сосудов и тем самым поднимает артериальное давление до нормы.
Логично было предположить, что, если бы удалось найти способ остановить эту ренин-ангиотензиновую реакцию, у нас появилось бы одно из самых эффективных средств понизить давление. Надо также добавить, что у многих людей ренин-ангиотензиновая система гиперактивна и их организм повышает давление и удерживает воду даже тогда, когда это не требуется. Это не просто делает человека гипертоником, но и создает другую проблему: удержание ненужной воды может привести к скапливанию жидкости в организме, а это основной механизм развития сердечной недостаточности. Однако в своих открытиях 1950–1960-х гг. наука не дошла до финальной точки: создания того самого лекарства, которое смогло бы разорвать эту цепочку и предотвратить миллионы смертей от повышенного кровяного давления. Эта финальная точка была по счастливой случайности поставлена в дебрях амазонских джунглей.
На банановых плантациях в юго-западной части Бразилии работники сталкиваются с одним жутким, кошмарным трудовым риском: жараракой обыкновенной, в народе также известной как бразильская гремучая змея. Мгновенный бросок этой змеи, укус – и человек тут же замертво валится на землю. Коренные народы Бразилии даже собирали ее яд и смазывали им наконечники своих стрел. Почему же этот яд обладает такой силой? Бразильские ученые в 1960-х гг. выяснили, что он вызывает у жертвы катастрофическое снижение артериального давления. Тогда Серхио Феррейра (1934–2016), на тот момент еще аспирант, приехал в 1960-х гг. в лондонскую лабораторию знаменитого британского фармаколога сэра Джона Вейна с полным пузырьком яда бразильской гремучей змеи в кармане[105]. Вейн сумел убедить своих коллег в Великобритании и США продолжить разгадывать тайны этого смертельного яда. Один из друзей Вейна в Корнеллском университете ввел синтетическую версию яда непосредственно своим пациентам и обнаружил, что он эффективно снижает кровяное давление – но, к счастью, не настолько эффективно, чтобы убить их. Последовало еще десять лет исследований, направленных по большей части на то, чтобы разработать такой состав, который можно будет проглотить в форме таблетки, а не вводить при помощи шприца, и в итоге было создано первое из целой группы революционных лекарств – ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)[106]. Каптоприл – дедуля целого ряда лекарственных средств, названия которых тоже заканчиваются на «-прил»: эналаприл, лизиноприл, квинаприл и т. д., – был открыт в 1975 г., и по сей день эта группа препаратов остается главным компонентом в лечении не только высокого артериального давления, но и сердечной недостаточности.
Были, правда, разработаны и другие препараты для снижения давления. Диуретики (мочегонные) – это категория лекарственных средств, которые понижают давление за счет того, что заставляют почки выводить лишнюю соль, а с ней и воду, с мочой. Когда почки теряют соль, за ней следует вода, из-за чего при мочеиспускании выходит больше жидкости, и артериальное давление крови снижается. На самом деле теперь у нас даже слишком большой выбор лекарств для снижения давления. Но бывает, что давление пациента не реагирует ни на какие средства – из какой бы то ни было категории. Этих людей с так называемой злокачественной гипертензией особенно трудно лечить. На самом деле у одного из десяти пациентов с гипертонией сохраняется повышенное давление даже тогда, когда он регулярно принимает три или более препаратов для снижения давления. И Мэри, та 80-летняя женщина, сидевшая напротив меня в кабинете, была одной из этих пациентов. Она принимала массу лекарств, в том числе ингибитор АПФ и диуретик, но давление по-прежнему скакало, и ей приходилось вновь и вновь мчаться в больницу.
Мог ли я предложить ей что-то другое? И да, и нет.
Немалое участие в регулировании давления в системе кровообращения принимает другая обширная параллельная система организма – нервная. У периферической нервной системы, в которую входят все нервы за пределами головного и спинного мозга, есть два режима. Чтобы прочувствовать один из них, пойдите и хорошенько покушайте (или представьте, что сделали это), а потом оцените свое состояние. Вы повеселеете, расслабитесь, вам захочется прилечь на диванчик, и вы, быть может, даже испытаете то, что нынче принято называть пищевой комой. Почему возникают такие ощущения? Все потому, что организм стремится обеспечить оптимальное переваривание пищи, направляя кровь к органам брюшной полости. Этот режим включает парасимпатическая нервная система. Такое сонливое состояние после сытной трапезы возникает из-за того, что парасимпатическая система понижает артериальное давление – изредка бывает даже так, что люди теряют сознание от большого количества съеденного. Но для «ян» парасимпатической системы существует и свое «инь» – симпатическая система, которая может в одну секунду включить режим повышенной боевой готовности, если вас, например, напугало что-то в темноте или если экран компьютера безнадежно посинел, когда вы уже напечатали половину своей статьи, но не успели ее сохранить. В такие моменты симпатическая нервная система не только заставляет бешено колотиться сердце, но и повышает артериальное давление.
Каким же образом она повышает артериальное давление? Дело в том, что существуют симпатические волокна, которые иннервируют почечные артерии, снабжающие кровью почки. Поэтому, когда симпатическая система возбуждается, почечная артерия сужается, что приводит к уменьшению кровотока по почечным артериям[107]. Введенные в заблуждение почки реагируют так же, как реагируют при обезвоживании или кровопотере: активируют ренин-ангиотензиновую систему и тем самым повышают артериальное давление.
В те дни, когда единственным способом лечения артериальной гипертонии было назначение бессолевой диеты, врачи шли на любые эксперименты. Например, некоторое время больным назначали даже тиоцианат калия – чрезвычайно ядовитое вещество, ныне запрещенное к применению в медицинской практике. Почему? Потому что те, кто его принимал, часто сходили с ума перед смертью[108]. Гораздо большей поддержкой пользовался хирургический способ лечения повышенного артериального давления: хирурги просто перерезали симпатические нервы[109]. Но хотя этот метод действительно помогал снизить давление некоторым пациентам, он также обладал серьезными побочными эффектами. Симпатическая нервная система отвечает за потоотделение, поэтому у пациентов с рассеченными нервами переставали потеть ноги и все остальные области, где исчезал нервный сигнал. Но, парадоксальным образом, они начинали потеть сильнее в других местах: в частности, страдали лицо и голова. Кроме того, у некоторых мужчин пропадала эрекция или эякуляция. А самым распространенным побочным эффектом было низкое давление в положении стоя.
Спустя почти 100 лет после изобретения метода хирургической симпатической денервации исследователи нашли гораздо более безопасный способ воздействия на симпатические нервы в почках. Вместо того чтобы рассекать нервные стволы скальпелем, они предложили использовать катетер, который при помощи ультразвука или радиоволн нейтрализовал бы нервы, передающие сигнал почечным артериям. Катетеры вводят в почечные артерии через разрез в паховой области по бедренным артериям. И, что самое замечательное, при этом практически не страдают никакие другие нервы – а значит, и осложнения сводятся к минимуму. Когда эту операцию впервые выполнили в Европе нескольким пациентам, их артериальное давление быстро снизилось[110].
Но почему же мы не бросились делать ее всем подряд? Да потому, что в европейском эксперименте был один недочет. Ему не хватало плацебо-контроля. Что это значит? Когда проводится клиническое исследование для оценки эффективности новой процедуры, необходимо сравнивать результаты пациентов, получивших новое лечение, с результатами других пациентов с очень близкими параметрами, которые этого лечения не получили. Пациенты, с которыми проводится сравнение, называются «контрольная группа». Чтобы не было сомнений, что пациенты в обеих группах примерно одинаковы – не здоровее и не болезненнее друг друга, поскольку это бы отразилось на результатах, – распределение рандомизировано, то есть пациентов отправляют в контрольную или экспериментальную группу в случайном порядке.
И последний аспект, обеспечивающий результатам исследования бóльшую достоверность, – применение «слепого метода». Если пациенты или врачи будут знать, кому была проведена денервация, а кому, скажем, ввели пустышку (плацебо), отношение к лечению может быть разным – что на сознательном, что на подсознательном уровне. И хотя в предыдущих экспериментах отбор был рандомизирован и контрольная группа присутствовала, слепой метод не применялся. Как вообще можно скрыть тот факт, что человеку было проведено хирургическое вмешательство?
Вот тут может прийти на помощь плацебо-операция. В ходе проведенного в США опорного исследования денервации почек под названием Symplicity HTN-3 пациентам в контрольной группе просто делали снимки почечных артерий, а нервы не трогали[111]. Но заметить разницу было невозможно. В 2014 г. я присутствовал на конференции по кардиологии в Вашингтоне, где должны были озвучить результаты исследования Symplicity HTN-3. На глазах у многотысячной аудитории кардиологи поднялись на главную сцену и прошествовали к кафедре под эпическую музыку, словно рестлеры, выходящие на ринг. Лица ученых красовались на больших экранах – можно было разглядеть каждую пору, каждую бусинку пота. Когда результаты были объявлены, толпа, до этого сосредоточенно молчавшая, дружно ахнула. Все ждали грандиозного прорыва – а получили что-то вроде такого глухого «бум», как от удара лбом в стеклянную дверь. Между пациентами, прошедшими через денервацию почек, и контрольной группой не было обнаружено никакой разницы. И хотя не так давно были проведены менее масштабные плацебо-контролируемые исследования, которые дали более позитивные результаты, использовать этот метод лечения не рекомендуется до тех пор, пока не будет собрано больше доказательств в его пользу.
И какой мне от всего этого толк, когда передо мной сидит пациент, которому не могут понизить давление даже три препарата сразу?
Я уложил Мэри на кушетку, сам перемерил ей давление и пришел в ужас: 205/120. Она принесла с собой дневник, в котором записывала все свои предыдущие показатели. Меня поразило то, что, хотя в какие-то моменты у нее бывало такое же супервысокое давление, как сейчас, попадались также дни, когда показатели были намного ниже. Что-то здесь не складывалось.
Я попросил ее сесть и померил давление снова. Теперь оно было 185/100. Я попросил ее встать и встал сам. Померил в третий раз – 120/80.
Я спросил, не кружится ли у нее голова, и она ответила «нет».
Я сказал ей, чтобы в следующий раз, когда у нее поднимется давление, она попробовала какое-то время постоять. У Мэри была нарушена работа автономной (вегетативной) нервной системы – и ее нервы вытворяли странные фокусы. Чем более вертикальное положение она занимала, тем ниже было ее давление. Я сказал ей, что, возможно, ей придется спать в кресле, чтобы предотвратить сильный подъем давления ночью во время сна. Давать ей еще какие-то лекарства и назначать процедуры не было смысла. Но главное, я попросил ее не волноваться, думать о том, какое у нее в целом крепкое здоровье, и больше прислушиваться к себе и своему самочувствию, а не зацикливаться на цифрах. Хотя, конечно, в нашем обществе, сверх меры напичканном информацией и новыми технологиями, это зачастую проще сказать, чем сделать – как пациенту, так и врачу.
Когда врачи в Стамбуле сказали Радживу, что у него случился инфаркт, он поначалу им не поверил. «Я страшно разозлился, – вспоминает он. – Я сказал: “О чем вы вообще говорите?”»
Специалисты пришли к выводу, что его коронарные артерии настолько поражены болезнью, что ему придется делать операцию на открытом сердце. «То, что мне, человеку, который никогда не ходил по врачам, теперь нужно делать шунтирование, меня, честно говоря, просто шокировало… У меня все получилось задом наперед. С врачом общей практики я начал контактировать только после этого».
Я слушал его рассказ молча, но тут не смог не спросить, не считает ли он, что, проходи он регулярные профилактические осмотры, этой ситуации можно было бы избежать. Он помолчал, но потом ответил, что это вряд ли бы что-то изменило.
Теперь Радживу, который раньше врачей в глаза не видел, пришлось общаться с ними более чем систематически. Он прилетел из Турции обратно в США, где ему сделали операцию на открытом сердце. Когда на следующий день он пришел в себя в отделении интенсивной терапии, из грудной клетки у него с обеих сторон торчали трубки, выкачивающие кровь и воздух из плевральных полостей. «Первая ночь после операции была самым болезненным эпизодом моей жизни», – рассказал он мне.
Однако Раджив быстро восстановился и вскоре уже вышел на работу. Прошел год, и вдруг он пожаловался мне, что как-то утром, торопясь в офис, опять почувствовал себя плохо: «Я опаздывал и поэтому шел очень быстро. Я почти бегом поднялся по ступенькам, с рюкзаком за спиной, и у меня впервые со времени операции появилось то же чувство жжения в горле».
Так же все начиналось тогда в аэропорту. Он прошел обследование, и выяснилось, что из четырех сосудов, в которых ему восстановили кровоток, два опять закупорились.
«Раньше я думал, что мое тело – мое главное богатство, – сказал мне Раджив с некоторой тоской в голосе. – Но теперь оно мой враг».
Очень часто, чтобы начать что-то делать, нам нужно дождаться трагедии. Очень часто люди задумываются о страховке от наводнений уже после того, как у них затопило половину подвала. Я давно сбился со счета, сколько мне в жизни попадалось людей, которые бросали курить лишь после того, как съездили на каталке скорой помощи в больницу с инфарктом. Пусть кажется, что эта болезнь случается как гром среди ясного неба, – на самом деле она незаметно назревает десятками лет. Но людей трудно взбудоражить и мотивировать факторами риска вроде повышенного давления, поскольку они не вызывают ощутимого сиюминутного дискомфорта – в отличие, скажем, от перелома ноги.
Ограниченное употребление соли, избавление от лишнего веса и умеренные занятия физкультурой помогают некоторым снизить давление, но для большинства одного этого мало. К счастью, в современном мире у нас больше возможностей контролировать свое давление, чем было когда-либо раньше, и, поскольку почти все препараты для снижения давления существуют уже достаточно давно и относятся к категории непатентованных лекарственных средств, разориться на лечении гипертензии вряд ли кому-то удастся. Но многие люди вообще не любят принимать лекарства. Как показало эпохальное исследование SPRINT, чем сильнее нам удается снизить давление, тем для нас лучше (если, конечно, это делается безопасным образом), а значит, каждый пациент должен хорошенько обсудить со своим врачом, к какому результату они должны стремиться, причем сделать это нужно не в момент кризиса, а желательно задолго до того, как какая-нибудь бляшка в его сердце или мозге вдруг надумает разорваться.
Однако артериальное давление лишь один из множества факторов риска, предвещающих нам заболевание сердца. Возможно, главную угрозу не только продолжительности, но и качеству нашей жизни представляет то, что мы отправляем себе в рот. Мы слышали эту фразу миллион раз, но в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями она актуальна как никогда: «Мы то, что мы едим».
Параллельно с исследованиями гипертензии развивалась другая история, отмеченная не менее знаменательными моментами триумфа, которые выпадали и на долю медиков, что стояли у постелей своих пациентов, и на долю ученых, что трудились в своих лабораториях, – это история исследования холестерина как основного компонента атеросклероза. Как и в случае с повышенным давлением, в этой истории было много тупиков, но и много скоростных магистралей. Мало какие лекарства имеют столь противоречивые оценки, как статины – средства для снижения уровня холестерина. Не проходит и дня, как эти самые часто выписываемые в США препараты объявляют одновременно избавителями от всех наших болезней и виновниками всех наших бед. И как в любой захватывающей истории, здесь есть свои вероломные злодеи, сеятели паники, ловкачи-шарлатаны и, конечно, супергерои.
Глава 4
Ты то, что ты ешь
Как часто сердцам суждено разбиваться,
Пока к ним мудрость не придет.
САРА ТИСДЕЙЛ. Избранные стихотворения
Однажды ночью Брэндон, молодой человек 20 с небольшим лет, живший без хлопот и забот, вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он приехал в маленькую провинциальную больницу своего родного городка в Северной Каролине. В отделении неотложной помощи его сразу отправили на электрокардиограмму, и едва самописец начал выписывать кривую электрической активности сердца, врач взял телефон и позвонил туда, где, как он знал, точно можно было рассчитывать на поддержку.
Я был занят в отделении кардиологической интенсивной терапии, когда услышал рингтон, от которого у меня всегда холодела душа. Это был предустановленный рингтон на телефоне, который врач, дежуривший в отделении интенсивной терапии, должен был постоянно носить с собой, – позвонить на него по короткому номеру могли практически из любого отделения неотложной помощи в радиусе нескольких сотен миль вокруг. Звонивший врач сказал мне, что у Брэндона, скорее всего, перикардит – воспаление оболочки, окружающей сердце, – состояние, которое, как правило, возникает после вирусной инфекции и легко излечивается безрецептурными противовоспалительными препаратами вроде ибупрофена. Факс – до сих пор частое явление в больницах – начал медленно выводить на бумаге ЭКГ Брэндона. Я посмотрел ее и согласился, что тут, скорее всего, и правда случай перикардита. На ЭКГ не было ничего такого, что позволило бы предположить инфаркт или какое-то иное опасное для жизни состояние. Я сказал врачу из отделения неотложной помощи прислать к нам Брэндона на скорой. Он ответил, что пациент будет на месте примерно через полчаса.
Немного погодя двери отделения неотложной помощи распахнулись, и в ослепительном свете фар скорой Брэндона ввезли на каталке внутрь. Я ждал его – хотел посмотреть, все ли в порядке, а потом передать его в руки врача, наблюдавшего пациентов в палатах. Но когда я увидел его, стало ясно, что он не проходит ключевой прогностический тест в современной медицине – тест на внешний вид.
Выглядел Брэндон плачевно. Ему было холодно, но он был весь в поту. Я попросил медсестру подключить его к кардиографу, и, когда на бумаге начала появляться кривая ЭКГ, меня охватило такое чувство, будто эту кривую выводит ангел смерти. На этой ЭКГ, нисколько не похожей на ту, что была сделана в больнице, отчетливо виднелись элементы, которые мы называем дугами Парди. Эти дуги показывают, что в какой-то части сердца ток крови полностью перекрылся. Как правило, это означает, что у человека обширный инфаркт, с наибольшей долей вероятности вызванный разрывом атеросклеротической бляшки в одной из коронарных артерий, из-за которого она совершенно перестала пропускать кровь.
Медлить было нельзя: как только я увидел эти изменения ЭКГ, я понял, что у Брэндона острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST – классический случай с полным прекращением тока крови в одной из коронарных артерий. Не задумываясь, я тут же попросил одну из медсестер связаться с лабораторией катетеризации сердца. Она позвонила оператору, который немедленно отправил срочное сообщение всей бригаде, сидевшей по домам с пейджерами под рукой. Хотя все эти пейджеры, думаю, сработали одновременно и все члены бригады пошли за ключами от машин и поехали прямиком в больницу, только один из них позвонил мне еще по пути. Это был кардиолог, который должен был, собственно, проводить операцию. Бригада прибыла на место, и через несколько минут Брэндона повезли в лабораторию катетеризации сердца. Одного взгляда на рентгеновский снимок хватило, чтобы подтвердить наши опасения: свежий тромб полностью перекрыл устье его левой передней нисходящей артерии, снабжающей кровью всю переднюю стенку сердца до самой его верхушки. Специалист по интервенционной кардиологии пропустил через тромб проволоку, а затем ввел в то место, где разорвалась бляшка, миниатюрный стент и при помощи маленького баллона развернул там похожую на паутинку металлическую конструкцию.
Кровь потекла снова, и дуги Парди исчезли, но сердце Брэндона уже было сильно повреждено. Тот его участок, который должна была снабжать пострадавшая артерия, почти не сокращался, потому что значительная часть мышцы отмерла. Сердце настолько остро реагирует на нехватку кислорода, что может уже через несколько минут начать безвозвратно разрушаться. Давление у Брэндона рухнуло, и было ясно, что у него развивается крайне серьезная сердечная недостаточность. Тогда бригада интервенционной кардиологии ввела другой, большой баллон и поместила его у самого основания крупной артерии, выходящей из сердца, – аорты. Этот баллон, длиной от пупка до середины груди, начал пульсировать внутри аорты. Когда сердце Брэндона сокращалось, выталкивая кровь в аорту, баллон сдувался, втягивая кровь и проталкивая ее в аорту – тем самым он уменьшал сопротивление, которое приходилось преодолевать сердцу. Когда сердце расслаблялось и наполнялось кровью, баллон надувался, толкая кровь обратно к сердцу, чтобы она потекла по коронарным артериям, берущим начало ровно в том месте, где аорта выходит из сердца. Это помогало улучшить ток крови в коронарных артериях. Как только этот внутриаортальный баллонный насос заработал, у Брэндона повысилось давление, и его перевели из лаборатории катетеризации сердца в отделение интенсивной терапии.
Все это время, пока его жизнь висела на волоске, я думал: «Отчего у двадцатиоднолетнего парня без каких-либо проблем со здоровьем вдруг случился инфаркт, да еще и такой серьезный?» Виноват в этом, как выяснилось позже, был холестерин.
Все, все в наши дни знают о вреде холестерина. Я вырос в Пакистане, и все вокруг меня уже тогда знали, что холестерин – это плохо. Очень-очень плохо. Когда мы с братьями и сестрами были детьми и на ужин нам подавали курицу «карахи» с янтарно-желтым слоем масла сверху, мы понимали, что есть ее вредно, потому что в этом масле сплошной холестерин. А самые продвинутые из нас знали не только о плохом холестерине, но и о хорошем.
Когда я пошел учиться на кардиолога, почти все мое окружение немедленно захотело поговорить со мной о холестерине. Чтобы вы понимали: я знаю уровень холестерина всех членов своей семьи и даже некоторых дальних родственников. Откровения на тему холестерина случаются в моей жизни в любое время, в любом месте и порой принимают неожиданный оборот.
Однажды мы с женой ужинали в городе Роли с другой супружеской парой, у которой, как и у нас, была маленькая дочка. Мы выбрали ливанский фьюжн-ресторан и не были разочарованы. Я до сих пор с нежностью вспоминаю их пушистый хлеб с оливковым маслом. Но когда нам принесли основные блюда, наш друг сказал мне, что у него есть проблема: он сдал анализ на холестерин и показатель оказался слишком высоким. Я не поверил, что там может быть серьезный повод для беспокойства: друг был стройным, поджарым и регулярно занимался спортом. Он открыл результаты на мобильном телефоне и передал их мне. Я взял телефон, готовясь включить свой увещевательный тон и сказать ему, чтобы спокойно наслаждался едой.
Но когда я увидел результаты, я был в шоке. Его уровень плохого холестерина превышал норму почти в два раза. Я спросил, обращался ли он к врачу после того, как получил эти результаты, но он ответил, что никуда с ними не ходил. Мне очень хотелось сказать ему, что тут нет ничего страшного, – но сделать этого я не мог. Пришлось констатировать, что ситуация серьезная и ему, скорее всего, нужно подбирать лекарства – причем, вероятно, на всю оставшуюся жизнь. Похоже на то, что у него генетическая предрасположенность к очень высокому уровню холестерина – болезнь, которая называется «семейная гиперхолестеринемия», та же самая, от которой страдал Брэндон и которая довела его до сердечного приступа.
Кебабы, которые он заказал, остались нетронутыми. Я пытался убедить его, что все будет хорошо, и он делал вид, что верит, но не верил. В итоге доедать его ужин пришлось мне. Есть такие люди, которым плевать на любые факторы риска, – но есть и прямые их противоположности. Одна из этих противоположностей – мой тесть. После инфаркта он стал таким бдительным, что в некотором смысле превратился в идеального пациента. Он следит за тем, что ест, регулярно занимается спортом и принимает лекарства. Его главный вопрос ко мне: не слишком ли низкий у него уровень плохого холестерина?
Вот что интересно: хотя очень многие аспекты медицины и здоровья существуют исключительно за пределами общественного дискурса, холестерин фигурирует в нем наравне с маммографией и мазком Папаниколау. Как только речь заходит о холестерине и препаратах для его снижения – статинах, все хотят поделиться своим мнением и принять активнейшее участие в общем разговоре.
В этом многоголосии становится все труднее отделить сигнал от шума. В новостях то и дело появляется противоречивая информация о возможных плюсах и минусах статинов и наилучших способах изменить свой рацион так, чтобы снизить риск сердечно-сосудистого заболевания. Сегодня жиры – это плохо, завтра – хорошо. Сегодня статины вызывают деменцию, завтра их испытывают на способность противодействовать распространению деменции. Как отыскать истину в потоке твитов? Чьему голосу можно доверять, особенно если речь идет о еде и фармацевтике – сферах, где всегда крутятся огромные деньги, утекающие в бездонные карманы? Почти во всем, что касается медицины, холестерина и статинов, присутствует гигантская проблема под названием #fakenews – и ее никак не свалишь на русскую армию троллей.
Чтобы понять настоящее и предсказать будущее, нужно для начала обратиться к прошлому. История холестерина – это, по сути, история науки вообще. Это путешествие, отмеченное волнующими рывками в будущее, которые то и дело пресекались сокрушительными столкновениями и порой удручающими откатами в прошлое.
Хотя высокий холестерин вкупе с атеросклерозом повинен в гибели миллионов людей, для ученых он всегда был неиссякаемым источником вдохновения. Каждый год публикуется более 10 000 научных работ, в которых он упоминается. Биологам и химикам, которые занимались его исследованием, уже вручены 13 Нобелевских премий и как минимум еще одна сейчас на подходе. Из чего можно сделать два вывода: о том, что эта одна-единственная молекула имеет колоссальное значение для здоровья человека, и о том, что даже при таком количестве исследований она до сих пор вызывает в нас больше недоумения, чем понимания.
Выдающийся французский ученый Франсуа Пултье де ла Саль первым выделил холестерин в 1758 г.[112] Что интересно, де ла Саль не занимался заболеваниями сердца. Его предметом изучения были желчные камни: он проводил эксперименты по их растворению в теплом спирте. Желчные камни состоят по большей части из кристаллов холестерина, и де ла Саль поначалу думал, что это какая-то разновидность воска. Сам термин «холестерин» появился благодаря другому французскому исследователю в 1815 г.: он объединил слова chole, означающее «желчь» – это жирная жидкость, наполняющая желчный пузырь, – и stereos, которое переводится как «твердый». Более 30 лет спустя, в 1847 г., во время рутинного вскрытия взгляд немецкого патологоанатома привлекла «желтовато-белая жирная масса» в стенке аорты 84-летнего человека[113]. Это была атеросклеротическая бляшка, и тот патологоанатом, Юлиус Фогель, был не первым, кто ее нашел. Когда анатом Якоб Вепфер умер в 1695 г., его вскрытие, по любопытному стечению обстоятельств, провел его собственный зять, тоже анатом по имени Иоганн Конрад Бруннер[114]. Бруннер обнаружил, что аорта тестя вся испещрена атеросклеротическими бляшками, и записал, что на вид она «похожа на гнилой фрукт»[115]. Однако именно Фогель выяснил, что цвет этих бляшек объясняется тем, что изнутри они заполнены холестерином.
Знания об атеросклерозе и холестерине продолжали множиться. Рудольф Вирхов, выдающийся немецкий ученый и врач-патологоанатом, в 1858 г. заявил: «В некоторых особенно тяжелых случаях размягчение проявляется даже в артериях не как следствие истинного жирового перерождения, но как прямой результат воспаления»[116]. Это значит, что и 150 лет назад воспаление, атеросклероз и холестерин воспринимались как звенья одной цепи. Правда, в умозаключении Вирхова была одна фатальная ошибка: он полагал, что скапливание холестерина в атеросклеротических бляшках внутри сосудов – абсолютно пассивный процесс, естественный результат старения, а не патологический процесс, который активно провоцируется потреблением холестерина с пищей. И, подойдя так близко к разгадке, Вирхов все же не связал холестерин с заболеваниями сердца. В итоге причинно-следственная связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и холестерином была установлена лишь спустя еще одно столетие. Более того, в начале XX в. чистый холестерин сплошь и рядом употребляли как средство для лечения целого ряда недугов, в том числе туберкулеза, желтухи и анемии[117].
Оставаясь практически неизвестным за пределами своей страны, один русский ученый в начале XX в. совершил гигантский скачок в будущее и произвел множество открытий, на которые у остального мира ушло еще почти полвека. Это был Николай Аничков – патолог, сделавший начиная с 1913 г. серию революционных наблюдений в ходе опытов на кроликах, которых он кормил сплошным холестерином[118]. Аничков проследил дальнейший путь холестерина и его связь с атеросклерозом от момента самого зарождения этой болезни. Аничков обнаружил, что еще до того, как в сосудах появляются первые видимые признаки поражения, в них вторгаются лейкоциты, которые превращаются там в жировые пенистые клетки – предвестники жировых отложений. Он выяснил, что холестерин попадает в стенки сосудов из крови и что чем больше в ней холестерина, тем больше холестериновых бляшек может образоваться. Холестерин, которым Аничков кормил кроликов, был растворен в подсолнечном масле, при этом если у всех этих кроликов появились обширные атеросклеротические поражения, то с кроликами, которые питались подсолнечным маслом без добавленного холестерина, этого не случилось. И главное: Аничков также заметил, что на ранних стадиях атеросклероз можно обернуть вспять, если сократить потребление холестерина с пищей. К сожалению, хотя 13 ученых получили Нобелевские премии за исследования, так или иначе связанные с холестерином, главный первооткрыватель, Николай Аничков, остался ни с чем.
Хотя Аничков опубликовал свои работы на немецком и впоследствии английском языках, ему было сложно пошатнуть общепризнанную в то время «гипотезу старения», гласившую, что атеросклероз – это неизбежный аспект старения, а не приобретенное заболевание, которое можно усугубить чрезмерным потреблением холестерина. Данная гипотеза подразумевала, что людям остается лишь затаиться в ожидании неминуемого удара, что атеросклероз неизбежен и врачи могут лишь наблюдать за его развитием, но не пытаться его предотвратить. Медицина капитулировала перед болезнью – более того, она капитулировала перед догмой.
Чтобы преодолеть этот статус-кво, нужен был кто-то, обладающий небывалой научной проницательностью и мощными амбициями, подкрепленными силой воли, которая позволила бы ему пойти наперекор общепризнанному мнению. Этим человеком оказался Энсел Киз. Киз, проживший 100 с лишним лет, стал центральной фигурой в ожесточенной дискуссии о том, что мы едим и как это на нас влияет, которая продолжается по сей день. Для многих он герой, который использовал эмпирические данные для спасения миллионов жизней, но противники считали его мошенником и обвиняли в непоследовательности. Кем же он был на самом деле?
Энсел Киз практически в одиночку перевернул общественные представления о холестерине. Киз родился в 1904 г. и с очень раннего возраста считался своего рода гением[119]. Когда ему было 18, он продемонстрировал самый высокий IQ среди примерно тысячи своих сверстников в Калифорнии. Он бросил школу и успел поработать в шахте, на лесозаготовках и на лайнере, выполнявшем рейсы в Китай, а потом вернулся, получил степень магистра и защитил две диссертации: одну по биологии, в Калифорнийском университете в Беркли, а другую по физиологии, в Королевском колледже в Кембридже.
Киз начал с того, что выиграл контракт на разработку знаменитого «рациона К» для десантников: набора из печенья, шоколада и сыровяленой колбасы – 3200 калорий, втиснутых в маленький пакетик, который легко помещается в кармане.
После Второй мировой войны исследования в области питания были целиком сосредоточены на том, как преодолеть дефицит питательных веществ и добиться, чтобы все годные к воинской службе мужчины постоянно сохраняли боеспособность. Киз руководил одним из самых громких исследований в области питания – Миннесотским голодным экспериментом, задачей которого было выявить последствия голода и наилучшие методы реабилитации голодавших людей[120]. Участие в эксперименте было предложено отказникам совести в качестве альтернативы военной службе: они могли либо отправиться на войну, либо согласиться на то, чтобы их преднамеренно морили голодом. В 1944 г. для участия в эксперименте были отобраны 36 белых мужчин – все они прошли массу дотошных тестов и были признаны физически и ментально здоровыми людьми. В ходе исследования, которое длилось один год, большинство этих мужчин довели до такого истощения, что они стали походить на заключенных концентрационных лагерей. Эксперимент также позволил сделать выводы о тяжких психологических последствиях голодания: почти все мужчины испытывали сильнейший эмоциональный стресс и депрессию, а один из них отрубил себе топором три пальца.
Однако, судя по тому, как события разворачивались после войны, – а именно судя по эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний, – стало ясно, что недостаточное питание не так опасно, как чрезмерное. Сам Киз, переехавший после эксперимента в Миннеаполис, начал особенно сильно замечать это по местным знакомым бизнесменам, многие из которых стали умирать в еще молодом возрасте от заболеваний сердца. При этом Киз сделал одно важное наблюдение: риск развития сердечно-сосудистого заболевания у участников его голодного эксперимента оказался очень невысоким[121]. Его подозрения были подкреплены данными других ученых, которые обратили внимание на то, как мало распространены сердечно-сосудистые заболевания среди населения незападных стран, таких как Индонезия, Ливия или Китай. Правда, было непонятно, что провоцирует сердечно-сосудистые заболевания у жителей Запада: какая-то особенность среды или характер рациона. Во время собственных путешествий Киз и раньше отмечал, что сердечно-сосудистые заболевания меньше распространены в тех странах, где ниже уровень потребления холестерина. И потому, чтобы попытаться установить связь между рационом питания и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 1958 г. он начал один из самых амбициозных экспериментов своего времени – «Исследование семи стран»[122].
В эпохальном исследовании Киза приняли участие более 12 000 мужчин в возрасте от 40 до 50 с небольшим лет из США, Финляндии, бывшей Югославии (Сербии и Хорватии), Нидерландов, Италии и Японии. Результаты были поразительными: Киз показал, что соотношение между уровнем холестерина в крови и сердечно-сосудистым заболеванием составляет практически 1:1, вне зависимости от того, где проживает испытуемый. Его данные подкрепили выводы Фремингемского исследования о том, что холестерин – это очень-очень плохо. Оказалось, что у японцев, например, и риск развития сердечно-сосудистого заболевания самый низкий, и уровень холестерина очень невысок. И хотя эти результаты перепроверялись еще полвека после начала эксперимента, каждый раз они однозначно указывали на прочную, неизменную связь между холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Последующие исследования выявили, что те японцы, которые переехали в США и перешли на более американизированный рацион, оказались столь же подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, как и их новые сограждане[123]. Но оставался нерешенным один важный вопрос: является ли обнаруженная связь коррелятивной или причинно-следственной? Вызывает ли холестерин сердечно-сосудистое заболевание так же, как его вызывает курение?
Чтобы доказать, что холестерин вызывает сердечно-сосудистые заболевания, нужно провести эксперимент, в рамках которого одна группа будет потреблять больше холестерина, а другая – меньше, и потом посмотреть, какая из групп окажется здоровее. Звучит просто, но на деле это не так: заставить людей принимать какое-нибудь лекарство легче, чем заставить их изменить весь свой рацион. Поэтому проводить эксперименты с питанием крайне тяжело – если только ваши испытуемые не заключенные и не пленники.
Но у врачей лос-анджелесского госпиталя ветеранов возникла блестящая идея[124]. При госпитале было общежитие для здоровых, но нуждающихся ветеранов, которые жили на казенные средства и питались исключительно в какой-то одной из двух госпитальных столовых. Ученые оставили меню одной столовой без изменений, а в другой ввели растительное масло вместо животных жиров, хотя в целом содержание жиров осталось прежним. В исследовании принимали участие 800 мужчин, которых на протяжении восьми лет наблюдали врачи, сами не подозревавшие о том, питается ли испытуемый в обычном или модифицированном режиме. В конце исследования, когда ученые сравнили данные по сердечным приступам, разницы между группами не обнаружилось, но в сочетании с данными по инсультам и заболеваниям артерий, которые привели к ампутации, – также частым последствиям атеросклероза – риски ветеранов с модифицированным рационом питания были на 31 % ниже. Однако поскольку в то время инсульты не считались связанными с холестерином – хотя сейчас мы знаем, что эта связь существует, – эти результаты не произвели ни на кого большого впечатления.
В то же время группа ученых в Финляндии, наблюдавшая пациентов двух крупных психиатрических больниц, провела схожий эксперимент, в рамках которого заменила животный жир в молоке на соевый[125]. Эксперимент продолжался 12 лет, и на середине этого срока больница с обычным и больница с модифицированным рационом поменялись местами – но в любом случае у пациентов, которые употребляли растительный жир, был ниже уровень холестерина и случалось меньше сердечных приступов.
Результаты эксперимента с ветеранами и финского исследования были опубликованы соответственно в 1968 и в 1972 гг. Кажется, этих доказательств было достаточно, чтобы закрыть дело, – но как бы не так. На дворе был уже 1979 г., а Джордж Манн, врач-биохимик из Университета Вандербильта, в своем интервью журналу People еще выступал против «кардиологической мафии», называя связь между потреблением холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями «зловредным сговором»[126]. А рассуждая в издании The New England Journal of Medicine о научном консенсусе, поддерживающем эту связь, он написал, что «Галилея бы передернуло». Статья была озаглавлена Diet-Heart: The End of an Era («Сердце на диете: конец эпохи»)[127]. Что же могло заставить подавляющее большинство врачей и обывателей, которые все еще стояли на перепутье, поверить в то, что холестерин и правда бывает смертельно опасен?
Постепенно нарастала гора доказательств – особенно в США, где в 1960-е гг. под влиянием ошеломительных свидетельств о связи холестерина с повышенным риском сердечных заболеваний и приступов и в том числе результатов, полученных в ходе Фремингемского исследования, Американская кардиологическая ассоциация стала выступать за диету с низким содержанием холестерина[128]. Однако заявления, будто холестерин ни в коем случае не является причиной атеросклероза, многим по-прежнему казались более убедительными. В 1979 г. сэр Джон Макмайкл, один из наиболее влиятельных кардиологов Британии того времени, в своей статье для The British Medical Journal назвал рекомендацию сократить объемы потребляемого холестерина «пропагандой», заверил читателей, что атеросклероз – это проблема «износа», и предупредил, что «уменьшение содержания холестерина в крови за счет диет или лекарств может иметь негативные последствия»[129].
Стало очевидно, что тут нужно беспрецедентно убедительное исследование: оно не только заставит критиков сдаться и бросить вилы на землю, но и произведет впечатление на равнодушные массы. Но показать эффект – любой эффект – от одного только изменения рациона всегда было и остается для клинических исследований крайне трудной задачей. Хотя у всех нас найдется дядюшка, который перестал принимать таблетки от давления после того, как начал употреблять меньше соли, или тетушка, которая теперь ест исключительно подслащенное стевией печенье и спокойно живет без препаратов для диабетиков, многие крупные клинические исследования с участием тысяч пациентов, в рамках которых ученые годами отслеживали любые изменения в организме испытуемых, традиционно заканчивались одним и тем же: никаких доказательств того, что изменение рациона дает существенный и длительный эффект, не обнаруживалось. Наконец, применение слепого метода – при котором как испытуемые, так и исследователи держатся в неведении, чтобы избежать предвзятости, – в случае с диетологическими экспериментами практически невозможно.
Национальные институты здравоохранения осознавали, что, если не удастся провести удачный опыт, то им не помогут никакие коррелятивные данные – сколько бы их ни набралось. Главная проблема заключалась в том, что все имевшиеся на тот момент препараты, снижавшие уровень холестерина, были недостаточно эффективными. Был, например, клофибрат – лекарство, которое существовало с 1930-х гг. и, по всей видимости, снижало уровень холестерина, хотя принцип его работы для всех оставался загадкой. Но эффект от него был очень слабым, и притом оно вызывало такие осложнения, как образование желчных камней, боли в желудке и повреждение мышечных тканей. Еще был ниацин – витамин группы В, который причинял пациентам всевозможный дискомфорт, в частности, вызывал раздражение, покраснение, зуд и покалывание кожи лица. В итоге ученые остановились на средстве под названием «холестирамин». Холестирамин вообще не всасывается организмом, но сам абсорбирует насыщенную холестерином желчь, которую естественным образом выделяет желчный пузырь, из кишечника. Это заставляет печень продуцировать больше желчи, а для ее синтеза необходим холестерин – следовательно, содержание холестерина в крови снижается.
Другой причиной, по которой выбор пал на холестирамин, было то, что он вызывает мало побочных эффектов, поскольку не всасывается в кишечнике. Но был у него и один большой минус: средство выпускалось в форме зернистого порошка, который нужно было разводить в воде, и пациенты должны были выпивать по два таких пакетика три раза в день. Так что со стороны ученых было несколько самонадеянно рассчитывать, что они смогут привлечь порядка 4000 мужчин, у которых никогда не было проблем с сердцем, но наблюдается повышенный уровень холестерина, и те будут семь лет подряд разводить эти пакетики, не зная, принимают ли они лекарство или плацебо, и не будучи уверенными в том, что это лекарство им в принципе может чем-то помочь[130]. В итоге им пришлось отслеживать полмиллиона мужчин, чтобы спустя несколько лет после начала вербовки все же получить свою выборку из 3800 мужчин.
Безусловно, все те, кто не верил в опасность холестерина, только и ждали, чтобы этот эксперимент провалился. Но он состоялся – пускай и еле-еле преодолев воображаемую статистическую планку[131]. У пациентов, принимавших холестирамин дольше среднего срока (7,5 года), уровень холестерина снизился всего лишь где-то на 13 %, но смерть вследствие сердечно-сосудистого заболевания или инфаркта миокарда наступала на 19 % реже, чем у тех, кто принимал плацебо. Эффект был бы еще заметнее, если бы больше пациентов реально принимали лекарство – многие выпивали гораздо меньше рекомендованной дозы из-за кошмарного способа применения.
Этот эксперимент, названный «Клиническим испытанием средства первичной профилактики коронарной болезни сердца» (Coronary Primary Prevention Trial), стал кульминацией целого века исследований холестерина и привел к гораздо большему распространению гипотезы «холестерин – это плохо, нужно его понижать». Однако следует заметить, что, несмотря на такой прогресс, до финишной черты было еще очень далеко. Конечно, холестерин – это, теперь уже по мнению большинства, плохо, но хороших средств для борьбы с ним на тот момент практически не существовало. У всех известных лекарственных средств имелись серьезные побочные действия, и было бы трудно убедить людей, не участвовавших в эксперименте, принимать их. К тому же все они были не такими уж эффективными: результаты упомянутого клинического испытания показали, что, хотя проблем с сердцем у тех, кто принимал лекарство, было меньше, чем у тех, кто принимал плацебо, смертность в обеих группах была примерно одинаковой. А если снижение уровня холестерина не продлит вам жизнь, зачем вообще заморачиваться с препаратами, которые и принимать-то неудобно, и годами пить их со смутной надеждой, что они все-таки на что-то влияют? При таких слабых результатах было очевидно, что крупнейшее исследование средств от повышенного холестерина, которое обошлось Национальным институтам здравоохранения в $150 миллионов, не сможет заставить замолчать критиков, таких как Джордж Манн, который теперь заявлял (естественно, не имея никаких доказательств), что ученые «подтасовали данные»[132].
Ученые фактически уперлись в стену: как бы хорош ни был эксперимент, он не менял того факта, что все доступные лекарственные средства из рук вон плохи. А ограничения в питании, хотя и показали неплохие результаты в ряде строгих научных исследований, в реальной жизни были заведомо неэффективны. И несмотря на то, что клиническое испытание холестирамина помогло укрепить позиции липидной гипотезы, применять полученные данные в рутинной медицинской практике мешало отсутствие комфортного способа приема лекарства.
Было ясно, что тут поможет только какой-то мощный прорыв – такой, как, скажем, изобретение iPhone. И этот прорыв случился благодаря одному японскому биохимику, который растил в чашках Петри плесень и надеялся открыть новый суперантибиотик. Он и в самых смелых мечтах не мог представить, что ему удастся обнаружить на самом деле.
Акира Эндо родился в 1933 г. и, по собственным словам, рос в «сельской фермерской семье на севере Японии», где уже в детском возрасте начал интересоваться плесенью и грибами[133]. Он мечтал однажды стать новым Александром Флемингом. Флеминг (1881–1955) был увлеченным микробиологом, но, возможно, не самым большим чистюлей. Он исследовал обычные бактерии в чашках Петри. Как-то раз, придя в лабораторию, он обнаружил, что одна колония бактерий была уничтожена плесенью, которой оказался заражен один из образцов. Начав культивировать эту плесень, Флеминг догадался, что бактерии погибли из-за вещества, которое она вырабатывает. Он назвал это вещество пенициллином.
Акира Эндо нанялся на работу в японскую фармацевтическую компанию, надеясь, что какой-то из видов плесени, которые он изучал, поможет ему отыскать преемника пенициллина. Когда в 1960-е гг. он приехал для исследований в Нью-Йорк, некоторые аспекты жизни показались ему совершенно чуждыми. «Я был очень удивлен большому числу пожилых людей и людей с лишним весом, а также довольно нескромному рациону питания, – написал он. – В том жилом районе Бронкса, где я остановился, было много немолодых супружеских пар, проживающих только вдвоем, и я не раз наблюдал, как скорая забирает кого-нибудь из этих пожилых людей в больницу с сердечным приступом»[134].
Эндо пришла в голову мысль, что та самая плесень, из которой выделяют пенициллин, может также продуцировать вещества, способные снижать выработку холестерина, который содержится в мембране бактериальной клетки. Вернувшись в Японию, он со своей командой протестировал более 3800 видов плесени, прежде чем наткнулся на золотую жилу.
Холестерин попадает в кровь двумя путями. Один из источников – это, безусловно, пища. А второй – печень, которая сама вырабатывает холестерин. Зачем она это делает? Дело в том, что холестерин – важная составляющая любого живого организма вообще и человека в частности. Холестерин входит в состав мембраны всех животных клеток и служит ключевым ингредиентом для многих гормонов и веществ, таких как желчь, которые помогают усвоению пищи и являются значимым компонентом человеческого мозга. Выработка холестерина печенью была, вероятно, необходима в те времена, когда жиры были нечастым гостем в нашем рационе, но сейчас, когда холестерина в нашей повседневной пище более чем достаточно, в этом механизме, пожалуй, нет никакой особой нужды. Однако печень не адаптировалась к изменениям в нашем рационе и продолжает вырабатывать холестерин даже тогда, когда он и так поступает в достаточном объеме с пищей. Печень большинства людей не останавливает даже тонна холестерина из огромного жирного бургера и щедрой порции жареной картошки. Это одна из причин, почему у многих людей уровень холестерина остается повышенным даже тогда, когда они начинают фанатично урезать количество холестеринсодержащих продуктов у себя в тарелке.
Эндо испытал это вещество на животных, и у всех них, кроме крыс, уровень холестерина значительно понизился. С крысами ничего не вышло потому, что только у них одних уровень фермента, активность которого подавлялась этим лекарственным средством, через некоторое возвращался к прежним показателям и, таким образом, сводил положительный эффект к нулю. Затем Эндо объединил усилия с одним токийским врачом и начал испытывать свою находку на людях. Сначала результаты были весьма многообещающими, но потом все опыты были резко прекращены. У некоторых собак, которым вводили дозы, в сотни раз превышающие необходимую, обнаружилось нечто, что исследователи поначалу приняли за рак кишечника, – хотя впоследствии выяснилось, что это нераковые изменения, возникшие в клетках из-за тех самых гигантских доз[135]. Однако излишняя осторожность побудила компанию Эндо остановить работу – что не помешало другой фармацевтической компании, Merck, получить схожее соединение и, не обнаружив в ходе исследований никаких признаков опасности, разработать собственный продукт. Продукт получил название «ловастатин» и, поступив в продажу в 1987 г., стал первым вышедшим на рынок статином. Акира Эндо не открыл новый суперантибиотик, но, сам того не зная, обнаружил, наверное, одно из самых важных лекарственных средств со времен пенициллина.
Когда ловастатин появился в продаже, о нем было не так уж много данных, но вскоре ситуация изменилась. Первым крупным исследованием действия статинов стало Скандинавское исследование влияния симвастатина на выживаемость (Scandinavian Simvastatin Survival Study), также известное как 4S, результаты которого были обнародованы в 1994 г. В нем приняли участие ровно 4444 человека – это были люди среднего возраста с сердечно-сосудистым заболеванием, одна половина из которых принимала статин, а вторая – плацебо[136]. Через пять с половиной лет у пациентов, которые принимали статин, вероятность смерти оказалась на 30 % ниже, чем у тех, кто принимал плацебо. И предположительно – судя по тому, что кривые выживаемости этих двух групп со временем расходились все сильнее, – различие стало бы еще более заметным, если бы исследование продолжалось дольше.
Результаты 4S оказались столь серьезными, что они потрясли не только мир медицины, но и мир простых обывателей. Высокий холестерин – проблема огромного числа людей, при этом большинству из них не удается решить ее одним только изменением рациона. Даже в условиях контролируемого эксперимента, в ходе которого волонтеров постоянно понукают координаторы и медицинский персонал, потенциальная польза от диетотерапии, к сожалению, оказывается невелика[137],[138]. А потому статины теперь являются самым часто выписываемым препаратом в США и, возможно, во всем мире. Некоторые представители кардиологического сообщества даже выступали за то, чтобы добавлять их в водопроводную воду. И хотя подавляющее большинство, включая меня, никогда бы не поддержало эту инициативу, трудно не согласиться с тем, что статины – самое значимое средство для улучшения и продления нашей жизни, которое человечество изобрело на данный момент.
За 30 лет, что статины существуют на рынке, они также стали, возможно, самыми подробно исследованными препаратами в истории. Совсем недавно группа под названием Cholesterol Treatment Trialists («Исследователи лечения холестерина») опубликовала в британском научном журнале Lancet статью, в которой объединила данные более двух десятков рандомизированных контролируемых исследований с участием сотен тысяч пациентов, за каждым из которых наблюдали в течение нескольких лет[139]. Она отобрала только клинические исследования высокого качества, в ходе которых ученые следили за минимум 1000 испытуемых минимум два года. Сама группа базируется в Оксфордском университете и объединяет в своем составе опытных исследователей со всего мира.
Ее статья подтвердила выводы каждого из отдельно взятых экспериментов, но сделала их гораздо более полными. Ученые показали, что эффект от статинов весьма существенен и устойчив. Статины снижают риск инфарктов миокарда, инсультов, необходимости кардиологических процедур и, что, наверное, важнее всего, смерти от заболевания сердца почти для любой категории пациентов: мужчин и женщин, диабетиков и недиабетиков, молодых и старых, курильщиков и некурящих, людей с низким и высоким холестерином, с низким и высоким давлением, тех, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания, и тех, у кого их нет. Самое благоприятное воздействие они оказывают на тех, для кого опасность особенно велика: людей с такими факторами риска, как артериальная гипертония и сахарный диабет, очень высокий уровень холестерина, преклонный возраст и, главное, уже возникавшие проблемы с сердцем. Снижение вероятности будущих проблем наблюдается у всех, вне зависимости от степени риска. В среднем у пациентов с высоким риском статины позволяют добиться абсолютного сокращения частоты нежелательных явлений на 10 % – это лучший результат среди всех возможных мер борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На первый взгляд может показаться, что цифра небольшая, но, если у одного из десяти пациентов не случается инфаркт или инсульт, это уже победа. Статины настолько эффективны, что за 30 лет с момента их появления никакое другое лекарство не смогло составить им конкуренцию, и польза от назначения других препаратов на фоне приема статинов представляется малозаметной.
Отправляя электронное письмо 84-летнему Акире Эдо, который давно вышел на пенсию, я нисколько не ожидал получить ответ – но получил. По его мнению, вопрос о том, каково главное достижение в кардиологии, не вызывает сомнений: «Я считаю, что влияние на метаболизм холестерина для профилактики и лечения – это главные успехи». На вопрос о том, принимает ли он сам статины, Эдо ответил: «Мы с женой оба принимаем статины более десяти лет. Не могу сказать вам какие».
Эндо и его жена – одни из сотен миллионов людей, принимающих статины. Насколько эти лекарственные средства распространены в наши дни? В рамках исследования, которое я провел со своей командой и опубликовал в The Journal of the American Medical Association: Cardiology, выяснилось, что почти 40 миллионов американцев старше 40 лет – а это больше, чем каждый четвертый житель страны, – принимают какой-либо статин и что очень скоро статины начнет принимать уже каждый третий[140]. Это может показаться лишним, но я все же приведу еще кое-какие цифры: среди пациентов, у которых случился инфаркт миокарда или был обнаружен серьезный патологический процесс в коронарных артериях, треть не принимала статины. Также их не принимала почти половина пациентов с инсультом. Это те пациенты, на которых статины могут оказать наиболее благотворное воздействие, – и все же очень значительная часть таких пациентов до сих пор не использует спасительное лекарство. В том повинны как врачи, которые не выписывают статины своим пациентам, так и сами пациенты, которые не решаются принимать их из-за своей чрезмерной недоверчивости.
Мы также обнаружили, что в США на статины тратится почти $17 миллиардов в год, но эта сумма уменьшается, несмотря на то, что число людей, принимающих статины, растет. Почему? Дело в том, что за последние десять лет у патентов на все главные статины вышел срок и сейчас все они доступны в форме недорогих непатентованных лекарственных средств. Так что, хотя первое время они приносили многим производителям лекарств кучу денег, за последние несколько лет их средняя цена резко упала. Аторвастатин компании Pfizer (под названием Lipitor), например, является самым продаваемым препаратом за всю историю – но его патент истек в 2011 г., а в 2014 г., в ходе другого исследования, мы узнали, что только 5 % пациентов, принимающих аторвастатин, покупали его брендированную версию, а все остальные переключились на гораздо более дешевый непатентованный вариант[141].
Однако из всех ярких, разноцветных сластей во врачебной кондитерской ничто так не возмущает и не приводит в бешенство столь обширный и громогласный сегмент потребительских масс, как статины. По мнению многих, статины – это хитроумный международный заговор фармацевтических гигантов, во главе которого стоят очкастые ученые-медики в белых халатах. Теории заговора, активно муссируемые в интернете и социальных сетях, – характерная примета современного общества. Например, в наши дни набирает все большую популярность теория, будто Земля на самом деле плоская. У ее сторонников есть свои сообщества и «научные» конференции – настолько все серьезно. Но когда дело касается теорий, связанных со здоровьем и медициной, то тут, несмотря на большой соблазн перестать видеть лес за деревьями и с головой погрузиться в занудство и копание в деталях, я никогда не забываю о том, что на кону, вообще-то, человеческие жизни.
Есть ли какая-то доля истины в заявлениях, будто вреда от статинов больше, чем пользы? И чем статины обязаны такой яростной неприязни? Ответы на эти вопросы на самом деле никак не связаны со здоровьем сердца. Искать их нужно, скорее, в том, как работает человеческое сознание, как оно связано с нашими чувствами и как возникает та совокупность человеческих сознаний, которую мы называем обществом и культурой.
Когда я жил в Бостоне и работал врачом в Медицинском центре Бет-Изрейел Диконисс, у меня не было своего кабинета – я пользовался компьютерами при палатах для пациентов, и один из них нравился мне больше всех остальных, потому что у него было два монитора. Однажды, когда я пришел на работу в районе 7:00, возле того компьютера я обнаружил адресованный мне пухлый немаркированный желтый конверт. Я с любопытством его открыл и тут же понял, что в нем такое.
За несколько дней до этого я написал статью для The Wall Street Journal, в которой осудил тот факт, что очень многие родители в США не позволяют делать своим детям прививку от кори, что уже привело к резкому росту случаев заражения этой инфекционной болезнью[142]. В конверте была кипа «свидетельств» о заговоре компаний, производящих вакцины, а также адресованная лично мне машинописная записка. Я инстинктивно оглянулся по сторонам, но не заметил никого, кого бы не ожидал увидеть в этой комнате. Тот, кто принес конверт, должен был знать, где я обычно сижу, и нарочно оставить его ровно на том месте. Я почувствовал себя страшно неуютно – пожалуй, это была одна из самых неприятных ситуаций в моей жизни.
Статины и вакцины в чем-то схожи: и те и другие широко распространены – особенно в странах с высоким уровнем дохода – и являются средствами профилактики. Правда, статины, безусловно, не так эффективны в предотвращении болезней, как большинство общеизвестных вакцин, но и среди вакцин есть такие, которые не обеспечивают тотальный иммунитет, – например, прививка от гриппа. Но особенно явной эта параллель становится тогда, когда речь заходит о реакциях, которые они вызывают.
У статинов есть некоторые побочные эффекты. В редких случаях (примерно у пяти – десяти пациентов из тысячи и при условии, что они получали высокие дозы статинов в течение пяти лет) от статинов может развиться сахарный диабет – но, как правило, это происходит оттого, что у этих пациентов уже была предрасположенность к диабету и статин просто спровоцировал клинически явную болезнь чуть раньше, чем она началась бы сама[143]. Так что и для этих больных совокупная польза от статинов и их способность предотвращать будущие проблемы с сердцем превышают весь тот положительный эффект, который мог бы дать отказ от их приема. Также у тех, кто принимает статины, есть риск поражения мышечной ткани. Если у пациента возникает это осложнение – так называемый миозит, у него повышается содержание белка в крови, что и свидетельствует о разрушении мышц. Этот процесс прекращается сразу после отмены статина. Идеальных лекарств не существует, и, если уж на то пошло, можно сказать, что у парацетамола или ибупрофена побочные эффекты куда опаснее, чем у статинов. В целом даже с учетом этих редких осложнений статины являются одними из самых безопасных лекарственных препаратов.
Есть другая проблема, которая возникает намного-намного чаще: пациенты начинают испытывать боль и дискомфорт во всем теле. В клинической практике это самая распространенная причина, по которой люди отказываются принимать статины. У меня было множество пациентов, отказавшихся от приема статинов из-за этих симптомов, и я уверен, что многие читатели знают как минимум об одном подобном случае. Когда у пациента появляются такие симптомы, я, как правило, пытаюсь уменьшить дозу препарата или подбираю другие статины, пока не найду тот, с которым все будет нормально. Однако, если проанализировать данные исследований, возникает одна любопытная деталь.
Если исследование проводилось при клинике, где пациенты принимали статины в обычных условиях, по назначению врача, мышечные боли и слабость появлялись в 10–25 % случаев, что очень много[144],[145]. Но если в рамках исследования пациенты не знали, принимают ли они статин или плацебо, никакого роста болей и слабости не наблюдалось[146].
Стоп, как это?
Да-да, именно так: нет ни одного крупного исследования, которое бы показало, что статины существенно повышают риск возникновения мышечных болей и слабости, которые не были бы связаны с подтвержденным анализами поражением мышечной ткани, по сравнению с плацебо. Более того, был проведен один интересный эксперимент: сначала пациенты принимали статин, не зная, статин это или плацебо, и никакого усиления болей и слабости не наблюдалось[147]. Но как только пациентам говорили, что они принимают статин, они вдруг начинали жаловаться на эти ощущения гораздо чаще, чем те, кто принимал плацебо.
За свою историю мы очень многое узнали о плацебо. Словом placebo, которое переводится с латыни как «буду угоден», называли профессиональных плакальщиков; их нанимали в качестве замены отсутствующих на похоронах членов семьи. Эффект плацебо известен медицине очень давно, поскольку до недавнего времени вся медицинская помощь сводилась, по сути, к плацебо. В некотором смысле плацебо – это самое хорошо изученное средство в медицине, поскольку его используют в большинстве хорошо организованных клинических исследований. Теперь мы знаем, какое плацебо самое лучшее. Тяжелые, дорогие, инвазивные и красиво оформленные плацебо гораздо эффективнее легких, неинвазивных и недорогих[148],[149]. Как ни удивительно, мы многое знаем и о тех людях, которые принимают плацебо. Например, те испытуемые, которые в ходе клинических исследований принимают плацебо регулярнее, чем другие, живут дольше![150] Почему? Просто люди, которые регулярнее принимают назначенное им плацебо – не зная, что это плацебо, конечно, – гораздо более ответственно соблюдают и другие связанные со здоровьем предписания. Еще мы знаем, что плацебо работает даже тогда, когда – внимание! – пациенты в курсе, что они принимают плацебо[151]. Почему? Просто сама по себе пустышка лишь малая составляющая эффекта плацебо. Пожалуй, нет более мощного, более эффективного и более активного плацебо, чем врач или медсестра. Любой врач и любая медсестра умеют лечить, но лучшие из них умеют исцелять.
И хотя некоторые симптомы, которые появляются у пациентов, принимающих статины, и правда могут быть вызваны препаратом, немалое число людей совершенно определенно испытывают эффект ноцебо[152]. Об эффекте плацебо – когда у пациентов наблюдается улучшение от одной только мысли, что они принимают лекарство, – знают все, но эффект ноцебо знаком меньше. Эффект ноцебо – эдакий злобный кузен эффекта плацебо: он включает в себя все негативные ощущения, которые могут возникнуть у пациента, принимающего плацебо. Эффект ноцебо могут производить все лекарственные средства. Возьмем, к примеру, бета-адреноблокаторы – спасительное средство для людей с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Любому студенту-медику бесконечно твердят, что эти живительные лекарства могут вызвать депрессию и повысить утомляемость. Хотя если посмотреть на результаты клинических испытаний, бета-адреноблокаторы влияют на утомляемость не больше, чем плацебо, и на самом деле помогают при депрессии и облегчают ее симптомы[153]. Однако каждого пациента, который начинает принимать бета-адреноблокаторы, предупреждают об этих двух побочных эффектах – и шансы на то, что пациент действительно будет их испытывать, тут же возрастают.
Статины – самые часто выписываемые препараты в таких странах, как США, и слухи об их побочных эффектах нередко идут впереди них. Скажу больше: я не раз встречал пациентов, которые, даже не начав, сразу отказываются принимать статины из-за всей той негативной информации о них, что поступает с телеэкранов и из интернета. Кроме того, существуют некоторые данные, которые позволяют предположить, что новостные статьи и репортажи, неправомерно выставляющие статины в негативном свете, повинны в росте числа инфарктов миокарда и смертей – из-за негативной информации многие люди перестают принимать лекарства и таким образом лишают себя той защиты, которую они обеспечивали. Причем происходит это в таких несхожих между собой странах, как Великобритания, Дания, Франция, Австралия и Турция[154].
Мне не нужны данные исследований, чтобы понимать, как дорого может обойтись пациенту то, что он не воспользовался наилучшим методом профилактического лечения. Помню, я однажды вел женщину с тяжелой формой заболевания коронарных артерий. У нее во всех сосудах, питающих сердце, еле текла кровь. Ей нужно было делать шунтирование. Для женщины 50 с небольшим лет столь обширное поражение сердца – явление крайне необычное. Правда, как выяснилось, причиной ее инфаркта был очень высокий уровень холестерина. Я просмотрел ее список назначений и не нашел там статина. К моему изумлению, статины у нее значились в списке препаратов, вызывающих аллергию.
Когда я спросил, в чем проявлялась ее аллергическая реакция, пациентка сказала, что после того, как она попробовала принимать один статин, у нее возникли мышечные боли. Она перестала его пить, а ее врач не попытался подобрать другой препарат и посмотреть, не будет ли он переноситься лучше. Я стал искать другие варианты, но сделать мы ничего не успели: у пациентки случилась остановка сердца, и, несмотря на все наши усилия, она умерла.
Конечно, смерть неизбежна для всех нас, но тут было очевидно, что она настигла мою пациентку слишком рано. Ни она сама, ни ее родные никак не могли этого ожидать. Каждый раз, когда дело принимает печальный оборот или организм пациента выдает нежелательную реакцию, врачи в большинстве своем стараются разобраться в причинах. В случае с этой пациенткой все мои попытки распутать клубок приводили к одному и тому же: отсутствующему статину. Мог бы он ее спасти? Я не знал этого наверняка. Но в одном я был уверен: статин был единственным средством, которое могло бы не дать холестерину подняться до такого невообразимо высокого уровня и вызвать столь серьезную форму атеросклероза. Есть одно исследование, которое позволяет предположить, что среди пациентов, перенесших инфаркт миокарда, у тех, кто по каким-то причинам не может принимать статины, на 50 % выше риск его повторения[155].
Эффект ноцебо, как и эффект плацебо, выполняет очень специфическую защитную функцию. Так наш организм готовится к ощущениям прежде, чем испытает их в реальности: это наша реакция на ожидание дискомфорта. Поэтому, когда пациентам дают пустышку, но при этом предупреждают, что она может вызвать у них чувство переутомления, больше пятой их части могут и правда начать его испытывать – хотя накормили их одним только обещанием. Схожим образом пациенты, принимающие в ходе исследования статины, не демонстрируют существенного усиления болей и прочих неприятных ощущений не потому, что их не испытывают, а потому, что их испытывает примерно такое же количество людей, принимающих плацебо. Эффект ноцебо проявляется стимуляцией особых зон в нашем мозге и усиливается в зависимости от того, сколь высоки наши ожидания: он заметен сильнее после приема более дорогостоящего препарата, поскольку испытуемые, вероятно, возлагают на него больше надежд, чем на более дешевую пустышку.
Эти данные ставят перед нами ряд важных вопросов. Возможно, пациенты, у которых возникает мышечная слабость и боль после приема статинов, испытывают эти симптомы лишь потому, что врачи предупреждали их о возможности таких проявлений? И если да, может, врачам не следует говорить пациентам об этих рисках, чтобы избежать эффекта ноцебо?
Лично я считаю, что у некоторых пациентов статины и правда вызывают мышечную слабость и боль. Судя по данным исследований, у тех пациентов, которые, к примеру, испытывают эти ощущения в мышцах бедер, эти симптомы, наиболее вероятно, связаны с действием лекарства, а не со старением тканей или эффектом ноцебо[156]. Я изменил свой подход и теперь как можно четче говорю пациентам, которые начинают принимать статины, что непереносимость этих препаратов возникает крайне редко и что лишь некоторые симптомы можно считать относительно убедительным ее доказательством. Если пациент уже принимал статин и у него были какие-то проблемы, я стараюсь как можно мягче убедить его попробовать снова – либо уменьшив дозу, либо перейдя на другой статин, потому что со статином все-таки лучше, чем без него.
Война со статинами ведется не только из-за поражения мышц. Есть не очень многочисленная, но громогласная и враждебная часть населения, которая настаивает на том, что статины чуть ли не хуже цианида и что они вызывают такие побочные эффекты, как деменция и необратимое разрушение мышечной ткани. И что еще важнее, противники статинов отрицают самый главный принцип, на котором строится вся липидная гипотеза: они утверждают, что холестерин – это хорошо, а снижать его плохо. Во времена, когда успехи в борьбе за внимание измеряются в кликах, тактика, которую избирают шарлатаны, может оказаться намного более эффективной, чем тактика осторожных ученых. В чем же истинная причина статиновой истерии и какие выводы о будущем взаимодействии медицины и общества мы можем из этого сделать?
Однажды, когда я, будучи еще студентом, тягал железо в тренажерном зале при больнице, я вдруг услышал, как у меня в спине что-то громко хрустнуло. Все мое тело пронзила невыносимая боль, и я почти сразу рухнул на пол. К счастью, поблизости были люди, которые успели вовремя подхватить мою штангу, иначе она бы рухнула на меня сверху. Вся спина у меня мучительно болела, и друзья посадили меня в кресло-каталку и повезли в отделение неотложной помощи. МРТ показала, что у меня пролапс межпозвоночного диска в поясничной области и вызванное им ущемление нервного корешка. Нейрохирург поставил меня перед выбором: можно либо попытаться восстановить спину при помощи упражнений, либо лечь под нож. Один коллега сказал мне, что стоит хоть раз влезть со скальпелем в позвоночник – и он уже никогда не будет прежним. Я решил, что буду выбираться из этого ада собственными силами.
Много лет меня терзала постоянная боль, которая продолжалась от заката до рассвета. Мне пришлось бросить свой любимый баскетбол и не менее любимую качалку. Я, сам того не желая, похудел почти на 15 кг. Боль стала моим неизменным спутником, и я уже почти смирился с тем, что она будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь.
Я начал заниматься лечебной физкультурой в агрессивном режиме, от которого мне зачастую становилось только хуже. По несколько раз в день я, закрывшись в своей комнате, тянул спину во все стороны. Я стал частым гостем в кабинете физиотерапии – практически там поселился. И все это время я не принимал никаких таблеток, даже какой-нибудь ибупрофен или парацетамол. Боль была сигналом, который мне подавал мой организм, и я не хотел его заглушать. Кроме того, будучи врачом, я понимал, что любое лекарство – как бесплатный сыр в мышеловке. Я уже повидал столько осложнений от приема лекарств, что сам не хотел рисковать.
Я, конечно, далеко не единственный, кто воздерживается от таблеток, но мы живем в необычное время. Многие отмечают, что в современном обществе страсть к заглатыванию таблеток достигла своего апогея[157]. Злоупотребление медикаментами привело к чрезмерной зависимости от лекарств. Люди хотят, чтобы таблетки помогли им сбросить вес, сохранить эрекцию, не облысеть, не слететь с катушек, не мучиться от боли и вообще не испытывать боль никогда в жизни. Последствия этой страсти окружают нас со всех сторон: опиоидная эпидемия была почти наверняка спровоцирована злоупотреблением опиоидными обезболивающими, которые и выписывали слишком часто, и употребляли слишком охотно.
Фармацевтические компании тут тоже далеко не невинные свидетели – они уж точно заработали на этой культуре, которую сами же помогли создать, беспрецедентные суммы денег. Это особенно касается США – одной из немногих стран мира, где они могут рекламировать свою продукцию непосредственно пациентам, многие из которых становятся из-за своей болезни особенно уязвимыми. Злоупотребление лекарствами ведет и к экономическому кризису. Анализ данных Управления конгресса США по бюджету, который я опубликовал в соавторстве с врачом и преподавателем бизнес-школы Кевином Шульманом в The New England Journal of Medicine, показал, что затраты на лекарства – самая быстрорастущая статья расходов Medicare и они могут обанкротить систему здравоохранения США[158]. Я также опубликовал исследование затрат на статины, согласно которому система здравоохранения США продолжает тратить миллиарды долларов на брендовые статины, несмотря на то, что те же вещества теперь доступны в более дешевой непатентованной форме[159]. В общем, что бы фармацевтические компании ни говорили, они, как я полагаю, в первую очередь работают на благо своих акционеров.
Скептически относиться к лекарствам и их производителям – это, на мой взгляд, здравый подход, особенно когда дело касается лекарств, снижающих уровень холестерина. До 1987 г., когда был сертифицирован первый статин, последним средством для снижения холестерина, сертифицированным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, был трипаранол, утвержденный еще в 1960 г.[160] До его изобретения ученые обнаружили, что гормон эстроген снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, а также обеспечивает им более низкий уровень холестерина. Однако если давать его мужчинам, то у них развивается заметная феминизация. Тогда фармацевтическая компания из Огайо Richardson‒Merrell разработала «неэстрогенный эстроген» – что-то в духе безалкогольного пива. Блокируя одну из последних ступеней в механизме продукции холестерина печенью, он не позволял образовываться лишнему холестерину. Трипаранол был запатентован в 1959 г. и уже в следующем году появился на рынке.
Как только пациенты начали его принимать, посыпалось множество жалоб на крайне неприятные побочные действия: тошноту, рвоту, слепоту из-за развития катаракты, изменение текстуры кожи, которая становилась похожа на рыбью чешую, и парадоксальное усиление атеросклероза. Как такое могло случиться?
Оказалось, что Richardson‒Merrell знала обо всех этих жутких побочных эффектах, но принудила своего специалиста по безопасности лекарств сфальсифицировать отчеты, которые были поданы в надзорное ведомство. И хотя сама сотрудница уволилась по причине вынужденного неэтичного поступка, Richardson-Merrell это не остановило: компания сертифицировала свою отраву по поддельным документам. Блокируя выработку холестерина, трипаранол стимулировал усиленную продукцию другого соединения, которое откладывалось в коже и глазах, а также способствовало более активному росту атеросклеротических бляшек. Richardson‒Merrell признала свою вину и заплатила штраф, хотя, говорят, она заработала намного больше на том полумиллионе американцев, которые покупали ее лекарство в течение двух лет его присутствия на рынке.
Катастрофа с трипаранолом бесследно канула в Лету. О ней не упоминают в медицинских вузах и даже не рассказывают будущим кардиологам, но она объясняет, почему многие люди подозревают фармацевтические компании в нечестных махинациях.
Правда, в этом смысле статины – своего рода триумф. Данные, которые три десятилетия поступали со всего мира, данные, полученные в ходе клинических испытаний и рутинного клинического применения произведенных разными фирмами статинов среди представителей всех рас, всех этнических и возрастных групп, подтверждают, что статины безопасны и их польза поистине универсальна. Катастрофа, вызванная трипаранолом, и другие подобные случаи повлекли за собой введение более строгих процедур оценки безопасности, и Управление по надзору уже много лет оберегает, как верный страж, аптечки американцев от всяких сомнительных средств.
Можно предположить, что в наши дни фармацевтические компании больше заинтересованы в том, чтобы люди не принимали статины. Поскольку сейчас это общедоступные и непатентованные лекарства, цены на них очень невысокие и их продажа практически не приносит прибыли. Помните бестолковые лекарства, которые существовали еще до появления статинов: ниацин, холестирамин и фибраты? Оказывается, они до сих пор есть в продаже и используются теми пациентами, которые не могут или не хотят принимать статины. Анализ данных по США, который я провел со своей командой, показал, что по иронии судьбы компаниям выгоднее продавать эти бесполезные средства, поскольку, во-первых, все статины сейчас непатентованные, во-вторых, их продают практически повсеместно, так что ставить на них заоблачную цену в надежде получить доход нет никакого смысла, и в-третьих, в наши дни так много компаний выпускает непатентованные статины, что они соревнуются, чья цена будет ниже[161]. Для фирм желательно, чтобы пациенты покупали те старые лекарства или более новые альтернативы статинам, на которых можно получить серьезную прибыль.
Еще один широкий фронт работ для сторонников конспирологических теорий – попытки дискредитировать научные данные, на основании которых медицина борется с повышенным холестерином, считая его виновником сердечно-сосудистых заболеваний. В науке о холестерине есть одно слабое звено – подозрительный аспект, о котором знает довольно много людей. Всем нам часто приходится слышать, что холестерин бывает плохой и хороший. Следовательно, можно предположить, что повышать хороший холестерин очень даже полезно – но клинические испытания это не подтверждают. Проблема плохого и хорошего холестерина – отличный пример «темной», по мнению некоторых людей, стороны науки. Чтобы разобраться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно для начала понять, на каком фундаменте зиждется наука о болезнях сердца.
Глава 5
Как делают колбасу
Твои видения станут ясными, только если ты будешь смотреть в свое сердце. Тот, кто смотрит вовне, видит лишь сон; тот же, кто смотрит внутрь, – просыпается.
КАРЛ ЮНГ
Когда мы едим, все питательные вещества перевариваются и всасываются в кишечнике, откуда поступают в одну особую вену, которая вливается прямо в печень. Печень не только принимает питательные вещества, но и продуцирует собственные. В частности, она синтезирует много холестерина. Печень пакует холестерин – и тот, что был усвоен с пищей, и синтезированный – в микроскопические пузырьки из белка и рассылает его по всему телу. Самые важные из этих транспортных пузырьков называются липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) – это главные переносчики холестерина в кровотоке. Как правило, молекулы ЛПНП безобидно разносят холестерин по организму, но порой в них происходит вредное изменение. Воспаление может привести к окислению ЛПНП. Окисленные молекулы ЛПНП начинают откладывать холестерин в стенки сосудов, вызывая тем самым образование атеросклеротических бляшек. Поэтому неудивительно, что за обеденными столами, в журналах о здоровом образе жизни и на сайтах холестерин липопротеинов низкой плотности называют «плохой холестерин». И на самом деле в большинстве случаев, когда врачи или пациенты обсуждают уровень холестерина, к которому им нужно стремиться, речь идет именно об уровне ЛПНП.
Однако в действительности не всякий холестерин плох: наравне с ЛПНП, которые забирают холестерин из печени и распространяют его по организму, порой откладывая его в атеросклеротические бляшки, существует другой тип холестериновых пузырьков, которые собирают холестерин со всего организма и доставляют его обратно в печень.
Во времена, когда связь между холестерином и его разными липопротеиновыми носителями еще только вырисовывалась, будто знаки на ровном, нетронутом песке, исследования начали давать некоторые противоречивые результаты. Хотя было очевидно, что по мере роста уровня общего холестерина и липопротеинов – носителей холестерина атеросклероз становился все более явным, один липопротеин, как казалось, имел прямо противоположный эффект. История о хорошем холестерине – а именно о холестерине липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) – впервые прозвучала на конференции в Национальных институтах здоровья в красноречивом выступлении Дональда Фредриксона. Он начал его так: «Это история об одном острове, одной семье и странном недуге»[162]. Для человека, незнакомого с подобными вещами, это больше похоже на начало романа о жизни нескольких поколений героев, написанного в стиле магического реализма.
Этот странный недуг одной семьи на одном острове был впервые обнаружен в горле пятилетнего мальчика – члена этой семьи, которому нужно было удалить увеличенные небные миндалины в связи с хроническим тонзиллитом. Прежде чем вырезать миндалины и небрежно выкинуть их в ведро, врач отметил их необычный вид: они были ярко-оранжевого цвета и напоминали по форме луковицу. После удаления их отправили на дополнительный анализ, который показал, что они битком набиты нагруженными холестерином лейкоцитами. Дело приняло совсем уж загадочный оборот, когда выяснилось, что у сестры мальчика такие же огромные рыжие миндалины. Ученые не имели ни малейшего представления, что это за болезнь и как она возникла, так что назвали ее «болезнь Танжера» – в честь маленького острова Танжер в Чесапикском заливе, откуда были родом брат с сестрой. Это настолько редкое заболевание, что, говорят, будто исследует его больше ученых, чем существует его носителей. Однако остров, живущая на нем семья и поразивший ее недуг открыли нам глаза на цикл обмена холестерина и помогли узнать, как он выводится из организма.
Ученые заметили, что, хотя организмы брата и сестры изобиловали холестерином, у них почти не было ЛПВП. Эти наблюдения подтвердили данные другого исследования, которое показало, что с замедлением прогрессирования атеросклероза уровень ЛПВП, в отличие от уровня ЛПНП и других молекул – носителей холестерина, не понижается, а растет. И наконец, было обнаружено, что среди людей с высоким уровнем ЛПВП сердечно-сосудистые заболевания встречаются гораздо реже. Кстати, одни из самых убедительных данных о связи между повышенным уровнем ЛПВП и меньшим числом сердечно-сосудистых заболеваний были получены в ходе продолжающегося по сей день Фремингемского исследования[163]. Посему далеко не всякого «холестерина» надо бояться.
Оказалось, что, в противовес ЛПНП, существует целая армия молекул, единственная задача которых состоит в том, чтобы эффективно выводить холестерин из организма. Если ЛПНП разносят холестерин от печени по всему телу, ЛПВП делают ровно обратное: приносят холестерин обратно в печень, где он перерабатывается в желчь, которая затем попадает из желчного пузыря в кишечник и так выводится из организма. Самые маленькие и плотные из липопротеинов, ЛПВП, оказались самыми большими нашими благодетелями.
Это открытие породило целую индустрию, нацеленную на улучшение работы человеческих ЛПВП. Вопрос об уровне ЛПВП стал для представителей старшего поколения чем-то вроде вопроса «Сколько жмешь от груди?». Люди меряются уровнем ЛПВП, как мальчики-подростки – размером бицепса, и сравнивают свой нынешний уровень ЛПВП с прежним так рьяно, будто, «накачав» побольше ЛПВП, они обеспечат себе вечную жизнь. Один пациент рассказал мне, что проверял свой уровень ЛПВП каждые несколько месяцев. Этот показатель был для него чем-то вроде кредитного рейтинга собственного сердца: из-за хорошей цифры он ликовал, из-за плохой – срывался в бездну отчаяния.
Такие убеждения подкреплялись обнадеживающей информацией от исследователей. Физические нагрузки повышают уровень ЛПВП, а заодно снижают риск будущих проблем с сердцем. Отказ от курения тоже поднимает уровень ЛПВП и резко снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний[164]. Многие продукты питания, в том числе небольшие дозы красного вина, также повышают уровень ЛПВП[165]. Недавно было опубликовано исследование, профинансированное компанией-производителем продуктов из миндаля Almond Board of California, которое, как можно было ожидать, во всеуслышание заявило о том, что миндаль прекрасно повышает уровень ЛПВП[166]. Но не торопитесь хватать кредитку и бежать в ближайший супермаркет за пакетиком экологически чистого миндаля без ГМО: в отличие от пути к снижению ЛПНП, который всегда был относительно прямым, путь к повышению ЛПВП может оказаться, во всяком случае на данный момент, дорогой в никуда.
ЛПВП считались эдаким добрым самаритянином, который останавливается у бугристого сосуда и вытягивает холестерин из атеросклеротических бляшек, а потом доставляет его в печень, чтобы она вышвырнула его из организма. И, судя по всему, у людей, которые занимались спортом, сбрасывали вес и отказывались от курения, этих самых ЛПВП становилось больше, а инфарктов и инсультов – меньше, посему разработка лекарства для повышения уровня ЛПВП казалась идеальной целью для исследователей и фармацевтических компаний.
Существовало одно средство, которое появилось раньше статинов и было известно своей способностью успешно повышать уровень ЛПВП, – это ниацин, являющийся притом витамином. Поскольку было очевидно, что ниацин сам по себе уступает статинам, производители решили, что можно попытаться добавлять его к статинам – вдруг это позволит еще больше снизить риск развития атеросклеротической болезни сердца? Результаты их первого эксперимента под названием AIM-HIGH («Бери выше») были опубликованы в 2011 г.: никакого положительного влияния ниацина на 3400 пациентов с низким уровнем ЛПВП выявлено не было, несмотря на то, что уровень ЛПВП у них повысился[167]. Но производители не сдались: они решили, что опыт, возможно, провалился потому, что надо было брать еще выше и привлекать еще больше пациентов. Поэтому они устроили еще один эксперимент – HPS2-THRIVE, в котором приняло участие аж 25 673 испытуемых[168]. Результаты, опубликованные в 2014 г., показали, что ниацин не только не принес за счет повышения уровня ЛПВП никакой пользы, но и дал ряд серьезных побочных эффектов, таких как инфекции и кровотечения.
Тогда производители лекарств заключили, что нужно искать другой способ повысить уровень ЛПВП. К тому моменту было известно, что у крыс почти никогда не бывает атеросклероза, сколько бы холестерина им ни давали, а еще что у них заоблачный уровень ЛПВП. Выяснилось, что у крыс отсутствует фермент под названием «белок – переносчик эфиров холестерина» (БПЭХ). Этот белок – главный двигатель процесса выведения холестерина из организма. Что, если отключить этот фермент у людей? Организм практически перестал бы отправлять ЛПВП в «мусорную корзину». На тот момент уже существовали свидетельства того, что среди людей, у которых этого белка вырабатывается меньше, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний чуть-чуть ниже.
Крупнейшие производители лекарств кинулись наперегонки планировать клинические испытания, которые бы показали, способны ли препараты, подавляющие БПЭХ, повышать уровень ЛПВП и снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В том, что касается повышения уровня ЛПВП, эксперименты увенчались оглушительным успехом: три исследования, в которых в общей сложности приняли участие 41 000 человек, продемонстрировали, что ингибиторы БПЭХ отлично справляются с этой задачей[169]. Но вот в том, что касается положительного влияния на состояние здоровья пациентов, все вышло иначе: мало того, что никакое из исследований не показало хоть малейшее сокращение числа сердечно-сосудистых заболеваний, так один эксперимент даже продемонстрировал небольшое повышение вероятности смерти. Недавно было проведено четвертое испытание под названием REVEAL, в котором приняли участие 30 000 пациентов: по его данным, прием ингибитора БПЭХ в сочетании со статином в течение примерно четырех лет все же дает очень небольшой положительный результат, но это почти наверняка связано с крохотным улучшением общего уровня холестерина, а не с грандиозным повышением уровня ЛПВП[170].
Как же так? Хорош ли все-таки хороший холестерин? Если да, почему от его повышения не снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний? А если нет, как же наука умудрялась десятки лет поддерживать эту идею? Ко мне приходит множество пациентов, которые изо всех сил стараются чаще заниматься спортом и лучше следить за своим питанием в надежде, что от этого у них повысится уровень ЛПВП. Что мне как врачу им говорить? Что хороший холестерин – это ерунда?
Однажды во время рутинного профилактического осмотра медсестра спросила меня, не хочу ли я проверить свой уровень холестерина. Мне не очень хотелось сдавать кровь, но она сказала, что за это мне полагается бесплатный обед, и я согласился. Результаты меня шокировали. С уровнем ЛПНП все было в порядке, но вот мой уровень ЛПВП был ужасающе низким. Я по нескольку раз в день занимался на беговой дорожке и всегда старался правильно питаться. Однако такой уровень ЛПВП практически обрекал меня на повышенный риск будущих заболеваний сердца – по сравнению со всеми теми, кто вел похожий образ жизни, но не отличался столь низким уровнем ЛПВП. Что же мне делать с такими показателями холестерина ЛПВП? И если я сам не знаю ответа на этот вопрос, что мне сказать пациенту, который придет ко мне с той же проблемой? История с холестерином ЛПВП позволяет глубже заглянуть в науку о сердечно-сосудистых заболеваниях и намного лучше понять, какие препятствия приходится преодолевать ученым по ходу исследований.
Наши взаимоотношения с истиной всегда были сложными. Люди всегда твердили, что нам нужна правда и ничего кроме правды, однако, оглядываясь на нашу историю, можно сказать, что бóльшую ее часть мы бежали от правды как от чумы.
Главным препятствием на пути к истине, конечно, была вера. Вера в то, что фараоны – боги, что цвет кожи делает одних людей лучше других, что один пол может подчинять себе другой. Вера требует, чтобы мы полагались на то, что не видно глазу, и не замечали то, что доступно зрению.
Почти тысячу лет виднейшие медики всего мира верили в жизненные соки (гуморы); верили, что в сердце есть какие-то невидимые отверстия, соединяющие его правую и левую стороны; верили, что по артериям проходит воздух, а не кровь; что мозг остужает тело, а сердце – разогревает; что высокое давление – это полезно и т. д. Сердце считалось вместилищем эмоций – и не только в метафорическом смысле.
А потом возникла наука. Наука (не вера) стала той линзой, через которую многие из нас начали рассматривать физический мир. Она много раз доказывала нам свою полезность, внушая все большее и большее доверие. Продолжительность человеческой жизни, которая в первый раз удвоилась от 20 до 40 лет за сотни тысячелетий, удвоилась снова – от 40 до 80 – всего за 150 лет. Этот скачок в продолжительности жизни оказался таким резким, таким беспрецедентным, что ученым пока не удается повторить его в лабораторных условиях на бактериальных или животных клетках. Люди живут дольше вне зависимости от пола, национальности, сексуальной ориентации, расовой или этнической принадлежности. Даже в регионах, где продолжительность жизни меньше, чем в развитых странах, ситуация меняется очень быстро. Так что наука во многом преодолела те границы, которые разделяют человеческое общество во всех других отношениях.
Но хотя на пути своего развития наука не встречает экономических преград, она не раз порождала большие сомнения в своей способности к поиску и обнаружению истины. В контексте науки о сердце примером как раз может послужить холестерин ЛПВП – и не он один. Представления о том, какой режим питания лучше всего снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, меняются чуть ли не каждые две недели. В сфере фундаментальной науки, изучающей сложнейшую работу регуляторных клеточных механизмов в норме и патологии, возникают разногласия из-за невозможности воспроизвести важные эксперименты. Общественные науки тоже страдают от трудности воспроизведения результатов основополагающих исследований. Да что же это такое? Кому же нам верить, если не науке и ученым?
Возможно, одна из важнейших причин этого перелома – тот факт, что научные открытия сейчас все чаще и чаще опровергаются или оказываются менее значимыми в ходе дальнейших экспериментов. Этот эффект также называют «регрессия к среднему значению» – в силу того, что при массовом повторении опытов их результаты стремятся к средним показателям.
В случае с ЛПВП выяснилось, что их следует рассматривать скорее как маркер риска, а не как мишень лечебного воздействия. Преднамеренное повышение уровня ЛПВП, как оказалось, не влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – по крайней мере если для этого используются все те препараты, которые на данный момент уже прошли тестирование. И то, что физкультура, снижение веса и отказ от курения уменьшают риск развития атеросклероза, вероятно, связано не с изменением уровня ЛПВП, а с миллионом других изменений, которые при этом претерпевает человеческий организм, а также с тем фактом, что люди, решившие пройти через все тяготы изменения образа жизни, вырабатывают у себя еще целый ряд других полезных привычек, которые исследования не учитывали. Одно недавно проведенное, более углубленное исследование ставит под сомнение саму взаимосвязь между ЛПВП и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний[171],[172].
Чтобы понять историю взлета и падения ЛПВП и ее место в нашем общем представлении о больном и здоровом сердце, нужно сперва обратиться к тем научным данным, на которых основывается наше понимание сути этой истории. Здесь на первый план выходит одно из главных разграничений, которое сейчас оказалось в эпицентре жутких пертурбаций, происходящих в современной науке, – это разграничение между обсервационной и интервенционной наукой, разница между причинной и корреляционной связью.
Я рос в Пакистане, и одной из самых больших радостей для меня было заполучить очередной номер Reader’s Digest. Я не мог позволить себе свежие выпуски, поэтому ходил по базарам, где часто продавались целые стопки старых, потрепанных журналов с чайными пятнами на обложке. Я покупал их шутки ради, но прочитывал от первой до последней страницы. Казалось, что каждые две недели в них появлялся какой-то материал, опровергающий то, что было напечатано совсем недавно. В одном выпуске говорилось, что алкоголь вреден, в другом – что полезен. Один выпуск утверждал, что кофеин вреден, другой доказывал обратное. Но в наши дни такие скачки происходят уже даже не раз-два в месяц – мы наблюдаем их чуть ли не каждый день.
Мы живем во времена, когда подорвана вера людей в важнейшие общественные институты. Видео, снятые на мобильные телефоны, показали нам во всех мегапиксельных подробностях жестокость полиции, зачастую направленную на меньшинства. Социальные сети дали представление о неадекватных мыслях ряда влиятельнейших людей мира. Доверие населения к правительству упало до рекордно низкого уровня[173]. Схожие тенденции наблюдаются и в отношении людей к СМИ[174].
Ученые, в особенности ученые-медики, напротив, имеют один из самых высоких рейтингов одобрения среди американцев. По данным недавнего социологического исследования Pew Research Center, у 84 % опрошенных американцев уровень доверия к ученым-медикам чрезвычайно или достаточно высок – выше, чем к какой-либо другой из перечисленных в опросе групп[175]. Однако это доверие находится под угрозой – и угроза неуклонно растет. Я вижу ее повсюду и зачастую обнаруживаю в своей папке входящих сообщений или в наскоро состряпанном письме, брошенном мне в почтовый ящик.
И хотя винить за эту медленно, но неотвратимо надвигающуюся катастрофу можно многих, одна из главных причин кроется в самом сердце науки – в научном методе. И самый наглядный пример тому – наука о сердце.
То, как организован научный эксперимент, может определить результаты, которые он даст, и их последующую трактовку. Но научные исследования – дело сложное, а язык, которым записано большинство из них, делает их еще более трудными для понимания. Когда я впервые попытался прочитать научную статью, меня затошнило от ее витиеватости. Думаю, все и так догадываются, что в научных исследованиях дьявол кроется в деталях. Но, по правде говоря, во многих научных публикациях дьявол даже не добирается до основного текста и поселяется в дополнительных материалах, которые почти никто не читает.
Пожалуй, главное, что нужно знать о любом научном исследовании, – было ли оно экспериментом или обсервационным исследованием. Обсервационное исследование может, например, заключаться в наблюдении за группой посетителей в Starbucks и изучении их оценок в колледже. Такое исследование может прийти к выводу, что те, кто употребляет больше кофеина, учатся лучше. Но этот вывод может быть ошибочным, поскольку между теми, кто пьет кофе в Starbucks, и теми, кто этого не делает, могут быть и другие различия – например, у первых может быть больше ресурсов.
Чтобы выяснить, действительно ли кофе повышает успеваемость, нужно провести рандомизированное контролируемое исследование с применением двойного слепого метода, в котором бы приняла участие произвольно отобранная группа студентов, начинающих обучение в колледже. Эту группу надо так же в случайном порядке разделить на две половины: одна будет пить кофе с кофеином, другая – без. При этом ни студенты, ни исследователи не должны знать, кто к какой группе относится. Дальше нужно будет следить за этими группами какое-то время и фиксировать их оценки на экзаменах или любые другие показатели, по которым можно судить об успехах в учебе.
Но проблема в том, что проводить такие эксперименты долго и дорого. Устроить обсервационное исследование гораздо проще, и потому значительное число исследований, о которых мы читаем и в СМИ, и в научных публикациях, основаны как раз на наблюдении. Многие обожают подобные исследования еще и потому, что они дают повод для броских заголовков в таком духе: «Люди, которые занимаются сексом четыре или более раз в неделю, зарабатывают больше денег»[176].
Однако среди подобных статей есть и гораздо более опасные. В начале века ряд маленьких обсервационных исследований указал на то, что у пациентов, принимающих статины, чаще встречается деменция. Они породили заголовки вроде такого: «Это не деменция, это ваши сердечные лекарства» – он появился в Scientific American, старейшем из выходящих по сей день ежемесячном журнале США, для которого писали ученые такого уровня, как Альберт Эйнштейн[177]. В результате многие люди перестали принимать статины – что, как показало время, привело к повышению частоты сердечно-сосудистых заболеваний[178]. Вместе с тем появились другие, воодушевляющие, но тоже обсервационные данные о том, что статины снижают риск возникновения деменции[179]. Какой же вывод о связи между статинами и деменцией мы должны сделать из этих диаметрально противоположных сведений?
Беда обсервационных данных в том, что они, как правило, неспособны доказать, что А является причиной Б. Они могут сообщить нам, что при наличии А часто имеется и Б, или наоборот, но они практически никогда не доказывают, что А вызывает Б. Тому есть один знаменитый пример: утверждение, которое гласит, что люди, у которых в кармане есть зажигалка, могут с большей долей вероятности заполучить рак. Хотя это почти наверняка правда, дело здесь вовсе не в том, что зажигалки вызывают рак. Просто люди, у которых есть зажигалка, скорее всего, курят – и вот это действительно вызывает рак. Из-за подобных примеров даже возникло одно крайне популярное выражение, которое используется, чтобы положить конец бурным онлайн-дискуссиям: «Корреляция не подразумевает причинно-следственную связь».
В корреляции «зажигалки вызывают рак» курение – это «спутывающая переменная»: она влияет на результаты, хотя мы ее не учитываем. Схожим примером может послужить связь между суицидом и половой принадлежностью[180]. Число мужчин и женщин, которые совершают самоубийство, примерно одинаково, из чего можно заключить, что суицидальные наклонности распространены у обоих полов в равных пропорциях. Однако если вникнуть глубже, становится очевидно, что женщины гораздо чаще предпринимают попытки суицида. Спутывающая переменная в данном случае – это разница между способами самоубийства, которые избирают представители того и другого пола. Мужчины, к сожалению, используют гораздо более эффективные средства – в основном огнестрельное оружие, в то время как для женщин более характерна передозировка таблетками. И потому, хотя попытки суицида чаще предпринимают женщины, из-за разницы в методах мужчины, как ни печально, преуспевают в самоубийствах больше.
Спутывающие (скрытые) переменные – ахиллесова пята обсервационных исследований. Вполне вероятно, что у пациентов, которые принимают статины, сосуды уже сильно поражены атеросклерозом, чем и объясняется повышенная склонность к деменции – и, хотя кажется, будто деменцию вызывают как раз-таки статины, на самом деле это лишь ассоциация. Но может быть и так, что пациенты, принимающие статины, относятся к той категории людей, которые стараются заботиться о своем организме, заниматься спортом и правильно питаться – и тогда логично предположить, что сам образ жизни снижает у них риск развития деменции. Так это или нет, обсервационное исследование показать не может.
Однако крайне неожиданные корреляции окружают нас со всех сторон, и собрать данные, указывающие на связь между двумя никак не связанными явлениями, сейчас стало проще простого. Существует, например, практически прямо пропорциональная зависимость между потреблением сыра на душу населения и числом людей, которые умирают, запутавшись в простынях, или коэффициентом брачности в Кентукки и числом людей, которые утонули, выпав за борт рыболовного судна[181].
Человеческое сознание устроено так, что мы все время выстраиваем какие-то связи – особенно между вещами, которые случились друг за другом, и, таким образом, уже оказались связанными во времени. Помню, когда я учился в медицинском вузе в родном Пакистане, многие люди клялись и божились, что гомеопаты лечат вирусные инфекции лучше, чем врачи-аллопаты. Выяснилось, что, когда люди заболевали, они сначала шли к врачу, который выписывал им противовоспалительные лекарства, но потом им начинало казаться, что лекарство все никак не действует, и они шли к гомеопатам. И хотя к тому времени инфекция уже начинала сходить на нет и им в любом случае стало бы лучше, их мозг связывал выздоровление с теми средствами, которые назначил гомеопат.
Отец корреляции – человек, с чьим именем связан метод статистического анализа, который по сей день используется в том случае, когда нужно выяснить, насколько два явления связаны друг с другом, – это Карл Пирсон (1857–1936), выдающийся британский ученый, один из основоположников современной статистики, сумевший определить, в какой мере могут быть связаны друг с другом два каких-то феномена[182]. Сам он приводил в пример такую корреляцию: частота заражений оспой среди африканцев, возможно, больше, чем среди европейцев, и это может указать нам на тесную корреляцию между оспой и цветом кожи, но вероятной спутывающей переменной здесь будет разный охват этих популяций вакцинацией от оспы.
Нам нужно замечать подобные отношения, поскольку всегда есть шанс, что они важны для нашего выживания. В конце концов, перефразируя известную поговорку, между дымом и огнем существует высокая корреляция, хотя на самом деле дым не является причиной огня. И хотя отмахнуться от корреляций и сказать, что они не имеют никакого смысла, очень легко, на деле все куда сложнее. В действительности когда А является причиной Б, между ними, скорее всего, будет также и высокая корреляция. Мы говорили о зажигалках и раке легких, но у рака легких наблюдается высокая корреляция и еще кое с чем – с самим курением. Но при этом, когда связь между курением табака и раком легких была впервые установлена, производители табака в один голос кричали, что это «корреляция, а не причинно-следственная связь». Наконец, отсутствие корреляции почти наверняка указывает и на отсутствие причинно-следственной связи.
Другой камень преткновения в интерпретации обсервационных исследований – это извращение причинно-следственной связи. Вот, к примеру, один неожиданный факт: многие исследования показывают, что у пациентов с меньшим весом вероятность смерти выше[183]. Эти парадоксальные исследования, часть из которых проводилась среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, многих обескуражили – ведь мы знаем, что в целом наличие лишнего веса при нормальных других показателях все равно считается нехорошим признаком. Но тому есть простое объяснение: многие болезни вызывают потерю веса. Если проводить исследование среди похудевших пациентов, можно прийти к ложному выводу, будто небольшой вес вреден для здоровья, но на самом деле проблема может быть вовсе не в весе. Его снижение может быть лишь следствием какого-то заболевания – рака, например. Или другой пример: есть данные, к которым очень любят апеллировать скептики в вопросе о холестерине, будто низкий уровень ЛПНП для людей старшего возраста вообще-то даже опасен[184]. Так ли это или все дело в том, что люди с повышенным уровнем ЛПНП просто не доживают до преклонных лет или что уровень ЛПНП в старшем возрасте не отражает кумулятивный эффект от ЛПНП за всю жизнь до этого? Это было бы неплохо выяснить, потому что многие применяют эти выводы к пациентам старше 75 лет, а также экстраполируют их на всех остальных и утверждают, что между повышенным уровнем плохого холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще нет связи.
Как же нам решить один из основных вопросов в кардиологии? Действительно ли плохой холестерин, или ЛПНП, вызывает атеросклероз или всего лишь коррелирует с ним? А как насчет хорошего холестерина? Он просто всегда повышен у здоровых людей или тоже как-то связан с развитием атеросклероза? Мы наконец можем сказать, что уже знаем ответы – и все потому, что решили копнуть глубже. Вглядеться в детали.
В 1756 г. Великобритания и Франция вступили в войну, которая велась на территории нескольких континентов и вошла в историю как Семилетняя война. Она завершилась в 1763 г. и сделала Британию самым мощным государством того времени и многих последующих лет. Но победа обошлась ей дорогой ценой. Британский флот рекрутировал в военные годы 185 000 моряков, и 133 000 из них либо пропали без вести, либо умерли от загадочной болезни. Болезнь начиналась со слабости и боли в руках и ногах, затем возникали боль и сухость во рту, кровоточивость и смерть. Эта болезнь была известна со времен древних египтян и Гиппократа, но никто не знал, что ее вызывает. Многие утверждали, что типичные черты моряцкой жизни – тяжелые условия и корабельный рацион – выводят из строя пищеварительную систему. Некоторые даже начинали пить серную кислоту в надежде, что эта едкая отрава подстегнет работу внутренних органов, но на деле лишь обжигали себе кишки.
Среди множества непроверенных методов лечения особенно часто использовалось лечение цитрусовыми, такими как лимоны и апельсины. Но доказательства их эффективности сводились к одним только рассказам очевидцев. Между тем Джеймс Линд, шотландский врач на борту «Солсбери» – британского военного судна с 50 пушками – устал смотреть, как молодые моряки умирают у него на глазах, но не знал наверняка, что с этим делать. Цинга убивала в разы больше его людей, чем сумел бы убить враг. Линд был наслышан как минимум о шести способах лечения, но не был уверен, помогает ли хоть один из них на самом деле, поэтому решил провести эксперимент[185]. Он отобрал 12 моряков с очень похожими симптомами – у всех них «были гнилые десны, пятнистые высыпания, вялость и слабость в коленях». Всех их он поселил вместе в трюме и посадил на одинаковую кошмарную диету: жидкая овсяная каша на воде, подслащенная сахаром, на завтрак и свежий бараний бульон на обед. Затем он – вероятно, в случайном порядке – назначил им разные лечения, которые были ему известны. Двоим он давал сидр, двоим – серную кислоту, двоим – уксус, двоим – морскую воду, двоим – тертый мускатный орех и чеснок и, наконец, еще двоим – лимоны и апельсины. Результаты были поразительные: из всей группы те, кому давали лимоны и апельсины, уже через неделю смогли вернуться к служебным обязанностям и помогать в уходе за другими пациентами. Это было по большому счету первое «контролируемое» клиническое исследование в истории человечества. Линд описал его результаты в своей книге «Трактат о цинге» (A Treatise of the Scurvy), опубликованной в 1753 г., но прошло еще без малого полвека, прежде чем цитрусовые стали общепризнанным лекарством от цинги.
Клинические исследования не всегда отвечают на вопрос, почему А вызывает В: венгерский лауреат Нобелевской премии Альберт Сент-Дьёрдьи открыл витамин С (аскорбиновую кислоту), недостаток которого вызывает цингу, только 200 лет спустя после эксперимента Линда[186]. Однако клинические исследования по-прежнему остаются лучшим способом установить, что А однозначно вызывает В. Эксперимент Линда имел такое значение, потому что при нем все испытуемые были проконтролированы – то есть и те пациенты, которые получали эффективное лечение, и те, кому давали другие средства, находились в одинаковых условиях. Когда эксперимент неконтролируемый, все идет наперекосяк. Предположим, что пациенты, которым давали цитрусовые, были бы сильнее поражены болезнью, чем те, кому давали, например, морскую воду. В таком случае моряки, которых лечили цитрусовыми, могли бы показать более плохие результаты просто потому, что изначально были в худшем состоянии.
Со времен Линда клинические исследования вышли на совсем другой уровень. Важным условием клинического исследования оказалось то, что использование лекарственного средства должно быть каким-то образом скрыто. Почему? Ожидание вреда или пользы от лечения может вызвать у людей, которые его получают, реальные физиологические изменения. Благодаря надежде мы не только лучше себя чувствуем – нашему организму и правда становится лучше. Для этой надежды есть свой медицинский термин – плацебо. И сейчас мы знаем, что даже некоторые авторитетные методы лечения, такие как акупунктура, почти полностью основаны на эффекте плацебо[187].
Эффект плацебо до сих пор играет в медицине огромную роль. Даже когда вы принимаете какое-нибудь лекарство вроде обезболивающего ибупрофена, одно осознание того, что вы выпили таблетку, и ожидание улучшения могут усилить действие активного компонента препарата. Более того, на заре современной медицины молодых врачей учили выписывать плацебо даже в таких заведениях, как Гарвардская медицинская школа, – это считалось неизбежной, но благотворной ложью.
Когда плацебо получило более широкое признание, стало также очевидно, что нужно разделять объективный эффект от лечения и эффект от ожидания улучшения, притом что его дает любое вмешательство, по поводу которого проводится исследование. В XVIII в. существовал один популярный способ облегчения боли и лечения других недугов: нужно было привязать к больной части тела металлические прутья – считалось, что за счет своих электромагнитных свойств металл обладает целительной силой. В 1799 г. британский врач Джон Хейгарт решил проверить, насколько эти дорогостоящие прутья эффективны против болезней, которые они якобы лечат. Первое время он привязывал пятерым испытуемым металлические прутья, а потом подменил их на деревянные и обнаружил, что никакой разницы между этими двумя методами лечения нет. Свои наблюдения он описал в книге, само название которой, пожалуй, предвосхищает сделанные в ней выводы: «О воображении как причине и средстве излечения болезней тела» (Of the Imagination, as a Cause and as a Cure of Disorders of the Body) – она была опубликована в 1800 г. и, как мы сейчас знаем, оказалась пророческой[188].
Внедрение контролируемых, рандомизированных клинических испытаний с использованием плацебо стало огромным шагом вперед в истории медицины, значение которого невозможно переоценить. До этого медицина была в лучшем случае разновидностью магии. Но теперь из догмы, основанной на авторитетных мнениях, она наконец стала превращаться в науку, основанную на фактах. Врачам и исследователям по сей день трудно признавать, что они заблуждались, что их опыт лишен оснований, что их клинические наблюдения предвзяты, что их случаи из практики не имеют никакого значения и что интуиция их подвела. Несмотря на то, что многие врачи до сих пор с этим не смирились, контролируемые исследования с использованием плацебо стали первым большим прорывом в борьбе между мнением и фактом – как в научном сообществе, так и за его пределами.
Однако в наше время клинические испытания, особенно в области кардиологии, наткнулись на новые препятствия. Разрабатывать новые лекарства становится все дороже – один неоднозначный анализ показал, что на разработку хорошего препарата требуется $2 миллиарда и поток перспективных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний иссякает[189]. Чтобы доказать пользу от лекарства, требуются все более масштабные исследования, так что сейчас единственные организации, которые имеют стимул и ресурсы проводить такие эксперименты, это фармацевтические компании и производители медицинского оборудования. Если мы хотим предсказать будущее кардиологии и оценить перспективы интереснейших идей для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – от применения стволовых клеток до использования населяющих кишечник бактерий, нужно сначала вспомнить о самых неприглядных страницах в истории науки. И нет страницы мрачнее и ужаснее, чем та, что посвящена преступлениям, которые совершались под прикрытием науки в маленьком баварском городке Дахау.
Очень сложно назвать то, что происходило в концентрационном лагере в Дахау, наукой. Пожалуй, лучше сразу сказать, чем это было на самом деле кошмарной кампанией бесчеловечного насилия под эгидой нацистского режима[190]. «Опыты», которые там проводились, были не чем иным, как хладнокровными пытками и истреблением людей. Они были столь чудовищны, что этот ужас не передать никакими словами. Близнецов сшивали друг с другом, чтобы посмотреть, смогут ли они функционировать как один организм. Детей били молотом по голове, чтобы воспроизвести разнообразие черепно-мозговых травм. Обнаженных людей замораживали до смерти, чтобы изучить эффект воздействия холода на человеческий организм[191]. Узников намеренно травили ипритом и другими ядами, заражали малярией. Большинство жертв этих экспериментов – многие из них были дети – умерли. Тех, кто выжил, зачастую казнили.
Хотя «медицинские опыты» нацистов были, возможно, чернейшей страницей в истории научных экспериментов и большинство ученых максимально дистанцировались от этой бесчеловечной жестокости, нацисты, совершавшие их, были не вполне оригинальны. На самом деле нацистские опыты были естественным продолжением той практики научных исследований, которая активно применялась тогда в США и Европе[192]. Как бы нам ни хотелось отделить эксперименты нацистов от остальных научных изысканий, стоит посмотреть чуть пошире, и становится ясно, что это было крайним проявлением множества других вещей, которые делались под видом исследований[193].
До Второй мировой войны научный прогресс был в разгаре, и такие вещи, как согласие испытуемых и гуманное с ними обращение, как правило, считались препонами на пути этого прогресса. Проституток в Германии тайно заражали сифилисом, а пациентам престижного Мемориального онкологического центра им. Слоуна‒Кеттеринга в Нью-Йорке вводили раковые клетки[194]. Многие ученые утверждали, что цель оправдывает средства, но Генри Бичер, анестезиолог из Гарвардской медицинской школы и один из самых знаменитых поборников гуманности в медицине, возражал: «Эксперимент с самого начала может быть либо этичным, либо неэтичным. Он не становится более этичным от того, что с его помощью были получены ценные данные». Бичер также задавал своим оппонентам вопрос: «Кто дает исследователю право выбирать мучеников, словно он бог?»[195]
По мере распространения контролируемых исследований встал вопрос о другой этической проблеме: отказе от лечения пациентов, которые попали в контрольную группу. Сейчас перед началом эксперимента ученых просят убедиться в том, что в нем будет соблюдено условие клинического равновесия. Что это значит? Представьте, что появился новый препарат от деменции и вы хотите провести рандомизированное исследование этого препарата. Какое лечение будут получать пациенты в контрольной группе? Этично ли не давать тем пациентам, которым назначено плацебо, разработанное вами лекарство? В случае с деменцией, для которой практически не существует научно доказанных способов лечения, не назначать никаких дополнительных препаратов пациентам в контрольной группе было бы, может, и справедливо. Но теперь вспомним об одном эксперименте, в рамках которого эффективность пенициллина тестировали на военнослужащих со стрептококковой ангиной. На тот момент было уже известно, что пенициллин эффективен при этом заболевании, однако военнослужащих контрольной группы, которые получали плацебо, лечить не стали, и у них часто возникали такие осложнения, как ревматизм и нефрит (воспалительное поражение почек)[196].
По правде говоря, до начала войны врачи и исследователи всего мира восхищались учеными нацистского режима, особенно когда те стали принудительно стерилизовать людей, которых считали непригодными для репродукции. Американские ученые и журналы наперебой расхваливали это движение – одна передовица в The New England Journal of Medicine в 1934 г. гласила: «Германия, пожалуй, стала одной из самых прогрессивных наций в вопросе пресечения деторождения среди непригодных для размножения… Индивид должен поступиться своими интересами ради общего блага»[197]. Принудительная стерилизация, которой по большей части подвергались иммигранты и меньшинства, была легализована почти в половине американских штатов, и даже после окончания Второй мировой войны и до 1963 г. эту процедуру еще успели провести (без их на то согласия) 20 000 человек.
Научное сообщество не торопилось принимать какие-либо ограничения – о чем позволяет судить, вероятно, самое долгое неэтичное исследование в истории человечества[198]. В 1932 г. Служба общественного здравоохранения США решила изучить естественный ход развития сифилиса, оставленного без лечения. Она привлекла несколько сотен чернокожих фермеров-издольщиков из сельских районов Алабамы под предлогом того, что им будут выписаны бесплатные медицинские препараты. После того за этими людьми следили почти 40 лет, хотя сифилис легко поддается лечению. Испытуемые не знали, что были заражены, и передали болезнь своим супругам. У некоторых даже появились дети с врожденным сифилисом, а некоторые умерли от осложнений.
И конец этому исследованию положил вовсе не медицинский истеблишмент. Более того, даже когда некоторые врачи стали жаловаться на его неэтичность, Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Американская медицинская ассоциация настаивали на том, что исследование необходимо для научного прогресса. И только когда один из главных активистов предал гласности детали эксперимента, были приняты решительные меры. Обличительная статья об этом исследовании появилась в The Washington Examiner 25 июля 1972 г., а на следующий день оно оказалось на первой полосе The New York Times[199].
При этом в медицинских кругах этот эксперимент был далеко не секретом, и отчеты о нем публиковались в медицинской литературе около 15 раз. Кроме того, в 1965 г. один молодой врач по имени Ирвин Шац прочитал такой отчет в медицинском журнале и написал ученым, ответственным за это исследование, гневное письмо. «Я крайне изумлен тем, что врачи оставляют пациентов с потенциально смертельным заболеванием без лечения при наличии эффективной терапии», – писал он[200]. Но письмо осталось без внимания, и авторы исследования ничего на него не ответили. И только когда на ученых накинулась пресса и в обществе поднялась шумиха, исследование было прекращено, и в стране началось масштабное реформирование правил проведения научных экспериментов и ужесточились требования по информированному добровольному согласию.
Медицинское научное сообщество, привыкшее к почти божественному статусу со времен Древнего Египта, трудно заставить взглянуть на себя критически. Даже сейчас, когда перед медициной встают такие труднейшие вопросы, как непомерный рост стоимости медицинской помощи, переизбыток медицинских процедур на последней стадии жизни, отсутствие прозрачности при оказании медицинской помощи и при проведении медицинских экспериментов, конфликт интересов и препятствование свободному распространению информации и данных исследований, верхушка медицинского сообщества остается ретроградной и чрезмерно консервативной.
Недоверие, которое породили подобные исследования, существует по сей день, и, наверное, можно сказать, что во многих отношениях оно становится только глубже. Множество людей – в особенности представители меньшинств – с большим подозрением относятся к статинам, которые им выписывают врачи[201]. Когда дело касается сердечно-сосудистых заболеваний, многие обыватели тут же начинают воображать себе всемирный заговор. Они представляют себе медицинскую индустрию в духе «глубинного государства», руководство которого регулярно встречается в круглом конференц-зале на последнем этаже небоскреба, планирует истребление человечества и умерщвление всех своих врагов и прокладывает себе вымощенный золотыми слитками путь к межгалактическому господству.
На самом деле все гораздо прозаичнее.
Да, в медицине есть мошенники. Да, бывают неэтичные исследования. Но главная проблема современной медицины и настоящая угроза ее существованию не непорядочность, а некомпетентность.
Начиная с самых ранних древнеегипетских описаний, сердечная недостаточность ассоциировалась с ослаблением функции сердца. Показателем эффективности работы сердечной мышцы, как правило, служит фракция выброса – доля содержащейся в расслабленном левом желудочке крови, которая выталкивается в аорту при его сокращении. Когда фракция выброса 55 % и больше, это считается нормой. Но хотя у многих пациентов с сердечной недостаточностью фракция выброса действительно снижена, почти у половины таких больных она остается нормальной. У этих людей сердечная мышца становится очень жесткой (ригидной), из-за чего в сердце создается чрезвычайно высокое давление – и у пациентов возникают классические симптомы сердечной недостаточности, несмотря на нормальную сократительную функцию органа. Оба этих типа сердечной недостаточности с одинаковой частотой сводят в могилу больных как мужского, так и женского пола: в США пациенты старше 65 лет, попавшие в больницу с одним из этих вариантов, проживают еще в среднем всего лишь два года. Но есть тут одно большое различие: для пациентов с сердечной недостаточностью, у которых сохраняется нормальная фракция выброса, нет ни одного доказанного способа лечения, в отличие от пациентов с сокращенной фракцией выброса, для которых разработан широкий спектр препаратов и устройств, способных снизить летальность. И дело вовсе не в том, что для первого случая никто не пытался найти лечение – более того, однажды решение было совсем близко.
Национальные институты здоровья решили, что смогут помочь таким пациентам по всему миру, профинансировав очень масштабное международное исследование под названием TOPCAT, целью которого было протестировать очень многообещающее и недорогое средство, спиронолактон, на людях с сердечной недостаточностью при сохраненной фракции выброса. В рандомизированном исследовании с использованием двойного слепого метода приняли участие 3445 человек, половина которых была из Северной Америки, а другая половина – из России и Грузии. Результаты, опубликованные в 2014 г. в The New England Journal of Medicine, оказались сплошным разочарованием[202]. У спиронолактона, к сожалению, не было выявлено положительного воздействия на сердечную недостаточность у пациентов с сохраненной фракцией выброса.
Но, покопавшись в этих огорчительных результатах, ученые вдруг наткнулись на крайне любопытный факт: пациенты, которые принимали участие в эксперименте в России и Грузии, сильно отличались от тех, кто был из Северной Америки. В чем же? У пациентов из Восточной Европы очень редко встречались такие осложнения, как инфаркты миокарда, которые, как правило, сопутствуют сердечной недостаточности. Некоторые исследователи даже усомнились, была ли у этих пациентов вообще сердечная недостаточность. Последующий анализ мочи пациентов из Северной Америки и Восточной Европы показал, что у многих пациентов из России и Грузии в ней отсутствовали следы лекарства – это значит, что либо они сами не принимали препарат, либо его им даже не назначали[203]. Почему это так важно? Да потому, что если рассматривать только пациентов из Северной Америки, то у них спиронолактон на самом деле снизил риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания, остановки сердца и госпитализации по причине сердечной недостаточности на 18 % по сравнению с пациентами, которые получали плацебо.
Трагедия с TOPCAT, из-за которой мир не смог по достоинству оценить, возможно, единственное стоящее лекарство от сердечной недостаточности при сохраненной фракции выброса, была предвестником грядущих бед. Клинические исследования в США непрерывно дорожают. В связи с этим многие из них проводятся либо полностью за границами США, либо с преобладанием испытуемых из других стран. За это приходится платить качеством. Устраивать эксперименты в других местах, таких как Южная Америка или Восточная Европа, проще, потому что дешевле, – но качество проведения исследований там ниже, чем в богатых странах. А это имеет серьезные последствия – в особенности для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, многие исследования проводятся коммерческими организациями, которые могут быть заинтересованы в доходах больше, чем в науке.
Но если проблема TOPCAT была обусловлена отсутствием того, что называют положительным результатом, то проблема других исследований, которая тоже сбивает науку с верного пути, – избыток положительных результатов[204].
Одна из главных целей любого исследования – выяснить, возник ли полученный результат случайно или нет. Предположим, я планирую проведение исследования, которое должно показать, как соотносятся между собой привычка пить по утрам кофе в кафе и вероятность попасть под колеса мусоровоза, – при этом я исходил из того, что исходный риск попасть под эту тяжелую машину одинаков что утром, что вечером. Затем я проследил судьбу 200 человек, которые покупали кофе в кафе в 7:00. Допустим, я обнаружил, что десять из этих 200 человек попали под мусоровоз. Дальше, для сравнения, я отследил двести человек, которые пили кофе в 19:00, и выяснил, что из них только двое оказались под колесами. Это значит, что из утренних посетителей кафе сбитыми оказались 5 %, а из вечерних – 1 %. С помощью достаточно простых вычислений можно показать, что существует лишь 4 %-ная вероятность того, что эта разница возникла случайно, если в действительности исходно (без кофе) разницы между утренним и вечерним рисками нет. В статистике принято считать, что если эта вероятность меньше 5 % – то есть если Р-значение составляет 0,05 и меньше, – то разница считается «статистически значимой».
Р-значение ничего не говорит нам о реальных отношениях между двумя событиями. Оно не сообщает нам ничего о том, почему утренние посетители кофеен попадают под колеса и как это происходит. Оно не показывает, есть ли какая-то связь между кофе и риском быть сбитым, и не свидетельствует о том, что риск возрастает именно ранним утром. Может, все дело в том районе, где находится кафе, или просто в злонамеренности водителя мусоровоза? Р-значение даже не указывает на то, насколько у любителей кофе больше вероятности оказаться под колесами утром, чем вечером. Оно говорит нам только о том, в какой мере полученный результат может быть совершенной случайностью в ситуации, когда на самом деле разницы никакой нет. Теперь представим такой расклад: что в 7:00 вечера было сбито не два, а три человека и риск тем самым составил 1,5 %. Тогда получается, что Р-значение уже 0,087 – это выше сакраментального 0,05, а значит, обнаруженная разница не считается статистически значимой. Один из способов повысить вероятность статистически значимых результатов – увеличить число параметров или участников эксперимента. Скажем, теперь я отследил 400 человек утром и 400 вечером, а риск быть сбитым остался прежним (5 % против 1,5 %) – тогда Р-значение у меня оказалось 0,008.
Почему это так важно? Помните тот революционный эксперимент по первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 1970-х гг., который показал, что снижение уровня холестерина может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний?[205] Так вот, его Р-значение еле-еле втиснулось под эту планку в 0,05. Кроме того, исследователи применили еще одну статистическую уловку: они провели односторонний t-тест вместо принятого двустороннего теста, тем самым уменьшив число степеней свободы и сократив Р-значение до минимально возможного. При этом оно все равно оказалось так близко к 0,05, что авторы эксперимента даже не стали указывать его в результатах – просто написали, что оно меньше, чем 0,05.
Если бы Р-значение в том исследовании оказалось 0,05 и больше, это бы отбросило кардиологию назад почти на десять лет. Сейчас мы знаем, что связь между уровнем холестерина ЛПНП и сердечно-сосудистыми заболеваниями абсолютно достоверна – это показали десятки исследований и множество собранных с тех пор данных, но, чтобы снизить для них Р-значение так, чтобы их признали значимыми, потребовались некоторые статистические ухищрения.
Однако Р-значение постепенно обрело в сфере медицинских исследований такой колоссальный вес, что в последние несколько десятилетий мы наблюдаем просто-таки эпидемию статистической значимости. И эта тенденция ведет к переоценке результатов кардиологических исследований чаще, чем какие-либо мошеннические или недобросовестные действия.
Именно из-за Р-значения многие ученые решили, а многие миллионы других людей поверили, что статины вызывают деменцию. Из-за него же многие подумали, будто статины снижают риск развития рака. Последующие опыты показали, что статины не делают ни того, ни другого – авторы тех нашумевших исследований позволили себе прийти к таким выводам по одной-единственной причине: когда они проводили свои наблюдения, Р-значение для упомянутых соотношений оказалось меньше, чем 0,05. Но результаты исследования хороши лишь настолько, насколько хорошо проведено это самое исследование. И ученые, университеты, журналы и журналисты, которые поднимают шумиху вокруг пустых новостей, – вот виновники тех неоднозначных сообщений, которые поступают сейчас от научного сообщества и, в частности, дезинформируют людей, сообщая нелепые сенсации о сердечно-сосудистых заболеваниях[206].
Никто не любит Р-значение так, как редакторы журналов, а любят они его потому, что его любят читатели. И авторам, в том числе и мне, приходится соответствовать. Если вы, как исследователь, не снабдите свой текст Р-значениями, редактор, скорее всего, попросит вас их указать. А если ваше исследование не дало особых статистически значимых различий, оно, скорее всего, вообще никогда не увидит свет, потому что вам будет трудно найти журнал, который согласится его опубликовать. Каждый раз, когда я пишу статью и анализирую свои результаты, я тайно молюсь, чтобы там были нужные Р-значения, поскольку знаю, что зачастую именно они решают, напечатают ли статью или она полетит в мусорную корзину. Р-значение, в сущности, стало мерилом истинности в науке. Однако это огромное заблуждение.
Р-значение не раз заводило нас в тупик – в первую очередь потому, что за счет него можно попытаться «срезать» дорогу к общественному признанию ваших результатов. Но, честно говоря, я скорее поверю результатам рандомизированного контролируемого клинического исследования с Р-значением 0,06, чем результатам обсервационного исследования с Р-значением <0,0001. Если вы стремитесь отыскать истину и не приемлете случайности, Р-значение может послужить вам лишь маленькой деталькой пазла, который вы пытаетесь сложить, – однако большинство воспринимают его совершенно иначе, и актуальные перемены в медицине и информационных технологиях грозят только усугубить это помешательство на Р-значениях.
У нас никогда не было столько данных обо всех аспектах нашей жизни, как сейчас. Более того, бесконечное множество цифр привело к возникновению так называемого синдрома обилия данных, но нехватки информации (DRIP – Data Rich, Information Poor). Я сам помогал проводить исследования, в которых участвовали порой сотни тысяч пациентов. Практически все отношения между двумя разными группами пациентов из этих баз данных могут оказаться статистически значимыми, но абсолютно бесполезными в реальной жизни. Почему? С такими огромными объемами данных, какими мы располагаем в наши дни, даже у самых маленьких различий может быть очень низкое Р-значение – несмотря на то, что реальная разница между двумя результатами крошечна и бессмысленна.
В последнее время дошло до того, что ряд ведущих статистиков мира порекомендовали снизить планку значимости с 0,05 до 0,005, тем самым в десять раз сократив для результатов шансы быть признанными «значимыми»[207]. Но, придавая еще больший вес Р-значению, мы не решаем его основную проблему: оно никак не объясняет нам, почему два разных пераметра связаны друг с другом и связаны ли они вообще.
Как и все прочее в нашей жизни, медицинская наука – это крысиные бега. А в кардиологии крысы еще более шустрые. Это самое привлекательное из всех медицинских направлений, которые специализируются на внутренних болезнях, и потому здесь за небездонный горшочек научных грантов борется множество невероятно талантливых людей. Чтобы получать гранты, нужно публиковать результаты своих исследований, а больше всего шансов на публикацию у тех исследований, которые будут сверкать и поигрывать своими Р-значениями, как профессиональный рестлер – намасленными мускулами. И если вы умная крыса, у которой есть шанс найти выход из этого лабиринта (чтобы попасть в другой лабиринт), вы сделаете все возможное, чтобы подчеркнуть статистическую значимость своего исследования. А поскольку многих ученых, особенно на ранних этапах их карьеры, поощряют за количество, а не за качество публикаций, то можно догадаться, почему медицинская литература полнится ложными данными.
Р-значения и культура массового производства научных исследований потрясли самые основы науки. Многие из громких исследований прошлого – особенно в области лабораторных и психологических исследований – не удается воспроизвести, сколько бы другие ученые ни пытались это сделать[208]. Даже если некоторые эксперименты удается повторить, полученный эффект оказывается менее впечатляющим, чем заявлялось изначально[209]. В кардиологии так случилось с использованием медикаментов для снижения риска поражения почек после катетеризации сердца, а также с исследованиями, которые показали, будто установка крошечного баллона в узкое место в коронарной артерии помогает пациентам со стабильной стенокардией больше, чем лекарства.
В истории человечества, пожалуй, не было времени, когда бы псевдонаука цвела таким пышным цветом, как сейчас, в эпоху #fakenews. Если вы читаете новости, вы наверняка в курсе, что самое вредное для сердца – смотреть спортивные трансляции, спать слишком много (или слишком мало) и, что, возможно, опаснее всего, иметь низкий уровень холестерина ЛПНП[210],[211],[212]. Эта информация часто просто не имеет отношения к науке: при первом появлении каких-либо симптомов люди обращаются не к врачу-специалисту, а к Google.
Мы живем в эпоху, когда удовольствие обязательно должно быть сиюминутным – иные формы мы не приемлем. Когда моей дочери было два года, она еще не умела говорить, но уже нажимала «Пропустить рекламу» перед видео на YouTube, как только эта надпись появлялась на экране. Раньше мы читали книги, потом перешли на статьи формата лонгрид – еще до того, как они стали известны как лонгрид, – затем на статьи поменьше, а теперь с трудом осиливаем твит в 280 знаков, борясь с желанием скроллить дальше.
Это, безусловно, плохо вяжется с наукой, поскольку она по природе своей итеративна. Практически любая научная статья заканчивается словами: «Требуются дополнительные исследования». Наука подобна туннелю, и каждый раз, когда нам чудится, что в конце его забрезжил свет, это лишь переход в следующий туннель, который поведет еще глубже. А когда нам кажется, что мы выбрались из туннеля, это, скорее всего, лишь оптическая иллюзия. Это как сидеть в поезде и думать, будто вы куда-то едете, хотя на деле мимо вас просто проезжают другие поезда, а ваш все так и стоит у платформы. Наука – путешествие без начала и конца, с одной лишь длинной, безграничной серединой.
Поступательный прогресс науки, порождающий новое знание, в корне противоречит той главной платформе, на которой новое знание распространяется и впоследствии потребляется, – интернету. Интернет – это вечно голодный зверь, которого нужно кормить, чтобы он, в свою очередь, удовлетворял наш аппетит брикетами обрывочной информации в виде постов, твитов, обновлений статуса, а также длинных или коротких статей.
Как бы сильно они это ни скрывали, большинство медиков и ученых тоже черпают информацию не из научных конференций и медицинских журналов, а, как и все остальные, из интернета. Почему бы тогда нам всем не обращаться к нему за помощью – особенно если учесть, как дорого может обойтись визит к врачу? Кроме того, есть основания полагать, что не столько The Times освещает самые влиятельные и часто цитируемые научные труды, сколько научные труды становятся влиятельными и часто цитируемыми потому, что их осветили в The Times[213].
Но в этом кроется подвох. По данным проведенных анализов, сайты и газеты больше склонны освещать обсервационные исследования невысокого качества, чем хорошо организованные рандомизированные контролируемые клинические испытания[214]. Более того, те исследования, которые получают самое широкое распространение, с наименьшей вероятностью могут быть воспроизведены или подтверждены[215]. При этом опровергающие их данные часто не получают такой же огласки, как изначальные ошибочные выводы[216]. Как так получается?
Обсервационные исследования гораздо чаще выявляют новые взаимосвязи, из которых можно сделать броские заголовки – как, например, было с тем заявлением, что статины якобы снижают риск развития рака (неправда). При этом, когда обсервационные исследования освещаются в СМИ, ограниченность этих исследований упоминается крайне редко[217]. А публикуемые после этого метаанализы – труды, которые обобщают результаты всех исследований, проведенных в этой сфере, и могли бы поставить те первые, захватывающие выводы под сомнение, – уже не будут так заманчивы для СМИ. Хотя на самом деле есть сведения о том, что результаты по меньшей мере половины научных исследований, о которых пишут в газетах, не находят дальнейшего подтверждения[218].
Пресс-релизы университетов и лабораторий часто преувеличивают сделанные открытия, и некоторые ученые охотно следуют этому примеру, а журналисты то и дело попадаются на удочку таких многообещающих новостей[219]. Многим журналистам не хватает технических знаний в сфере, о которой они пишут, поэтому им часто приходится доверять мнению экспертов. Однако нет никаких гарантий того, что эти эксперты будут справедливы в своих оценках, учитывая масштаб конфликта интересов в медицине. Компании – производители лекарств и медицинского оборудования платят миллионы долларов экспертам, с помощью которых склоняют мнения в свою сторону. «Я очень огорчаюсь, когда они [журналисты] цитируют людей, замешанных в конфликтах, – сказала Рита Редберг, редактор The Journal of the American Medical Association: Internal Medicine и борец с финансовыми конфликтами интересов в медицине, в ходе моего недавнего интервью с ней. – Порой им [журналистам] просто морочат голову».
Исследователи, писавшие раньше сухим и скучным языком, стали все чаще пользоваться разудалой лексикой, словно позаимствованной у знаменитого Дона Кинга, промоутера и организатора боксерских поединков. Как написал один журналист из Vox: «Мы, репортеры, падки на все новое и любопытное. Но науке на поиск истины нужно время»[220]. И потому неудивительно, что об исследовании, показавшем, что люди, которые стараются избегать стрессовых ситуаций, чаще впадают в депрессию, трубили во всех СМИ, а десяток других исследований, опровергающих эту взаимосвязь, бесславно канули в небытие[221].
Мы живем во времена, когда реальность имитирует реалити-шоу. Политика давно заигрывает с аппетитами жадной до чужих откровений аудитории, закормленной смачными телесюжетами и видео со смешными младенцами, котиками и собачками на YouTube, – наука может оказаться следующей. И от ученых, и от журналистов требуют, чтобы они постоянно генерировали что-то новое, и во многих случаях они успешно справляются с этой задачей, но порой они устраивают бардак, разгребать который будет уже некому, потому что все давно переключились на другой потенциально вирусный проект.
Что же тогда делать бедному человеку, который просто хочет жить долгой, здоровой жизнью, правильно заботиться о себе и своих близких и, в отличие от своего дяди, не загнуться вдруг от сердечного приступа? Где искать истину? И куда идет наука, которая стоит за современной кардиологией? Хотя сама эта наука цела и невредима, в ее основании пошли трещины, и они ползут наверх. Если мы их не заделаем, дамба, которая ограждает нас от Моря Заблуждений и Ложных Надежд, может разлететься на куски.
В отличие от некоторых других аспектов человеческой истории, прогресс в биомедицинской науке кардинально изменил само человеческое существование – что особенно заметно по нашим достижениям в борьбе с болезнями сердца. Живой свидетель этих изменений – Юджин Браунвальд из Гарвардской медицинской школы, который родился в 1929 г., а сейчас занимается исследованиями активнее, чем когда-либо прежде. «Успехи в кардиологии и кардиохирургии превзошли все ожидания, – сказал он мне. – Это просто чудо». Всего лишь с середины XX в. число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний сократилось почти в пять раз. И хотя впереди еще много работы, потому что болезни сердца по-прежнему убивают больше людей, чем какие-либо другие, важно вместе с тем осознавать, сколького мы уже добились. Будучи в авангарде кардиологии уже десятки лет, Браунвальд именно теперь, как никогда, вдохновлен исследовательской работой.
«Наблюдая больного с гипертонией или слушая дискуссии о тех или иных стандартах обследования и лечения, я мысленно возвращаюсь на 20 или 40 лет назад, – говорит он. – Я вижу огромный исторический скачок… Мне очень повезло, потому что этим мало кто может похвастаться».
Однако же в трюмах этого корабля что-то давно не так. Одно из главных исправлений, которые нужно сделать науке, – добиться того, чтобы эксперименты стало легче воспроизвести. Многие лабораторные исследования невозможно повторить не из-за чьего-то злого умысла. Чтобы лучше понять эту проблему, можно, например, вспомнить о мытарствах Уолтера Уайта, антигероя телесериала «Во все тяжкие» – учителя химии, который стал наркобароном, сумев провести самый прибыльный эксперимент в вымышленном мире производства метамфетамина. Хотя были те, кто знал его рецепт, никому не удавалось добиться того голубого оттенка, которым славился его продукт. Почему?
Ну, во-первых, никто не знал, что именно Уолтер Уайт делал. И хотя в научно-исследовательских работах присутствуют подробные описания методов, в них уж очень часто бывают пропущены какие-то шаги, а какие-то кажутся авторам слишком элементарными и вовсе не документируются. Во-вторых, Уолтер Уайт не хотел, чтобы другие узнали его особый рецепт, поэтому нарочно скрывал ото всех эту информацию. Исследователям тоже знакомы эти опасения: они ревностно ограничивают доступ к своим данным, особенно по клиническим опытам, потому что боятся либо того, что кто-то другой их проанализирует и придет к выводам, которые будут противоречить прежним наработкам, либо того, что им не хватит статистической подготовки для корректного анализа данных и они сделают неверные заключения. Редактор The New England Journal of Medicine даже как-то назвал людей, которые используют ранее собранные другими данные, информационными паразитами. Этот комментарий вызвал такую волну возмущения, что одна научная группа учредила ежегодную премию под названием Research Parasite Awards («Премия ученым-паразитам») для ученых, которые сумели сделать новые открытия на основании чужих данных.
Кроме того, между биомедицинскими исследованиями и исследованиями в области химии и других фундаментальных наук есть принципиальное различие. Самая главная причина, по которой в медицинской науке так остро стоит проблема воспроизведения экспериментов, – неизбежная вариабельность биологического материала. «Никакие две популяции клеток, как бы добросовестно вы их ни охарактеризовали в культуре, используя самые надежные маркеры, не будут абсолютно идентичными, – сказал Джозеф Лоскальцо, профессор кардиологии Гарвардской медицинской школы, в нашей с ним беседе. – Нужно различать воспроизведение и дублирование». Если дублирование предполагает, что результаты эксперимента будут повторены точь-в-точь, то при воспроизведении эксперимент позволяет сделать те же общие выводы и отметить те же тенденции, несмотря на то что его данные, возможно, не полностью совпали бы с данными другого эксперимента. Медицинские исследования неизбежно дают лишь схожие варианты результатов, поскольку их предметом являются самые изменчивые биологические организмы – люди.
Возьмем, к примеру, широкое многообразие побочных эффектов, которые дают даже такие распространенные лекарства, как статины или бета-адреноблокаторы, – каждый раз, когда человек принимает такой препарат, начинается своего рода научный опыт, в котором лекарство – это реагент, а пациент – субстрат. Но если ученые делают громкие заявления и не очерчивают ограничения, присущие использованному методу исследования, то это в итоге лишь вредит науке. «Когда мы преувеличиваем явление и неверно истолковываем факты, мы вызываем все меньше и меньше доверия у политиков и общества», – добавил Лоскальцо.
Итак, сейчас, когда мы пытаемся понять, как нам впредь быть с наукой и как добиться, чтобы ученые не выглядели дураками, когда результаты их нашумевшего исследования окажутся не такими уж однозначными, все мы, врачи, исследователи, журналисты и обычные люди, должны помнить одно: в медицинской науке давно нет панацеи. Нет такого научного труда, который бы диктовал нам верное понимание какого-либо аспекта нашей деятельности. Если мы будем делать выводы из всего лишь одного исследования, каким бы крошечным ни были его Р-значения и насколько биологически обоснованной ни казалась нам наша идея, то мы легко пойдем по ложному пути – нужно смотреть на вещи шире. «Революционных трудов мало, и появляются они крайне редко, – сказал как-то Говард Баучнер, главный редактор The Journal of the American Medical Association. – В реальности положение дел меняет лишь совокупный объем данных».
С болезнями сердца ситуация несколько иная, чем с прочими. Если в случае других заболеваний, таких как деменция при болезни Альцгеймера, аутизм или некоторые формы метастатического рака, поиск революционных методов лечения еще только в самом разгаре, то для сердечно-сосудистых заболеваний уже существует немало таких методов. «Когда я начинал, никакого лечения артериальной гипертонии еще не было», – говорит Юджин Браунвальд. Но за годы его профессиональной жизни все кардинально изменилось: «Теперь у нас целое семейство препаратов и… они стоят гроши».
Однако многие из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний делают свое черное дело тихо и незаметно. Такие факторы, как высокое артериальное давление, сахарный диабет и повышенный уровень холестерина, не имеют никаких симптомов и могут скрытно течь годами, если не десятилетиями, а потом вдруг нанести потенциально смертельный удар – например, спровоцировать инфаркт миокарда. Однако хотя методы лечения инфаркта и стали лучше, они не совершенны. «В прошлом пациенты могли умереть от острого инфаркта миокарда или инсульта, – сказал Браунвальд. – Теперь они это переживают, но это не значит, что их сердца остаются нормальными». На самом деле при нынешней медицине пациенты остаются после инфаркта в живых, но с сердечной недостаточностью. Поэтому лучшее лечение сердечно-сосудистых заболеваний – это их предотвращение.
Но здесь возникает самая большая трудность: нужно убедить пациентов доверять своим врачам. Когда ко мне приходят прекрасно себя чувствующие люди, не предъявляющие никаких жалоб, но с плохими результатами анализов и, возможно, с повышенным артериальным давлением, мне приходится убеждать их не только в том, что, несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, это плохо, но и порой в том, что если изменение образа жизни им не поможет, то им придется ежедневно принимать таблетки, у которых могут быть побочные эффекты, причем делать это в течение всей жизни. В общем, они должны верить, что я действую исключительно в их интересах. Но чем дальше, тем более шаткой становится эта вера. Наука должна была бы давно смести с лица земли всех знахарей, гомеопатов и шарлатанов, обладающих эликсиром вечной жизни и ответами на вопросы, к которым аллопатическая медицина боится даже подступаться. По результатам недавнего опроса, американцы оказались 24-ми из жителей 29 развитых стран по степени доверия врачам[222]. Кто виноват и в чем причина того, что между врачами и пациентами разверзлась такая пропасть, особенно в Америке?
В книге «Тень Гиппократа: Тайны медицины» (Hippocrates’ Shadow: Secrets from the House of Medicine) Дэвид Ньюман, врач отделения скорой помощи из Нью-Йорка, дал свое объяснение нынешнему недоверию пациентов к врачам, отметив, что лучше нам всем было бы вернуть те времена, когда врачи полностью посвящали себя больным, а не тратили время на выдачу направлений и выписывание назначений[223]. В своем интервью он пояснил свою идею так: «Концепция тени также связана с тем множеством тайн, осознанных и неосознанных, которые мы используем для психологической адаптации больного, а зачастую и для его утешения»[224]. Аннотация, написанная одним известным медиком, гласит, что эта книга могла бы «помочь нам вернуться к тому, чем должен заниматься хороший врач: быть с пациентом на всех стадиях его излечения».
И вот однажды, спустя несколько лет после выхода книги, к Ньюману поступила женщина чуть старше двадцати с несложной травмой плеча[225]. Медсестра дала ей в качестве обезболивающего морфин, но Ньюману его седативного эффекта показалось мало, и он дополнительно ввел пациентке мощный анестетик – пропофол. Она потеряла сознание, а очнувшись, почувствовала жжение на лице и обнаружила, что Ньюман тискает ее грудь. Он мастурбировал и в итоге эякулировал ей на лицо. Позже выяснилось, что пациентки и раньше жаловались на сексуальные домогательства со стороны Ньюмана, который, как они утверждали, тискал их грудь под видом совершенно ненужных обследований, когда они обращались к нему с головной болью или простудой, но тогда никакие меры предприняты не были[226]. Одна из жертв рассказала, что раньше учила свою дочь, чтобы та доверяла свое тело лишь матери и врачу. «Что мне теперь ей говорить?» – сказала она, когда Ньюман признал себя виновным и получил лишь два года тюрьмы за свои многочисленные преступления[227].
История о враче, который ратовал за доверие пациентов, а оказался сексуальным хищником, – это, конечно, пример крайне жестокой иронии жизни, но, хотя Ньюман, безусловно, никоим образом не олицетворяет собой всех представителей нашей профессии, из всего этого следует один очень важный вывод. Врачи, и я в том числе, – люди, и у нас есть те же пороки, слабости и недостатки, что и у всех. И хотя большинство врачей добрые, щедрые, скромные и сочувственные, кто-то может порой оказаться невнимательным, эгоистичным и ленивым. А кто-то и вовсе насильником или убийцей.
Однако большинство врачей – подавляющее большинство – хорошие люди, которые пришли в профессию, требующую более десяти лет обучения, потому что хотели делать полезную работу. Причем те из них, кто идет в науку, преподает или занимается исследованиями, соглашаются на доход в два или три раза меньший, чем заработки в частных клиниках. И со временем, даже если они прежде вели себя несколько самоуверенно и заносчиво, они так или иначе спускаются с небес на землю и осознают свое место среди простых смертных.
Но, поставив во главу угла одни лишь чудесные достижения современной аллопатической медицины, как это делают многие клиницисты, можно упустить из виду важнейший – человеческий – аспект врачебной работы. Терапевтический эффект любого назначенного лечения во многом зависит не от того, что там в таблетке и как работают установленные в сердце стенты, а от того, как врач слушает пациента, как осматривает, как взаимодействует с ним на личном уровне, как реагирует на его симптомы, развеивает его страхи, убеждает его, что он в надежных руках и что никакие его опасения не останутся без внимания.
Во всем, что касается выстраивания отношений с пациентами и оттачивания мастерства нефармакологического лечения, врачи сильно отстали от тех, кого принято обзывать мошенниками: гомеопатов, иглотерапевтов, целителей, – тех, кому особо нечего предложить в плане лекарств с научно доказанным действием, но кто преуспел в искусстве, как его пренебрежительно называют многие представители моей профессии, «разводить сюси-пуси». Но на самом деле именно эти «сюси-пуси» между врачом и пациентом являются древнейшей традицией медицины, которая связывает нынешних студентов-медиков с самыми первыми врачевателями в истории.
Причина, по которой мы не проводим исследований одних из самых основных аспектов отношений между врачом и пациентом – как лучше успокоить пациента с болью в груди, если она, скорее всего, не представляет угрозы для жизни, насколько продолжительность зрительного контакта между врачом и пациентом влияет на степень доверия пациента, помогают или мешают белые халаты устанавливать отношения с больными, – заключается в том, что нет ни одной крупной корпорации, чьи акционеры были бы материально заинтересованы в такой работе.
Задача завоевать доверие наших пациентов, пожалуй, становится особенно важной, когда дело касается здоровья их сердец. Даже если ученые больше не напишут о сердечно-сосудистых заболеваниях ни одного нового труда, у нас уже есть все средства для того, чтобы сократить их распространенность в несколько раз – это не те болезни, для которых нам до сих пор нужны революционные решения, в отличие, например, от рака – но все упирается в информационную войну. Чтобы выиграть бой за людские сердца, врачи должны сначала выиграть бой за их сознание.
И как раз здесь наш скромный знахарь может предложить нам руку помощи, и мы сможем вместе разобраться, в чем же наша проблема и как нам с ней быть.
Растущее недоверие к науке становится все более агрессивным, и мне не нужно включать телевизор, чтобы знать об этом медленном, но верном процессе. Еще до того, как народ ополчился на статины, он нападал на нечто гораздо более эффективное – на вакцины. Я лично наблюдал этот иррациональный страх перед вакцинами, когда лечил в Атланте девочку с корью, которая еще и невольно заразила целый самолет, потому что ее родители в свое время отказались прививать дочь от кори. Я не раз встречал пациентов, которые не хотят даже пробовать статины, потому что наслушались всяких страшилок. Я также сталкивался с теми, кто не бросает курить, потому что знает многих курильщиков, у которых никогда не болело сердце.
Ирония недоверия к медицине в том, что это недоверие прямо пропорционально эффективности, с которой оказавшееся под подозрением средство предотвращает болезнь. Как так? До появления вакцин люди знали о том, что такое полиомиелит, не из учебников истории: эта болезнь поражала кого угодно, от детей, которые задыхались в битком набитых палатах от паралича дыхательных мышц, до таких людей, как Франклин Рузвельт, которого болезнь настигла в возрасте 39 лет и оставила парализованным от пояса и ниже. А потом появилась вакцина от полиомиелита, и везде, кроме таких разоренных войнами стран, как Пакистан и Афганистан, полиомиелит пополнил ряды таких болезней, как оспа, корь, коклюш и краснуха, – болезней, которые вакцинация пресекает на корню. Однако по мере того, как живые доказательства необходимости этих вакцин исчезают с лица земли, растет число противников вакцинации, поскольку люди забывают о недугах, которые она смогла почти полностью искоренить, и о причинах, по которым нам нужно прививаться[228]. В поведенческой экономике это называется «эвристика доступности» – согласно ей, мы больше склонны верить в вероятность событий, примеры которых легко приходят нам на ум. И поскольку мы гораздо чаще видим то, как детям делают прививки, чем то, как дети болеют полиомиелитом, нам проще вообразить себе какие-то неприятные ситуации, связанные с вакцинацией, чем ужасы болезней, которые она предотвращает. Врачи тоже не застрахованы от эвристики доступности: медики, которые относительно недавно окончили университеты, относятся к вакцинам менее одобрительно, чем их старшие коллеги, хотя вакцины за последние годы стали и безопаснее, и эффективнее[229].
Хотя статины защищают нас от заболеваний сердца не так эффективно, как вакцины – от инфекций, но вкупе с диетой и физическими упражнениями они по сей день остаются лучшим средством для их предотвращения. Однако повсеместное использование статинов помимо уменьшения числа фатальных сердечных приступов у молодых людей вызвало эпидемию недоверия к этим препаратам – и немалую роль в этом сыграл тот факт, что необходимость регулярно принимать статины мы более чем замечаем, а инфаркты и инсульты, которые они предотвратили, естественно, никак себя не обнаруживают.
В век интернета у тех, кто скептически относится к современной медицине, есть ряд очевидных преимуществ. Им не нужно проводить исследования, им не нужно уточнять детали, они могут говорить все, что захотят, и делать сколь угодно громкие заявления. Многие из тех, кто клюет на подобные альтернативные предложения, – это и так здоровые люди, которые стараются поддерживать свое здоровье на том же уровне и боятся себе навредить. При этом в одном исследовании раковых больных, которые обращались к альтернативной медицине, было показано, что в начале лечения они были в лучшем состоянии, чем те, кто не использовал альтернативные методы, но умирали они, как правило, раньше[230].
Однако в нашем нынешнем мире вместо того, чтобы убеждать людей изменить свое мнение, факты и информация дают так называемый «эффект бумеранга»[231]. Исследователи обнаружили, что, когда людям представляют факты, противоречащие их убеждениям, они начинают лишь сильнее отстаивать свои изначальные позиции. Когда родителям – противникам вакцинации представляют объективные данные, указывающие на то, что ее связь с аутизмом никак не подтверждена, они начинают еще больше от нее отпираться[232]. И хотя о том, насколько глубоко эффект бумеранга укоренен в человеческой психике, пока что ведутся споры, он ставит нас перед важным вопросом: как убедить людей принять факты?
Столкнувшись с несогласием или недоверием, врачи зачастую обращаются к своему, как им кажется, главному оружию – знанию. Не зря же они потратили столько лет, чтобы его обрести. Однако толку от этого, как правило, меньше, чем им бы хотелось. Уже давно известно, что люди вовсе не рациональные создания: мы гораздо чаще принимаем решения, так сказать, сердцем, а не головой. За подтверждением не надо далеко ходить: когда нам нужно, к примеру, убедить людей изменить свой образ жизни или начать принимать лекарства для профилактики, мы зачастую говорим с ними о фактах, забывая о том, что в действительности трезвые, безэмоциональные поступки мало кому по силам. Специалисты по вакцинациям обнаружили, что принципы чистоты и свободы – это главные мотивы, из-за которых родители отказываются от иммунизации своего ребенка, и что поговорить об их опасениях было бы, вероятно, более эффективно, чем прибегать к традиционным методам воздействия, которые делают упор на медицинское просвещение и на побуждение к альтруизму[233].
Поскольку современная медицина вращается вокруг анализов, процедур и препаратов, сама болезнь, которую мы лечим или пытаемся предотвратить, за всем этим как будто бы теряется. Предоставлять пациентам доказательства и информацию крайне важно, но общение не должно сводиться только к этому – нельзя забывать о том эмоциональном воздействии, которое оказывают на людей сердечно-сосудистые заболевания.
Современные требования подразумевают, что, проведя исследование и опубликовав его результаты в одном из ведущих журналов, ученый должен незамедлительно получать новый грант на следующее исследование и публиковать его результаты в другом журнале, а не дожидаться, пока предыдущие выводы получат распространение и станут применяться на практике. Что же касается врачей, то наша работа, как правило, сводится к тому, чтобы давать рекомендации и выписывать назначения, но не следить за их выполнением. Недостатки такого подхода ощущаются все сильнее: больше и больше исследований остаются непрочитанными и неиспользованными, больше и больше назначений остаются невыполненными. Мы отлично справляемся с изготовлением колбасы, но не можем поручиться за то, что люди, которым она нужна, реально ее съедят. Процесс изготовления колбасы, бесспорно, непригляден и, бесспорно, несовершенен – но именно эта наша (метафорическая) колбаса привела нас к тому беспрецедентному снижению сердечно-сосудистой заболеваемости, которое мы имеем сейчас.
В науке о сердце не хватает важного звена – историй о тех, чьи жизни были навсегда исковерканы атеросклерозом. Рассказывание историй, повествование, самое человечное из искусств, – это мост, который соединяет ученых и врачей с теми, кому они стремятся помочь. Мы должны научиться рассказывать истории, свидетелями которых мы стали, нашим пациентам, которые, как мы надеемся, не должны будут пережить нечто подобное сами. Мы должны впускать наших пациентов в мир врачей и исследователей так же свободно, как они должны, по нашему представлению, впускать нас в свой.
Глава 6
Сердечная страсть
Жизнь не разобьет тебе сердце. Она его раздавит.
ГЕНРИ РОЛЛИНЗ
Когда это началось, он смотрел телевизор. Боли, по его словам, не было, было лишь чувство давления.
Казалось, что он не может сделать вдох – будто кто-то сидит у него на груди. «Слон? Скорее, животное поменьше… Собака? Наверное, большая собака. Да, похоже на то. Но с чего это большая собака уселась мне на грудь?»
Он замер и продолжил смотреть телевизор. Такие штуки обычно быстро проходят. Но лучше не становилось. Никогда в жизни он не чувствовал себя больным. Давление было высоковато, когда он последний раз – несколько лет назад – ходил к врачу, и ему тогда назначили небольшую дозу гипотензивного лекарства. Уровень холестерина у него тогда был чуть выше нормы.
Он никогда не оказывался в отделении неотложной помощи, никогда не лежал в больнице. Давление в груди усилилось и переместилось куда-то в спину. По профессии он был инженер, но после выхода на пенсию практически ничем не занимался.
В конце концов, почти два часа спустя, он сломался. Он сам доехал до больницы и сказал медсестре за стойкой, что у него на груди как будто сидит большая собака.
В отделение неотложной помощи поступает всего два типа людей: с болью в груди и без. Каждый год в больницы приезжают более 8 миллионов людей с жалобой на боль в груди. После боли в животе это вторая по распространенности причина, которая может заставить людей бросить все дела и против воли, испытывая страх, ехать в больницу. У подавляющего большинства не обнаруживается серьезных поводов для беспокойства. Но некоторым эта боль грозит смертью в считаные минуты.
Когда я увидел его, он не выглядел человеком, находящимся в тяжелом состоянии. То, как он описывал свою боль, – давление, поправлял он всех – было словно взято прямиком из медицинского учебника. Однако пульс и давление у него были в полнейшем порядке. Я добросовестно раскрутил свой стетоскоп и приложил головку к его груди. Прошелся по грудине влево, послушал ровно под соском, затем прижал головку сильнее к грудной мышце. «Бу-туп, бу-туп», – ровно стучало сердце. Я был озадачен. Я не услышал ничего, что напоминало бы звук ветра, дующего сквозь ветви голых елей, – тот звук, которым сопровождается турбулентный ток крови через пораженные клапаны сердца.
Тогда я решил обратиться к самому надежному источнику информации, который бы помог мне со всем разобраться. Я отправил пациента на электрокардиограмму. Однако в океане ценнейшей информации, который помещается на одном листочке бумаги, не оказалось ни единой подозрительной волны, ни одного патологического зубца. Анализ крови на особые соединения под названием тропонины, повышенное содержание которых обычно свидетельствует о процессе разрушения в сердце, тоже не показал никаких отклонений от нормы. Тропонины – это белки, которые содержатся в сердечной мышце и могут поступать в кровоток, если эта мышца начнет погибать от недостатка кислорода. Есть и другие анализы крови, которые помогают выявить проблемы с сердцем, но анализ на тропонины – самый точный.
Я попросил дать ему нитроглицерин – препарат, который улучшает коронарный кровоток, а значит, и снабжение миокарда кислородом. Боль, вызванная сужением просвета коронарных артерий, под действием нитроглицерина, как правило, уходит – но моему пациенту это не помогло.
Пока жизнь проносилась у него перед глазами, у меня перед глазами проносились десять лет моей медицинской практики. Мне нужно было немедленно проверить еще несколько возможных диагнозов, которые умеют маскироваться под инфаркт миокарда: угрожающий разрыв аорты, пневмоторакс и тромбоэмболия легочной артерии. Для всех этих заболеваний мой пациент был словно кегля для тяжеленного, несущегося с грохотом шара для боулинга – они могли свалить его в мановение ока. Больше всего я боялся, что это может быть расслаивающая аневризма аорты – состояние, при котором стенка аорты расслаивается и этот разрыв ползет вдоль сосуда, грозя в любой момент вскрыться и привести к смертельному кровотечению. Единственный способ лечения в таком случае – экстренное хирургическое вмешательство.
Вместе с другими врачами отделения мы решили срочно сделать компьютерную томографию, которая, к счастью, не подтвердила расслоение аорты. Но пациенту по-прежнему было плохо. Он покрылся холодным потом, а потом его вырвало. И тут нам позвонил рентгенолог. Он сказал, что обнаружил на КТ нечто такое, что ни он сам, ни кто-либо из его коллег никогда не видели раньше. Позже мы узнали, что такое на снимке КТ вообще еще никто никогда не видел. Казалось бы, при том, что в одних только США в больницы ежегодно поступает 8 миллионов человек с болью в груди, мы уже должны были бы все повидать. Но нет. Снимок КТ показал, что в один участок сердца нашего пациента не поступает кровь, что подтверждало наше первое подозрение – на инфаркт миокарда[234].
Инфаркт миокарда (сердечный приступ) – классическое заболевание сердца. В общем-то, когда люди говорят о заболеваниях сердца, они, как правило, и имеют в виду сердечный приступ. Но сердечные приступы, или, пользуясь врачебной лексикой, «острые инфаркты миокарда», или просто «инфаркты миокарда», со временем тоже меняются. Сейчас мы определяем, что считать инфарктом, не так, как определяли 10 или 20 лет назад. И методы диагностики и лечения инфарктов тоже постоянно меняются.
Нам всем приходилось терпеть головные боли или боли в суставах, но нет, пожалуй, ничего опаснее, чем боль в груди. В чем природа этой боли, что может ее вызвать, на какие тревожные признаки стоит обратить внимание и как понять, настолько ли это серьезно, что нужно немедленно вызывать скорую? Это важно, поскольку, притом что в больницы – и нередко сразу в отделения неотложной помощи – все чаще и чаще поступают люди с болью в груди, параллельно идет и другой процесс: все у меньшего числа людей с болью в груди действительно выявляется инфаркт миокарда, и это несмотря на то, что современное определение инфаркта было существенно расширено.
Что такое боль: ощущение или эмоция?
Для древних греков она не была ни тем, ни другим. Они считали, что боль – это страсть. То, что мы называем болью в груди, именовалось «passio cardiac proper», притом слова passio («страсть») и poena («боль») имели общий индоевропейский корень[235]. И это было логично – ведь сердце, безусловно, являлось источником всех эмоций.
Во многих религиозных культурах боль всегда была исполнена смысла, ведь за каждую крупицу боли в этой жизни, как обещают верующим, им воздастся радостью и ликованием в следующей. Только так можно было оправдать несправедливость мира: нищий и притесняемый люд верил в другой мир, где все в одночасье переменится, и те, кто страдал, будут счастливы, а те, кто причинял страдания, испытают их на себе. А сердце было не просто органом, а самой сутью человека – полем боя, где велась вселенская война между добром и злом.
Однако со временем подверженность боли во всем ее разнообразии стала растущей характерной чертой современного общества. Более того, в XIX в. ее стали повсеместно считать платой за прогресс и цивилизацию. В 1892 г. американский невролог Сайлас Уэйр Митчелл придал этим идеям особенно вульгарный расистский оттенок: «Дикарь не ощущает боль так, как мы, – и, двигаясь по шкале жизни дальше вниз, мы наблюдаем, что и животные, по-видимому, не имеют той остроты восприятия боли, к которой пришли мы»[236]. Он был далеко не одинок: немецкие философы Шопенгауэр и Ницше оба соглашались с тем, что чувствительность к боли напрямую связана с разумностью и уровнем «цивилизованности»[237]. Эти заявления были сделаны еще до того, как было синтезировано первое серьезное обезболивающее – аспирин.
Отчасти стремление победить боль возникло из-за тех перемен, которые претерпели наши с ней отношения. Боль всегда являлась самым очевидным проявлением множества болезней и недугов, которые тайно зрели внутри, – но не считалась ни ощущением, ни чувством. Она была божественной карой, возмездием, которое с яростью и гневом обрушивали на людей небеса. Боль нельзя было подавлять – ее нужно было испытать в полной мере. Боль была в компетенции праведников, а не врачей. Считалось, что где боль, там грех – а грех не может остаться без наказания. Боль была необходима, потому что претерпевшие ее могли надеяться на избавление от своих пороков. Клайв Стейплз Льюис написал: «…Все великие религии впервые проповедовались и долгое время существовали в мире, в котором не было хлороформа».
И лишь с приходом Возрождения, а за ним секуляризма поднялась волна перемен в отношении к немощи – и в первую очередь к боли. В эпоху Возрождения медицинская наука первое время существовала как продолжение религии: изучение болезней считалось формой прославления божественного, способом покорить природу и разгадать загадки вселенной. Однако постепенно она полностью обособилась и ее главной целью стала она сама. Человек, по словам Фрэнсиса Бэкона, стал архитектором своей судьбы и взял на себя и контроль над своей жизнью, и ответственность за нее.
И хотя стремление променять боль и страдания на полностью безболезненное существование возникло раньше, чем появилась анестезия и стали доступными обезболивающие, оно нашло в этих двух средствах идеальное воплощение. Долгое время прорывы в области общего обезболивания игнорировались, но в 1846 г., после публичной демонстрации стоматолога Уильяма Мортона в учреждении, позже ставшем Массачусетской больницей общего профиля, он наконец получил признание. Весть об этом открытии облетела, как эфир, всю Европу – чего никак не могло случиться с предыдущими разработками, которые появлялись еще тогда, когда культурные и социальные нормы, связанные с болью и ее зависимостью от сверхъестественных сил, делали любые попытки подавить боль практически аморальными[238]. К XIX в. в промышленно развитых странах боль стала восприниматься скорее как естественное физиологическое ощущение, чем как метафизическое орудие правосудия и божественного вмешательства. И когда эта революция начала набирать ход, немецкий фармацевт сумел выделить из опиума одно вещество. Он назвал это соединение «морфин» – по имени Морфея, греческого бога сновидений. Этот переворот в отношении к боли замечательно подытожил голландский антрополог Фредерик Бойтендайк (1887–1974), написавший в 1957 г.: «Современный человек находит оскорбительным многое из того, что раньше смиренно принималось. Его возмущает старость, долгое пребывание на больничной койке, зачастую даже смерть и уж точно боль. Ее возникновение неприемлемо»[239],[240].
Неприемлемость боли, даже дискомфорта, достигла апогея к концу 1990-х, когда в США началась согласованная кампания по борьбе с эпидемией нелеченой боли. Организации общественного здравоохранения, такие как Объединенная комиссия, которая выдает больницам аккредитации, и Управление по здравоохранению ветеранов, в своих попытках сделать боль «видимой» выступили за то, чтобы ее приравняли к пульсу, артериальному давлению, частоте дыхания и температуре в качестве «пятого показателя жизненно важных функций»[241]. Появились книги, которые высекли систему оценки интенсивности болевых ощущений в массивном граните рутинных правил обследования пациентов[242]. Поэтому, когда я приехал в Бостон учиться в резидентуре, мне было велено спрашивать каждого пациента: «Оцените свою боль по шкале от 1 до 10, где 10 – самая сильная боль, которую вы испытывали в жизни». Большинство пациентов почти автоматически называли 10, хотя некоторые при этом корчились от боли, а другие преспокойно жевали гамбургер и смотрели телевизор. Я решил усовершенствовать свою систему, поэтому добавил мрачных подробностей: «где 10 – ужасная боль, такая, как будто вас пырнули ножом» – но и это не изменило ситуацию. Я накручивал дальше, пока 10 у меня не стало болью от удара несущегося локомотива. Теперь в ответах начали фигурировать восьмерки и девятки, но десятки все равно попадались чаще.
Такое пристальное внимание к боли, конечно, стало одним из главных факторов возникновения опиоидной эпидемии. Многие из тех, кто писал клинические протоколы и возглавлял движение Make America Pain-Free Again («Освободим Америку от боли»), получали финансирование от компаний – производителей опиоидных анальгетиков[243]. При этом, когда в рамках одного исследования ученые попытались неукоснительно следовать в своих назначениях шкале боли, это привело лишь к росту числа побочных эффектов от введения анальгетиков[244]. А в одном недавнем исследовании было показано, что опиоиды справляются с умеренной и сильной хронической болью не лучше, чем отпускаемые без рецепта средства вроде парацетамола[245]. И теперь, когда мы пытаемся вылезти из этой опиоидной эпидемии, которая убивает больше американцев, чем эпидемия СПИДа на своем пике, почти все медицинские ассоциации, такие как Американская медицинская ассоциация и Американская академия семейных врачей, уже подчеркнуто не включают боль в список показателей жизненно важных функций[246].
Американцы страдают от болей сильнее, чем жители всех прочих стран, и потребляют 80 % производимых в мире медицинских опиоидов[247]. Медикализация боли была, возможно, ошибкой. Возможно, боль лучше лечить не аллопатическими, а гуманистическими средствами. Когда религия сдала позиции, секуляризация медицины дала толчок более активным поискам средств, способных избавить нас от этого до сих пор не вполне понятного нам чувства. И сейчас можно без преувеличения сказать, что те самые опиаты, от которых так сократилась продолжительность жизни американцев, заполнили собой ощущаемую многими пустоту, добавив новый смысловой слой провидческому высказыванию Карла Маркса: «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа».
Наше отношение к боли продолжает меняться, и теперь, пытаясь осмыслить опыт опиоидного кризиса, мы упираемся в одно и то же досадное упущение: отсутствие какого-либо объективного метода оценки, позволяющего хотя бы как-то разграничить боль, которая свидетельствует об опасном для жизни состоянии, и боль, которая при всем сопряженном с ней дискомфорте не является признаком острого заболевания.
На протяжении всей этой истории взлета и падения авторитета боли боль в груди сохраняла за собой статус, вероятно, самого значимого из всех болевых ощущений. Упоминаниями о людях, страдающих от болей в груди, полнятся и литературные, и научные труды всех времен. Однако по мере того, как в мире множились жертвы атеросклероза, описания боли в груди начали меняться – и стали все больше походить на те, что обычно звучат в наши дни.
Британский врач Уильям Гарвей (1578–1657) сделал как-то запись об одном рыцаре, который, будучи человеком среднего возраста, «часто жаловался на мучительную боль в груди, которая особенно терзала его в ночные часы и внушала страх обморока или удушья, из-за чего жизнь его проходила в тревоге и смятении»[248]. Андреас Везалий (1514–1564) задавался вопросом, не сопряжена ли «грусть и боль в сердце» с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но связь между подобными ощущениями и болезнью была установлена лишь в конце XVIII в.[249] Даже Уильям Геберден (1710–1801), британский врач, первым описавший стенокардию, полагал, что вызвана она расстройством желудка. И когда та самая классическая боль в груди, которой мы все так страшимся, была уже вполне четко соотнесена с заболеванием сердца, все равно находились те, кто считал ее «невралгией» или признаком «истощения сердечной мышцы»[250]. В XIX в. описания боли в груди попадаются самые разные: кто-то страдает от нее годами, но продолжает с ней жить, а кто-то падает замертво в мгновение ока.
В то время бытовало много популярных теорий, одной из которых была теория растяжения – она обрела популярность в связи с распространением другой болезни, сифилиса, хотя та не имела к сердцу никакого отношения. Зачастую при вскрытии людей, умерших после приступа боли в груди, причину смерти установить не удавалось. Зато у многих обнаруживался сифилис, который в очень запущенной форме мог вызвать изменения в аорте – крупнейшей артерии человеческого организма, которая выходит из сердца: ее гладкая, шелковистая поверхность становилась похожа на древесную кору. Оттого считалось, что боли в груди может вызывать растяжение аорты и нервов, которые ее иннервируют.
Собрать воедино все элементы мозаики удалось врачу из Чикаго Джеймсу Херрику: он заинтересовался стенокардией в 1889 г., когда, еще будучи интерном в больнице округа Кук, наткнулся во время обхода на пациента, который «очень прямо сидел на стуле – весь бледный, с выражением страдания на лице»[251]. В то время единственным лекарством от стенокардии было вещество под названием «амилнитрит», которое принимали в виде ингаляций, – сейчас его используют в основном в качестве чистящего средства на промышленных предприятиях или рекреационного наркотика, усиливающего возбуждение во время рейва или секса.
«После нескольких вдохов он посмотрел на меня с недоверием. Потом, задышав спокойнее, он расслабился – на глазах у него выступили слезы, и он, с подобострастием средневекового европейского крестьянина, схватил и поцеловал мою руку. Я был потрясен не меньше: мне не верилось, что это средство и правда творит такие чудеса».
У самого амилнитрита долгая и захватывающая история – он был первым из большой (и по-прежнему растущей) группы азотсодержащих лекарств, которые по сей день занимают важное место во врачебном арсенале. История эта началась с итальянского химика Асканио Собреро (1812–1888), открывшего вещество под названием «нитроглицерин»[252]. Когда Собреро попробовал его на вкус, у него дико разболелась голова – сейчас принято считать, что это могло быть связано с расширением кровеносных сосудов, питающих мозг. Однако, поскольку нитроглицерин оказался крайне взрывоопасным, ученый много лет держал свое открытие в секрете – так было до тех пор, пока информация о нем не попала в руки к одному из учеников Собреро, Альфреду Нобелю (1833–1896), шведскому химику, завещавшему свое имя и состояние на учреждение Нобелевской премии. Разработав на основе нитроглицерина динамит, Нобель начал продавать его по всему миру – и стал благодаря этому чудовищно разрушительному веществу одним из богатейших людей своего времени. Тогда же английские врачи начали давать нитроглицерин и амилнитрат больным со стенокардией и получать первые положительные результаты[253]. По иронии судьбы, одним из самых известных людей, употреблявших нитраты в медицинских целях, оказался сам Нобель, который с возрастом тоже заработал порядочную стенокардию[254].
При этом амилнитрат был по-своему опасен: зачастую он снижал артериальное давление пациента так резко, что кровь переставала поступать в коронарные артерии, и тем самым вызывал нехватку кислорода – ишемию, которую по идее должен был предотвращать. А вот нитроглицерин давал более предсказуемый эффект – и потому его и сейчас первым делом закладывают под язык пациентам, как только те начинают жаловаться на боль в груди. Многие больные стенокардией не выходят из дома без нескольких таблеток нитроглицерина в кармане на случай, если опять возникнет знакомое ощущение за грудиной. И по сей день, 150 лет спустя, его эффект может поразить вас до слез.
Однажды во время ночного дежурства в больнице меня вызвали к пациенту, у которого появилась боль в груди. У него были серьезно поражены все коронарные артерии, и со дня на день ему должны были сделать шунтирование. Когда я вошел в палату, он был белее смерти. Я уже знал, что он склонен стоически преуменьшать свои страдания: он никогда ни на что не жаловался, но по одному его внешнему виду было ясно, насколько ему плохо. Я хотел было поставить ему капельницу с нитроглицерином, но у него было слишком низкое давление. Нитроглицерин же расслабляет кровеносные сосуды и может снизить давление еще сильнее. Второй вариант был намного более кардинальным: нужно было установить ему в аорту длинный баллон, чтобы тот частично разгрузил его сердце, ослабляя сопротивление, которое оно преодолевает с каждым толчком. Прежде чем направить пациента на эту операцию, я решил хотя бы попытаться обойтись лекарствами. Я попросил медсестру, чтобы она начала медленно вводить ему нитроглицерин, но тут же прекратила, если у него будет падать давление. Медсестра поставила ему капельницу, и его давление никак не изменилось. Тогда я сказал ей капать до тех пор, пока у него не прекратится боль в груди, – и, как ни странно, по мере увеличения дозы у него не только отпустило сердце, но и появился румянец на щеках и даже повысилось давление. Улучшив коронарный кровоток, нитроглицерин восстановил снабжение сердечной мышцы кислородом – и оно вновь стало проталкивать кровь по сосудам под нормальным давлением.
В 1970-е гг., почти два века спустя после того, как химики открыли окись азота, ученые выяснили, что внутренние оболочки кровеносных сосудов и кишок выделяют его в норме. Окись азота расслабляет кровеносные сосуды и является одной из основных молекул, необходимых для поддержания нормального кровообращения и тонуса кишечной стенки. Он оказывает многообразное воздействие на человеческий организм и в том числе может вызывать реакции, о которых мы даже не догадывались. В начале 1990-х гг. в британском городе Сэндвич врачи изучали лечебное действие нового производного нитрата. Исследования показали, что оно никак не улучшает состояние людей с артериальной гипертонией и стенокардией, однако у него обнаружилось неожиданное побочное действие[255]. Принимавшие его мужчины сообщили о том, что стали испытывать более сильную и длительную эрекцию. Сначала ученые не приняли эти данные во внимание, но затем решили провести отдельное исследование, призванное выявить, какое воздействие новое лекарство имеет на эрекцию, – особенно среди мужчин, страдающих эректильной дисфункцией. И вскоре мужчины, уже многие годы не имевшие возможности заниматься сексом, обрели ее вновь.
«Я был удивлен не меньше других, когда мои испытания потенциального лекарства от заболеваний сердечно-сосудистой системы дали побочный эффект, который повлек за собой революцию в сфере сексуального здоровья», – вспоминает врач и разработчик лекарственных средств Иэн Остерло, которому было уготовано стать создателем препарата, известного как виагра[256]. Спустя годы виагра вернулась в ряды сердечно-сосудистых лекарств: сейчас ее принимают пациенты с повышенным давлением в сосудах легких, с так называемой легочной гипертензией – опасным для жизни заболеванием, которое может привести к сердечной и дыхательной недостаточности.
Но вернемся к Херрику. Хотя в начале XX в. нитраты активно использовались для лечения стенокардии, никто толком не понимал, как они работают. Однако Херрик придерживался гипотезы «ишемии миокарда», согласно которой стенокардия возникала вследствие несовпадения объема насыщенной кислородом крови, поступающей в сердце через коронарные артерии, с тем объемом, который требуется сердцу для нормального функционирования. Херрик полагал, что при дефиците поступающей крови (как в случае закупорки коронарных артерий) или при увеличении потребности в крови, когда сердце работает с повышенной нагрузкой (как в случае учащенного сердцебиения после инфекционного заболевания), сердечной мышце не хватает кислорода, из-за чего развивается ишемия – то есть, по сути, мышца начинает умирать. И в результате распада клеток в кровь поступают химические вещества, которые провоцируют стенокардию. Но эту теорию еще нужно было доказать.
16 января 1910 г. глава одного частного банка пришел домой из театра, около полуночи перекусил сэндвичем с пивом[257] и почти сразу ощутил «внезапную, невыносимую» боль в груди. Херрик оказался одним из множества врачей, которые впоследствии пытались выяснить, что же случилось с этим пациентом. С этой целью он даже оставался у банкира ночевать. Херрик был уверен, что проблема не в органах брюшной полости и не в легких, а значит, оставалось только сердце. Но однажды ночью, пока он до четырех утра обсуждал эту загадку с коллегами, его пациент умер – неожиданно и тихо. Тогда Херрик попросил патологоанатома, проводившего вскрытие: «Поищите тромб в коронарной артерии».
Специалист перезвонил Херрику в тот же день: «Вы правы, в коронарной артерии есть тромб. Как вы догадались?» Но Херрик не просто гадал – он и раньше предполагал, что закупорка коронарной артерии могла бы, вероятно, привести к такому исходу. Вскоре Херрик выяснил, что это не какая-то редкая проблема, а, напротив, одна из самых распространенных болезней его времени. Но когда он представил свои данные на конференции, «никто и ухом не повел». И даже когда его результаты были опубликованы в The Journal of the American Medical Association, они не вызвали почти никакого интереса[258]. Тогда Херрик сделал то, на что идут очень немногие ученые: «Я начал сознательно заниматься деятельностью, которую сам определял как “миссионерская”: я проповедовал учение о патологии и клинических симптомах острой коронарной обструкции… Я твердил о закупорке коронарных артерий до посинения». Он боялся, что уже свихнулся: его идею острой окклюзии коронарных артерий, которую теперь принято называть инфарктом миокарда, повсеместно считали нелепостью. «Эта попытка просто смешна, поскольку ничего подобного быть не может», – заявил один критик. Правда, судьба жестоко посмеялась над ним: почти десять лет спустя, когда его самого настиг инфаркт, этот критик позвонил Херрику с мольбами о помощи.
Вызвать боль в груди могут многие заболевания: ожог пищевода кислым желудочным соком при отрыжке после особо острого блюда (рефлюкс-эзофагит), расслаивающая аневризма аорты или пневмоторакс. Но что, возможно, самое важное, она может сигнализировать о разрыве атеросклеротической бляшки, из-за которого сердечная ткань начинает умирать, высвобождая в кровь кислоту, из-за чего весь организм начинает испытывать нехватку насыщенной кислородом крови. Каждый день и каждую ночь, когда я дежурю в больнице – будь то в реанимации или отделении неотложной помощи, а порой и когда я нахожусь у себя дома, мне поступают звонки о пациентах с болью в груди. В такие моменты мне, как и любому другому врачу, приходится гадать на кофейной гуще, собирать анамнез, выуживать по крохам полезные данные – и все это под лезвием гильотины, которое с каждой песчинкой времени опускается все ниже, грозя пациенту трагическим исходом.
Дежурный кардиолог в кардиологическом отделении интенсивной терапии Медицинского центра при Университете Дьюка обязан не только отвечать за всех тяжелых пациентов в своем отделении, но и помогать в критических случаях всем больницам на несколько сотен миль вокруг. Исследователи и врачи из Дьюка разработали такую систему оказания неотложной помощи, при которой сотрудники скорой помощи и отделений неотложной кардиологии по всему штату Северная Каролина имеют прямую линию связи с кардиологами, дежурящими в кардиологических отделениях интенсивной терапии нескольких крупнейших больниц штата. Сейчас эта модель используется уже по всей стране.
Когда раздается звонок по этому экстренному телефону, я несусь к нему, стараясь не раскидать всех на своем пути. Кажется, что, когда я поднимаю трубку, еще не зная, какая новость меня ждет, время на миг замирает. Однажды мне сообщили о мужчине, которого обнаружили под трактором, – его сердце остановилось, и он рухнул там, где стоял. В другой раз звонил врач из отделения неотложной помощи, и было слышно, как на фоне кто-то считает вслух нажатия на грудную клетку, делая пациенту непрямой массаж сердца. Но чаще всего мне звонят по поводу людей с болью в груди. Пока я провожу телеконференцию, вертолетная бригада стоит наготове: если что, они тут же полетят забирать пациента к нам. И мне нужно за несколько секунд решить, похоже ли это на инфаркт миокарда и нужно ли вызывать бригаду из лаборатории катетеризации сердца, чтобы они взяли пациента на срочную операцию. В кардиологии бытует выражение, что время – мышца: каждая лишняя секунда при ишемии – это еще один погибший от недостатка кислорода участок, который уже не вернется к жизни. Никогда. Так что можно без малейшего преувеличения сказать: это действительно вопрос жизни и смерти.
Каждый день боль в груди возникает у миллионов людей. Но когда от нее можно просто отмахнуться, а когда нужно немедленно вызывать скорую помощь? Вот что об этом говорят данные исследований.
Он почувствовал жгучую боль в груди, когда бежал по беговой дорожке, и подумал, что это изжога. Ничего страшного он тут не увидел, но боль не прошла и после того, как он давно сошел с тренажера. Тогда он пожаловался на нее жене – и та сразу же отвезла его в больницу, где выяснилось, что у него обширный инфаркт.
Придя к нему в реанимацию, я спросил, бывала ли у него изжога раньше. Он ответил, что до этого изжога была у него всего один раз: во время предыдущего инфаркта. Я тут же его перебил: «Надеюсь, что в следующий раз, когда вам покажется, что у вас изжога, вы догадаетесь, что это может быть инфаркт».
В 2014 г. с жалобами на боль в груди в больницы поступило 5 миллионов американцев – в 2006 г. это число составляло чуть менее 4 миллионов[259]. Но лишь примерно у одного из десяти поступивших действительно была та или иная форма инфаркта миокарда[260]. В последнее время число людей, которые приезжают в больницу с инфарктом, снижается, из-за чего становится все труднее их выявить и понять, где пустяк, а где настоящая проблема. Почему это так важно? Каждый год примерно 2500 американцев умирают в течение семи дней после выписки из больницы из-за инфаркта или ишемической болезни сердца[261]. Такое положение недопустимо.
Как правило, мое знакомство с пациентом, поступившим к нам с болью в груди, начинается с сообщения, которое я получаю из реанимации. В этом сообщении – обычно длиной с твит в 160 знаков – содержится выжимка из всей добытой нами информации, и я, как практически любой другой врач, начинаю ее обдумывать. Пожалуй, самый важный прогностический показатель – возраст. Хотя сейчас модно говорить, что возраст – это только цифра, одно исследование за другим показывают, что в вопросе прогнозирования нет ничего важнее этой цифры. Следующий по значимости пункт – оценка внешнего вида больного: похоже ли, что у пациента инфаркт миокарда? Без всяких сомнений, Херрик дал своему пациенту амилнитрат именно потому, что его оценка оказалась чрезвычайно низкой. Более того, в ту эпоху, как и в более близкие к нам времена, оценка внешнего вида была единственным и самым важным неинвазивным диагностическим тестом, доступным врачу. Однако полагаться только на него было бы чудовищной ошибкой – учитывая, насколько сильно он во многих случаях уступает более объективным методам диагностики[262].
Физикальное (объективное) исследование, в ходе которого врач выслушивает сердце и легкие больного и ощупывает определенные участки его тела в поисках отклонений от нормы, не так уж полезен в диагностике инфаркта миокарда, поскольку у этого заболевания очень мало характерных физикальных признаков. Пожалуй, главное, что может дать этот вид исследования пациента с болью в груди, – понимание того, что болит не сердце. Любые болевые ощущения, которые усиливаются при надавливании на грудь или движении руками, вряд ли могут быть связаны с сердцем[263].
Анамнез (история заболевания со слов больного) пациента и его описание собственных ощущений также очень важны при постановке диагноза[264]. Одна из важных характеристик боли от сердечного приступа – то, что она может отдавать в руки или шею. И хотя чаще всего она отдает в левую, более близкую к сердцу руку – и отсюда значение безымянного пальца во многих культурах, наиболее показательным признаком возможного инфаркта является боль, отдающая в обе руки. Другой значительный признак, который, правда, касается только тех пациентов, на чью долю это испытание выпадает не первый раз, – сходство нынешних болевых ощущений с ощущениями во время предыдущего инфаркта.
Но даже всей этой информации может не хватить для того, чтобы однозначно диагностировать инфаркт. Пропустить его – значит подвергнуть пациента смертельной опасности, усмотреть инфаркт там, где его нет, – значит заставить его пройти через рискованные процедуры, которые могут причинить ему больше вреда, чем пользы. Для того, чтобы избежать подобных ошибок, существует электрокардиограмма, или ЭКГ. ЭКГ – инструмент огромной важности, с помощью которого можно поставить верный диагноз, даже не имея вообще никакой другой информации. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, – а одного взгляда на ЭКГ достаточно, чтобы узнать всю историю сердца, от его отдаленного прошлого до ближайшего будущего. Впервые об этом заявили двое русских ученых, опубликовавших в 1910 г. статью в малоизвестном научном журнале в Киеве, и с тех пор ЭКГ по-прежнему остается непревзойденным методом диагностики инфаркта миокарда[265]. При этом все самое важное в кардиограмме сосредоточено на отрезке продолжительностью 0,1 секунды; этот отрезок кривой ЭКГ называется сегментом ST.
В начале XX в., даже после того, как ученые по всему миру стали замечать, что у многих, кто умирал внезапно после приступа боли в груди, обнаруживались тромбы в коронарных артериях, очень немногие считали, что это и есть причина смерти. Русские ученые Василий Образцов и Николай Стражеско и венский врач Лудольф фон Крель одними из первых указали на то, что коронарная окклюзия вызывает инфаркт миокарда – что позже обнаружил и Джеймс Херрик из Чикаго. Но, несмотря на убедительную аргументацию, Херрику мало кто поверил. Как же было доказать всему миру, что стенокардия – это не просто ослабление сердечной мышцы или растяжение аорты, как было принято тогда считать?
Свернуть общественное мнение с проторенного пути удалось как раз таки с помощью ЭКГ. Врачи обнаружили, что изменения, происходящие в сердце пациентов с инфарктом, очень схожи с теми, что возникали у собак, которым в ходе опытов перевязывали коронарные артерии. Ученые заметили, что если перекрыть кровоток полностью, то отрезок линии на ленте ЭКГ между высокоамплитудными зубцами комплекса QRS и более скромной волной T – в так называемом сегменте ST, – который до этого был абсолютно прямым, вдруг поднимается вверх, как воды океана во время внезапного, бурного прилива. Более того, вскоре стало очевидно: зная, в каком отведении ЭКГ возник подъем сегмента ST, можно определить, какая из коронарных артерий заблокирована.
Почему же сегмент ST поднимается при инфаркте миокарда? Когда часть сердца оказывается полностью поражена ишемией, то есть до нее вообще не доходит насыщенная кислородом кровь, в ней разверзается хаос. По мере того, как клетки сердечной мышцы погибают от нехватки кислорода, нарушается электрический баланс, который ранее существовал между клетками и межклеточной (интерстициальной) жидкостью. Ионы калия, которыми наполнено большинство клеток сердца, вырываются наружу, как лава из жерла Везувия. Безмятежная гармония электрического заряда, которую ST-сегмент демонстрирует в норме, подразумевает, что между клетками сердечной мышцы и окружающей ее интерстициальной жидкостью не происходит обмена электролитами. Но в случае катастрофы – вызванной, как правило, тромбом, который сформировался после разрыва атеросклеротической бляшки, – выброс калия из клеток создает ток повреждения между пораженной и непораженной частями сердечной мышцы, который свидетельствует о смерти клеток. Это и дает ту самую зловещую элевацию сегмента ST.
Пациенты, у которых оказывается полностью закупоренной какая-то из основных коронарных артерий сердца, переносят инфаркт миокарда STEMI (ST-Elevation-Miocardial Infarction; инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ). Это одно из самых ужасных состояний, в которых может оказаться человек. Через несколько секунд после начала инфаркта мягкая и розовая сердечная мышца начинает стремительно менять свой вид, превращаясь в массу омертвевшей ткани. Эта масса – просто кусок мяса, а кусок мяса биться не будет.
Умение диагностировать такой крупноочаговый инфаркт миокарда – один из главных навыков любой медсестры и любого врача. Персонал, оказывающий экстренную медицинскую помощь, прекрасно распознает инфаркт такого типа на ЭКГ. И как только они его видят, запускается обратный отсчет. Будь вы хоть в нескольких сотнях миль от Дьюка, лучшим решением будет позвонить дежурному врачу в кардиологическое отделение интенсивной терапии (ОИТ).
Однажды я сидел в ОИТ после ночного дежурства. Ночь выдалась трудная, и, когда утром пришла смена, я смог наконец стряхнуть с себя напряжение. Еще час-другой, и состоится долгожданное воссоединение с моей дорогой кроватью. Вдруг у меня зазвонил мобильный, и я ответил, не ожидая никакого подвоха. Оказалось, что звонит Джозеф Роджерс, один из ведущих кардиологов больницы. Я почти инстинктивно поднялся с места. Зачем мне звонит Джо Роджерс?
Мужчина рухнул на пол в холле клиники по пересадке легких. К нему бросился персонал. Начали звать на помощь, а рядом как раз был Джозеф Роджерс. Он попросил сделать ЭКГ и, едва взглянув на нее, понял, что у мужчины крупноочаговый инфаркт. Он достал телефон и набрал номер ОИТ, по которому я ему и ответил. Я немедленно распорядился, чтобы пациента привезли к нам в отделение. Судя по его виду, дело было плохо.
Уже издалека было заметно, что у него кардиогенный шок, который возникает тогда, когда сердце теряет способность снабжать кровью организм, в результате чего начинают страдать жизненно важные органы. У мужчины были седые волосы и взъерошенная борода – позже я узнал, что каждое Рождество он выступал в роли Санты. Наш Санта курил всю жизнь и довел свои легкие до чудовищного состояния. Курить он бросил, но за десятилетия злоупотребления табаком его легкие превратились в клубки черной паутины. Тогда он взялся за ум и согласился на операцию по пересадке легких. Он мечтал о новой жизни, в которой не придется таскать с собой кислородный баллон, в которой можно будет играть с детьми, визжащими от восторга при виде его красно-белого костюма, и собственными внуками, для которых он был Сантой круглый год. Но радость длилась полгода – а потом он очутился передо мной в отделении неотложной помощи, с подъемом сегмента ST высотой с Эверест.
В некотором смысле крупноочаговый инфаркт миокарда, инфаркт с повышением сегмента ST, достаточно легко диагностировать, и не надо мудрить с лечением, так как есть только одно решение: нужно восстановить ток крови, устранив то, что его блокирует. Чтобы сделать это, и сделать быстро, нужно вызвать бригаду из лаборатории катетеризации сердца. Это ровно то, что я и сделал, находясь в одной из самых хорошо оснащенных кардиологических больниц мира, – это же сделали врачи больницы в Пакистане, куда с подобным инфарктом приехал мой отец.
Когда наш пациент прибыл в лабораторию, гримаса боли исчезла с его лица, и он вдруг обмяк. ЭКГ изменилась: теперь на экране монитора были видны ритмичные частые осцилляции – у больного развилось нарушение сердечного ритма, называемое желудочковой тахикардией (ЖТ) – это тяжелое нарушение ритма часто возникает оттого, что сердцу не хватает кислорода. К пациенту тут же подбежала медсестра и начала проводить сердечно-легочную реанимацию. Другая включила дефибриллятор, который мы уже держали под рукой, понимая, что все может пойти по худшему сценарию. Он зарядился, и в ту же секунду медсестра, проводившая реанимацию, убрала руки и отпрянула. Кто-то скомандовал: «Все в сторону!», чтобы никто не касался пациента или каталки в момент, когда его ударят током. Получив разряд, безвольное тело Санты дернулось и снова откинулось на каталку. ЖТ не прекратилась, и ему снова стали проводить сердечно-легочную реанимацию. Дефибриллятор зарядили снова, тело Санты вновь подпрыгнуло от разряда в 360 джоулей, но ЖТ не прекратилась.
Ничего не помогало – Санта умирал. И это была бы страшная потеря не только из-за него одного. Но и из-за того молодого человека, который, умирая, отдал свои легкие нашему Санте. И из-за того пациента, который мог бы получить эти легкие, но оказался за нашим Сантой в листе ожидания на трансплантацию. Сердечно-легочная реанимация и дефибриллятор знаменуют для многих конец жизненного пути. Но хотя наш Санта лежал перед нами уже практически с остановившимся сердцем, мы не сдавались. Мы вызвали кардиохирургическую бригаду, чтобы она начала проведение ЭКМО.
За каждой медицинской аббревиатурой скрывается набор малопонятных слов. А за каждым набором малопонятных слов – либо болезнь, которую не пожелаешь и врагу, либо процедура, о которой лучше вообще не знать. Я был бы только рад, если бы всегда можно было обойтись без ЭКМО, если бы нам никогда не приходилось просить хирургов о ее проведении. Но, повидав на своем веку все то, что мне довелось повидать, и зная, что у нас в больнице работают самые лучшие хирурги, готовые всегда прийти на помощь, я могу только порадоваться тому, что ЭКМО существует и есть люди, которые умеют ее проводить.
Набор малопонятных слов, стоящий за аббревиатурой ЭКМО, – это «экстракорпоральная мембранная оксигенация», что звучит, конечно, не слишком вразумительно. Для проведения ЭКМО в бедренную вену и бедренную артерию пациента через разрез в паху вводят толстые и длинные пластиковые трубки. Пластиковый катетер, введенный в бедренную вену – диаметром она почти с садовый шланг, проталкивают наверх практически до самого сердца и начинают откачивать через катетер темную, лишенную кислорода кровь, которая возвращается к сердцу от органов. То есть ни в сердце, ни в легкие кровь не поступает. Эту венозную кровь прокачивают через аппарат (мембранный оксигенатор), где она насыщается кислородом, а затем через катетер в бедренной артерии поступает в аорту – самую крупную артерию организма, выходящую непосредственно из сердца. Оттуда ярко-красная кровь растекается по телу. Так ЭКМО полностью заменяет собой сердце и легкие, выполняя их главные обязанности: проталкивая кровь по сосудам и насыщая ее кислородом.
Когда кардиохирургическая бригада влетела в лабораторию с чемоданчиками, полными катетеров размером с небольшое копье, я заметил, что медсестры, проводившие сердечно-легочную реанимацию, начали уставать. Я оттеснил их и взялся за дело сам. Пока я, стоя над обнаженным пациентом, делал ему непрямой массаж сердца, фонендоскоп, висевший у меня на шее, начал болтаться и бить меня по лицу – к счастью, кто-то это заметил и убрал его.
Если бы мы были в театре, я бы выглядел как зритель, выпрыгнувший из первого ряда на сцену. Хирургам потребовалось 15 минут, чтобы подключить пациента к системе ЭКМО; когда аппарат был готов, я перестал делать ему массаж сердца и все вокруг замерли. ЖТ у Санты продолжалась, но теперь уже было в принципе не важно, бьется его сердце или нет. Хирурги отступили назад, и их место заняла кардиологическая бригада. Она обнаружила большой тромб, блокирующий коронарную артерию, и открыла просвет с помощью стента, но сердце пациента уже превратилось в кусок мяса и биться отказывалось. С ЭКМО, работающим за сердце, аппаратом ИВЛ, работающим за легкие, и на гемодиализе Санта протянул еще месяц, но никакие медицинские ухищрения не смогли вернуть его назад, и в итоге он все же умер.
Мало какие жизненные потрясения могут сравниться с крупноочаговым инфарктом, но есть и один ободряющий факт: число людей с такими инфарктами в США и других богатых странах сейчас сокращается[266]. Мы эффективнее, чем когда-либо раньше, боремся с факторами риска, такими как высокое артериальное давление или повышенный уровень холестерина, а вредные привычки, такие как курение, у нас встречаются все реже. А даже если избежать инфаркта не удалось, своевременное и эффективное лечение позволяет все большему числу людей пережить эту беду (как было с моим отцом) – и даже порой избежать серьезных последствий.
Однако в настоящее время наблюдают рост заболеваемости инфарктов другого типа. И хотя выглядят они менее драматично, чем инфаркт с подъемом сегмента ST, такие инфаркты представляют собой даже бо́льшую угрозу. При этом они не только потенциально более опасны, но и более коварны: на фоне таких инфарктов на ЭКГ могут отсутствовать какие бы то ни было изменения, а порой и у самого пациента может не быть никаких субъективных симптомов. И по мере того, как инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST случается все реже, заболеваемость «инфарктом миокарда без подъема сегмента ST», или NSTEMI, за последние годы увеличилась в три раза[267].
Диагноз NSTEMI ставят пациентам с повышенным уровнем тропонинов, у которых нет симптомов и признаков STEMI. Если STEMI вызывается острым разрывом атеросклеротической бляшки, который приводит к полной закупорке какой-то из коронарных артерий, то NSTEMI, как правило, не сопровождается полной окклюзией. Зачастую при нем тоже происходит разрыв бляшки, но он не приводит к полной закупорке коронарной артерии. Эрозия бляшек, без явного разрыва, тоже довольно-таки распространена – она активирует механизм формирования тромбов, что ведет к снижению кровотока в пораженной артерии.
У Люси была очаровательная улыбка. Я практически не знаю людей, которые были бы рады оказаться в больнице, но Люси не унывала и реагировала на все происходящее в отделении неотложной помощи так, будто смотрит свой любимый мюзикл. Она вела очень здоровый образ жизни, каждый день занималась спортом, не принимала никакие таблетки и попала в отделение неотложной помощи впервые.
Все началось во время занятия йогой. Люси почувствовала стеснение в груди, в шее и в затылке, но не придала этому значения. Ощущения ушли, но позже стали время от времени возвращаться – тогда наконец кто-то из друзей настоял, чтобы она обратилась к врачу. В отделении неотложной помощи ей сделали ЭКГ, на которой не обнаружилось ничего подозрительного. У Люси не было никаких симптомов из тех, что традиционно связывают с инфарктом миокарда. Однако на всякий случай ей решили сделать анализ на тропонины. Когда пришли результаты и оказалось, что уровень тропонинов у нее повышен, врач из отделения неотложной помощи вызвал меня, чтобы я осмотрел пациентку и сообщил ей неприятную новость. Мне не хотелось разбивать ее счастливый мирок, но выбора у меня не было.
Я поболтал с ней какое-то время, обменялся любезностями, не торопясь переходить к очевидной теме, но потом наконец спросил:
– Вы понимаете, что с вами произошло?
– Нет.
– Что ж, это был инфаркт.
Улыбка начала сползать с ее лица, но она поборола эту слабость и снова подтянула уголки губ вверх. Подруга, которая привезла ее к нам, выглядела куда более встревоженной. И та и другая по-своему отказывались верить, что у Люси может быть инфаркт. Конечно, это было совсем не похоже на то, как выглядят инфаркты, которые показывают по телевизору. Люси не хваталась за грудь, не глотала ртом воздух, никто не ужаснулся ее ЭКГ, не было никакого сигнала тревоги на всю больницу, воя сирены скорой помощи или бегущего по коридорам персонала. Все было тихо. Очень-очень тихо.
– Как это – у нее инфаркт?!
При таком начале разговора дальше нужно было маневрировать с особым тактом. Люси была относительно здорова бóльшую часть своей жизни. До сих пор. Теперь она очень быстро превратилась из здорового человека в больного – и это серьезная перемена. Заболеть – все равно что получить работу, о которой вы не просили, которая вообще вам не нужна. Но деться от нее вы никуда не можете. Вы заступаете на вахту, как только просыпаетесь, и заканчивается она лишь с отходом ко сну. Никаких выходных. А подхватить какую-нибудь заразу, уже имея хроническое заболевание (например, сердечную недостаточность), – это еще хуже, потому что шансов на то, что вы когда-либо устроите коллегам прощальную вечеринку, выйдете на пенсию и укатите на заслуженный отдых, у вас практически нет. Напротив, с возрастом хронические болезни только прибавляют вам работы: нужно принимать еще больше лекарств, чаще ходить по врачам, больше ограничивать себя в повседневной жизни – и при этом надежда на возврат к нормальной жизни становится все призрачнее и призрачнее.
Но как бы страшна ни была участь хронически больного человека, альтернативный вариант, пожалуй, еще страшнее: для Люси это была либо смерть, либо инвалидность. И ничто так не заставляет людей цепляться за ужасную работу хронического больного, как шок от пережитого инфаркта. В общем, теперь мне нужно было убедительно донести до Люси то, что в дальнейшем ей придется изменить образ жизни, регулярно принимать лекарства, исправно наведываться к врачу и быть готовой к инвазивным процедурам, поскольку надо будет исключить возможные последствия ее инфаркта. Многие из этих требований нужно будет выполнять пожизненно – но, если все эти меры окажутся эффективными, они не только помогут ей оправиться от того потрясения, который ее организм уже испытал, но и предотвратят подобные ситуации в будущем.
Мне было бы проще, если бы у Люси был, например, перелом. Сломанная кость очень успешно напоминает людям о том, что они нездоровы, потому что боль от нее дикая. С переломом легче еще и потому, что в большинстве случаев он не делает из человека своего пожизненного раба – это скорее краткосрочная летняя подработка. Отломки кости можно сопоставить и срастить, и через некоторое время пациент снова сможет использовать поврежденную конечность без каких-либо ограничений.
Болезнь традиционно связывалась с какими-то привилегиями: история знает немало обществ, в которых больные получали те или иные льготы[268]. Когда американский социолог Толкотт Парсонс предложил понятие «роль больного», он указал на то, что больные, как правило, избавлены от таких обязанностей, как обязанность работать. Есть и другие бонусы: сейчас немало таких, кто собирает с людей деньги на лечение, притворяясь онкологическим больным. Но болезни сердца, как и многие другие хронические заболевания, не дают подобных привилегий, а такой неприметный недуг, как NSTEMI, и вовсе не производит должного впечатления. Так что ни Люси, ни ее серьезная подруга пока не вполне осознавали, о чем вообще речь.
Есть и другие факторы, влияющие на то, как у человека происходит этот переход от здоровья к нездоровью. Многие мужчины не обращаются за помощью, когда у них появляется боль в груди, потому что сделать это им не позволяет традиционное представление о мужественности[269]. Многие женщины не обращаются за помощью, когда у них происходит инфаркт, потому что у них нередко возникают «атипичные» ощущения, непохожие на такие классические симптомы, как давящая боль в груди, отдающая в шею и левую руку. А если учесть, что NSTEMI (инфаркт без подъема сегмента ST) и вовсе не сопровождается такими острыми симптомами, какие обычно бывают при STEMI (инфаркт с подъемом сегмента ST), пациенты обращаются к врачам с еще большей задержкой.
Если бы я стал навязывать Люси «роль больного» слишком активно, возможно, она бы, как многие другие пациенты, скатилась в нигилизм. Роль больного удается человеку только тогда, когда он понимает, что может повлиять на ситуацию, изменить течение болезни или когда принимаемые меры реально улучшают его самочувствие – например, как при гриппе с высокой температурой. Только в таком случае люди готовы согласиться на эту работу, даже если она подразумевает пожизненный прием лекарств, визиты к врачу, сдачу анализов и выполнение всевозможных процедур. Те пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые чувствуют, что сами, хотя бы отчасти, держат ситуацию под контролем, гораздо охотнее проходят кардиологическую реабилитацию и следят за такими факторами риска, как повышенное артериальное давление[270],[271].
Но зачастую многие врачи, и я в том числе, воспринимают болезнь лишь как биологическую проблему. Из-за своей жесткой профессиональной подготовки мы привыкаем мыслить категориями объективных данных, таких как ЭКГ, тропонины, фракция выброса, но для многих людей вроде Люси это вообще последнее, что приходит на ум. Болезнь не только биологический феномен, но и к одной психологии все сводить нельзя. Болезнь становится частью личности больного, как врачебная подготовка – частью личности врача, а с болезнью приходят свои обязанности, требования и ожидания. В болезни ее история – то, как она вошла в жизнь пациента и какое место в ней заняла, – важна не меньше, чем данные об электролитном дисбалансе и ишемии миокарда.
Врачи играют огромную роль в том, как сложится эта история. Мы не можем написать ее за пациента, но, безусловно, можем помочь главному герою найти ключ от подземелья и порой одолеть злобного монстра, стерегущего принцессу в башне. Как врачу быть полезным в этом вопросе? Просто выслушивать истории пациентов – на удивление полезное занятие. Пациенты врачей, более склонных к эмпатии, послушнее принимают назначенные им лекарства[272]. Пациенты хирургов, которые не только дали им четкие указания, но и обеспечили моральную поддержку, меньше страдают от боли и скорее выписываются из больницы[273].
Каждый день на работе я оказываюсь в центре множества чужих историй: большинство моих подопечных живут с хронической болезнью уже долгие годы, если не десятилетия. Зачастую я попадаю в историю пациента под самую ее развязку. И лишь порой становлюсь, как в случае с Люси, свидетелем ее начала.
Прежде чем продолжить, мне пришлось сделать небольшое отступление и ответить на целый поток вопросов, которые скрывались за улыбкой моей пациентки. Что такое тропонин, что такое NSTEMI, чем он мог быть вызван и как с ним справиться?
Если больное сердце может подорвать в человеке силу духа, то поражение мозга может навсегда изуродовать само его существование. Вот пример. Эта пациентка была цветущей женщиной, медсестрой, помогавшей людям в самые ужасные моменты их жизни. Но потом у нее случился обширный инсульт, осложненный мозговым кровотечением, и она оказалась заключенной в тюрьме, бывшей некогда ее телом, которое теперь превратилось в неподвижное изваяние. Она не могла говорить, не могла двигаться, ничего не слышала и, судя по всему, ничего не чувствовала. Однако родные упорно накладывали на ее лицо чрезмерно густой слой макияжа, превращая ее в большую куклу, отдаленно напоминающую ту прошлую, реальную женщину. Будучи врачом, я часто сталкиваюсь с трагедиями – самые страшные из них остаются со мной навсегда, остальные постепенно обрастают пылью в хранилищах музея моей памяти, о некоторых я уже больше никогда не вспоминаю. Но эта навечно вошла в постоянную экспозицию моих кошмаров.
Когда глубоко за полночь я пришел к ней в палату, весь пол был застелен простынями, на которых спали ее родственники. Днем, когда они пересаживали ее дома из инвалидного кресла в кровать, она вдруг выскользнула и упала, разбив лицо. Семья привезла ее в больницу, и, поскольку у нее не было болей в груди, нарушения дыхания или любых других симптомов, из-за которых можно было бы заподозрить проблемы с сердцем, врачи отделения неотложной помощи решили взять у нее анализ на тропонины. Результат оказался положительным, и ей поставили NSTEMI. По этой причине меня к ней и вызвали.
На рубеже нового тысячелетия тропонины пополнили ряд диагностических критериев, по которым определяется инфаркт миокарда, и это в корне изменило само представление об этой болезни как таковой[274]. Это позволило многим пациентам, у которых происходили очевидные деструктивные изменения в сердце, получить верный диагноз и впоследствии нужные лекарства и процедуры. Среди этих людей была и Люси – если бы не тропонины, у нее тоже вряд ли бы обнаружили сердечный приступ, особенно с учетом того, что любые симптомы у женщин всегда воспринимаются менее серьезно, чем у мужчин.
Однако тропонины не идеальный показатель: зачастую их уровень может быть повышен и при отсутствии инфаркта. Существует длинный список состояний, при которых тропонинов может быть больше нормы, хотя это не имеет ни малейшего отношения к коронарным артериям, например, инфекция или воспалительный процесс в сердце[275]. Уровень тропонинов может повыситься у больного после сердечно-легочной реанимации. Кроме того, бывает и такое, что мышцы разрушаются после чрезмерной физической нагрузки, например когда человек пробежал марафон, или почечная недостаточность не позволяет организму вывести тропонины с мочой, и во всех этих случаях анализ тоже показывает их повышенное содержание, хотя с сердцем это никак не связано.
Но поскольку благодаря тропонинам стало очень просто определять любые повреждения сердечной мышцы, к этому анализу начали прибегать уже безо всякой причины и какого-либо здравого смысла. Многим врачам, включая кардиологов, проще отправить пациента сдавать кровь, чем самому его осматривать, вникать в историю болезни и ставить диагноз по старинке, после кропотливого сбора анамнеза и тщательного осмотра. Анализ крови, в том числе на тропонины, ликвидирует весь этот промежуточный этап общения врача и пациента. Врачам проще и быстрее отправить человека на КТ или ЭКГ, чем заказать еду в китайской забегаловке.
Как и в случае со многими другими пациентами, которых я наблюдал в отделении неотложной помощи, на этот раз бригада, взявшая анализ на тропонины, задумалась о том, зачем вообще это сделала, лишь после получения положительного результата. Пациентке в вегетативном состоянии без каких-либо кардиологических симптомов не было бы никакой пользы от того лечения, которое мы могли ей предложить, да и проводить его было рискованно: если бы мы стали лечить ее так, как обычно лечат пациентов с инфарктом, то наше лечение могло привести к рецидиву мозгового кровотечения, поскольку большинство препаратов для лечения инфаркта усиливают кровоточивость.
Из-за своей чувствительности анализ на тропонины стал одним из классических примеров так называемого диагностического расползания (diagnostic creep) в современной медицине. Когда инфаркты диагностировали только с помощью ЭКГ, их критерием был исключительно подъем ST. Когда добавились анализы крови и новые методы визуализации, список был расширен, но анализ на тропонины перевернул все. Вначале, когда диагноз NSTEMI только появился, для многих пациентов требовалось найти еще какие-то подтверждения болезни, в том числе такие очевидные изменения в ЭКГ, как, например, снижение сегмента ST в противовес его подъему. Однако со временем повышение уровня тропонинов стало решающим критерием, затмившим все остальные.
Diagnostic creep – проблема не только кардиологическая: злоупотребление все более и более чувствительными технологиями привело к гипердиагностике почти всех возможных заболеваний. Возьмем, к примеру, рак груди. Как известно, чем раньше будет проведена маммография, тем больше шансов, что рак будет выявлен на начальных стадиях, однако также известно, что ранняя маммография на самом деле никак не влияет на шансы пациенток на выживание[276]. Почему? Потому что лечение этого не слишком опасного рака, обнаруженного исключительно благодаря маммографии, судя по всему, не идет пациенткам на пользу, а только заставляет их проходить через анализы и процедуры, которые не влияют на конечный результат. То же касается и обследований на предмет рака предстательной железы, для раннего выявления которого делают анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА)[277].
Я не хочу бить тревогу, но сейчас мы находимся на грани эпидемии гипердиагностики инфарктов миокарда. Уже сейчас, в своем нынешнем состоянии, анализы на тропонины способны выявить инфаркт с высочайшей степенью точности, но появляются новые тесты, еще более чувствительные, чем прежде. Они находят тропонины, циркулирующие в организме большинства здоровых людей. У этих новых анализов есть свои преимущества: будучи способными обнаружить малейшие изменения в уровне тропонинов, они помогают установить или исключить инфаркт раньше, чем традиционные анализы на тропонины. Но проблема в том, что теперь еще больше людей, которые поступают в больницы не только с болью в груди, но и с любыми другими симптомами, будут сдавать эти анализы – и у многих они окажутся положительными. Как люди отреагируют на такую информацию, как это изменит их отношение к себе и своему организму, что они будут делать со всем тем стрессом и волнением, которые обрушатся на них, когда у них выявят болезнь сердца?
Diagnostic creep в отношении инфарктов миокарда лишь вершина айсберга. До болезни Альцгеймера людям ставят предеменцию, до гипертензии – прегипертензию, до диабета – предиабет. Проблема в том, что у многих пациентов, которым диагностировали эти «пре»-болезни, сама прогнозируемая болезнь так и не развивается[278], даже если с самого начала предполагалось, что она может проявиться спустя годы или десятилетия. И такие меры, как прием лекарств или изменение образа жизни, на самом деле не влияют на конечный результат. Во многих случаях пациентов лишь подвергают ненужным обследованиям и процедурам[279].
Что провоцирует гипердиагностику? Главное условие, при котором новый тест может занять место старого и привычного, – его способность выявлять болезнь на самой ранней стадии. Это свидетельствует о его эффективности, даже если ранняя постановка диагноза не помогает назначить более действенное лечение. Врачи, конечно, не хотят пропустить и один инфаркт на тысячу пациентов, однако такое неприятие риска может стоить сотен неоправданно поставленных диагнозов[280].
Похоже, что система здравоохранения в целом взяла курс на увеличение круга больных – тех, кого признают здоровыми, уже совсем мало, а то и вовсе не осталось. Как показало одно исследование, все протоколы диагностики и лечения в мире сейчас расширяют определения болезней, вместо того чтобы делать их более узкими и конкретными[281]. Эта тенденция имеет немало циничных обоснований: большинство научно-медицинских учреждений, ведущих диагностические протоколы, получают финансирование от биомедицинской индустрии[282]. Кроме того, для индустрии здравоохранения пациенты – просто клиенты, и щедрая раздача диагнозов лишь увеличивает приток покупателей.
Кардиологическая версия маммографии и ПСА – стресс-тест. Этот тест получил такое распространение, что о нем слышали уже, похоже, все. В одних только США его каждый год назначают сотням тысяч пациентов. Но по сей день, сколько бы уже миллионов раз его ни сделали во всем мире, реальная польза от него остается по меньшей мере не вполне очевидной.
В сентябре 2008 г. США настиг такой страшный и глубокий экономический кризис, какого не случалось уже почти 100 лет. За США в эту дыру улетел и почти весь остальной мир. А началось все с эпидемии ипотек: кредиты стали раздавать заемщикам, которые в нормальных обстоятельствах ничего бы получить не смогли. Многие домовладельцы умудрялись платить взносы вовремя, и эти деньги, в свою очередь, служили основным ресурсом для инвестиционных банков и страхового бизнеса. Поэтому, когда пузырь на рынке недвижимости лопнул, слишком многие не смогли выполнить свои обязательства по взносам, и разрушительные последствия этого кризиса так или иначе ударили практически по каждому жителю планеты.
Правительство США и Федеральная резервная система сумели спасти большинство крупнейших банков страны, но повторения такой ситуации никто не хотел, так что нужно было думать, как избежать подобных кризисов в будущем. Одним из механизмов, которые были введены по закону Додда – Франка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей, стало стресс-тестирование: Федеральная резервная система прибегала к этому тесту, чтобы проверить, способны ли крупные компании выдержать будущие экономические спады. Впоследствии Тимоти Гайтнер, бывший во время того катаклизма министром финансов, написал мемуары под названием «Стресс-тест» (Stress Test, 2014), где рассказал о своей роли в принятии тех мер, которые помогли спасти экономику и обеспечить ее устойчивость перед лицом будущих катастроф.
Концепция, которая легла в основу финансовых стресс-тестов, была позаимствована у теста, ставшего основным средством диагностики ишемической болезни сердца. Между абсолютно здоровыми людьми, которые никогда не испытывали подозрительной рези в груди, и пациентами, переносящими явный инфаркт миокарда, бесчисленное множество тех, у кого есть какие-либо факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, у кого появилась непонятная боль в области груди, тех, кто подвергается хирургическим вмешательствам любой сложности – от удаления катаракты до пересадки органов. Так вот, стресс-тесты используются для решения двух основных вопросов: чтобы понять, действительно ли боль исходит от сердца, и чтобы выявить серьезные атеросклеротические поражения коронарных артерий, которые до этого обнаружить не удалось.
Для проведения стресс-теста человека, как правило, просят выполнить дозированную физическую нагрузку на беговой дорожке или велоэргометре – смысл в том, что при увеличении нагрузки на сердце нехватка кровоснабжения, которая может быть вызвана блокирующим коронарную артерию тромбом, даст о себе знать, даже если при обыденной нагрузке она не была заметна. Тем, кто не способен выполнять упражнения, могут ввести препарат, который симулирует эффект от физической нагрузки за счет того, что либо ускоряет сердцебиение, либо расширяет венечные артерии, увеличивая тем самым коронарный кровоток. Возможное развитие ишемии выявляют посредством ЭКГ или эхокардиографии (ультразвукового исследования сердца).
С точки зрения биологической достоверности и здравого смысла стресс-тест – беспроигрышный вариант. Он может показать (посредством ЭКГ, снятой во время выполнения пациентом упражнений, либо при помощи других ультразвуковых или радионуклидных методов визуализации), что какая-то часть сердца двигается при физической нагрузке менее активно, чем должна, а следовательно, крови в нее поступает недостаточно. Предельно разумный подход. С относительно недавних пор и по сей день стресс-тест проводят пациентам не реже, чем в машине меняют масло. Если представить себе сердце как бомбу замедленного действия, как противопехотную мину, которая только и ждет чьего-нибудь неосторожного шага, стресс-тест – это миноискатель, детектор, способный предотвратить взрыв, от которого сердце разнесет на куски.
Но по мере того, как проведение стресс-тестов становится обязательным требованием для множества разных ситуаций, их полезность оказывается все менее очевидной. У диабетиков велик риск развития атеросклероза, и проводить стресс-тесты диабетикам старше 40 лет стало нормой. Однако рандомизированные контролируемые исследования показали, что эта стратегия не приносит пользы и может лишь подвергнуть пациентов ненужным процедурам[283]. Другой случай, когда людей массово заставляют проходить стресс-тест, – подготовка к хирургической операции. Хирурги и анестезиологи всегда заинтересованы в том, чтобы знать наверняка, насколько высок у их пациентов риск инфаркта во время операции или после. По этой причине стресс-тестирование пациентов стало обязательным требованием перед любым хирургическим вмешательством. Но одно исследование за другим показывают, что стресс-тестирование перед операцией никак не влияет на ее исход и не снижает риск инфаркта миокарда у пациента[284]. Вместо этого оно лишь задерживает саму операцию и вынуждает к проведению других ненужных обследований и процедур. И хотя почти все медицинские организации теперь рекомендуют не проводить стресс-тесты без особой необходимости, что немного умерило всеобщий пыл в последние годы, их все равно используют слишком часто во множестве ситуаций, где толку от них никакого нет.
Проблема со стресс-тестом, как и со многими другими диагностическими тестами, в том, что, хотя он замечательно помогает выявлять пациентов с повышенным риском инфаркта, этот тест не доказывает, что, воспользовавшись его результатами, мы можем как-то повлиять на ситуацию.
И хотя медикаментозное лечение продолжает играть в кардиологии немаловажную роль, самый культовый метод лечения в кардиологии, технический прорыв, который размыл границу между хирургией и терапией, – это коронарные стенты: крошечные металлические конструкции, которые вставляются в коронарную артерию, чтобы расширить ее просвет, и помогают множеству пациентов избежать участи, грозившей им до появления этого метода, – неминуемой гибели или инвалидности. Несмотря на то, что стенты считаются одним из величайших изобретений XX в., сейчас они впали в немилость. Какая же судьба уготована им в нашем дивном новом мире?
Глава 7
Один поставленный вовремя стент…
Я, конечно, кардиохирург, но, по сути, я просто механик.
РАЙМОНД КАРВЕР. Начинающие (Begginers)
Как ни посмотри, вся работа врача так или иначе связана с историями. Будь то история болезни пациента, с которой приходится знакомиться, или истории из опыта коллег, которые мы пересказываем друг другу после работы, – вся наша профессия сопряжена с необходимостью создавать яркие, живые картины происходящего. И если многим рассказчикам в поисках своих историй приходится пускаться в опасные путешествия – Хемингуэй, например, мерился силами с быками и сражался в Первой мировой войне, – то врачам и медсестрам достаточно просто прийти на работу. И ранним утром, когда мы будим пациентов от их медикаментозного сна, и днем, когда мы ненароком слышим плач родственников в коридорах, и под вечер, когда мы редактируем записи в электронных историях болезни, истории наших пациентов вторгаются в нашу жизнь, хотим мы того или нет.
Начиная с первых дней в медицинском вузе врачи непрерывно учатся множеству самых разных вещей. Но вот чему нас редко учат, так это умению подбирать слова. Большинство разговоров между пациентами и врачами или медсестрами сплошь истории и метафоры. И очень важно уметь правильно выражать свои мысли, потому что метафоры, которые мы используем, могут оказать огромное воздействие на пациентов и их близких. В своей классической работе «Метафоры, которыми мы живем» Джордж Лакофф и Марк Джонсон написали: «Наше мышление и поступки глубоко метафоричны по своей природе»[285].
Пожалуй, никакой момент в медицинской практике не сопровождается таким числом сомнительных метафор, как момент угасания жизни пациента. Выражение «выдернуть вилку из розетки» так прочно обосновалось в американском медицинском лексиконе, что само по себе сформировало у целых поколений людей представление о том, как происходит отключение от системы жизнеобеспечения. Эта формулировка не только лишает пациента, в отношении которого она употребляется, человеческого достоинства, но и искажает суть самого процесса: кажется, что отключение критически больного человека от системы жизнеобеспечения ничем не отличается от эвтаназии, и это возлагает на тех, кто берет на себя такую ответственность, груз несправедливой вины. Вместе с тем в ходе трудных и продолжительных разговоров врачи и медсестры нередко используют для смерти различные эвфемизмы. Сердечно-легочную реанимацию и ИВЛ называют героическими мерами, а слова «смерть» и «умирание» в разговорах с пациентами и их родными часто заменяют какими-то уклончивыми альтернативами.
Никакая другая часть человеческого тела не предоставляет такой простор для метафор, как сердце. Практически всегда, когда врачам нужно объяснить пациентам патологию сердца – особенно если дело касается атеросклероза, – они прибегают к предельно эффективным аналогиям с работой сантехника. Сердце представляют в виде насоса, а выходящие из него артерии – в виде труб. Когда в какой-то из них появляется атеросклеротическая бляшка, труба засоряется. И что же делать? В бытовой жизни вы бы вызвали сантехника, а в моем мире, где ставки на порядок выше, вы вызываете кардиолога, который установит вам одно из гениальнейших изобретений прошлого века – коронарный стент.
Стенты во всем мире считаются одним из важнейших технологических достижений последних десятилетий. Это самый эффективный из существующих методов лечения пациентов с инфарктом миокарда – технология, спасшая миллионы жизней. Но метафорическое представление о стенте еще мощнее. Коронарный стент – такая сильная метафора, что стоит один раз ее себе представить, как забыть будет уже почти невозможно.
Когда у пациентов образуются атеросклеротические бляшки в коронарных артериях, питающих сердце, они перекрывают в этих тончайших сосудах ток крови и порой вызывают такие тяжелые последствия, как инфаркт. Стент – это крошечная конструкция из металлической проволоки, которую можно минимально инвазивным способом вставить непосредственно в артерию, в место сужения или окклюзии, которое предварительно расширяют, раздувая крошечный баллон, раскрыв таким образом просвет артерии. Почти половина кардиологов сравнивают эту процедуру с работой сантехника: когда труба забивается, ее расширяют при помощи металлического троса, к концу которого прикреплен железный конус, который можно уподобить стенту[286]. А чтобы сгустить краски, кровеносные сосуды часто называют виновниками вдовства[287].
Миллионы людей, заболевших инфарктом и думавших, что они уже никогда не увидят родных, не смогут работать и общаться с близкими, возвращаются к жизни и по-прежнему занимаются любимыми делами благодаря стентам и тем, кто их ставит. Но сейчас стенты впали в немилость. Результаты одного недавнего, широко растиражированного исследования бросили тень сомнения на полезность стентов для большого числа пациентов со стабильной стенокардией[288]. После их публикации некоторые стали скептически относиться к необходимости ставить стенты людям со стабильной стенокардией в отсутствие инфаркта миокарда.
Устанавливаются стенты в помещении, которое называется «лаборатория катетеризации сердца», и должен признать, что впервые ступив на эту территорию, я испытывал некоторый трепет, так как ожидал, что окажусь в суровой, агрессивной атмосфере, но оказалось, что это тихая, безмятежная гавань. До того момента почти весь мой врачебный опыт был сопряжен с вечной спешкой, перебежками от одного пациента к другому, галочками в бланках, попытками удержать в голове целый поток информации и непроходящим чувством, что я везде опоздал. Но в лаборатории катетеризации сердца время как будто замедлялось. В этом месте учишься не только управляться с катетерами, но и медитативно созерцать жизнь.
Если вы когда-либо задавались вопросом, зачем врачи берут такие гигантские кредиты на свое образование, учатся ночи напролет, живут на привязи к своим пейджерам, в постоянном страхе, что те могут зазвонить в любую минуту, то вам, возможно, стоит заглянуть в лабораторию катетеризации сердца во время процедуры. Ничто так не учит жизни, как занятие медициной, и нигде эти уроки не усваиваются так хорошо, как в месте, где граница между жизнью и смертью особенно тонка.
На вид лаборатория катетеризации – это темная пещера без окон, полная здоровенных пластиковых катетеров и острых инструментов, с каталкой для пациента ровно посередине. Рядом с каталкой, на которую кладут пациента, обычно стоит большой монитор, куда в режиме реального времени выводятся рентгеновские изображения. Кажется, из этого помещения выскребли всю душу, залив каждый миллиметр дезинфицирующим средством. В каждой такой лаборатории одна из стен, как правило, сделана из звуконепроницаемого стекла, за которым стоят врачи и младший персонал, готовые помочь советом, если дела идут гладко, или броситься на выручку, если все вдруг что-то пошло не так.
Когда я впервые очутился в лаборатории катетеризации, я чувствовал себя едва ли не паломником, достигшим заветной цели. Будучи студентом, я, как и многие, испытывал перед лабораторией катетеризации благоговейный трепет, но, несмотря на весь мой энтузиазм и степень подготовленности, мне разрешалось только смотреть – и ничего не трогать. И я сидел позади стеклянной стены, за которой работала бригада интервенционной кардиологии, и чувствовал, что моя мечта близка, но недостижима.
Катетеризация не похожа на хирургию – в ней нет непосредственного контакта с внутренними органами человека. Тут длинные пластиковые катетеры вводятся в артерию в области запястья или бедра и проводятся до самого сердца, где они выполняют те команды, которые им сообщают аккуратные, точные движения и повороты другого, внешнего конца, находящегося в пальцах врача. Заставить кончик двухметрового катетера двигаться так, как тебе нужно, держась за противоположный хвост – та еще задача, но в умелых руках это превращается в настоящее искусство.
Впервые оказавшись в лаборатории катетеризации, я был в шоке от всех тех инструментов, которые мне предстояло освоить. Было чувство, что мне выдали стаю диких собак, чтобы я их приручил, – а они и не думают меня слушаться. Мне было трудно даже просто ввести катетер в артерию. Зачастую, когда я готовился пунктировать бедренную артерию пациента, один вид его паха повергал меня в такой же ступор, какой у писателей вызывает чистый лист. Иглу надо вводить строго вертикально. Если отклонить ее вверх, то пункция может привести к кровотечению и образованию забрюшинной гематомы; если игла отклонится вниз, то катетер придется вводить в более тонкий отдел сосуда, что может привести к его частичному разрыву и образованию ложной аневризмы. Порой такие осложнения проходят относительно беспроблемно, но иногда они влекут за собой экстренное хирургическое вмешательство, а в крайне редких случаях и смерть пациента. Так что участок, на котором можно безопасно ввести катетер в бедренную артерию, составляет всего несколько миллиметров в длину.
Я думал, что за время практики в лаборатории катетеризации узнаю во всех деталях, как управлять катетерами и проводить эти процедуры. На деле я узнал гораздо больше. Работа в лаборатории показала мне, что все наши действия имеют свои последствия. Там любое неверное движение, малейшее ослабление внимания, даже намек на недовольство или усталость могут придавить вас, как груда свинцовых костюмов, которые нужно надевать на эти процедуры. Костюмы весят по 7 кг, порой даже больше, и используются для того, чтобы защитить медицинский персонал от рентгеновского излучения[289].
Помню, однажды я на мгновение провел проводник диаметром всего 0,9 мм в коронарную артерию вместо того, чтобы остановиться в безопасном пространстве аорты. В очень редких случаях проводник может повредить коронарную артерию, что, в свою очередь, может закончиться обширным инфарктом. Я не успел ничего повредить и мгновенно оттянул проволоку назад, но это был один из самых страшных моментов моей жизни. Кардиолог, стоявший возле меня, взял дальнейшую работу на себя. Лаборант, который тоже стоял рядом, распознал мои эмоции даже под маской и стерильной шапочкой, которыми они были скрыты. «Все нормально», – прошептал он.
Лаборатория катетеризации учит нас, что действовать нужно не тогда, когда это не грозит никакими последствиями, а тогда, когда самые страшные последствия вызовет бездействие. Лично мне лаборатория напоминала о том, что мы, врачи, можем дать пациентам в их самый трудный час. Я помню ту ночь, когда я, будучи резидентом, работал в отделении интенсивной терапии кардиологического профиля и к нам привезли женщину 50 лет, у которой произошла остановка сердца. У нее случился инфаркт миокарда с таким подъемом сегмента ST, что волна Хокусая отдыхала, – и сердце перестало биться. Ее перевели на ИВЛ и подключили к АИК, который качал ей кровь вместо неработающего сердца, а дежурный врач освободил ее переднюю межжелудочковую артерию от массивного тромба в месте разветвления. После этого женщина прожила недолго, но сумела дождаться, пока ее сын, морской пехотинец, служивший в Афганистане, приедет проститься.
Лаборатория катетеризации также показала мне, как важно полностью концентрироваться на том, что делаешь. «Лаборатория катетеризации – это море адреналина», – сказал мне один из моих старших преподавателей Митч Крукофф перед началом нашей совместной операции. Мне нужно было изучить это море, превратить его в спокойный, безмятежный пруд, в котором я сразу смог бы заметить любую подозрительную волну, любую ненужную рябь. В лаборатории вас постоянно закидывают информацией, и нужно было научиться ее воспринимать, не теряя при этом из виду главную задачу. Надо внимательно следить за действиями манипулирующего кардиолога, которому ты ассистируешь. «Четыре руки, одна голова», – часто повторял Крукофф. На протяжении большей части моей медицинской подготовки я чувствовал, что меня как будто все время молчаливо подгоняют под благовидным предлогом эффективности: представляй пациентов быстрее, веди записи быстрее, смотри истории болезней быстрее. Работа в лаборатории катетеризации научила меня не торопиться.
Третий урок, который она мне преподала, – это то, как важно уметь прощать. Однажды мне никак не удавалось катетеризировать артерию. И хотя дальше процедура прошла как по маслу, по ее окончании доктор Крукофф вызвал меня на разговор. «Нужно научиться себя прощать», – сказал он мне. Почти у всех, кому удалось стать кардиологом, по жизни к себе очень высокие требования. Большинству нужно было для этого получать хорошие оценки в школе и колледже, поступить в медицинский вуз, пройти через нелегкую резидентуру и суметь попасть в кардиологию – медицинскую специальность с самым высоким уровнем конкуренции. Все, кто одолел этот путь, не привыкли к тому, чтобы проигрывать, не справляться с первого раза и чего-то не знать.
В лаборатории катетеризации все на виду. Каждый поворот, каждое движение тут же транслируются на огромные экраны – и их видят и судят все вокруг. Это одно из тех мест, где врачи не могут скрыть мысли в глубинах своего непроницаемого сознания, завуалировать истину профессиональным жаргоном или решительно отмахнуться от любых вопросов. Тут невозможно дистанцироваться ни от коллег, ни от пациента – мы связаны и идем одной дорогой, куда бы она нас ни привела.
Именно в таком созерцательном настроении я пребывал в тот раз, когда мне выпало проводить предварительную беседу с одним пациентом и его женой. Он участвовал во Второй мировой войне, накопил за жизнь немало историй, но в тот день рассказал только одну: о том, как проснулся от боли в груди и понял, что надо ехать в больницу. Несмотря на возраст, он прекрасно выглядел – во всех ветеранах, которых я встречал и лечил в госпитале для ветеранов США, было что-то особенное, какая-то невероятная сила духа. Их ничто не могло сломить, и годы в том числе. Трудно было не почувствовать, какая любовь связывала его с супругой. Она была сильно взволнована, но он уже не жаловался на боль и сидел напротив меня так же непринужденно, как если бы отдыхал сейчас в кресле у себя во дворе, пуская по ветру бумажные самолетики. «Все будет в порядке», – сказал я, глядя ей в глаза.
Вскоре пациента привезли в лабораторию катетеризации, он сам встал с кресла и лег на стол. Лаборант обтер его и укрыл стерильной простыней, оставив снаружи только лицо, чтобы он мог спокойно дышать. Я подошел к его запястью, но, пока я вводил ему в лучевую артерию катетер, у него опять появилась боль в груди. Он стал совсем бледным, почти прозрачным. Безмятежное море очнулось от глубокого сна, поднялись грозные адреналиновые волны, вздымающиеся к самому небу и падающие вниз, как муссонный ливень.
Высокий, худощавый кардиолог выбежал из комнаты за стеклом и взял выполнение процедуры на себя. Я отошел в сторону и занялся введением лекарств. Я понимал, что иначе буду только мешать. За несколько мгновений кардиолог довел катетер до коронарных артерий пациента. При взгляде на первый снимок у меня самого чуть не остановилось сердце. Вместо них, свободно расходящихся в стороны ветвей коронарных артерий, которые обхватывают сердце, как пальцы, держащие грейпфрут, там был какой-то обрубок – узкий ход, который заканчивался тупиком, едва успев начаться. Врач стал проталкивать по просвету катетера стилет, надеясь пробиться через сгусток, блокирующий кровоток в главной левой коронарной артерии. Он делал это предельно внимательно, словно вел хрупкую шхуну сквозь бурю. Он осторожно протиснул проволоку за тромб, но внезапный приступ пациента так же неожиданно оборвался, и его извивающееся тело вдруг обмякло – началась фибрилляция желудочков.
Я склонился над пациентом и начал делать непрямой массаж сердца, а врач продолжил свою работу. Еще один врач наложил на лицо пациента маску и стал проводить искусственную вентиляцию легких кислородом. Тем временем кардиолог-интервенционист провел проводник по передней межжелудочковой артерии, огибающей сердце до его верхушки, а затем вытянул его назад. Хотя я делал непрямой массаж сердца, из-за чего тело пациента ходило ходуном, интервенционист продолжал свое дело: методично устанавливал стенты по пути назад из артерии, полностью заполняя ее металлическим каркасом. Если сравнить катетеризацию сердца с изобразительным искусством, он был словно Джексон Поллок, жестко швыряющий краску на беззащитный холст. С чисто технической точки зрения это был лучший пример мастерского владения инструментарием, который я когда-либо видел. Однако этот шедевр так и не увидел свет: пациент умер.
Как только это произошло, все замерли. Я встретился глазами с кардиологом, проводившим процедуру. Будучи еще только резидентом, я буквально жил словами похвалы и одобрения, хватал каждое «молодец», словно золотую монету. Каждый благосклонный кивок, каждый заслуженный мною доверительный взгляд значил для меня бесконечно много. Но на этот раз я почувствовал, что сам должен высказать свою поддержку. Я посмотрел на опытного врача и после короткой паузы сказал ему: «Я бы доверил вам жизнь своего отца». Когда все практические вопросы были решены, наступил самый тяжелый момент. Разговор с супругой, ожидающей конца процедуры.
Я по сей день вспоминаю свою встречу с этой парой перед операцией. Мне кажется, я слишком сильно к ним проникся, воспринял их как близких и знакомых мне людей – хотя я видел их впервые. Надо ли было говорить ей, что все будет в порядке? Я не знаю до сих пор.
Я познакомился со своим другом Саджадом, когда только приступил к научной работе в Бостоне. Он был кардиохирургом и одним из самых скромных людей, которых я когда-либо встречал. Очень наблюдательный от природы, он предпочитал всегда оставаться в тени, подальше от гущи событий, но в пределах слышимости. Мне казалось, что я по-прежнему не очень хорошо его знаю, пока однажды не увидел, как он, орудуя электропилой, раскрывает пациенту грудную клетку. Жуткий звук, с которым пила проходила сквозь кости человека, заполнял всю операционную. Саджад неотрывно смотрел на раскрытую грудь пациента, прекрасно осознавая, что при малейшем отклонении от курса пила может вонзиться прямо в сердце, бьющееся под распиленной грудиной.
Разрезав пациента ровно до середины, Саджад приступил к выполнению вовсе не какой-то редкой, диковинной процедуры – он всего лишь провел одну из самых распространенных операций в мире.
Каждый год сотни тысяч американцев и еще миллионы жителей остального мира переносят операцию аортокоронарного шунтирования (coronary artery bypass graft – CABG). Эту операцию называют по-разному: коронарным шунтированием, шунтированием сердца, операцией на открытом сердце – но те, кому приходится говорить о ней каждый день, зовут ее просто cabbage («капуста»)[290]. Эту операцию пережили многие известные люди. В последнем эпизоде своего ТВ-шоу «Larry King Live» Ларри Кинг сказал гостю, Биллу Клинтону, что они оба состоят в клубе «застегнутых на молнию». Клинтон громко рассмеялся, но через несколько минут «люди в костюмах» попросили Кинга пояснить, что он имел в виду под «застегнутыми на молнию», – и Кинг уточнил, что им обоим сделали шунтирование, после которого «тебя снова застегивают на молнию». Но оставим щекотливые двусмысленности: АКШ – одна из самых известных операций, и, пожалуй, никто не придумал ей такое красноречивое описание, как Дэвид Леттерман, сравнивший ее с разделыванием лобстера.
Сердечная болезнь не подкралась к Леттерману незаметно, как опасный незнакомец на темной улице дождливой ночью. Она уже приходила к нему в дом за несколько десятков лет до этого: тогда она внезапно оборвала жизнь его отца, которому не было и 60. Самому же Леттерману сделали шунтирование, и всего через пять недель после операции он уже снова вернулся на свою передачу с такими словами: «После всего случившегося мне остается только радоваться, что я ношу одежду, которая расстегивается спереди».
За день до катетеризации сердца, которую ему назначили на 14 января 2000 г., Леттерман чувствовал себя совершенно здоровым человеком и мог спокойно пробежать без остановок 10 км. Когда на студийные экраны вывели изображения его коронарных артерий, он сказал аудитории: «У меня [была] граната в главной левой коронарной артерии».
Его первый гость, Реджис Филбин, спросил: «Вы были шокированы, когда вам сказали, что нужно ставить пять шунтов, и дали ли вам время подумать или вас сразу скрутили и уложили на операционный стол?» Леттерман ответил: «Мне сделали ангиограмму два года назад, но тогда мне повезло: сказали, что все в порядке, надо просто наблюдать. Но в этот раз я понимал, что дело добром не кончится. Я чувствовал, что второй раз в таком вопросе повезти не может».
Ему тут же назначили день операции, и через несколько дней хирурги «переделали ему трубы». Семь лет спустя и у Реджиса были получены плохие результаты стресс-теста, и он тоже был вынужден дать согласие на АКШ.
Когда стало ясно, что инфаркт миокарда возникает из-за недостаточности коронарного кровообращения и что в некотором смысле это похоже на засор в трубах, восстановление кровотока хирургическим путем показалось самым очевидным, интуитивно понятным решением. Первый удар – в прямом и переносном смысле – принял на себя Алексис Каррель (1873–1944), один из самых удивительных людей в истории медицины[291]. Когда Каррель еще только обучался медицине во французском Лионе в 1894 г., тогдашний президент Франции Сади Карно был ранен анархистом во время парада прямо у него на глазах. Президента привезли в больницу, но хирурги лишь беспомощно смотрели, как он умирает, истекая кровью, потому что не знали, как сшить несколько разорванных сосудов. Алексис был в смятении, но обращаться с расспросами к своим преподавателям не стал – он знал, что им нечего будет сказать. Вместо этого он пошел к самой знаменитой портнихе города и попросил научить его искусству наложения швов. Обретенное мастерство быстро принесло ему успех, но, прославившись в столь юном возрасте, Каррель обзавелся множеством врагов – его карьера во Франции завершилась отъездом в Канаду. В конце концов, он добрался до США и стал одним из самых знаменитых хирургов своего времени. Помимо множества других достижений, в 1910 г. Каррель стал первым хирургом, присоединившим к коронарным артериям собаки другой кровеносный сосуд – правда, та первая операция закончилась неудачей.
Хирурги понимали, что если бы им только удалось каким-то образом восстановить кровоток в пораженных коронарных артериях, то все сразу встало бы на свое место. За десятилетия хирурги перепробовали множество вариантов: они пришивали к сердцу грудные мышцы, слизистую оболочку кишечника и даже легкие в надежде, что сосуды из этих тканей и органов прорастут в сердечную мышцу[292]. Другие пытались простимулировать оболочку сердца, перикард, такими средствами, как тальк, песок, асбест и даже молотая говяжья кость, надеясь, что от этого начнут формироваться новые сосуды. Однако в конце концов выяснилось, что за идеальным сосудом, способным поддержать больные коронарные артерии, далеко ходить не надо. Им оказалась левая внутренняя грудная артерия – длинный сосуд, который проходит вертикально прямо за сердцем и может быть легко соединен с его главной коронарной артерией. Левая внутренняя грудная артерия – это наш кровеносный автобан.
Хирурги стремились помочь пациентам со стенокардией и разработали процедуру под названием «перевязка внутренних грудных артерий», при которой путем перевязывания внутренних грудных артерий кровь направляется обратно к сердцу, что облегчает состояние пациентов с болью в груди. Как оказалось, это было верное решение: почти у всех, кому была проведена эта процедура, стенокардия заметно отступала. В 1957 г. в Reader’s Digest вышла статья, бурно нахваливающая результаты такой операции, – и тогда многие задались вопросом, почему до сих пор в мире остаются пациенты, страдающие стенокардией, которым не перевязали внутренние грудные артерии[293]. Эта статья, опубликованная в одном из самых читаемых изданий того времени, оказала на медицину большее влияние, чем любая научная работа. Процедура была относительно проста, выполнялась под местной анестезией и требовала лишь небольшого разреза над ребрами.
Так почему же ее больше никто не делает? Что ж, причина в невероятно дальновидном исследовании с применением недюжинной ловкости рук, результаты которого были обнародованы в 1959 г.[294] Пациенты, вдохновленные возможностью перевязать грудные артерии и избавиться от изматывающей боли в груди, охотно записались в ряды испытуемых – при этом «пациентам сказали лишь то, что они помогут оценить эффективность процедуры». О чем же исследователи умолчали? Ну, в общем-то, о главном аспекте исследования. Когда хирурги делали разрез, им выдавали конверт, в котором говорилось, перевязывать ему артерию или нет, а пациент, перед лицом которого устанавливалась ширма, оставался в неведении, что там происходит. После процедуры врачам, которые занимались этими пациентами после операции, тоже не говорили, была ли им проведена перевязка или нет. То есть, по сути, для части испытуемых вся эта процедура была лишь имитацией. Этот маленький эксперимент всего лишь с 17 испытуемыми, девять из которых получили лишь шрам на груди и ничего более, по сей день во многом определяет и отношение к боли в груди, и взаимодействия с пациентами, и характер ныне проводимых исследований. По его результатам между состоянием и симптомами тех, кому сделали перевязку артерий, и тех, кого просто разрезали и зашили, не обнаружилось никакой разницы.
После этого исследования операция по перевязке внутренних грудных артерий умерла тихой смертью, но самим внутренним грудным артериям еще только предстояло заявить о себе в вопросе хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Вскоре левая внутренняя грудная артерия стала ключевым звеном современной кардиохирургии.
Идея АКШ очень проста: нужно создать для тех частей сердца, которые не получают достаточное питание из-за атеросклероза в коронарных артериях, альтернативный источник обогащенной кислородом крови. Для этого хирурги используют другие кровеносные сосуды, через которые коронарные артерии можно подсоединить напрямую к аорте, в обход заблокированного участка. Следовательно, во время АКШ хирурги берут нижний конец левой внутренней грудной артерии и, как правило, пришивают его к левой внешней нисходящей артерии дальше ее блокированного забитого участка, обеспечивая таким образом мощный приток крови к сердечной мышце. Если заблокированы другие коронарные артерии, хирурги берут вены из ноги и соединяют ими эти коронарные артерии с аортой. Но в отличие от вен из ног левая внутренняя грудная артерия не сужается намного дольше, потому что у нее есть какая-то почти волшебная способность не обрастать атеросклеротическими бляшками. Именно благодаря этой чудесной артерии АКШ способно продлить жизнь пациентов даже с очень тяжелыми формами атеросклероза.
АКШ существует уже давно, и, по крайней мере за последние годы, оно не сильно изменилось. Почти всегда хирурги делают вертикальный разрез в центре груди вдоль средней линии грудины. Как вы понимаете, делать операцию на микроскопических сосудах, когда сердце скачет, как заяц, было бы проблематично. Так что реальному взлету операций на сердце весьма поспособствовало изобретение аппарата искусственного кровообращения, который позволил работать с абсолютно неподвижным и обескровленным сердцем.
Как происходит искусственное кровообращение? На сосуды, идущие к сердцу и от сердца, устанавливаются клеммы, и сердце, по сути, оказывается изолированным. Вся венозная кровь, возвращающаяся в сердце по двум крупным венам, перенаправляется в аппарат, который насыщает ее кислородом и направляет в аорту. В то же время сердце омывают жидкостью, которая его парализует, из-за чего его потребность в кислороде минимизируется. Таким образом, аппарат искусственного кровообращения расчищает для хирургов площадку и позволяет им творить свое волшебство. Однако при работе с аппаратом искусственного кровообращения каждая секунда на счету, потому что с каждой секундой возрастает риск повреждения мозга, почек и самого сердца. Поэтому с того момента, как запускают АИК (аппарат искусственного кровообращения) и кровь из организма выводится вовне, начинается обратный отсчет, и хирургам приходится поторапливаться. Однако, хотя сейчас уже существуют технологии, позволяющие проводить АКШ без использования аппарата искусственного кровообращения, делать операции на бьющемся сердце невыгодно во всех отношениях[295].
Но радует то, что с каждым годом АКШ становится все более и более безопасным. Если вначале, когда эта операция только-только обрела популярность, ее не переживал один человек из десяти, то теперь это один-два человека из 100. Самое страшное ее осложнение – инсульт, который возникает у 1–2 % перенесших ее пациентов[296].
Популярность АКШ достигла пика в 2000 г., когда полмиллиона американцев стали вступать в клуб «застегнутых на молнию» каждый год. Но сейчас это число уже уменьшилось и составляет примерно 200 000 человек в год, при этом делают АКШ теперь более возрастным и тяжело больным пациентам. На самом деле к настоящему моменту спрос на все кардиохирургические вмешательства резко упал, и число студентов-медиков, которые решают посвятить себя кардиохирургии, стало намного меньше, чем раньше.
Что же сместило кардиохирургию с ее пьедестала? Все началось со смелой выходки, потом приключилась история с одной очень удачной ошибкой, а затем наконец возникло одно изобретение, собранное буквально в кухонной раковине. Что бы там ни говорили поэты и влюбленные, но на протяжении большей части истории человечества увидеть сердце можно было только после того, как оно умрет. Так было до тех пор, пока во время попойки с друзьями у Вернера Форсмана, молодого хирурга-интерна из Германии, не возникли кое-какие любопытные соображения.
В анналах истории науки о сердце, которые в равной степени полнятся мизантропами и безумцами с манией величия, Вернер Форсман занимает особое место. По всей видимости, он, особенно в молодости, был дерзким малым. В то время как биографии и характеристики других ученых изобилуют такими словами, как «пытливый», «решительный» и «настойчивый», единственное слово, которым чаще всего описывают личность Вернера в молодости, – «безрассудный».
Все, чье представление об ученых сформировано фильмами или телевидением, вероятно, полагают, что некоторая доля безрассудства – неотъемлемая черта любого, кто занимается наукой. В таких блокбастерах, как «Парк Юрского периода» или «Планета обезьян», пылкие исследователи идут на отчаянные, сумасбродные шаги, что приводит, мягко говоря, к непредвиденным последствиям. Однако в реальной жизни сумасбродные ученые, как правило, проводят сумасбродные исследования и приходят к несообразным, тупиковым результатам, которые редко удается получить повторно. Зачастую все, чем занимаются такие сумасбродные ученые, – это копируют и вставляют чужие данные, подтасовывают результаты и хамят своим ассистентам.
Вернеру Форсману нередко доводилось прикасаться к человеческому сердцу, но случалось это, как правило, на столе для аутопсии. В своих мемуарах, которые были изданы в 1972 г. и переведены на английский в 1974 г., он вспоминает, как один из его менторов однажды сказал: «Люди смердят злобой, трупы просто смердят»[297]. Однако дерзкому малому Форсману было мало трогать чужие мертвые сердца, и он похвастался друзьям, что будет первым, кто коснется собственного сердца. Как он собирался это сделать? Он уж точно не пошел бы тем путем, который предлагали его преподаватели: «Путь к сердцу женщины лежит через вагину. Нужно пройти через матку и фаллопиевы трубы в брюшную полость, потом через лимфатическое пространство попасть в лимфатические сосуды и вены – и затем двигаться прямо к цели!» Но, как отмечает Форсман в своих мемуарах, эта «несколько вульгарная гипотеза» стала источником «вдохновения для моей последующей работы».
Увидев, как ветеринары вводят пластиковые катетеры в вены на шее лошади, Форсман надумал нечто более радикальное: надо ввести катетер в вену на руке пациента и протолкнуть ее к сердцу. Катетеров, пригодных для такой процедуры, не существовало, поэтому он сказал начальству, что использует мочевой катетер. Идея была абсурдной, потому что мочевые катетеры слишком толсты, чтобы пытаться впихнуть их в тонкую вену. Форсман получил категорический отказ, но не сдался. Поскольку ему нужны были свидетели, он уговорил медсестру стать его подопытным кроликом. Когда Форсман нацелился на то, чтобы ввести ей катетер в вену на сгибе локтя, она поняла, что ее одурачили, – и тогда Форсману пришлось ввести катетер самому себе. И так, с полуметровым катетером, один конец которого дошел до правого предсердия, а второй болтался снаружи, Форсман при помощи медсестры добрался до рентгенологического кабинета и заставил потрясенных рентгенологов сделать снимок. После Форсмана жестко осудили за эти своевольные действия, и его мечта стать кардиологом обратилась в прах. Путь в кардиологию был для него закрыт, и дальнейшую карьеру он строил в той сфере, где мочевым катетерам и было место, – в урологии. Однако, несмотря на смену специализации, в 1929 г. он опубликовал снимок с катетером, проходящим от руки до сердца, в самом престижном медицинском журнале Германии, Klinische Wochenschrift[298].
Жизнь и карьера Форсмана пошли и вовсе под откос, когда в 1931 г. он вступил в нацистскую партию и стал – по крайней мере по собственному признанию – невольным инструментом для проведения жутких нацистских экспериментов и экзекуций. Следующие два с лишним десятилетия он погружался все дальше на дно, пока вдруг в 1956 г. ему не позвонили на домашний телефон. Сам он был в этот момент в пабе и, когда жена сказала, что кто-то его искал, не придал этому большого значения. И только придя на следующий день на работу, он узнал, по какому поводу ему звонили: он получил Нобелевскую премию по медицине[299].
С тех пор как Форсман расстался со своей детской мечтой стать кардиологом, в этой области медицины, без его ведома, произошли грандиозные изменения, во многом вдохновленные тем его единственным рентгеновским снимком с мочевым катетером в вене руки. Появились два важных новшества: во-первых, были изобретены катетеры, способные измерять давление в сосудах и сердце, что давало очень полезную информацию о работе сердца; во-вторых, через катетеры научились вводить красители, которые позволяли увидеть структуры сердца и кровеносные сосуды на рентгене. Давнишняя мечта разглядеть сердце – эту неутомимую трудолюбивую пчелку – во всех деталях и при этом не покалечить и не убить его обладателя наконец сбылась.
Впрочем, одна составляющая сердца по-прежнему оставалась недоступной. Андре Курнан, переехавший в США французский врач, который разделил Нобелевскую премию с Форсманом, заявил, что почти все животные, которым в коронарные артерии вводили контрастную жидкость, погибли[300]. Так что, хотя теперь кардиологи могли вводить контрастную жидкость в левый желудочек, в аорту и другие крупные структуры сердца, они старались держаться как можно дальше от коронарных артерий. И получалось, что едва ли не самая важная часть сердца, та зона, где образовываются и разрываются самые коварные атеросклеротические бляшки, оставалась тайной. Но если первая катетеризация сердца была смелой выходкой одного дурня, то первая успешная коронарная ангиограмма (визуализация коронарных артерий) произошла из-за другого частого явления в истории науки – удачной ошибки.
Если Вернер Форсман был аномалией в истории науки – интерном, который замахнулся на немыслимое, добился успеха и больше не сделал ничего выдающегося за всю оставшуюся жизнь, – то Ф. Мейсон Сонс относился к тому же типу, что и многие знаменитые ученые, по стопам которых он шел. Одержимый исследователь, из-за своего стремления все контролировать категорически неспособный разделять с кем-либо полномочия, он получил прозвище Буревестник кардиологии[301]. Сонс работал в Кливлендской клинике, где начал первым использовать метод катетеризации сердца. Однако даже самым талантливым ученым бывает нужен счастливый случай.
28 октября 1958 г. Сонс должен был ввести краситель в аорту молодого человека и одновременно сделать рентгеновские снимки. Но в момент ввода красителя катетер выскочил прямо в правую коронарную артерию пациента и выплеснул все контрастное вещество туда. На экране рентгеновского аппарата тотчас появилось отчетливое изображение этой артерии во всю ее длину. «Мы убили его!» – заорал Сонс и бросился за скальпелем, ожидая, что у пациента сейчас начнется фибрилляция желудочков и придется вскрывать грудную клетку для проведения прямого массажа сердца. Но у пациента не возникла фибрилляция желудочков – его сердце вообще перестало биться. Пациент был все еще в сознании, и Сонсу хватило хладнокровия и здравого смысла попросить его кашлянуть, из-за чего его сердце забилось снова, и инцидент был исчерпан.
Сонс был потрясен, но осознавал всю серьезность того, что произошло. Он опросил коллег, которые тоже вводили по неосторожности краситель в коронарные артерии пациентов, но их истории были одна страшнее другой. Однако Сонс был полон решимости выяснить, как это можно сделать без последствий, поскольку понимал: если удастся увидеть, что творится в коронарных артериях, это будет эпохальным прорывом – хотя даже он не мог предвидеть всех возможностей, которые тогда откроются. Спустя годы он написал в одном письме: «С немалым страхом и трепетом мы начали программу по достижению своей цели». Вместо 40–50 куб. см контрастного вещества, которые он вводил в аорту, Сонс стал использовать гораздо меньшие дозы, которые в достаточной мере заполняли и делали коронарные артерии видимыми на рентгенограммах, но при этом не вызывали остановку сердца.
Коронарная ангиография сразу обеспечила такое глубокое понимание сердечно-сосудистых заболеваний, о котором раньше можно было лишь мечтать. Внезапно стало возможным не только визуализировать атеросклероз в коронарных артериях, который проявлялся в виде наростов на внутренней поверхности сосудов, сужающих их просвет, но и следить за изменениями, происходящими в этих бляшках. Кроме того, коронарная ангиография, которая, хотя в значительной мере позволила вытеснить из практики АКШ, дала тем не менее возможность проводить кардиохирургические вмешательства по-настоящему эффективно. До ее появления главным способом лечения стенокардии была так называемая операция Вайнберга, при которой левая внутренняя грудная артерия (ЛВГА) вшивалась непосредственно в мышечную стенку сердца[302]. Считалось, что это спровоцирует рост маленьких кровеносных сосудов, которые будут поставлять кислород в больное сердце. Однако коронарные ангиограммы Сонса показали, что, думая, будто формирование таких дополнительных сосудов возможно, врачи лишь выдавали желаемое за действительное. Отказ от операции Вайнберга расчистил путь современному АКШ, при котором ЛВГА и сосудистые трансплантаты вшиваются непосредственно в коронарные артерии за теми участками, где, по данным ангиограммы, наблюдается особенно сильное сужение. Однако самому Сонсу пришлось дорого заплатить за эти достижения: он не мог уделять семье достаточно времени, в итоге развелся и стал еще «более раздражительным»[303].
Но хотя ангиография коронарных артерий позволила ставить диагнозы и качественно проводить АКШ, кардиологи чувствовали себя бесполезными: да, они умели теперь делать отличные снимки, но все равно не могли толком помочь своим пациентам. Под конец своей карьеры Мейсон Сонс посетил презентацию немецкого врача Андреаса Грюнцига на ежегодной конференции Американской кардиологической ассоциации в 1977 г. В своей кухонной раковине Грюнциг смастерил приспособление, с помощью которого можно было делать то, о чем всегда мечтал Сонс: не только обнаруживать атеросклероз, но и устранять его последствия. Когда презентация Грюнцига закончилась, Сонс подбежал поздравить его со слезами радости на щеках. Приняв эстафету от одного немца, он передал ее другому. Изобретение Грюнцига не было ни случайностью, ни интуитивным озарением – это был результат долгих лет тщательного планирования и фанатичного стремления к своей цели.
Грюнциг родился в Дрездене в 1939 г. Он не был таким дерзким малым, как Форсман, и уж тем более таким брюзгой, как Сонс. Он был художником – вроде режиссера авангардных инди-фильмов. Он был чародеем, «мастером останавливать мгновения», красавцем с колоссальным чувством стиля, которое ощущалось, возможно, сильнее всего, когда он находился в лаборатории катетеризации[304]. По описанию коллеги во время процедур «его шапочка была сдвинута набок – так он будто заявлял всему миру, что привык бросать вызов любым жизненным трудностям»[305]. Его «великолепные руки», по словам другого сотрудника, были «большими, сильными, выразительными, красивой формы. Даже когда они были скрыты под хирургическими перчатками, в них чувствовался характер».
Отец Грюнцига, метеоролог, пропал без вести во время Второй мировой войны, и мать растила их с братом одна[306]. После непродолжительной эмиграции, поближе к родственникам в Аргентину, семья переехала обратно в Германию, в Лейпциг, но вскоре Грюнцигу пришлось оставить мать в Восточной Германии, откуда он уехал буквально перед возведением Берлинской стены и закрытием границы.
После Грюнциг ненадолго переместился в Лондон, где проводил исследования, посвященные организации здравоохранения, но затем объектом его интереса стал атеросклероз. Грюнцигу показался «любопытным» комментарий одного из пациентов, который спросил, нельзя ли избежать медикаментозного лечения и шунтирования, просто «прочистив» заблокированные артерии, «как сантехник чистит трубы проволочными щетками». Вдохновляясь отчасти работой радиолога Чарльза Доттера, которую тот проводил в Орегоне, Грюнциг решил найти средство, как уменьшить вызванные атеросклерозом заторы в артериях. Он начал с того, что стал вводить катетеры в пораженные сосуды и буквально проталкивать бляшки дальше, открывая проход почти так же, как это делают сантехники. Сперва он опробовал эту процедуру на пораженных артериях в ногах пациентов, но, хотя результаты были впечатляющие, начальство Грюнцига было «недовольно тем, что больные артерии травмируются катетером, который насильно проталкивают через место сужения».
И вот тогда Грюнцигу пришла мысль о том, что, возможно, было бы лучше вдавить бляшку в стенку сосуда, как бы оставив «след на снегу». Затея была рискованная: кровеносные сосуды очень хрупкие, так что слишком сильное давление изнутри может их разорвать и вызвать катастрофическое кровотечение. Но если давление на бляшку будет недостаточным, процедура окажется бесполезной, поскольку преграда либо не будет устранена, либо вскоре появится снова. Грюнциг решил, что добьется нужного эффекта, если сумеет ввести в сосуд маленький баллон и затем надуть его внутри. Баллоны должны были быть такими тоненькими, чтобы их можно было вставить в артерии 3 мм шириной, но достаточно крепкими, чтобы раздвинуть стенки сосуда. Дочь Грюнцига, которая все детство ела за тем же столом, за которым отец трудился над своими разработками, выросла с ощущением, что эти баллоны ее братья-близнецы.
Потребовались сотни экспериментов и модификаций, бесчисленные ночи и выходные дни, проведенные за работой, помощь инженеров, химиков и других специалистов, прежде чем Грюнциг наконец придумал похожий на сосиску баллон, который можно было бы надуть тонким катетером. Прежде чем приняться за сердце, он опробовал свое изобретение на относительно более безопасном объекте. Фрица Отта, мужчину 67 лет, мучили сильные боли в ноге, вызванные закупоркой крупной бедренной артерии. Грюнциг, по свидетельствам очевидцев, целый час объяснял Отту суть процедуры и 12 февраля 1974 г. провел ему первую баллонную ангиопластику. Он ввел ему в артерию баллон через разрез в области паха и надул его в той части артерии, которая была сильнее всего сужена, а потом повторял эту процедуру на других заблокированных участках до тех пор, пока артерия не приобрела на рентгеновских снимках относительно здоровый вид. Так эта процедура была проведена впервые – и примерно так же она проводится и сегодня, больше чем 40 лет спустя. Фриц Отт, которому в противном случае грозила ампутация, вышел из больницы на своих двоих.
Вдохновленный своим успехом, Грюнциг решил взяться за сердце. Он разработал особые катетеры, специально для коронарных артерий, и сначала протестировал их на собаках со сдавленными коронарными артериями. Он наблюдал, как проволочные петли, сдавливающие артерию снаружи, раскрываются под давлением баллона, который надувается изнутри. Представляя свое изобретение на конференции в Майами, он, конечно, надел помпезный галстук-пластрон. Спенсер Кинг, кардиолог и преподаватель Университета Эмори, тоже представлял там результаты своих исследований, когда один коллега посоветовал ему сходить на презентацию Грюнцига.
Позже, в нашем с ним разговоре, Спенсер Кинг признался мне, что сказал тогда Грюнцигу: «У вас ничего не получится».
Но Грюнциг и дальше демонстрировал поразительное упорство: вернувшись в Цюрих, он принялся тестировать свой метод на пациентах под наркозом, которым проводили АКШ. Убедившись, что метод работает, он наконец нашел молодого человека, который, по его мнению, стал бы идеальным испытуемым для его новой процедуры[307]. 37-летний страховой агент Адольф Бахманн страдал тяжелой стенокардией, и ему собирались провести АКШ из-за всего одного сужения в передней межжелудочковой артерии. Вечером накануне запланированного АКШ Грюнциг пришел к нему в палату и подробно, с иллюстрациями, объяснил разницу между АКШ и той процедурой, которую надеялся провести. «Он признался, что никогда раньше не проводил ее человеку, – сказал Бахманн в интервью. – Я должен был стать первым в мире, кому сделают эту операцию!» Разъяснения Грюнцига были такими внятными и убедительными, что Бахманн был «на 100 % убежден, что она [ангиопластика] пройдет успешно!»[308].
Когда Грюнциг начал процедуру, воздух в операционной, куда набилась целая толпа народу, буквально зазвенел от напряжения. Через разрез на правом бедре Грюнциг ввел Бахманну в бедренную артерию длинный пластиковый катетер. Он продвигал катетер все дальше, до слияния артерии с аортой, провел катетер по грудной аорте и дальше по ее дуге до устья левой коронарной артерии. Рентгеновский аппарат фиксировал каждое мгновение. Но самыми важными должны были стать те секунды, когда Грюнциг раздует баллон в коронарной артерии, заполнив им весь просвет и надеясь, что ему удастся вдавить бляшку в стенку сосуда. Он понятия не имел, что будет, когда кровь перестанет течь по коронарной артерии на то время, что он надувает баллон. Многие также опасались, что под давлением баллона содержимое бляшки просто выдавится наружу и заблокирует сосуд еще сильнее. Однако, когда баллон был установлен, у пациента не появилось ни боли в груди, ни подъема сегмента ST, ни фибрилляции желудочков. Сужение в коронарной артерии было устранено, и можно было праздновать победу. Бахманн был в таком восторге, что позвонил прямо из больницы в газету и пригласил к себе репортера, но Грюнциг уговорил того отложить публикацию материала до тех пор, пока в одном из выпусков журнала Lancet за 1978 г. не появится первый научный доклад о проведенной операции[309]. Это была мировая сенсация!
Вскоре Грюнциг стал одним из самых знаменитых врачей-исследователей своего времени. Он щедро разделил свои лавры с такими людьми, как Доттер и Мейсон Сонс, заложившими те основы, которые позволили ему провести первую периферийную и коронарную баллонную ангиопластику в мире. Грюнциг с энтузиазмом передавал свои знания молодым коллегам, проводя очень популярные курсы, на которых обучал людей со всего мира своей методике. Однако он обзавелся и врагами, самые горластые из которых окопались неподалеку от Цюриха, где Грюнциг жил и работал. «Он признавался, что Цюрих его разочаровал», – рассказывает Спенсер Кинг, который тогда сделал неожиданный ход и пригласил Грюнцига в Университет Эмори в Атланте, штат Джорджия, куда тот и переехал в 1980 г. Руководитель Кинга первое время сомневался в правильности этого решения: «Уиллис [Хёрст] сказал: “Не надо с ним связываться, он примадонна”». Но вскоре он изменил свое мнение: «Спустя десять минут Уиллис Хёрст уже был его горячим сторонником».
В Эмори Грюнциг продолжил блистать: он приглашал людей со всего мира посмотреть, как он проводит баллонную ангиопластику в лаборатории катетеризации в режиме трансляции, которая велась на большом экране в соседней аудитории. Операции не всегда шли по плану. Был один пациент с изолированным сужением в передней межжелудочковой артерии, похожим на то, что было у Бахманна. «Когда он надул баллон, случилась остановка сердца, пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию, и трансляцию прервали, – рассказывает Кинг и шутливо добавляет: – Мы спасли немало жизней тем, что убедили половину аудитории никогда не делать эту процедуру».
После переезда в Америку «он превратился из парня, живущего в квартирке над магазином велосипедов с женой-психоаналитиком» в колоритного, экстравагантного мужчину. Грюциг развелся с супругой и женился на студентке-медичке, стал покупать дорогие дома и вести себя очень нескромно, но, по словам Кинга, «его преданность пациентам и научным изысканиям оставалась неизменной».
У Кинга сохранилось немало ярких воспоминаний о времени, проведенном с Грюнцигом, но больше всего ему запомнилось утро понедельника, 28 октября 1985 г., когда ему позвонили из лаборатории катетеризации: пять пациентов ждали своей очереди на процедуру к Андреасу, но на работе его не было.
«Мы позвонили ему домой, но никто не ответил. Чуть позже мы выяснили, что он должен был улететь на остров Си-Айленд, где купил ранее недвижимость. К тому времени он уже был очень состоятельным человеком».
Грюнциг имел лицензию на управление самолетом и вместе с молодой женой полетел в свой дом на острове. Кинг позвонил в местный аэропорт. «Там мне сказали, что надо звонить в Федеральное управление гражданской авиации. Еще сказали обратиться к шерифу округа Джонс, штат Джорджия, чуть севернее Мейкона».
Дозвонившись до офиса шерифа, Кинг узнал ужасную новость: «Мы получили сообщение об авиакатастрофе. Пытаемся добраться до места крушения на бульдозере – лучше приезжайте сами». Когда Кинг оказался на месте, там уже ничего не осталось. Грюнциг, которому было 46 лет, и его жена погибли. Самолет попал в бурю и рухнул, никакие технические проблемы выявить не удалось. «Те, кто его знал, не сильно удивились, что он закончил свой путь именно так».
В истории медицины мало таких, кто обладал бы всеми уникальными качествами Андреаса Грюнцига. Он был дерзким первопроходцем, полностью посвятившим себя своей идее, преданным делу врачом, готовым проводить крайне рискованные процедуры. Вместе с тем он никогда не демонстрировал явно агрессивное поведение и подходил к своим исследованиям с большой тщательностью и осторожностью. И при этом он обожал закатывать шумные вечеринки, пытался забраться на кокосовую пальму в одних плавках – но сорвался и рухнул вниз, лазил в полном одиночестве по швейцарским Альпам и даже дал своему ученику провести ему самому ангиопластику, а потом явился на вечеринку и рассказывал всем, как прекрасно себя после нее чувствует.
Хотя Грюнциг погиб, его наследие продолжает жить, и передняя межжелудочковая артерия Адольфа Бахманна, по последним данным, все так же свободно пропускает кровь[310]. Баллонная ангиопластика, расширение просвета коронарной артерии за счет раздутого внутри нее баллона, была, однако, далеко не безупречной процедурой. В отличие от Адольфа Бахманна, у большинства пациентов артерии закупоривались снова. Для многих эта операция была что мертвому припарки: бляшку вдавливали в стенку сосуда, а она лезла наружу опять. Но ангиопластика проложила путь для другого великого изобретения в сфере интервенционного лечения коронарного атеросклероза – стентов.
Стенты стали логичным продолжением ангиопластики, потому что с технологической точки зрения она была лишь предпосылкой. Стенты – это маленькие проволочные конструкции, которые закрепляются на конце катетера и, раскрываясь за счет баллона, помогают раздвинуть стенки суженной части сосуда. Если первые стенты делались из ничем не покрытого железа, стенты нового поколения, примерно с рубежа тысячелетий, покрываются слоем лечебного вещества, которое надолго снижает риск тромбирования и зарастания стентов за счет того, что препятствует образованию в них фиброзной ткани. Стенты зарекомендовали себя как бесценное спасительное средство для лечения пациентов с инфарктом миокарда и критической степенью окклюзии коронарных артерий. Но, хотя установка стентов стала одной из самых распространенных процедур в мире, недавнее исследование позволило усомниться в том, насколько стенты полезны пациентам со стенокардией, но без инфаркта. И хотя история стентов далека от завершения, перипетий и неожиданных поворотов в ней уже больше, чем в шпионских романах Джона ле Карре.
Каждый раз, когда к Грюнцигу поступал пациент с пораженными коронарными артериями, он сначала проводил коронарную ангиографию, чтобы сделать снимки. Получив снимки, он рассматривал то сужение, от которого нужно избавиться. В зависимости от его протяженности и ширины сосуда Грюнциг изготавливал у себя на кухонном столе баллон, который подойдет именно этому пациенту, и выбрасывал его после использования, а для следующего пациента делал новый.
Весь этот процесс был слишком затратным и неэффективным, так что вскоре изготовление баллонов взяли на себя крупные корпорации, стоявшие у истоков нынешнего медико-индустриального комплекса. В одних только США индустрия медицинского оборудования оценивается в $140 миллиардов[311]. Это позволяет производить высококачественное медицинское оборудование, в том числе целый ряд жизненно необходимых приспособлений, таких как коронарные стенты, в больших объемах. Но при этом получается, что все решения принимают не исследователи и врачи, а бизнесмены, которых больше всего заботит благополучие их акционеров. И поскольку для них существует только одно мерило успеха – доход, максимизировать его они пытаются всеми возможными способами, а их не так уж и много: урезать затраты, продавать больше продукции, поднимать цены.
Чтобы изготавливать оборудование в промышленных масштабах, нужно также прийти к консенсусу относительно его востребованности, который бы позволил поддерживать производство на одном и том же уровне. Для индустрии оборудования это оказалось довольно простой задачей. В США и большинстве других стран мира врачи и больницы получают оплату в зависимости от объема оказанных услуг, то есть чем больше приспособлений и устройств они используют, тем больше они возьмут с пациентов и страховых компаний, так что никаких особых сложностей здесь не возникло.
В сфере кардиологии это вызвало цунами процедур. Сердечно-сосудистые заболевания не только самый распространенный, но и самый дорогой недуг в мире. И по мере того, как эпидемия кардиологической визуализации и процедур просачивается во все направления, так или иначе связанные со здоровьем сердца, цена эта только растет. Конечно, зачастую эти новые возможности приносят пациентам огромную пользу, но во многих случаях технологии несутся вперед слишком быстро, и качественные исследования за ними не поспевают. А если исследования и проводятся вовремя, то, как правило, за ними стоит все та же индустрия, стремящаяся повысить спрос на свои продукты.
Хотя, по всем данным, стенты снижают риск смерти пациентов, у которых случился инфаркт миокарда, очень часто их устанавливают тем, кто просто страдает от постоянной боли в груди или получает положительные результаты стресс-теста. В США, к примеру, 300 000 таких пациентов, со «стабильной стенокардией», установили стенты в больницах, а некоторые перенесли эту процедуру в амбулаторных условиях. Кроме того, есть немало пациентов, состояние здоровья которых на самом деле не требует установки стентов, но в медицинских картах тяжесть и острота их заболевания были специально преувеличены, чтобы оправдать назначение процедуры и получить за нее деньги от страховой компании[312],[313]. «Если посмотреть карты, ни у одного пациента там не будет стабильного заболевания коронарных артерий, – говорит Спенсер Кинг, – потому что всем пишут “острый коронарный синдром”». Такое изменение кода заболевания со стороны врачей, поддерживаемое специалистами, которые работают со счетами за медицинские услуги, касается не только наименее сложных кардиологических пациентов со стабильной стенокардией, но и наиболее сложных больных, поскольку таким образом учреждения оправдывают любые негативные последствия, которые могут возникнуть у этих пациентов после инвазивных процедур[314],[315].
На сегодняшний день совокупные результаты исследований показали, что по сравнению с лекарствами стенты не снижают риск инфаркта и смерти. Самым значительным из этих исследований был эксперимент под названием «Клинические результаты использования реваскуляризации и критической оценки лекарственных средств» (Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation – COURAGE), профинансированный Национальными институтами здравоохранения и освещенный в The New England Journal of Medicine[316]. Эксперимент показал, что у пациентов со стенокардией, но без инфаркта миокарда – даже у тех, у кого были положительные результаты стресс-теста, – стенты не снижают риск инфаркта миокарда или смерти, но дают другой немаловажный эффект: после их установки боль в груди ослабевает[317].
Однако здесь кроется подвох. По сей день ни одно исследование, сравнивающее эффект от лекарств с эффектом от установки стентов, не прибегало к использованию процедурной альтернативы плацебо – фиктивной процедуре. Первый эксперимент, в котором эффект от установки стентов сравнивался с эффектом от фиктивной процедуры, был проведен только 40 лет спустя. Когда в 2017 г. результаты этого эксперимента под названием «Объективное рандомизированное слепое исследование эффективности ангиопластики на фоне оптимальной медикаментозной терапии» (Objective Randomised Blinded Investigation with optimal medical Therapy of Angioplasty – ORBITA) были опубликованы, мир кардиологии пошатнулся[318].
Дэррел Фрэнсис, британский кардиолог и исследователь, проводивший исследование ORBITA, до сих пор помнит, как эта идея пришла ему в голову: он был в лаборатории катетеризации, вводил стент в артерию пациента со стабильной стенокардией. Когда его коллега Раша аль-Ламали попросила его помочь ей решить, какого размера стент поставить пациенту, Фрэнсис, который называет себя ироничным интервенционистом, почувствовал, что главный вопрос вообще не в этом. Он рассказал мне по Skype: «Я вообще не был уверен, что установка стента как-то поможет его стенокардии». Раша, однако, не собиралась оставлять этот вопрос без внимания. «Девочки чаще сомневаются, ищут ответы, а мальчики, как правило, убеждены, что и так все знают… Так что она решила написать об этом научную работу».
Для участия в ORBITA были привлечены 230 пациентов с очень серьезным сужением в одной из коронарных артерий, которых активно лечили препаратами. Одной половине из них установили стент, а второй провели катетеризацию сердца, измерили давление в коронарных артериях, но стент не поставили. Ни та, ни другая группа не были в курсе, поставили им стент или нет, как и врачи, которые наблюдали их после. Получив результаты, Фрэнсис не мог поверить своим глазам и привлек многих статистиков к анализу полученных данных.
«Все это оказалось полным дерьмом», – говорит он. Исследование не выявило никакой существенной разницы между пациентами, которым поставили и не поставили стенты, – даже в плане облегчения боли в груди. Результаты эксперимента были представлены в последний день конференции кардиологов, когда уже почти все уехали. Но даже несмотря на такое неудачное время для презентации, это исследование буквально взорвало мир кардиологии. Почему? Потому, что оно поставило под сомнение фундаментальное представление о том, что стенокардию вызывает атеросклероз.
Почему же так многие пациенты чувствовали себя лучше после того, как им в артерии установили стенты? «Это исцеление верой, – говорит Фрэнсис и добавляет: – Около 70–80 % успеха коронарного вмешательства обеспечивает то, что пациенту говорят: “Артерия у вас теперь в порядке, а если возникнет какая-то боль, то это ерунда, не надо обращать на нее внимание”».
На Фрэнсиса обрушилась такая волна негатива со стороны кардиологического сообщества, вызванная глубоко засевшим убеждением в том, что всем, кто страдает от боли в груди, нужно ставить стенты, и полной интеллектуальной и финансовой зависимостью от этой гипотезы, что он завел аккаунт на Twitter только для того, чтобы давать отпор злопыхателям. И вместо того, чтобы просто защищаться, он стал едко критиковать тех, кто отрицал значение его исследования. «Мне было стыдно за общий интеллектуальный уровень критики ORBITA, – говорит Фрэнсис. – Мы готовились к обоснованной критике, но таковой мы не получили».
Интересно, что, когда эксперимент закончился и пациентам сказали, кому поставили стент, а кому нет, 85 % снова легли в больницу, чтобы все-таки установить стенты. Что заставило пациентов пойти на эту процедуру, если чувствовали они себя так же, как те, кому стенты установили? «Страх упустить такую возможность», – говорит Фрэнсис, и этот страх проходит после процедуры, потому что теперь «они знают, что у них стоит стент, а значит, все будет хорошо».
Хотя многие кардиологи по-прежнему убеждены в том, что есть смысл и дальше устанавливать стенты пациентам со стабильной стенокардией, некоторые все же изменили свое мнение под влиянием данных Фрэнсиса. Спенсер Кинг, один из отцов-основателей коронарной интервенции, из их числа. «Меня не радует этот всплеск вмешательств при основании стабильной стенокардии, – сказал он мне по телефону. – Я давно считаю, что постепенно все начнут понимать, что мы никак не меняем прогноз этих пациентов, и люди станут относиться к интервенции более здраво».
Та сила, с которой мы цепляемся за идею установки стентов при стабильной боли в груди, проистекает из силы метафоры. Мы не потерпим засор в туалете – а тут речь идет о нашем сердце, о нашей жизни! Но на противоположной чаше весов лежит не только дороговизна стентов, но и то, что, хотя со временем процедура стала безопаснее, при ней все равно существует риск почечной недостаточности, кровотечения (особенно когда катетер вводится через пах, а не через запястье), инсульта и смерти, которая тоже до сих пор возможна, пусть даже всего лишь у 1 % пациентов[319].
Стенты – блестящие свидетельства того, какой путь мы проделали в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И хотя в их сверкающей броне есть слабые места, они, как айфоны с макбуками, с каждым поколением становятся все меньше и умнее, а люди, которые их устанавливают, учатся делать это все лучше. По мере того, как наш арсенал стентов становился все внушительнее, ученые разработали стент, в существование которого вообще трудно поверить, – стент, который исчезает. Проблема со стентами состояла в том, что у очень многих пациентов атеросклеротические поражения возникали в сосудах все снова и снова и с годами им приходилось устанавливать десятки стентов, многие из которых ставились вообще один поверх другого. И тогда возникла мысль: «А что, если бы стент мог открыть просвет коронарной артерии, а потом, со временем, просто испариться?» То, что в существование каких-то вещей «трудно поверить», ученых никогда не останавливало – и история биорезорбируемых стентов служит важным уроком для интервенционной кардиологии на будущее.
У индустрии кардиологического оборудования есть все необходимое, чтобы продолжать движение вперед: умные доктора, страдающие пациенты и множество изобретателей и предпринимателей, готовых и дальше раздвигать границы возможного. И при всем при том казалось, что одна из самых революционных разработок последних лет скорее сошла со страниц научно-фантастического романа, а не была создана в реальной жизни – это стент, который растворяется через три года. Такие биорезорбируемые стенты давали надежду на то, что нам удастся избавиться от характерных отрицательных последствий установки стентов: зачастую стенты вызывают иммунный ответ в организме, что со временем приводит к их постепенному сужению и в редких случаях формированию тромба, который вызывает инфаркт миокарда. Чтобы предотвратить образование тромбов, так называемый тромбоз стентов, пациенты вынуждены неукоснительно принимать разжижающие кровь препараты вплоть до года после установки современных стентов. Были и другие возможные преимущества: в частности, некоторые полагали, что новые стенты позволят артерии пульсировать и гнуться естественным образом, смогут, вероятно, снизить вероятность новых окклюзий, которые возникают при постоянных металлических стентах, и не будут мешать проведению других вмешательств, если таковые понадобятся пациенту в будущем. И потому, когда в июле 2016 г. Управление по контролю пищевых продуктов и лекарств (FDA) одобрило применение в США первых биорезорбируемых стентов, многие члены медицинского сообщества отреагировали на эту новость «как на технический прорыв примерно такого же значения, что и первая высадка на Луну»[320]. Пациенты стали обращаться в клиники с требованием поставить им новые стенты. Казалось, что у биорезорбируемых стентов были одни только преимущества и никаких недостатков.
Однако эйфория была недолгой: более длительные исследования показали, что новые биорезорбируемые стенты на самом деле хуже старых, поскольку вызывают более активное формирование тромбов, провоцирующих сердечный приступ[321]. Как выяснилось, эти растворяющиеся стенты растворялись как раз за счет того, что превращались в тромбы. И хотя некоторые упорные кардиологи продолжали публично защищать эту разработку, производители полностью прекратили изготовление биорезорбируемых стентов – и те реально рассеялись как дым.
История с биорезорбируемыми стентами – хороший урок для мира биомедицины и для пациентов, которым требуются биомедицинские продукты. Хотя многие с нетерпением ждут появления новой революционной технологии, некоторые видят будущее кардиологических процедур иначе. «Самое лучшее время для интервенционной кардиологии настанет тогда, – говорит Спенсер Кинг, буквально вырастивший это направление кардиологии как собственного ребенка, – когда в ней отпадет необходимость благодаря качественной медикаментозной терапии».
Как же быть с теми, кто живет со стабильной болью в груди? По мнению Дэррила Фрэнсиса, кардиолога и исследователя, который провел эксперимент ORBITA, было бы лучше, если бы вместо того, чтобы пытаться постепенно улучшить процедуру для больных со стабильной стенокардией, научное сообщество сфокусировалось, как ему кажется, на реальном значении этой процедуры. «Главная цель установки стентов – дать [врачам] возможность обеспечить им [пациентам] эффект плацебо, не обманывая их при этом, – сказал мне Фрэнсис. – А на самом деле нужно думать о том, какого цвета одежду нам лучше носить, в какой степени увеличения показывать пациентам картинки, какие использовать слова, чтобы внушить им уверенность». Порой, когда я общаюсь с Дэррилом, я не до конца понимаю, шутит он или говорит серьезно.
Будущее кардиологических процедур вызывает беспокойство не столько из-за самих технологий, сколько из-за того, какие силы стоят за этими технологиями. Во времена, когда медицина была надомным промыслом, кардиологическое оборудование в основном разрабатывали и совершенствовали те же врачи, которые сами и лечили больных. Все их действия имели последствия – порой хорошие, порой плохие, но врачи сами отвечали за все, что делают с пациентом. А многие их тех, кто сейчас стоит во главе корпораций, контролирующих индустрию медицинского оборудования, чувствуют бóльшую ответственность перед своими акционерами, нежели перед пациентами, для которых производят свой товар. Эти компании обладают многомиллиардными платформами не только для того, чтобы разрабатывать оборудование, но и для того, чтобы продвигать свои интересы, рекламировать свою продукцию пациентам и врачам и влиять на политику органов здравоохранения. Эта индустрия так мощна, что спонсирует почти все образовательные мероприятия, в которых принимают участие будущие интервенционные кардиологи.
Отчасти привлекательность кардиологических приспособлений в том, что это сплошь блестящие, осязаемые, наглядные и соблазнительные штуки. Они обещают мгновенное решение проблемы. Уговаривать пациента принимать статины далеко не так соблазнительно. И убеждать его бросить курить и пройти кардиологическую реабилитацию и курс лечебной физкультуры, а еще помогать ему попасть в программу финансовой поддержки, чтобы он смог оплатить свое лечение, тоже не так здорово. Именно поэтому, когда по телевизору показывают сериалы про врачей, ничего подобного вы в них не увидите.
В будущем нам по-прежнему придется наблюдать борьбу, начало которой было положено в тот самый момент, когда медицинские разработки ушли из университетов в сферу бизнеса. Одна сторона в этом противостоянии призывает относиться к новшествам сдержанно, с долей скептицизма, другая – сулит инновации и движение вперед. Скептики критикуют тех ученых, которые присоединились ко второму лагерю, за участие в финансовом конфликте интересов и обвиняют их в том, что индустрия для них важнее пациентов. Индустрия, в свою очередь, ввела другой термин – «интеллектуальный» конфликт интересов. И фармацевтическая индустрия даже добилась исключения ряда выдающихся исследователей из консультативных групп Управления по контролю пищевых продуктов и лекарств, потому что те ранее высказали сомнения в том, что некоторые изделия прошли адекватную оценку[322].
Силы, которые стремятся пропихнуть новые лекарства и оборудование любыми способами, утверждают, что законы США, за исполнение которых отвечает FDA, препятствуют инновациям. Они часто ссылаются на Европу, где путь к признанию новой разработки был раньше гораздо менее тернистым. Только при этом они не упоминают, сколько опасных новшеств европейские пациенты опробовали на себе из-за таких нестрогих стандартов. Среди этих разработок были и вызывающие рак грудные импланты, и взрывающиеся в желудке баллоны для похудения, и множество бесполезных и вредных кардиологических приспособлений вроде биорезорбируемых стентов. И теперь Европа, уже столько раз обжегшись, пошла на попятную и сделала свои правила сертифицирования новых разработок гораздо более строгими, чем в США.
В общем, в будущем нас, безусловно, ждут новые и новые технологии, некоторые из которых помогут стесать еще какие-то грани сердечно-сосудистых заболеваний, а большинство плюхнутся на землю, так толком и не взлетев, или даже причинят вред кому-то из пациентов, – и все они будут появляться на фоне войны на истощение между индустрией медицинского оборудования и лекарств с их проплаченными и не проплаченными сторонниками и теми, кто будет требовать замедлить темп, провести надлежащий процесс тестирования и доказать реальную пользу разработки, а не превращать пациентов в подопытных кроликов. И можно с уверенностью сказать, что все это приведет к растущему разобщению среды, поскольку ученых будут все сильнее стравливать друг с другом в социальных сетях.
Величайшая ошибка – считать непоколебимо верным то, что сейчас признается как факт. В эпоху Возрождения наука смогла отделиться от теологии потому, что предложила людям альтернативу слепой вере. Если религия требует, чтобы вы продемонстрировали свою веру до того, как будете приняты в клуб и получите все сопутствующие привилегии, наука ни о чем подобном не просила – более того, самой своей целью она ставила оспаривание статус-кво. Но теперь, несколько столетий спустя, медицинская наука, кажется, приобрела многие характерные черты той деспотической теологии, из тисков которой она когда-то стремилась вырваться.
Один из главных догматов веры современной медицины – эта, как было бы уместно сказать, «сантехническая гипотеза» – заключается в убежденности в том, что боль в груди возникает из-за атеросклеротической окклюзии сосудов, которая проявляется в виде ишемии на стресс-тестах и лечится путем установки стентов, раскрывающих просвет сосуда. Хотя эта гипотеза, вероятно, справедлива в отношении инфаркта миокарда, нет никакого убедительного основания для того, чтобы по-прежнему упорно следовать этому принципу веры, когда дело касается пациентов со стабильной стенокардией.
Люди верят в сантехническую гипотезу потому, что она «биологически правдоподобна»: с чего бы нам не верить в то, что атеросклеротическая бляшка, сужающая просвет артерии, вызывает боль в груди, если у стольких пациентов с болью в груди артерии поражены атеросклерозом? Эта биологическая правдоподобность, однако, служит в современной медицине своеобразным призывом к молитве – как только прозвучат эти заветные слова, и истинно верующие, и те, кто несколько разочаровался в своей религии, должны вспомнить священные тексты, которые читали в медицинских вузах. Мы слишком часто всецело полагаемся на то, к чему нас призывает биологическая правдоподобность. Возьмем, к примеру, аббревиатуру, которую знают наизусть все американские студенты-медики: MONA. Эти четыре буквы, обозначающие морфин, кислород, нитраты и аспирин (morphine, oxygen, nitrates, aspirin), была придумана для того, чтобы помочь бестолковым и растерянным врачам и медсестрам вспомнить те основные средства, которые необходимы пациенту с инфарктом миокарда.
Со временем, однако, свидетельств в пользу последних двух набралось больше, а вот по поводу морфина и кислорода возникли возражения[323],[324]. Морфин мешает всасыванию лекарств, которые не дают тромбоцитам формировать сгустки, – и это может лишь ухудшить состояние пациента. И лишний кислород – особенно в тех случаях, когда уровень кислорода у пациента нормальный, а он нормальный у большинства людей с инфарктом, – тоже повышает вероятность гибели. Однако студентов по-прежнему учат аббревиатуре MONA – не только потому, что использование морфина и кислорода в случае инфаркта кажется логичным, но и потому, что от старых привычек слишком трудно избавляться.
Одно из самых живучих убеждений в вопросе сердечно-сосудистых заболеваний – убеждение, с которым мы никак не можем расстаться, – состоит в том, что заболевание сердца – это мужской недуг. На самом деле женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем от любых других причин. И тут есть еще одна деталь, которую мы только сейчас выявили. Хотя сердечно-сосудистые заболевания распространены среди женщин не меньше, чем среди мужчин, то, как они проявляются и воспринимаются медиками у женщин, в корне отличается от того, как все это происходит у мужчин. Но времена меняются, и мы узнаем об истинном положении дел не только от врачей и ученых, но и от самих женщин, которые перенесли инфаркт, объединились друг с другом и теперь стараются отучить медицину от ее закоренелой дурной привычки.
Глава 8
Сердце женщины
Величайшие силы Земли были в ее власти, но она по-прежнему сознавала, что ей не дано подчинить себе самое главное: собственное сердце.
ДЖОЗЕФИНА АНДЖЕЛИНИ. Богиня (Goddess)
Кэтрин Лион только что родила второго ребенка, и почти ко всем, кого она встречала, у нее теперь был один и тот же вопрос: «Я спрашивала своего акушера-гинеколога, лечащего врача, педиатра и даже консультанта по грудному вскармливанию: почему я все время чувствую себя уставшей?» С самого рождения второго сына у нее, как она сказала мне по телефону, была как будто «сетка от комаров на глазах». По собственной теории Кэтрин, это объяснялось тем, что второй раз она забеременела уже в слишком зрелом возрасте – хотя, вообще-то, ей было лишь немного за тридцать. Как бы то ни было, с каждым днем она чувствовала себя «все хуже, и хуже, и хуже».
Однажды, спустя пять недель после рождения малыша, муж Кэтрин пришел домой раньше и обнаружил ее в пугающем состоянии. «Ненавижу слово “паника”, потому что многие считают, что если с женщиной что-то не так, то это у нее просто паническая атака, но мне было очень страшно».
Ей было трудно дышать – не помогал даже ингалятор от астмы. «Со мной что-то происходило, а он [муж] ничего не мог понять, пока я не сказала: “Пожалуйста, вызови скорую”».
Когда бригада 911 подъехала, ее реакция показалась Кэтрин неожиданной: «Они вели себя как-то равнодушно и неторопливо». И персонал отделения неотложной помощи, куда Кэтрин привезли, тоже не выглядел сильно озабоченным. Судя по всему, они решили, что перед ними просто истерящая мамочка. Врачи сделали несколько обследований, в том числе ЭКГ, и сказали, что все в порядке. Но Кэтрин это не успокоило – наоборот, она впала в еще большее отчаяние: «Я сидела, сжимая в руке носовой платок, и ревела во весь голос».
Вернувшись домой, она записалась к своему терапевту – тот направил ее на УЗИ, чтобы посмотреть, не раздражен ли у нее желчный пузырь, но и там все оказалось в норме. Вся эта история достигла апогея, когда однажды во время купания детей у Кэтрин «возникло чувство, что она вот-вот умрет». Она с неохотой вновь набрала 911 и отправилась в то же отделение неотложной помощи – но на этот раз кое-что изменилось. «Мне очень повезло, что я попала к другому врачу, – рассказывает Кэтрин. – Это была молодая женщина, и ее реакция была совсем не такой, как у врачей-мужчин: она поняла, что здесь действительно что-то не так». Женщина-врач решила госпитализировать Кэтрин на обследование и разобраться, что же тут все-таки происходит.
Анализы показали, что у Кэтрин слегка повышен уровень тропонинов. Ее направили на катетеризацию сердца, и Кэтрин испытала некоторое облегчение. Она сказала врачам: «Если это даст какой-то ответ, можете меня выписывать. Я просто хотела закрыть эту тему».
В начале процедуры все, казалось, шло распрекрасно. «Обстановка была расслабленная, потому что все были уверены, что у меня нет никаких проблем». Когда интервенционный кардиолог сделал первый снимок, все выглядело замечательно. Он поменял направление камер, чтобы посмотреть под другим углом. «Тут настроение резко изменилось», – рассказывает Кэтрин. Кардиолог вдруг застыл. «Он, по-моему, аж поседел, а потом просто встал и вышел».
Кардиолог покинул кабинет, ничего не объяснив Кэтрин. Из диспетчерской он вызвал кардиохирургическую бригаду, которая в это время была на парковке. В кабинет он вернулся уже с кардиохирургом, который сказал Кэтрин: «Сейчас мы вас подлатаем».
Кардиолог сообщил ей, что у нее на 90 % заблокирована передняя межжелудочковая артерия. Кэтрин это больше взбесило, чем расстроило: «Вы шутите? У меня двое детей, я собиралась и ими заниматься, и параллельно учиться. Я, может, одну сигарету в жизни попробовала. У меня все нормально с холестерином. У меня все нормально с давлением».
Почти всем нам уже доводилось слышать о том, что у женщин сердечно-сосудистые заболевания зачастую долго остаются незамеченными. А еще мы знаем о том, что женщины так же подвержены этим заболеваниям, как и мужчины, и тоже умирают от них чаще, чем от любых других болезней. Но мы только сейчас начинаем понимать – во многом благодаря таким отважным пациенткам, как Кэтрин, – что женский вариант сердечно-сосудистых заболеваний порой кардинально отличается от мужского.
У Кэтрин не было атеросклероза коронарных артерий. У нее была другая проблема, которую сейчас принято называть «спонтанным расслоением коронарной артерии» (СРКА) – состояние, при котором коронарная артерия буквально разрывается и ток крови останавливается. Однако в начале 2000-х гг., когда у Кэтрин проявилась эта болезнь, мало кто верил, что СРКА действительно у кого-то встречается. «Живите себе дальше, растите своих детей – так, по словам Кэтрин, на ее проблему реагировали многие врачи. – Второго такого диагноза ни у кого не найдешь». Другие врачи вообще не верили, что СРКА существует, и говорили: «Да вы просто попали к каким-то придуркам. У вас обычный разрыв бляшки. Никакого СРКА не бывает».
Почему столь многие кардиологи сомневались в существовании СРКА? Возможно, причина была в том, кто именно оказывался ее главными жертвами. По результатам большинства исследований, три четверти пациентов со СРКА – женщины. А по некоторым данным, это вообще одни только женщины[325].
Однако времена меняются. И как во многих других ситуациях, в которых им раньше хронически не верили, женщины сами взялись бороться с этой напастью.
Когда Марта, женщина 70 с лишним лет, поступила в близлежащую больницу с затрудненным дыханием, ей поставили диагноз пневмонии. Врач назначил ей антибиотики и отправил в клинику сестринского ухода. Однако Марте не становилось лучше, а вскоре стало хуже; она начала сильно задыхаться. Тогда ее привезли в нашу больницу, и, сделав ей ЭКГ, мы тут же поняли, что произошло. На ЭКГ были видны зубцы Q – а значит, несколько недель назад, когда Марту доставили в ту первую больницу, у нее была не пневмония: на самом деле это был инфаркт миокарда, и теперь практически вся ее сердечная мышца превратилась в рубцовую ткань. Посмотрев УЗИ сердца Марты, мы выяснили, что фракция выброса – показатель того, насколько сильно оно способно сокращаться, – уменьшилась от нормальной до едва совместимой с жизнью.
К тому времени Марта была уже настолько плоха, что медлить было нельзя. Ее перевели в лабораторию катетеризации сердца, и там выяснилось, что коронарные артерии у нее поражены атеросклерозом до такой степени, что нужно ставить девять (!) стентов. Однако эти стенты не удержали Марту на краю обрыва. Более того, они, вероятно, еще и подтолкнули ее вниз: контрастное вещество, которое используется во время этой процедуры для получения изображений, очень вредно для почек. В случае Марты процедура была такой масштабной, что контрастного вещества пришлось вводить очень много – и ее почки не справились, понадобился диализ. При этом сердце все равно не заработало так, как надо, и пришлось устанавливать в аорту баллон, который бы помог сердцу качать кровь по организму. Но и с баллоном Марта дышала плохо, так что в конце концов ей был назначен паллиативный уход.
Электронные медицинские карты – наказание для практикующих врачей, потому что большинство тратит на их заполнение огромное количество времени, которое они бы лучше уделили пациентам. Несмотря на их повсеместное применение, многие записи в этих картах не дают практически никакого представления о том, что происходит с пациентом на самом деле. Если, конечно, это не записи, оставленные специалистом по паллиативной помощи.
Паллиативная медицина специализируется на облегчении симптомов и улучшении качества жизни пациентов с очень серьезными, неизлечимыми болезнями. Как правило, такие специалисты занимаются пациентами на последнем этапе их жизни, когда пользы от дополнительных процедур, новых курсов лечения и лишних поездок в больницу становится все меньше. Если задача кардиолога – сделать так, чтобы у пациента лучше билось сердце, можно сказать, что задача специалиста по паллиативной помощи – сделать так, чтобы у пациента было лучше на душе.
Большинство врачебных записей начинается с какой-то основной жалобы – например, «боль в груди», «одышка» или «тошнота/рвота». Та основная жалоба, которую записал специалист по паллиативной помощи, когда впервые пришел осмотреть Марту, была совсем иной.
Основная жалоба: «Я хочу умереть».
Несмотря на все разнообразие предпринятых мер, Марта по-прежнему еле дышала. Когда специалист по паллиативной помощи пришел к ней, он застал ее в окружении семьи – но даже присутствие близких не приносило ей утешения. Марта хотела только одного: чтобы ее страдания прекратились. Во время разговора она вдруг начала нечетко произносить слова, и ее речь стала сбивчивой и непонятной. При этом часть ее тела обмякла, и врач понял, что говорить с Мартой дальше о том, как бы она хотела прожить остаток дней и чему она хотела бы посвятить свое время, нет смысла: у нее прямо на его глазах произошел обширный инсульт. Спустя еще два мучительных дня сердце Марты остановилось – уже навсегда.
Риск инфаркта миокарда у мужчин и женщин одинаков, особенно в пожилом возрасте[326]. Сердечно-сосудистые заболевания убивают женщин чаще, чем любые другие болезни: от них умирает в десять раз больше женщин, чем от рака груди[327]. Однако, хотя в последнее время осведомленность о женских заболеваниях сердца возросла, многие до сих пор не имеют ни малейшего представления об этих фактах. Лишь около половины американок знают, что сердечно-сосудистые заболевания – это главная угроза для жизни женщин, а среди представительниц этнических и расовых меньшинств осведомленность и того ниже[328].
У Марты пропустили инфаркт, и, если бы его заметили вовремя, она, вероятно, избежала бы такой страшной кончины. Женские инфаркты не замечают не только врачи, но и сами их жертвы[329],[330].
В последние годы проводятся медицинские кампании по просвещению населения, направленные на то, чтобы уведомить людей не только о распространенности сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин, но и о специфике их проявлений[331]. Данные о том, как сердечно-сосудистые заболевания протекают у женщин, собираются по сей день – и все те знания, которыми мы располагаем сейчас, тоже появились не сами собой. История здоровья женского сердца неразрывно связана с феминистским движением в целом. Выступая за свои права, женщины в первую очередь боролись за то, чтобы их слова воспринимались всерьез – особенно в таких ситуациях, когда они, например, поступают в больницу с жалобами на боль в груди.
Вплоть до нескольких последний десятилетий исследования сердечно-сосудистых заболеваний практически не принимали женщин в расчет. В подавляющем большинстве испытуемые всегда были мужчинами, и считалось, что все, что помогает им, подойдет и женщинам. Не было никаких правил, требующих привлечения женщин к участию в исследованиях сердечно-сосудистых заболеваний, и по сей день испытуемых-женщин в таких экспериментах значительно меньше, чем мужчин[332]. В ряде крупных исследований женщины вообще не участвовали; кроме того, было еще одно исследование, в ходе которого данные о женщинах тоже собирали, но в публикацию о результатах потом решили не включать[333],[334],[335]. И только тогда, когда начали проводиться когортные исследования с большим охватом популяции, в которых принимали участие все жители конкретных регионов, таких как Фремингем в Массачусетсе или Текумсе в Мичигане, о сердечно-сосудистых заболеваниях у женщин стали появляться адекватные данные[336],[337]. В некоторой степени неучастие женщин в клинических исследованиях было связано с опасениями, что любые эксперименты могут вызвать у женщин детородного возраста осложнения при беременности[338]. Однако эти предосторожности привели к тому, что несколько поколений лекарственных средств и методик «разрабатывались мужчинами для мужчин и оттачивались на мужчинах», а их профиль безопасности для женщин никем не проверялся[339].
Другая причина состояла в том, что сердечно-сосудистые заболевания изначально проявляются у женщин иначе. Инфаркт у молодых женщин случается намного реже, чем у молодых мужчин[340]. В среднем он настигает женщин примерно на пять лет позже, чем мужчин[341]. А значит, когда у женщины случается инфаркт, она, скорее всего, уже находится в том возрасте, когда у нее много других заболеваний. И потому инфаркты у мужчин были, вероятно, более очевидны – учитывая, сколько молодых жизней они обрывали.
Вот только до недавних пор никто не знал о том, что, когда инфаркт случается у молодых женщин, шансов выжить у них меньше, чем у мужчин[342]. Тем не менее, как известно, положение мужчин и женщин в обществе никогда не было одинаковым – и, хотя сейчас ситуация меняется к лучшему, она далека от идеала.
Повышенное внимание к мужчинам отражало ценности общества в целом: здоровье мужчин имело большее значение, потому что они представляли собой основную рабочую силу. Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых людей считались естественным аспектом старения – один исследователь даже написал: «Вопрос, стоит ли вообще считать [сердечно-сосудистые заболевания] заболеваниями»[343]. Заболевания сердца у пожилых женщин и вовсе не принимались в расчет, но, когда общая продолжительность жизни начала увеличиваться, игнорировать растущее число женщин, страдающих от болезней сердца, стало значительно труднее.
Но даже признавая тот факт, что женщины тоже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, многие демонстрировали при том свою предвзятость. В 1942 г. Пол Дадли Уайт, достойный отпрыск американской кардиологии своего времени, заявил в одной своей лекции без каких-либо на то оснований: «У домохозяек стенокардия возникает реже, чем у работающих женщин» – и добавил, что заболевание коронарных артерий – это «преимущественно мужская болезнь» и что, «если женщине нет 50 лет, боль в груди у нее, вероятно, не является свидетельством сердечно-сосудистого заболевания»[344]. Также в отношении женщин с симптомами заболевания сердца нередко использовался термин «кардиальный невроз»[345]. Отчеты о пациентках с серьезными заболеваниями сердца были больше ориентированы на то, чтобы указать женщинам их место, чем на то, чтобы найти способ им помочь. «Домохозяйке с больным сердцем следует избегать перенапряжения», – гласит опубликованная в 1929 г. работа, а далее в ней предполагается, что «электрические трудосберегающие приборы, такие как стиральная машина, пылесос или швейная машина, могут помочь сохранить резерв сердца[346]. Другая работа, 1938 г., посвященная пациентке с далеко зашедшим митральным стенозом, свела ее биографию к такой простой мысли: «В жизни любой девушки есть два варианта: обеспечивать себя самой или найти кого-то, кто будет это делать. Она вышла замуж», – а дальше и вовсе пристыдила женщину за излишнюю полноту: «Она никогда не отказывала себе в удовольствии поесть, и, без всяких сомнений, это неблагоразумное пристрастие хотя бы отчасти повинно в ее нынешнем состоянии»[347].
Причины, по которым такое отношение к женщинам в кардиологии стало меняться, никак не связаны ни с самой кардиологией, ни с медициной. Феминистское движение стремилось сформировать «мировоззрение, признающее ценность женщин и противящееся систематической дискриминации по половой принадлежности», а в то время женщины, пожалуй, нигде не чувствовали себя так неуверенно, как в кабинете у врача[348]. Там они не только ощущали всю тяжесть общественных предрассудков, но и были при этом больны и особенно уязвимы.
Борьба за женское здоровье началась, что неудивительно, с репродуктивных прав. В 1960-е гг. почти миллион женщин ежегодно делали нелегальный аборт и у трети из них возникали осложнения, требующие госпитализации[349]. Однако манифест женского здоровья вышел далеко за эти рамки – и все же женщины продолжали испытывать на себе патернализм глубоко традиционной системы здравоохранения. Дожидаться, пока врачи свыкнутся с новыми идеями, они не стали, и повсюду начали возникать группы самопомощи, которые позволили женщинам хоть как-то заботиться о своем здоровье. При этом женщин постоянно склоняли к тому, чтобы они брали на себя заботу о здоровье мужчин, игнорируя собственное. С 1960-х по 1980-е гг. в журналах был просто шквал статей с заголовками вроде «Как снизить риски своего мужа» или «Как защитить мужа от инфаркта», а на общественные форумы выносились темы вроде «Сердца и мужья» – и везде женщинам твердили, как важно поддерживать кардиологическое здоровье мужчин, а об их собственном не говорилось ни слова[350]. Такое отношение усугублялось разговорами о «женском преимуществе»: будто бы женщины меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. А когда женщины начали переходить в ряды рабочей силы, ложные убеждения использовались для того, чтобы отговорить их от этого шага. Утверждалось, что существует связь между увеличением профессиональной занятости женщин и возрастанием риска гибели от сердечно-сосудистого заболевания – объяснялось это той нагрузкой, с которой будет сопряжена необходимость сочетать профессиональные и домашние обязанности. Считалось, что напористые, нацеленные на карьеру женщины особенно рискуют заполучить инфаркт. Однако большинство этих заявлений основывалось на отживших стереотипах, а не на реальных данных[351].
Изначально борьба за женское здоровье сводилась в основном к охране репродуктивного и гинекологического здоровья, и лишь спустя по меньшей мере два десятка лет акцент переместился на здоровье сердца. Признавая тот факт, что о сердечно-сосудистых заболеваниях у женщин почти ничего не известно, Национальные институты здравоохранения взяли в 1986 г. курс на более активное привлечение женщин к участию в клинических исследованиях[352]. Но когда в 1989 г. конгрессом было проведено расследование, которое возглавили женщины, состоящие в палате представителей США, выяснилось, что институты не придерживаются заявленной политики, – тогда были приняты меры для того, чтобы все финансируемые институтами исследования в обязательном порядке проводили оценку гендерных различий. Женщины – члены конгресса также добились того, чтобы средства институтов были направлены на изучение особенно актуальных для женского здоровья проблем, в том числе заболеваний сердца. Их целью было изменить представление о женщинах как о не совсем обычных мужчинах и признать в них равноправных людей, требующих особого изучения.
Одним из самых изысканных и одновременно малозаметных способов нивелирования женских особенностей при проведении медицинских исследований является применение сугубо количественных методов анализа – опора на количественные показатели не позволяет выявить уникальные особенности протекания сердечных болезней у женщин. Чтобы наконец раскрыть глаза на особенности сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, потребовался совершенно иной подход к исследовательской работе, который включил в себя ориентированную именно на женщин методологию медицинских исследований.
Я встретил на вечеринке подругу, у которой растут двойняшки – мальчик и девочка.
– В чем они отличаются друг от друга? – спросил я.
– Ну, она все время о нем заботится. Отдает ему еду. Расчесывает ему волосы.
Я не любитель гендерных стереотипов, но биолог, который видит все сквозь призму эволюции, скажет, что забота и уход встроены в мозг женщины от природы, поскольку это сопряжено с ее функцией деторождения. И в современном обществе забота о других по-прежнему остается преимущественно женским занятием[353]. Среди жителей США, взявших на себя неформальный уход за другими людьми, соотношение женщин и мужчин – восемь к одному[354]. И женщины расплачиваются за это немалой ценой – собственным здоровьем[355].
Если взглянуть на цифры, мы увидим, что женщины гораздо реже принимают лекарства[356]. Вне контекста эти данные позволяют предположить, что женщины в таком случае сами виноваты в неблагополучных исходах своих заболеваний. Однако стоит копнуть на миллиметр глубже, и становится ясно, что женщины принимают лекарства с меньшим постоянством, чем мужчины, не потому, что мужчины более ответственны и педантичны, а потому, что о здоровье мужчин зачастую заботятся женщины, а о самих женщинах, как правило, никто.
Так что когда дело касается женщин, цифры, конечно, дают информацию, но они не объясняют, что стоит за этой информацией. И потому, используя эти данные в чистом виде, мы рискуем потерять из виду реальные женские проблемы.
Статистические числовые данные недружелюбны к женщинам, ибо сообщают нам весьма неприглядные факты. Когда женщина поступает в отделение неотложной помощи с инфарктом, ее с меньшей вероятностью направят на катетеризацию коронарных артерий, особенно если это происходит в нерабочее время[357]. Женщины, которых направляют на АКШ, как правило, болеют тяжелее, чем пациенты-мужчины, и чаще погибают после операции[358]. И даже когда создаются программы по улучшению качества оказания помощи, которую получают пациенты с инфарктом миокарда, у женщин, в отличие от мужчин, не наблюдается никакого положительного эффекта[359]. Риск умереть в течение 30 дней после начала развития инфаркта составляет для черных и белых женщин соответственно 17 и 18 %, а для черных и белых мужчин – 15 и 16 %[360].
Вся эта статистика оставляет без внимания таких женщин, как Марта, вся жизнь которой перевернулась из-за того, что, когда у нее возникли проблемы с дыханием, никто и не подумал про ее сердце. Впрочем, об этом не подумала и она сама. Женщины переносят болезнь вовсе не так, как мужчины.
Возьмем, к примеру, тот простой факт, что, в отличие от мужчин, большинство женщин не могут толком сконцентрироваться на своей реабилитации. Если для мужчин, которых выписывают из больницы, дом служит пристанищем, то для женщин это далеко не всегда так. «Когда мы отправляем женщин на реабилитацию домой, – написала медсестра и исследовательница Шейла О’Киф-Маккарти, – мы фактически отправляем их на привычную работу»[361]. Несмотря на