Читать онлайн Живое и неживое. В поисках определения жизни бесплатно
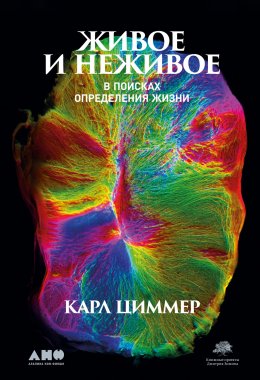
Переводчик Мария Елифёрова
Научный редактор Елена Наймарк, д-р биол. наук
Редактор Анастасия Ростоцкая
Издатель П. Подкосов
Руководитель проекта И. Серёгина
Ассистент редакции М. Короченская
Корректоры Е. Воеводина, Е. Сметанникова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Carl Zimmer, 2021
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2022
* * *
Посвящается Грейс, любви и жизни моей
Эта книга издана в рамках программы «Книжные проекты Дмитрия Зимина» и продолжает серию «Библиотека «Династия». Дмитрий Борисович Зимин – основатель компании «Вымпелком» (Beeline), фонда некоммерческих программ «Династия» и фонда «Московское время».
Программа «Книжные проекты Дмитрия Зимина» объединяет три проекта, хорошо знакомые читательской аудитории: издание научно-популярных переводных книг «Библиотека «Династия», издательское направление фонда «Московское время» и премию в области русскоязычной научно-популярной литературы «Просветитель».
Подробную информацию о «Книжных проектах Дмитрия Зимина» вы найдете на сайте ziminbookprojects.ru.
Введение
Пограничье
Осенью 1904 г. в Кавендишской лаборатории проводились любопытные эксперименты[1]. Облака ртути колыхались от синих вспышек молний. Свинцовые цилиндры плясали на медных дисках. В увитое плющом здание на Фри-скул-лейн, уютно расположившееся в самом сердце Кембриджа, мечтал попасть каждый физик – и отнюдь не только английский. Там можно было поиграть с фундаментальными составляющими Вселенной. Среди множества магнитов, батарей и вакуумных трубок легко было проглядеть притулившееся немного в стороне оборудование для одного небольшого опыта – заткнутую ваткой пробирку с несколькими ложками студенистого бурого бульона.
Но в этой пробирке что-то зарождалось. Через несколько месяцев весь мир с придыханием заговорит об этом эксперименте. Газеты будут прославлять его как одно из величайших достижений в истории науки. То, что росло в пробирке, один журналист назовет «самой примитивной формой жизни – недостающим звеном между неорганическим и органическим миром»[2].
Эту «самую примитивную» жизнь создал физик 31 года от роду по имени Джон Батлер Бёрк[3]. На фотографиях того времени мальчишеское лицо Бёрка выглядит немного грустным. Он родился в Маниле, его мать была филиппинкой, а отец – ирландцем. Еще ребенком его перевезли в Дублин, чтобы в школу он пошел там, а по ее окончании Бёрк поступил в Тринити-колледж, где изучал рентгеновские лучи, динамо-машины и таинственные искры, сыплющиеся из сахара. Колледж наградил Бёрка золотой медалью по физике и химии. Один профессор отзывался о нем как о человеке, «заражающем других энтузиазмом, подобным тому, с которым сам занимается исследованиями»[4]. Закончив учебу, молодой физик переехал из Ирландии в Англию, где начал преподавать в нескольких университетах. Отец его вскоре умер, а мать – «весьма состоятельная старушка»[5], как позже называл ее Бёрк, – обеспечила сыну щедрое содержание. В 1898 г. Бёрк пришел работать в Кавендишскую лабораторию.
Именно здесь – и больше нигде в мире – физикам удалось столь многое узнать о материи и энергии за столь короткое время. Самым свежим на тот момент триумфальным достижением (оно принадлежало директору лаборатории Джозефу Джону Томсону) было открытие электрона. В свои первые годы в лаборатории Бёрк продолжал работу Томсона, проводя собственные эксперименты с таинственными заряженными частицами и исследуя свечение облаков газа под воздействием электронов. Но потом он соблазнился иной загадкой. Подобно другим молодым физикам Кавендишской лаборатории, Бёрк увлекся экспериментами с новым светящимся элементом – радием.
В 1896 г., незадолго до описываемых событий, французский физик Анри Беккерель первым обнаружил, что обычная материя может излучать необычную форму энергии. Соли урана, завернутые в черную ткань, создавали смутное изображение на лежащей рядом фотопластинке. Вскоре стало ясно, что этот элемент непрерывно испускает какие-то активные частицы. Чтобы проверить наблюдения Беккереля, Мария и Пьер Кюри извлекли уран из минерала уранинита[6]. В ходе работы они обнаружили, что часть энергии излучается каким-то другим элементом. Они назвали его радием, а новую форму энергии окрестили радиоактивностью.
Радий испускал так много энергии, что разогревался. Если ученые помещали кусочек радия на лед, то он мог растопить столько же льда, сколько весил сам. Когда супруги Кюри смешивали радий с фосфором, тот под действием радиоактивности начинал светиться в темноте. Новости о редком, необычном веществе широко распространились и произвели фурор. Выступающие на сценических площадках нью-йоркских казино танцовщицы надевали покрытые радием костюмы, чтобы сиять в полумраке. Публика гадала, не станет ли радий опорой цивилизации. «Неужели сбывается заветная мечта алхимиков – светильник, дающий неугасимый свет без расхода масла?»[7] – задумывался в те дни некий химик. Кроме того, считалось, что радий обладает животворной силой. Садовники опрыскивали им цветы в убеждении, что те будут лучше расти. А кое-кто пил «жидкий солнечный свет» в надежде исцелиться от всех болезней, даже от рака.
Но жизнь Марии Кюри унесет в 1934 г. именно рак, чему, вероятно, стала причиной ее почти ежедневная работа с радием и другими радиоактивными элементами. В наши дни, полностью осознавая смертельную опасность радиации, мы едва ли в состоянии представить себе, как кому-то могло прийти в голову, будто радий обладает животворными свойствами. Но в начале XX в. наука удивительно мало знала о природе живого. Было известно лишь, что она таится в желеобразном веществе внутри клетки, которое тогда называли протоплазмой, каким-то образом заставляет клетки собираться в живые организмы и передается из поколения в поколение. Надежных знаний, помимо этих, было мало, и приветствовались любые идеи.
Бёрку жизнь и радиоактивность представлялись глубоко сходными явлениями. Подобно тому как гусеница становится бабочкой, атом радия обладал способностью к превращению, которая будто бы имела внутреннюю природу. «Он меняет свою сущность (в некотором смысле он живет) и все же вечно остается собой, – заявлял Бёрк в журнальной статье 1903 г. – Непреодолимая грань, которая, по мнению биологов, разделяет живую и так называемую мертвую материю, должна быть, таким образом, отброшена как несуществующая… Вся материя живая – вот мой тезис»[8].
Здесь Бёрк выступал как ученый, а не как мистик. Он предостерегал: «Нам нужна осторожность, дабы воображение не унесло нас в области чистой фантазии, на высоты, недоступные проверке с помощью экспериментальных данных». Для доказательства своего утверждения Бёрк задумал поставить опыт: он решил использовать радий с целью создания живого из неживой материи.
Чтобы осуществить сей акт творения, Бёрк сварил говяжий бульон и добавил туда поваренной соли с желатином. Небольшое количество получившегося отвара он влил в пробирку и поставил на огонь. Дополнительное нагревание разрушило все коровьи или микробные клетки, которые могли еще сохраниться в жидкости. Все, что осталось, – это стерильный бульон, состоящий из разрозненных неживых молекул.
Бёрк поместил немного соли радия в крошечную герметично закрывающуюся склянку, подвешенную над остывшим и застывшим в желе отваром. Склянку обвивала платиновая проволока, один конец которой был пропущен через отверстие в стенке. Эксперимент начался так: Бёрк дёрнул за свободный конец проволоки и склянка лопнула. Радий упал на желе.
Бёрк оставил свой радиоактивный холодец постоять целую ночь и на следующее утро заметил, что тот изменился: на его поверхности образовалось какое-то мутное нарастание. Бёрк взял образец этого нарастания, чтобы проверить, нет ли там бактерий. Он поместил его в чашку Петри с питательной средой для микробов. Если в нарастании есть какие-либо бактерии, они начнут питаться, размножаться и образуют колонии, которые удастся разглядеть.
Но колоний не образовалось. Бёрк заключил, что наросший слой состоит из чего-то другого. Взяв еще один образец мутного нарастания, он размазал его по предметному стеклу и поместил под микроскоп. Теперь исследователь увидел, что нарастание содержит россыпь пятнышек, более мелких, чем бактерии. Через несколько часов оказалось, что они исчезли. Но на следующий день пятнышки появились вновь, и Бёрк принялся их зарисовывать, фиксируя увеличение размеров и изменение очертаний. Еще через несколько дней пятнышки превратились в шарики с внутренними ядрами и внешними оболочками. Они вытягивались в гантели. Они раздувались и распускались в миниатюрные цветы. Они делились. А затем, через две недели, они распались. Можно сказать, умерли.
Зарисовывая изменчивые формы этих объектов, Бёрк убедился, что это не бактерии. Дело даже не в том, что объекты оказались слишком малы, чтобы быть бактериями. Просто, когда исследователь поместил образцы в воду, они растворились – с бактериями такого не бывает. Однако Бёрк не сомневался, что эти комочки с добавкой радия не кристаллы и вообще не принадлежат ни к одной известной форме неживой материи. «Они с полным правом могут быть причислены к живой природе»[9], – заключил Бёрк. По его утверждению, он создал «искусственную жизнь» – существ, обитающих на самых дальних границах царства живого. Исследователь дал им имя в честь породившего их элемента – радиобы.
Бёрк мог лишь гадать, как именно ему удалось получить своих радиобов. Должно быть, упав на бульонный студень, радий дал молекулам силу роста, организации и воспроизводства. «Составные компоненты протоплазмы содержатся в бульоне, – писал ученый позже, – но жизненный флюид находится в радии»[10].
В декабре того же года сотрудники Кавендишской лаборатории отметили открытие Бёрка на ежегодном банкете, проходившем в скрытом от чужих глаз зале одного из кембриджских ресторанов. Облаченные во фраки, ученые декламировали вирши, сочиненные физиком Фрэнком Хортоном, громко распевая «Атом радия»[11] на мотив старой песенки из варьете:
Я бедненький атом радия,
- В обманке родился на свет,
- Но скоро я стану гелием –
- Увянет энергии цвет[12].
Далее физики пели о гамма- и бета-лучах, испускаемых радием, а затем переходили к опыту Бёрка:
Я, говорят, создатель живого,
- Зверей, мол, из глины лепил,
- И, говорят, из бульона мясного
- Я жизнь на Земле сотворил[13].
Через пять месяцев, 25 мая 1905 г., Бёрк опубликовал свой первый отчет о радиобах в журнале Nature[14]. Описание эксперимента он украсил тремя нечеткими зарисовками «высокоорганизованных телец». В конце статьи Бёрк и окрестил эти тельца радиобами, что, по его словам, «указывало как на их сходство с микробами, так и на их иную природу и происхождение».
К Бёрку валом повалили представители прессы, но поначалу исследователь успешно уклонялся от того, чтобы делать громкие заявления о своем открытии. Однако журналисты подточили его сдержанность, словно термиты трухлявое дерево. Указывая, что радиоактивные минералы, по последним данным, удивительно широко распространены, Бёрк выдвинул гипотезу, будто радиобы населяют всю планету. «Возможно, таким образом на Земле и зародилась жизнь»[15], – сказал он одному репортеру.
Публика приняла это с энтузиазмом. «Радий раскрыл тайну жизни?»[16] – задавалась вопросом газета The New York Times. Бёрковы радиобы, восхищенно писало издание, словно «колебались между инертностью неодушевленного существования и непривычным трепетом нарождающейся жизненности».
Пресса сделала Бёрка столь же знаменитым, как и его радиобы. «О Джоне Батлере Бёрке в одночасье стали говорить больше, чем о каком-либо другом ученом в Великобритании»[17], – писала другая газета, The New York Tribune. Лондонская The Times провозгласила его «одним из самых блестящих наших молодых физиков», совершившим «одно из величайших открытий всех времен»[18]. По мнению другого британского автора, «мистер Бёрк внезапно приобрел такую славу, какая в этой стране обычно достается лишь выдающимся спортсменам»[19]. Как позже вспоминал сам ученый, письма с вопросами о радиобах шли к нему «из самых отдаленных уголков мира».
Бёрк почивал на лаврах. Вместо того чтобы продолжать эксперименты в Кавендишской лаборатории, он разъезжал с лекциями, демонстрируя свои предметные стекла. Популярные журналы щедро платили ему за публикации. Один из них – The World's Work[20] – даже сравнивал Бёрка с Дарвином. Как заявило это издание, радиобы «вызвали, вероятно, больше споров, чем любое другое событие в истории науки со времени выхода в свет "Происхождения видов"»[21]. В 1859 г. Чарльз Дарвин изложил теорию эволюции живого. Теперь, через без малого полстолетия, Бёрк бился над еще более значительной тайной – тайной самой жизни. Одно из ведущих лондонских издательств, Chapman and Hall, заключило с Бёрком договор на книгу о его теории. Труд «Происхождение жизни: ее физическая основа и определение» (The Origin of Life: Its Physical Basis and Definition)[22] вышел в свет в 1906 г.
От первоначальной осторожности Бёрка не осталось и следа. В своей книге он разглагольствовал о свойствах живой материи, о «пограничной зоне между царствами минералов и растений», о ферментах и клеточных ядрах, о собственной электрической теории материи и о каком-то «веществе мысли». Это вещество Бёрк беспомощно охарактеризовал как «восприятие в мировом сознании, образующее "великий океан мысли", в котором мы обитаем, передвигаемся и обладаем бытием»[23].
И с этого высказывания для Бёрка началось его падение Икара. Вскоре последовал вал разгромных отзывов на «Происхождение жизни»; рецензенты высмеивали самомнение автора. Физик взялся рассуждать о природе живого, не зная даже разницы между хлорофиллом и хроматином. По замечанию одного из рецензентов, «в биологии он решительно не силен»[24].
Вскоре последовал еще более убийственный отзыв – от коллеги Бёрка. Это был Уильям Артур Дуглас-Рудж, который тоже несколько лет проработал в Кавендишской лаборатории. Он решил самостоятельно воспроизвести эксперименты Бёрка с радиобами и придумал, как сделать их более строгими, в частности провести отдельно опыты с водой из-под крана и с дистиллированной водой. В отличие от Бёрка, который, по словам Руджа, «просто рисовал»[25], он задокументировал свои результаты с помощью фотографий. Сварив студень на дистиллированной воде, Рудж обнаружил, что радий не подействовал никак. В студне же на воде из-под крана Рудж нашел некие объекты странной формы, но никаких признаков «жизнеподобных» радиобов, зарисованных Бёрком.
Бёрк попытался выставить Руджа дилетантом, но другие ученые сочли, что отчет Руджа Королевскому обществу закрыл тему радиобов. «Мистер Рудж провел эксперименты, которые мистеру Бёрку следовало бы давно провести самому, – заявил Норман Роберт Кэмпбелл, физик из Кавендишской лаборатории. – Мистер Рудж предоставил убедительные доказательства того, что "клетки", или радиобы, суть не что иное, как пузырьки воды, возникшие в желе под воздействием солей»[26].
В сентябре 1906 г. Кэмпбелл выступил в печати с яростными нападками на Бёрка. По форме это была рецензия на «Происхождение жизни», но по сути – волчий билет. «Мистер Бёрк не учился в Кембридже, а пришел туда для продолжения образования после двух других университетов, – саркастически писал Кэмпбелл. – Утверждение, будто он "сотрудник Кавендишской лаборатории", в отношении его новейших публикаций вводит в заблуждение. Несколько лет назад он действительно выполнял там кое-какие исследования по физике; но на момент своих штудий в области биологических свойств радиобов он всего лишь хранил пробирки с "инкубировавшимися" тельцами в том помещении, где работал прежде».
Примерно в это же время Бёрк оставил работу в Кавендишской лаборатории. Ушел он сам или его «ушли» – неизвестно. В декабре 1906 г. сотрудники лаборатории по обыкновению собрались на банкет отмечать итоги года. У них было что отпраздновать: Томсон только что получил Нобелевскую премию. Но вокальный опус 1906 г. оказался не гимном во славу электрона. Вместо него математик Альфред Артур Робб сочинил песенку на мотив арии «Влюбленная золотая рыбка» из оперетты «Гейша» (1896). Она была озаглавлена «Радиоб»[27].
Болтался в супе радиоб –
- Таков его удел,
- И вот, взглянувши в микроскоп,
- Джон Батлер Бёрк воскликнул: «Оп!» –
- Когда его узрел.
- «Се радиоб; он знак бесспорный
- Природной силы животворной,
- А также, – заметил он сам себе, –
- Знак гениальности Джона Б. Б.!»
В дальнейшем Бёрка ожидало лишь затяжное падение, завершившееся его смертью 40 лет спустя, в 1946 г. После того как исследователь ушел из Кавендишской лаборатории, его больше никогда не приглашали на мало-мальски солидную преподавательскую должность. Журналы утратили интерес к его идеям. Бёрк написал две пространных рукописи, но очень долго не мог найти издателя. Его доход от лекций и публикаций иссяк как раз к тому моменту, когда мать решила урезать ему содержание. Во время Первой мировой войны Бёрку удалось найти работу, просто чтобы держаться на плаву, – техническая проверка самолетов, – однако через несколько месяцев ему пришлось уволиться из-за слабого здоровья. В 1916 г. он вымаливал у Королевского литературного фонда заем, чтобы спастись от «угрожающего банкротства»[28]. Просьбу отклонили.
В молодые годы Бёрку казалось, что еще чуть-чуть – и он даст определение жизни, очертит ее границы. Но сложилось иначе: жизнь очертила границы Бёрку. В 1931 г., когда минула четверть века с момента его недолгой славы, он издал свой сомнительный главный труд – «Возникновение жизни» (The Emergence of Life). Получилась невразумительная каша. «Бёрка понесло»[29], – писал впоследствии историк Луис Кампос. В этой книге Бёрк продемонстрировал свое увлечение левитацией и прочими паранормальными явлениями. Он оставался ярым сторонником своих радиобов, о которых остальной мир давно забыл. Он утверждал, что жизнь зародилась из «временных волн», которые, по его словам, распространяются между частицами сознания, составляющими Вселенную.
Чем больше Бёрк размышлял о жизни, тем меньше понимал ее. В одном из абзацев книги «Происхождение жизни» он дает ей определение, которое больше похоже на крик о помощи: «Жить – это быть»[30].
_______
В юности я даже не слышал о Джоне Батлере Бёрке. Учебники предлагали стандартный пантеон биологов, включавший в себя в основном тех, чьи идеи оказались верными: Дарвина с его эволюционным древом, Менделя с его генами гороха, Луи Пастера с его болезнетворными микробами. Так проще – галопом по заданному маршруту от героя к герою, игнорируя на этом пути заблуждения, неудачи, померкшую славу.
Даже когда я уже начал популяризировать биологию, мне по-прежнему ничего не было известно о Бёрке. Мне выпало счастье познакомиться со множеством форм жизни и множеством ученых, которые ими занимаются. Я вылавливал миксин в Северной Атлантике, пускался в пешие походы по сосновым лесам Северной Каролины, чтобы отыскать дикорастущую венерину мухоловку, наблюдал орангутанов, нежащихся высоко в ветвях суматранских джунглей. Исследователи делились со мной своими открытиями по поводу удивительной слизи, которую выделяют миксины, ферментов, с помощью которых хищные растения переваривают насекомых, орудий, которые орангутаны делают из палок.
Подобные лучи научных озарений яркие, но лишь потому, что узкие. У того, кто проводит всю жизнь, наблюдая орангутанов, нет времени становиться специалистом по венериным мухоловкам. Венерины мухоловки и орангутаны обладают важнейшим общим признаком: они живые, и тем не менее, когда спрашиваешь биологов, что значит быть живым, разговор не клеится. Они мнутся, мямлят или предлагают шаткое определение, которое не выдерживает даже элементарной критики. Большинство биологов в своей ежедневной рутинной работе попросту не особо задаются этим вопросом.
Такая отстраненность с давних пор остается для меня загадкой, ведь вопрос, что значит быть живым, подобно подземной реке, пропитывал основу науки на протяжении четырех столетий ее истории. Когда натурфилософы задумались о мире, состоящем из материи в движении, они поставили вопрос: что отличает жизнь от всего остального во Вселенной? Поиск ответа принес ученым много открытий, но вместе с тем и много конфузов. Бёрк был отнюдь не единственным примером. Так, в 1870-х гг. ряд ученых пришел к убеждению, что дно океанов покрыто сплошным ковром пульсирующей протоплазмы. Более чем полторы сотни лет спустя, с учетом всех накопленных к настоящему моменту знаний о живых организмах, биологи все еще не могут прийти к согласию по поводу того, как же определить живое.
Вконец озадаченный, я пустился в путь. Я начал его из самого сердца владений жизни – с того, в чем каждый из нас абсолютно уверен: что мы живы, что мы наделены жизнью, крайними точками которой являются рождение в начале и смерть в конце. Тем не менее мы скорее чувствуем, ощущаем нашу собственную жизнь, нежели понимаем ее головой. Мы также знаем, что другие существа, например змеи и деревья, тоже живые, хотя и не можем у них об этом спросить. Здесь мы скорее полагаемся на видимые признаки, общие для всех живых существ. Я сделал обзор этих признаков с учетом тех созданий, что демонстрируют их в самых ярких, самых радикальных проявлениях. В конце концов странствия привели меня к краю живого[31], в туманное пограничье между живым и неживым, где я узнал о некоторых – но не всех – вариациях признаков живого. Именно там я в конце концов натолкнулся на упоминание о Джоне Батлере Бёрке и счел, что он вполне заслужил место в нашей памяти. Именно там я встретил его научных преемников, которые все еще пробираются ощупью вдоль самой границы жизни, пытаясь определить, как зародилась жизнь или насколько причудливой она может оказаться в других мирах.
Возможно, когда-нибудь человечество построит карту, которая облегчит путь к разгадке. Не исключено, что через несколько столетий люди будут с изумлением оглядываться на наши представления о живом и дивиться, как мы могли быть настолько ограниченными. Мы сегодня смотрим на жизнь примерно так же, как четыреста лет назад глядели на ночное небо. Люди видели вверху таинственные огоньки, блуждавшие и вспыхивавшие во мраке. Некоторые астрономы того времени уже начали высказывать первые предположения, почему огоньки следуют по определенным траекториям, но многое из тогдашних объяснений оказалось впоследствии неверным. Когда же вверх глядели следующие поколения, они видели уже не огоньки, а планеты, кометы и красные гиганты, подчиняющиеся одним и тем же законам физики, в основании которых лежит одна и та же теория. Неизвестно, когда будет создана теория живого, но можно по крайней мере надеяться, что это произойдет на нашем веку.
Часть первая
Шевеление плода
Откуда дыхание жизни приходит в тело младенца
Спускаясь узкой тропою по левую сторону песчаного вала, утыканного мелкими пучками шалфея, я остро чувствовал собственную жизнь. Ногами я ощущал ужасную крутизну склона. Через несколько резких поворотов тропинки дюна сгладилась, и глазам открылся вытянутый безлюдный пляж. Он уходил на север полоской побережья между высокими обрывистыми скалами и Тихим океаном. Солнце над поверхностью воды спряталось за белыми облаками, заполнившими все небо. Утром в гостиничном номере мобильник сообщил мне прогноз погоды: пасмурно, чуть выше 20 ℃. Мой мозг отреагировал на эту информацию, выбрав для моей прогулки по берегу легкую рубашку с длинными рукавами. Теперь он сам уточнял свое решение, не сверяясь с сознанием.
Нервные окончания, рассеянные по моей коже, ощущали влажность и температуру окутывавшего тело слоя воздуха. Электрические импульсы бежали от них по длинным веточкам – дендритам, пока не достигали тела нейрона или его сомы. Оттуда уже новые сигналы пускались в путь, они перемещались, словно по кабелям, по длинным выростам – аксонам. Аксоны доходили до моего позвоночника и поднимались вверх к голове. Так от нейрона к нейрону сигналы из внешнего мира пробирались в мозг и в конце концов попадали в комочек нейронов в глубине моего черепа.
В этом комочке телеграфные сообщения со всего моего тела собирались и расшифровывались для генерации новых сигналов, другого типа. На этот раз нейроны передавали уже не ощущения, а команды. Обновленные электрические импульсы потекли от моего мозга по направленным наружу аксонам через ствол мозга, вниз по спинному мозгу и наконец достигли миллионов желез в моей коже. Там они создали электрический заряд в скрученных трубочках, а те выдавили воду из окружающих клеток. По моей спине заструился пот.
Мое сознательное «я» разозлилось на мозг, который это устроил. У меня с собой было не так уж много рубашек, и вот теперь одна из них оказалась мокрой и соленой. Я не мог непосредственно ощущать трепет электрических импульсов, снующих с посланиями от кожи к мозгу. Я не ощущал прилива крови в глубине моей головы, когда работала терморегулирующая область мозга. В этот момент на берегу моря я просто ощутил, что вспотел. Я ощутил, что злюсь. Я ощутил, что живу.
Осознав собственное существование, я заметил на пляже и других живых существ. В южном направлении неспешно брел какой-то человек с бело-голубой доской для серфинга. Далеко на севере с вершины утеса взлетал парапланерист. Маневры желтого крыла его летательного средства говорили о намерениях, которые возникают в человеческом мозгу и отправляют сигналы рукам, сжимающим клеванты.
Помимо человеческой, я наблюдал и пернатую жизнь. Вдоль полосы прибоя прыгали кулики. Их мозг размером с зернышко воспринимал набегание волны и холодную пену вокруг лапок, заставляя мышцы птичек сокращаться так, чтобы те не упали, смогли перебраться повыше, обшарить песок в поисках зарывшихся улиток. Улитки наделены не мозгом как таковым, а лишь ажурной сетью нервов, подающих собственные команды – медленно, но безостановочно закапываться. Я задумался о скрытых в песке у меня под ногами обладателях тысяч других нервных систем – о червячках, двустворчатых моллюсках и странных киноринхах. А там, в океане, в глубинах подводного каньона крейсировали другие мозги, угнездившиеся в телах куньих акул и скатов-хвостоколов, дрейфовали нервные сети медуз.
Пройдя вдоль полосы прибоя несколько минут, я остановился и посмотрел вниз. На песке лежал гигантский нейрон длиной более полутора метров. Большую его часть составлял блестящий светло-коричневый аксон. Он был мягко изогнут, словно электрический кабель в толстой изоляции. С одного конца аксон расширялся в луковицеобразную сому, увенчанную, в свою очередь, веточками дендритов. Наверное, это все, что осталось от какого-то кракена, погибшего в бою со стаей косаток где-то между этим местом, где его выбросило на берег, и Гавайями.
На самом деле то был не фантастический нейрон, а водоросль ламинария[32]. Ее принесло из подводного леса, колышущегося в миле от берега. То, что представилось мне аксоном, было стеблем, который еще недавно служил водоросли для прикрепления к морскому дну. А телом нейрона в реальности оказался газовый пузырь, который удерживал водоросль вертикально в подводных течениях. «Дендриты» были ветками, на которых когда-то росли листовые пластины. Эти пластины играли для водоросли роль, подобную той, что играют листья для наземных растений, – они улавливали проходящие сквозь морскую воду малые проблески солнечного света и давали ламинарии энергию, благодаря которой она оказывалась способна потягаться длиной с высокими пальмами, венчавшими горы за моей спиной.
В строении этой водоросли имелась известная сложность, что свойственно живым существам. Но, разглядывая ее, я не мог определить, жив еще данный обрывок ламинарии или нет. Я не мог спросить ее, как она поживает. У нее не было пульса, который можно пощупать, не было легких, заставляющих грудную клетку вздыматься и опускаться. Но водоросль все еще блестела, ее поверхность была целой. Даже если она уже не могла усваивать солнечный свет, возможно, ее клетки продолжали работать, используя остаток энергии для починки своих генов и мембран. И скоро, может уже сегодня или завтра, эта ламинария умрет.
Но после смерти сразу же вольется в прибрежную жизнь. Микробы начнут поедать жесткие оболочки водоросли. А потом к ним присоединятся рачки-бокоплавы и водорослевые мушки – они вгрызутся в более мягкие части ее слоевища. Позже эти пожиратели сами станут пищей для куликов и крачек. Азот из ламинарии уйдет в землю и удобрит растения. А вспотевшая человеческая особь, чей мозг на этом пляже занят раздумьями о мозге, унесет в своих нейронах память о сходстве слоевища водоросли с нейроном.
_______
На следующее утро мой маршрут пролегал по верху, по горам. Шоссе Норд-Торри-Пайнс-роуд рассекало район Ла-Хойя калифорнийского города Сан-Диего, уходя на север вдоль чащ нависших башенных кранов. На дороге, забитой в час пик машинами, едва ли кто думал о полоске дикого пляжа, притулившегося совсем рядом внизу. Я перешел обсаженную эвкалиптами автостоянку и подошел к Сэнфордскому[33] консорциуму по восстановительной медицине – целому комплексу лабораторий и офисов. Войдя в богато остекленное здание, я поднялся в лабораторию на третьем этаже, где меня ждал ученый с аккуратной бородкой по имени Клебер Трухильо, уроженец Бразилии. Мы облачились в халаты и натянули синие перчатки.
Трухильо отвел меня в комнатку без окон, набитую холодильниками, инкубаторами и микроскопами. Он широко раскинул руки в синих перчатках и почти дотянулся до стен. «Тут мы проводим половину рабочего времени», – сказал он.
В этом помещении он в сотрудничестве с аспирантами выращивал особый тип жизни. Трухильо открыл инкубатор и вынул прозрачную пластиковую коробку. Подняв руки повыше, он показал мне ее снизу, со стороны дна. В коробке было шесть круглых ячеек диаметром с печенье, наполненных чем-то вроде разбавленного виноградного сока. В каждой ячейке плавало несколько десятков белесых шариков размером не более мушиной головки.
Каждый шарик состоял из сотен тысяч человеческих нейронов. Каждый развился из единственной клетки-предшественницы. Теперь эти шарики могли делать многое из того, на что способен наш собственный мозг. Они обеспечивали себя энергией, поглощая из той похожей на сок среды питательные вещества. Они поддерживали свои биомолекулы в рабочем состоянии. Они испускали электрические сигналы в волнообразном ритме, синхронизируя их с помощью нейромедиаторов. Каждый такой шарик, по-научному органоид, был самостоятельным живым существом, его клетки сплелись в единый коллектив.
«Они тянутся друг к другу», – сказал Трухильо, разглядывая донышки ячеек. Он явно любил свои творения.
Лабораторией, где работал Трухильо, заведовал другой ученый бразильского происхождения – Алиссон Муотри[34]. Переехав в США и став профессором Калифорнийского университета в Сан-Диего, он научился выращивать нейроны. Муотри брал у людей частицы кожи и обрабатывал их химическими составами, превращавшими эти клетки в эмбриональные. Воздействовав потом на клетки другим набором реактивов, он заставлял их развиваться в нейроны. На дне чашки Петри из них могли образовываться бляшки, способные потрескивать электрическими разрядами и обмениваться нейромедиаторами.
Муотри однажды понял, что эти нейроны можно использовать для изучения заболеваний мозга, вызванных мутациями. Вместо того чтобы вырезать кусочки серого вещества из человеческих голов, можно брать образцы кожи тех же людей и перепрограммировать их в нейроны. Для первого исследования он взял клетки пациентов с наследственной формой аутизма – синдромом Ретта. Среди симптомов этого заболевания – умственная отсталость и утрата моторного контроля. И вот нейроны выросли, раскинули свои водорослевые ветви в чашках Петри и вступили в контакт друг с другом. Муотри сравнил их с нейронами, полученными из образцов кожи здоровых людей. Выявились некоторые различия. Самым заметным оказалось то, что нейроны, полученные из клеток пациентов, страдающих синдромом Ретта, образовывали меньше веточек. Возможно, разгадка заболевания – в разреженности нейронной сети, из-за которой обмен сигналами в мозгу идет не так, как надо.
Однако Муотри прекрасно понимал, что бляшка нейронов космически далека от мозга. Почти полтора кило мыслящей материи в наших головах можно было бы назвать живым кафедральным собором, если бы тот строил сам себя из своих же камней. Мозг развивается из немногочисленных клеток-предшественниц, которые мигрируют туда, где у зародыша будет голова. Они объединяются в нечто вроде кармашка и затем размножаются. Разрастаясь, эта масса выпускает длинные отростки-канатики во все стороны к формирующимся стенкам черепной коробки. Из массы клеток-предшественниц выделяются другие клетки и двигаются вдоль этих канатиков. В разных точках пути разные клетки будто замирают и начинают разрастаться наружу. Они образуют стопку слоев, известную под названием коры головного мозга[35].
В этой внешней кожуре человеческого мозга протекает львиная доля того особого мышления, которое и делает нас людьми: благодаря ей мы понимаем речь, читаем эмоции на человеческих лицах, вспоминаем прошлое и планируем отдаленное будущее. И все эти мысли, омытые океаном сложных сигналов, порождаются клетками, сформированными в особом пространстве внутри головы.
К счастью для Муотри, ученые придумали новые способы убедить перепрограммированные клетки вырасти в миниатюрные органы. Уже были созданы органоиды легких, органоиды сердца, а в 2013 г. – органоиды мозга[36]. И вот исследователи «уговорили» эти перепрограммированные клетки стать мозговыми клетками-предшественницами. Получив нужные сигналы, эти клетки затем размножались и порождали тысячи новых нейронов. Муотри осознал, что органоиды мозга совершат переворот в его исследованиях. Болезнь типа синдрома Ретта начинает изменять кору мозга уже на самых ранних этапах его развития. Но эти изменения даже специалистам уровня Муотри представлялись черным ящиком. Теперь же исследователь мог выращивать органоиды мозга и наблюдать напрямую за этими трансформациями.
Муотри и Трухильо совместно воспользовались методами, уже созданными другими учеными для выращивания органоидов. Затем бразильцы принялись разрабатывать собственные методы, позволяющие вырастить кору мозга. Было непросто подобрать химический состав, который направил бы клетки-предшественницы на нужный путь развития. Те часто гибли на полдороге, лопаясь и разбрасывая свои молекулярные внутренности. В итоге ученые нашли нужное соотношение реагентов. К своему удивлению, они увидели, что клетки, стоило им двинуться по верному пути, продолжали развитие уже самостоятельно.
Исследователям больше не нужно было терпеливо добиваться, чтобы органоиды росли. Комочки клеток самопроизвольно раздвинулись и образовали полую трубку. Они выпустили отростки, ответвившиеся от этой трубки, и вдоль этих отростков стали мигрировать другие клетки. На внешней поверхности органоидов даже возникли складки, напоминающие извилины нашего мозга. Теперь Муотри и Трухильо умели делать органоиды мозговой коры, разрастающиеся до сотен тысяч клеток. Их творения жили неделями, потом месяцами, а затем и годами.
«И что самое невероятное – они строят себя сами», – сказал Муотри.
В тот день, когда я приехал в лабораторию, ее заведующий обследовал органоиды, отправленные в космос. Муотри сидел у себя в кабинете, откуда через стеклянную дверь можно было выйти на балкон. Исследователь вел себя добродушно и непринужденно – казалось, он вот-вот устроит себе короткий день, возьмет исцарапанную доску для серфинга, прислоненную к стене у его стола, и направится к морю. И тем не менее он был занят самым невероятным из своих многочисленных экспериментов. Вдали за окном летали парапланы. Но завлабу не было до них дела. Ведь в 400 км у него над головой, на МКС, в металлическом ящике летали сотни выращенных им органоидов мозга. Он хотел знать, как они поживают.
Астронавты, работающие на космической станции, уже много лет проводили опыты по выращиванию клеток на околоземной орбите. Обращаясь вокруг родной планеты в состоянии невесомости, клетки уже не испытывали воздействия гравитации, довлеющей над всей земной жизнью последние 4 млрд лет. Но и микрогравитация, как оказалось, творит странные вещи. В некоторых космических экспериментах клетки росли быстрее, чем на Земле. Порой они становились крупнее. Муотри было любопытно, не разрастутся ли его органоиды на орбите в более крупные кластеры и не станут ли они еще больше похожи на человеческий мозг.
Получив одобрение от NASA, Муотри, Трухильо и их коллеги начали совместно с инженерами проектировать космический домик для органоидов. Они сконструировали инкубатор, способный питать органоиды и поддерживать нужную среду для их развития. За несколько недель до моего визита Муотри влил свежую партию мини-мозгов во флакон и сунул его в рюкзак. Стоя в очереди на досмотр в аэропорту Сан-Диего, он понятия не имел, как ответить, если его спросят, а что это там в пузырьке. «Тысяча миниатюрных мозгов, выращенных мною в лаборатории, и я собираюсь отправить их в космос»?
Судя по всему, органоиды не привлекли внимания досмотрщиков. Муотри удалось сесть в самолет без проблем. Добравшись до Флориды, он вручил инженерам флакон для отправки его на борту транспортного корабля. Несколько дней спустя исследователь следил за тем, как ракета-носитель SpaceX Falcon 9 взлетает в небо.
Когда груз прибыл на космическую станцию, астронавты забрали инкубатор с органоидами и поместили его в один из отсеков. Там он пробыл месяц. По завершении эксперимента астронавтам следовало залить органоиды спиртом. От этого они погибнут, но зато будет зафиксировано их состояние на момент смерти. Как только, возвращаясь на Землю, органоиды упадут в Тихий океан, их выловят, доставят в лабораторию Муотри, и тогда он сможет изучить клетки и узнать, какие гены включались у них в космосе.
Исход затеи зависел от того, доживут ли органоиды до назначенного срока, а Муотри не знал, удастся ли им это. Чтобы наблюдать за подопытными на протяжении всего их месячного космического полета, он снабдил инкубатор миниатюрными камерами слежения, делавшими снимки через каждые полчаса. МКС передавала снимки на Землю, а Муотри скачивал их через удаленный сервер.
Когда он загрузил первую серию изображений, отснятых в самом начале миссии, оказалось, что они никуда не годятся. Из-за пузырьков воздуха ничего было не разобрать. Три недели исследователь не имел ни малейшего представления, что там с его органоидами. Я смотрел, как Муотри очередной раз подключается к серверу. Он обнаружил новый снимок с МКС и скачал его. Тяжелый файл разархивировался, и на экране, полоска за полоской, проявилось изображение.
– Ого! – воскликнул Муотри и издал недоверчивый смешок. – Я их вижу!
Он приблизил лицо к экрану, вглядываясь в изображение. С полдюжины серых шариков парили на бежевом фоне.
– Ага, все они выглядят вполне нормально, – отметил исследователь. – Круглые, более-менее одинакового размера. Не видно, чтобы они сливались или слипались в кучку.
Он откатился в кресле от компьютера.
– Так что новости хорошие. Я счастлив. Просто фантастика.
Муотри сумел определить, что его органоиды живы, даже когда те находились в космосе.
В конце 2015 г. совместно с Трухильо они впервые получили возможность использовать органоиды, чтобы узнать еще кое-что о мозге. В Бразилии врачи бились над вопросом, почему тысячи младенцев рождаются с тяжелыми нарушениями развития мозга, при которых практически отсутствует его кора. Оказалось, что матери этих детей подхватили вирус Зика, который разносят комары; прежде этот вирус не встречался в Новом Свете. Муотри и Трухильо раздобыли образцы вируса Зика и принялись заражать мозги-органоиды. Их интересовало, появятся ли наблюдаемые изменения.
«Появились, да еще какие!» – сказал мне Муотри.
Вирус Зика тут же разрушал клетки-предшественницы у незрелых органоидов. Без этих клеток органоид оказывался неспособен выпустить канатики и начать формирование коры. Опыты позволили установить, что вирус Зика не убивает кору мозга, а просто изначально не дает ей сформироваться. Как только ученые определили, в чем состоит разрушительное воздействие вируса, они смогли создать лекарства, блокирующие его. Затем последовали испытания этих лекарств на животных, чтобы проверить, смогут ли они защитить мозг от повреждений.
Пошла молва, что Муотри тысячами выращивает суррогаты мозгов. К нему запросились аспиранты и молодые специалисты. Когда они поступали в лабораторию, им приходилось несколько месяцев обучаться у Трухильо сложному искусству создания органоидов. Я попросил аспиранта Седрика Снетледжа рассказать, как проходила его подготовка. Чтобы получить органоид мозга, недостаточно установить предписанные протоколом нужные температуры и уровни pH, объяснил он. Снетледжу пришлось на каждом этапе учиться применять интуицию, например определять, на сколько нужно наклонить емкости, чтобы органоиды не прилипли ко дну. Я сказал Снетледжу, что он как будто рассказывает о кулинарных курсах.
«Если сравнивать с кулинарией, то это скорее похоже на то, как делают суфле, чем на то, как варят гуляш», – ответил он.
Снетледж хотел заниматься неврологическими заболеваниями, для этого-то он и учился выращивать органоиды. Другие аспиранты попали в лабораторию Муотри с целью разобраться, как сделать органоиды более похожими на мозг. Чтобы клетки мозга оставались здоровыми, нужны питательные вещества и много кислорода, а значит, тем, которые находятся в глубине органоида, может угрожать истощение. Поэтому одни студенты Муотри добавляли к органоидам новые клетки, способные развиться в трубочки наподобие артерий, другие же подсаживали иммунные клетки, чтобы посмотреть, не придадут ли те более естественные формы ответвлениям нейронов.
Тем временем Присцилла Негрес, жена Клебера Трухильо, прислушивалась к «разговорам», которые вели между собой клетки органоидов. Когда органоид мозга достигает возраста в несколько недель, его нейроны созревают, начиная порождать электрические импульсы. Эти импульсы могут проходить по аксону и вызывать такое же возбуждение в соседних нейронах. Негрес и ее коллеги сконструировали подслушивающее устройство, которое улавливало треск. На дне миниатюрных ячеек они разместили решетки электродов 8×8. Затем заполнили ячейки питательной средой и поместили поверх каждой матрицы по органоиду.
На компьютере у Негрес расшифровка данных с электродов имела вид сетки из 64 кружочков. Когда какой-нибудь электрод регистрировал возбуждение нейрона, соответствующий кружочек увеличивался и становился из желтого красным. Шли недели, кружочки росли и краснели все чаще, но Негрес никак не могла уловить в этих вспышках закономерности. Время от времени клетки органоидов возбуждались самопроизвольно, создавая неврологический шум.
Но, когда органоиды подросли, Негрес заметила, что в сигналах появилась некая упорядоченность. Порой несколько кружочков загорались красным одновременно. Потом все 64 электрода стали фиксировать сигналы в один и тот же момент. А затем Негрес удалось отследить, как они вспыхивают и гаснут волнообразно.
Неужели исследовательница и впрямь наблюдала развитие настоящих ритмов мозговой активности у органоидов? Очень хотелось бы, конечно, сравнить то, что она видела в своих ячейках, с развитием мозга человеческого эмбриона! Но наука еще не научилась отслеживать электрическую активность мозга внутриутробно. Максимум, что было доступно, – это изучать недоношенных младенцев, надевая на их головки величиной с апельсин миниатюрные шапочки с датчиками для ЭЭГ.
Для сравнительного изучения органоидов и мозга недоношенных детей Негрес и ее коллеги привлекли нейрофизиолога Брэдли Войтека из Калифорнийского университета в Сан-Диего и его аспиранта Ричарда Гао. У детей, рожденных на относительно ранних сроках беременности, с наименее развитым мозгом, фиксировались редкие вспышки волновых ритмов, разделенные длинными промежутками беспорядочной активности. У тех, кто родился ближе к положенному сроку, паузы были короче, а периоды волновой активности – дольше и более упорядочены. Органоиды в ходе созревания демонстрировали отчасти сходные тенденции. Когда у молодого органоида впервые проявлялись волновые ритмы, они возникали редкими всплесками. Но с течением времени, по мере его развития, ритмы становились более долгими и упорядоченными, а паузы укорачивались.
Это жутковатое открытие не означало, что Негрес и ее коллегам удалось создать детский мозг. Во-первых, мозг человеческого младенца в 100 000 раз больше самого крупного органоида. Во-вторых, ученые смоделировали только одну часть мозга – кору. Функциональный человеческий мозг включает в себя много других элементов: мозжечок, таламус, черную субстанцию и т. д. Одни области воспринимают запахи. Другие обрабатывают зрительную информацию. Третьи сводят воедино разные типы данных. Четвертые кодируют память. Пятые отвечают за реакции страха или радости.
И все-таки открытие смутило ученых. У них были все основания подозревать, что в ходе дальнейших исследований органоиды мозга будут все больше походить на настоящий мозг. Если обеспечить им бесперебойное кровоснабжение, они вырастут более крупными. Исследователи смогут подсоединить органоид мозговой коры к органоиду сетчатки, умеющему воспринимать свет. Можно подключить его к моторным нейронам, способным посылать сигналы в мышечные клетки. Муотри даже увлекся идеей подсоединить органоид к роботу.
Чем это может кончиться? Когда Муотри начинал выращивать органоиды, он полагал, что они никогда не обретут самосознание. «Теперь я в этом не так уверен», – признался он.
Уверенность покинула и биоэтиков с философами. Они приступили к обсуждению органоидов мозга, а также к тому, что о них думать. Я обратился к одной из участниц дискуссии, гарвардской исследовательнице Жантин Лунсхоф, чтобы узнать ее мнение.
Лунсхоф не особенно опасалась, что Муотри случайно создаст в пробирке существ, обладающих сознанием. Органоиды мозга настолько малы и примитивны, что им еще очень далеко до этого порога. Занимал ее простой вопрос: что это вообще такое?
«Для ответа на вопрос, что с этим делать, нужно вначале понять, что это вообще, в принципе, – сказала Лунсхоф. – Мы создаем объекты, о которых еще десять лет назад никто и слыхом не слыхивал. Их не было в списках философских проблем».
Вопрос Лунсхоф всплыл в моей памяти, когда Трухильо показывал мне в Ла-Хойя свою подоспевшую партию органоидов.
– Это просто клеточная масса, – сказал он, указав на одну из ячеек. – Рядом с человеческим мозгом это и близко не лежало. Но у нас есть способы изготовить более сложный мини-мозг.
– То есть вас это не смущает, – я подбирал подходящие слова, – поскольку это явно не человеческий мозг…
– Клетки человеческие! – уточнил Трухильо.
– То есть они живые, – заметил я полуутвердительно-полувопросительно.
– Да, – подтвердил исследователь. – И человеческие.
– Но это не человек?
– Не человек, – ответил он.
Трухильо предложил мне представить себе органоид, подключенный к электроду.
– Можно подать на него электрические разряды в определенном ритме, – сказал он.
Во время нашего разговора Трухильо сидел перед микроскопом. Он вытянул два пальца и начал постукивать по столу в ритме галопа.
Та-дам, та-дам, та-дам.
Трухильо оторвал руку от стола.
– А затем – стоп.
Через несколько секунд исследователь снова начал выбивать ритм.
Та-дам, та-дам, та-дам.
– А теперь эта штука отвечает, – сказал он. В ответ на входящий сигнал органоид с помощью своих нейронов выдал собственный сигнал в таком же ритме.
– Вот это беспокоит больше. Она чему-то обучается.
Мы плохо подготовлены к осмыслению этих потрескивающих шариков. Проблема не только в том, что органоиды мозга – нечто новое. Когда вам на день рождения дарят смартфон новой модели, иногда бывает нужно время, чтобы разобраться, как его разблокировать, но из-за смартфона не случится философского кризиса. Органоиды мозга вселяют беспокойство, поскольку нутром мы чуем: жизнь должна быть понятной. А эти комочки нейронов доказывают, что не должна, что чутье нас обманывает.
Чтобы определить, можно ли считать органоиды мозга живыми, мы сравниваем их с наиболее знакомой нам формой жизни, стандартом, используя который выносим суждения обо всех иных возможных формах жизни – с самими собой. Если вас спросят, живы ли вы, для ответа «да» нет нужды щупать свой пульс или доказывать себе, что ваши клетки расщепляют углеводы. Это факт нашего глубинного опыта.
«Наше знание о том, что значит быть живым, – заметил в 1947 г. биолог Джон Холдейн, – подобно знанию о том, что такое "красный", "боль" или "усилие"»[37]. Эти блоки знания кажутся нам совершенно очевидными. И тем не менее, отмечает Холдейн, «мы не можем описать их словами и терминами, относящимися к другим категориям».
Порой люди уже при жизни могут перестать чувствовать, что значит быть живым. Напротив, они настаивают, что умерли. Это заболевание редкое, но страдающих им набралось достаточно много, чтобы оно получило собственное название – синдром Котара[38].
В 1874 г. французский врач Жюль Котар осматривал женщину, которую привезли в больницу после попытки суицида. Он сделал запись о том, что она «утверждает, будто у нее нет мозга, нет нервов, грудной клетки, желудка и кишечника; есть только кожа и кости разлагающегося трупа»[39]. Тот факт, что она могла излагать это убеждение связными фразами, не заставил ее усомниться в нем.
С тех пор накопились сведения и о других подобных случаях. В Бельгии женщине казалось, что все ее тело состоит лишь из прозрачной кожицы. Она отказывалась мыться из-за опасения, что растворится и утечет в канализацию[40]. Не так давно некий мужчина в Германии заявил врачам, что год назад утонул в озере. Единственное, чем он смог объяснить им свое состояние, – это то, что излучение мобильных телефонов превратило его в зомби[41].
Поскольку синдром Котара встречается крайне редко, у нейрофизиологов было очень мало возможностей изучать мозг людей с этим синдромом. В 2015 г. индийские врачи описали пациентку, заявившую родственникам, что рак разрушил ее мозг и унес жизнь. МРТ показала, что мозг у нее никуда из черепной коробки не делся и по-прежнему функционирует. Но врачи заметили в заглазничной его области обширный поврежденный участок[42].
Этот участок называется островковой корой, он принимает сигналы со всего организма, а затем придает нашим внутренним ощущениям осознанность. Островковая кора активируется, когда мы испытываем жажду, переживаем оргазм или нас начинает беспокоить переполненный мочевой пузырь.
Сигналы, поступающие в островковую кору, могут играть важную роль в нашем интуитивном ощущении себя живыми. Если эта зона повреждена, такая интуиция может резко исчезнуть и возникает синдром Котара. Наш мозг постоянно корректирует свою картину реального положения дел в соответствии с обрабатываемыми им сигналами. Когда человек перестает получать информацию о своем внутреннем состоянии, ему приходится что-то себе придумывать, чтобы объяснить эту образовавшуюся пустоту. И единственным непротиворечивым объяснением оказывается: «Я умер».
Однако мы не просто знаем, каково это – быть живым; мы также распознаем живое вне пределов нашего тела. Но опознание других живых существ – более сложная задача для нашего мозга, ведь наши нервы не проникают внутрь чужих организмов. Нам приходится восполнять эту недостачу с помощью сигналов, поступающих от наших сенсорных нейронов, – иными словами, посредством того, что мы видим, слышим, осязаем, ощущаем на вкус и с помощью обоняния.
Чтобы ускорить процесс распознавания, мы используем бессознательные способы срезать путь[43]. Мы исходим из того, что живые существа способны к целенаправленному движению. Когда волки преследуют лося по склону холма, они, крадучись за деревьями, стараются окружить свою добычу. Камень, скатывающийся вниз по тому же склону, движется предсказуемо и пассивно. Наш мозг настроен на подобные различия и за долю секунды определяет, какое движение совершает объект – биологическое или физическое[44].
Согласно научным исследованиям, наша способность быстро распознавать живое обусловлена тем, что для активации нужных нейроконтуров в мозгу нам требуется совсем небольшое количество информации. В серии экспериментов психологи засняли на камеру шагающих, бегающих и танцующих людей, а затем отметили их суставы десятью светлыми точками на каждом кадре. После этого экспериментаторы показали испытуемым записи, где были заметны только эти движущиеся точки, чередуя их с другими записями, на которых десять точек двигались независимо друг от друга. Люди быстро определяли, в чем различие[45].
Непосредственное восприятие – не единственное свойство нашего мозга, настроенное на определение живого. То же относится и к нашей памяти. Накапливая информацию о предметах, мы раскладываем ее в мозгу по категориям «живое – неживое». Данное разграничение может ярко продемонстрировать повреждения мозга[46]. Люди, у которых задеты определенные его области, испытывают затруднения с названиями живых объектов, например насекомых или плодов. При этом с игрушками или инструментами у них подобных проблем не возникает.
Психологов давно интересует, насколько указанное разграничение присуще нам от рождения, а насколько мы обучаемся ему по мере взросления. К примеру, вы мгновенно распознаете слова в этом предложении, но это не значит, что вы родились с этим навыком. Исследования с участием детей подтверждают присутствие изначальных интуитивных представлений о живом. Младенцы предпочитают разглядывать точки, движущиеся в биологическом порядке, а не в случайном. Они дольше смотрят на геометрические фигуры, которые выглядят самостоятельно передвигающимися, нежели на те, что кажутся передвигаемыми сторонней силой[47]. Кроме того, дети в процессе обучения явно пристрастны к живому миру: они усваивают сведения о животных быстрее, а потом дольше сохраняют их в памяти. Иными словами, наше знание о живом складывается задолго до появления способности сформулировать, что же мы знаем.
«Если разобрать человеческое сознание на составные части, – пишут психолог Джеймс Нэрн и его коллеги, – естественную границу членения образует именно различение живых и неживых предметов»[48].
Наше чувство живого гораздо древнее собственно нашего вида. Эксперименты показывают[49], что животные тоже способны различать живое и неживое, пусть и не так точно, как мы. В 2006 г. два итальянских психолога, Джорджио Вальортигара и Лючия Реголин[50], сняли на видео собственную версию фильма с точками – только они помечали движения не людей, а кур – и показали записи свежевылупившимся цыплятам. Если обозначенный точками силуэт курицы разворачивался влево, цыплята обычно тоже поворачивались в этом направлении; соответственно, если «курица» поворачивалась направо, они чаще смотрели направо. А когда Вальортигара и Реголин демонстрировали цыплятам видео с движениями случайных точек или перевертывали «точечную курицу» вверх ногами, то никакого закономерного поведения у цыплят они не наблюдали.
Подобные исследования наводят на мысль, что для распознавания других живых существ животные вот уже миллионы лет пользуются зрительным упрощением[51]. Эта стратегия позволяет хищникам быстро замечать добычу. Она полезна и для возможной жертвы, поскольку дает подсказку, что пора убегать. Спасение от волка и уворачивание от падающего камня требуют совершенно различных – и очень быстрых – реакций.
Первые приматы, наши предки, получили в наследство это древнее инстинктивное чутье на живое около 70 млн лет назад. Но в ходе дальнейшей эволюции они освоили и новые способы распознавать живое. У их потомков постепенно сформировались зоркие глаза и большой мозг, а сложные сети нейронов объединили зрение с другими чувствами. По ходу эволюционного развития некоторые виды приматов достигли высокого уровня социальности и стали жить большими группами. Для благополучного сосуществования им стала необходима повышенная восприимчивость к лицам других приматов – умение считывать их выражения и следить за направлением взгляда.
Обезьяноподобные прародители человечества появились около 30 млн лет назад. У них продолжил укрупняться мозг, углубилось понимание поведения собратьев. Наши ближайшие современные родичи в сообществах человекообразных – шимпанзе и бонобо – умеют, опираясь на едва заметные особенности мимики и голоса, улавливать, что чувствуют другие и что им известно. У них нет речи, чтобы выразить понятое словами. Попросите шимпанзе дать определение живому, и вас постигнет горькое разочарование. И тем не менее у них присутствует глубинное представление о том, что другие обезьяны живые, – и это чувство мы вместе с ними унаследовали от общих предков до того, как 7 млн лет назад наши эволюционные пути разошлись.
В человеческой линии мозг продолжал расти; по его относительному размеру наш вид опередил всех остальных животных. Помимо этого, у наших предков развилась способность говорить, а вместе с ней – и более эффективная возможность залезать в головы другим людям. Но все эти признаки сформировались на базе, унаследованной нами от древних приматов. Вот этот-то глубинный фундамент, возможно, и объясняет нашу самонадеянную уверенность, будто бы мы знаем, что такое быть живым, пусть даже мы этого не знаем.
_______
Как только новый представитель нашего вида появлялся на свет, у наших предков, по-видимому, включался в мозгу какой-то нейроконтур, распознающий очередного живого человечка. Но эволюция не снабдила пращуров интуитивным пониманием того, как возникла эта новая человеческая жизнь. Им пришлось придумывать для себя объяснения.
В книге Екклесиаста, например, говорится о том, что «дыхание жизни приходит в тело младенца» во чреве матери[52]. Позднее талмудисты учили, что зародыш до 40-го дня представляет собой «лишь воду». Христианские богословы, объединив библейский вариант с версиями греческих философов, предложили свою трактовку. В XIII в. Фома Аквинский описал процесс «одушевления»[53]. Он утверждал, что сперва человеческий эмбрион получает растительную душу, т. е. способность расти, подобно дереву или цветку. Растительная душа затем поглощается чувственной, как у животного. И наконец, приходит разумная душа, которая содержит в себе также совершенства растительной и чувственной душ.
Другие культуры давали свои объяснения. Народность бен – сообщество земледельцев Берега Слоновой Кости – считает начало жизни переходом из иного мира[54]. Дети – духи, пришедшие из уругбе, поселения мертвых. Новорожденный будет по-настоящему принадлежать этому миру лишь через несколько дней, когда отпадет пуповина. Если он умрет раньше, бен не устроят для него похорон. С их точки зрения, никакой смерти не было.
Из представлений о том, как начинается жизнь, складывались обычаи и законы, связанные с беременностью. Для древних римлян жизнь человека вела отсчет с его первого вдоха. Регулярно случалось, что римские медики и лекари провоцировали выкидыши, давая беременным особые травы. Однако у самой женщины не было права голоса в этом вопросе – решение об аборте принималось патриархом ее семьи. В средневековой Европе христианские богословы считали, что плод обладает душой, а следовательно, аборт – преступление. Спорили же они о том, как это соотносится с самой беременностью. Сторонники Фомы Аквинского утверждали, что есть разница между ранними и поздними ее сроками. В 1315 г. богослов Иоанн Неаполитанский дал врачам руководство на случай, когда беременность угрожала жизни женщины. Если плод еще не был одушевлен, врачу следовало провести аборт. По мнению богослова, хотя врач «и препятствует одушевлению будущего плода, он не станет виновником смерти человека»[55].
Однако, если плод уже обзавелся разумной душой, врач не должен пытаться спасти жизнь матери с помощью аборта. Когда «нельзя помочь одному, не повредив другому, – писал Иоанн, – лучше не помогать никому».
Проблема с руководствами подобного рода заключалась в том, что никто понятия не имел, когда именно плод обретал душу. Одни теологи считали, что для медика лучший способ справиться с этой неопределенностью – вообще не делать абортов. Другие оставляли решение на совести врача. В XVI в. итальянские судьи постановили считать плод одушевленным с 40-го дня после зачатия. А в 1765 г. британский судья Уильям Блэкстон предложил новый критерий – шевеление плода.
«Жизнь – непосредственный дар Божий, неотъемлемое природное право каждого индивидуума, – писал Блэкстон, – и с точки зрения права она начинается, как только ребенок становится способен шевелиться в утробе матери»[56].
В американских колониях начало шевеления плода также было принято за критерий. В течение нескольких поколений аборты были хоть и негласным, но тем не менее заметным фактом американской жизни. Беременные женщины, стремившиеся сделать аборт, не подвергались особым гонениям. Чтобы вызвать выкидыш, американские домохозяйки использовали травы, которые сами же и выращивали в своих огородах. Позже, в эпоху промышленной революции, женщины хлынули из сельской местности в города, где пытались избавиться от плода с помощью «женских ежемесячных таблеток», рекламировавшихся в газетах. Эти примитивные средства медикаментозного аборта часто оказывались неэффективными, и женщины были вынуждены искать врача, который тайно проведет требуемую процедуру хирургическим путем.
В XIX в. противодействие абортам постепенно стало принимать всё более организованный характер. Папа римский Пий IX объявил их смертным грехом – даже если они сделаны до шевеления плода. В США борцы за нравственность опасались, что доступность этой процедуры склоняет женщин к греховной жизни. Американская медицинская ассоциация согласилась с этим, и ведущие врачи начали выступать с речами об опасности абортов как для плода, так и для самих беременных. В 1882 г. доктор из Массачусетса по имени Чарльз Пибоди разразился одной из таких инвектив, призвав собратьев-медиков отказывать беременным женщинам в их просьбах об аборте.
«Это грех против Господа, преступление в самом своем худшем проявлении»[57], – предостерегал Пибоди.
Для врачей, получивших, подобно Пибоди, образование, соответствующее уровню медицинских знаний конца XIX в., споры по поводу беременности шли в совершенно иных категориях, нежели в предшествующие столетия. Средневековые ученые слабо представляли себе, что происходит внутри матки. Они опирались на Библию, Аристотеля и шевеление плода. Пибоди же жил в эпоху, когда уже изучали сперматозоиды, яйцеклетки и оплодотворение, отслеживали развитие эмбрионов. В конце XIX в. многие ученые продолжали мыслить о жизни в категориях таинственной витальной, жизненной силы – до открытия фундаментальной роли генов и хромосом оставались еще десятилетия. Считалось, что эта сила раскрывается в момент зачатия.
«Когда начинается жизнь? – спрашивал Пибоди. – Наука дает только один ответ, и никакой другой невозможен. Жизнь начинается с начала, с первым движением этого жизненного начала, с первым сосредоточением его сил».
Согласно подобной логике, аборт нельзя было считать легитимным, даже если плод еще не начал шевелиться. «Нет! – гремел Пибоди. – Жизнь начинается с начала, и на всем протяжении своего природного пути человек имеет на нее право».
К 1882 г., к тому времени как Пибоди нанес свой удар, во многих американских штатах аборты уже были безжалостно запрещены по закону. Однако оставались лазейки, позволявшие врачам принимать по этому поводу самостоятельные решения. Иногда они делали аборты ради блага матерей. Депрессия, угроза самоубийства или крайняя нищета женщины могли стать достаточным для этого основанием. Многие доктора соглашались делать аборт жертвам изнасилования. Такие процедуры редко выплывали на свет. Еще реже случались аресты врачей.
Эта невидимая, полулегальная система просуществовала в США много десятилетий, вплоть до 1940-х гг., когда очередная антиабортная кампания внезапно лишила беременных целого ряда доступных ранее и относительно безопасных способов избавления от плода. Теперь же многие женщины становились жертвами халтурных абортов, часто сделанных ими самими, и толпами попадали в больницы. Ежегодно сотни из них умирали.
Реформаторы призывали к законодательным изменениям. Массовая вспышка кори в начале 1960-х гг. вызвала волну тяжелых врожденных уродств, и женщины потребовали доступа к безопасным абортам. Штаты откликнулись, узаконив аборты при определенных условиях. В 1973 г. в ходе судебного процесса «Роу против Уэйда» Верховный суд постановил, что запрет на аборты нарушает право женщины на частную жизнь. Согласно постановлению, штаты имели право ограничивать аборты только после 28 недель беременности, когда плод уже в состоянии выжить вне матки.
В своем решении суд, впрочем, касался вопроса о том, что считать началом жизни, – но только затем, чтобы отказаться от его рассмотрения. «Нам нет нужды разрешать сложный вопрос, когда же начинается жизнь, – объявил суд. – Коль скоро те, кто имеет подготовку по соответствующим специальностям – медицине, философии и богословию, не в состоянии прийти к консенсусу, судебная власть на данном этапе развития человеческого знания не обладает полномочиями додумывать ответ».
В ответ на такое решение суда активисты движения против абортов принялись искать не противоречащие ему способы продолжать свою деятельность. Они бойкотировали компании, занимавшиеся разработкой препаратов для медикаментозного аборта. Они лоббировали законы, затруднявшие работу абортариев. Чтобы перетянуть на свою сторону избирателей, активисты ссылались на новейшие научные исследования – или, по крайней мере, на старательно надерганную из них информацию.