Читать онлайн Маленькие трагедии бесплатно
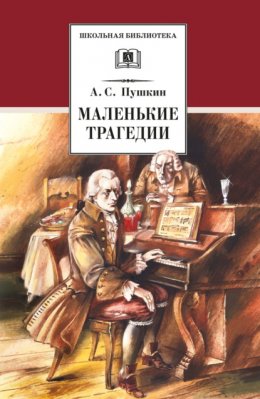
Александр Сергеевич Пушкин
1799–1837
© Бонди С. М., наследники, вступительная статья, 1947
© Коровин В. И., примечания, 1978
© Борисов А. А., иллюстрации, 2023
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2003
Драматические произведения Пушкина. «Маленькие трагедии»
Число произведений, написанных Пушкиным для театра, невелико, но его драмы, как с художественной, так и с идейной стороны, принадлежат к самому значительному в его наследии. Все они, за исключением набросков трагедии о Вадиме Новгородском и комедии об игроке, созданы в период полной зрелости пушкинского творчества – с 1825 по 1835 г.
В законченном виде Пушкин оставил всего пять пьес: «Бориса Годунова» и четыре «маленькие трагедии». Почти до конца была доведена драма «Русалка» и до половины «Сцены из рыцарских времен». В рукописях остались планы и наброски еще около десятка пьес.
Возвращенный из ссылки в сентябре 1826 г., Пушкин застал столичное дворянское общество в состоянии глубокого морального и политического упадка, который был результатом разгрома декабрьского движения и свирепой расправы над его участниками. На несколько лет, приблизительно до начала 1830-х годов, из русской литературы исчезают темы, связанные с освободительным движением. В пушкинском творчестве, с одной стороны, появляется тема русской государственности с ее сложными противоречиями («Полтава», «Тазит», «Арап Петра Великого»), с другой стороны, углубляется психологическая проблематика («Евгений Онегин», прозаические наброски). Глубокий и тонкий анализ психологии человеческой личности составляет по преимуществу содержание нового этапа пушкинской драматургии.
Пушкин, видимо, считал в это время, что в «Борисе Годунове», где все внимание уделено политическим событиям, массовой общественной борьбе, – душевная жизнь отдельных персонажей раскрыта недостаточно глубоко. Еще в конце 1825 г., отвечая Вяземскому, передававшему ему совет Карамзина обратить внимание на противоречия в характере исторического Годунова («дикую смесь набожности и преступных страстей»), Пушкин признавался: «Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны», – то есть изображал Годунова главным образом как политического деятеля, не углубляясь в его индивидуальную психологию.
После «Бориса Годунова» Пушкину захотелось выразить в драматической форме те важные наблюдения, открытия в области человеческой психологии, которые накопились в его творческом опыте. Однако писать большую психологическую или философскую трагедию вроде «Гамлета» он не стал. Он задумал создать серию коротких пьес, драматических этюдов[1], в которых в острой сюжетной ситуации с предельной глубиной и правдивостью раскрывалась человеческая душа, охваченная какой-либо страстью или проявляющая свои скрытые свойства в каких-нибудь особых, крайних, необычных обстоятельствах. Сохранился список заглавий задуманных Пушкиным пьес: «Скупой», «Ромул и Рем», «Моцарт и Сальери», «Дон-Жуан», «Иисус», «Беральд Савойский», «Павел I», «Влюбленный бес», «Дмитрий и Марина», «Курбский». Насколько можно судить по заглавиям и по тому, как Пушкин осуществил некоторые из этих замыслов, его занимали в них острота и противоречия человеческих чувств: скупость, зависть, честолюбие, доводящее до братоубийства[2], любовные страсти, ставшие главным содержанием всей жизни, и т. д. В пьесе «Павел I», вероятно, изображалась бы жалкая гибель этого предельно самовластного императора; в пьесе «Иисус» – трагедия учителя, проповедника, покинутого в минуту опасности своими учениками и даже преданного на смерть одним из них; пьеса «Курбский» (Пушкин имел в виду, конечно, исторического князя Курбского, врага Ивана Грозного), вероятно, показывала бы душевную драму эмигранта, принужденного воевать против своей родины вместе с ее врагами. О возможном содержании остальных пьес трудно сказать что-либо определенное.
Из этого списка драматических замыслов Пушкин осуществил только три: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость» («Дон-Жуан»). Он работал над ними в 1826–1830 гг. и завершил их осенью 1830 г. в Болдине. Там же он написал еще одну «маленькую трагедию» (не входившую в список) – «Пир во время чумы».
Все эти произведения в ряде черт отличаются от «Бориса Годунова». Пушкин уже не стремится к снижению, прозаизированию положений, чувств и их выражения, что было характерно для начального периода в развитии его реализма и имело несколько полемический характер. Он не боится максимально заострять ситуации, создавать в драме (без нарушения жизненной правды) редко встречающиеся обстоятельства, при которых обнаруживаются иной раз неожиданные стороны человеческой души. Поэтому в «маленьких трагедиях» сюжет часто строится на резких контрастах. Скупец – не обычный ростовщик-буржуа, а рыцарь, феодал; пир происходит во время чумы; прославленный композитор, гордый Сальери убивает из зависти своего друга Моцарта…
Стремясь к максимальной краткости, сжатости, Пушкин в «маленьких трагедиях» охотно использует традиционные литературные и исторические образы и сюжеты: появление на сцене знакомых зрителям Дон-Жуана или Моцарта делает ненужной длинную экспозицию, разъясняющую характеры и взаимоотношения персонажей. Той же цели служит введение в пьесы фантастических образов (например, ожившей статуи Командора), чего Пушкин никак не позволил бы себе в «Борисе Годунове». Фантастика в «Каменном госте» носит заведомо условный, символический характер, давая в ярком поэтическом образе чисто реалистическое обобщение.
Наконец, в «маленьких трагедиях» гораздо чаще и с большей глубиной и мастерством Пушкин использует чисто театральные средства художественного воздействия: музыка в «Моцарте и Сальери», которая служит там средством характеристики и даже играет решающую роль в развитии сюжета (см. далее о «Моцарте и Сальери»), – телега, наполненная мертвецами, проезжающая мимо пирующих во время чумы, появление статуи Командора, одинокий «пир» скупого рыцаря при свете шести огарков и блеске золота в шести открытых сундуках – все это не внешние сценические эффекты, а подлинные элементы самого драматического действия, углубляющие его смысловое содержание.
«Скупой рыцарь»
Задуман в 1826 г., закончен в 1830 г. Впервые напечатан в I книге пушкинского журнала «Современник», в 1836 г. Подзаголовок Пушкина (Сцены из Ченстоновой трагикомедии: The covetous knight) представляет собой мистификацию: в творчестве английского писателя XVIII в. В. Шенстона (во времена Пушкина его имя нередко писалось у нас – Ченстон) нет ничего похожего на пушкинскую трагедию[3]. Основная тема «Скупого рыцаря», как и всех «маленьких трагедий», – психологическая: анализ человеческой души, человеческих «страстей», аффектов. Скупость – страсть к собиранию, накоплению денег и болезненное нежелание истратить из них хоть один грош – показана Пушкиным и в ее разрушительном действии на психику человека, скупца, и в ее влиянии на семейные отношения, трагически искажаемые, извращаемые ею, и, наконец, как результат, продукт определенной социально-исторической эпохи. Носителем этой страсти Пушкин, в отличие от всех своих предшественников и в первую очередь Шекспира (Шейлок) и Мольера (Гарпагон), сделал не представителя третьего сословия», купца, буржуа, а барона, феодала, принадлежащего к господствующему классу, человека, для которого рыцарская «честь», самоуважение и требование уважения к себе стоят на первом месте. Чтобы подчеркнуть это, а также и то, что скупость барона является именно страстью, болезненным аффектом, а не сухим расчетом, Пушкин вводит в свою пьесу рядом с бароном еще одного ростовщика – еврея Соломона, для которого, наоборот, накопление денег, бессовестное ростовщичество является просто профессией, дающей возможность ему, представителю угнетенной тогда нации, жить и действовать в феодальном обществе.
Скупость, любовь к деньгам в сознании рыцаря, барона – низкая, позорная страсть; ростовщичество как средство накопление богатства – позорное занятие. Вот почему наедине с собой барон убеждает себя, что все его действия и все его чувства основываются не на страсти к деньгам, недостойной рыцаря, не на скупости, а на другой страсти, тоже губительной для окружающих, тоже преступной, но не такой низменной и позорной, а овеянной некоторым ореолом мрачной возвышенности – на непомерном властолюбии. Он убежден, что отказывает себе во всем необходимом, держит в нищете своего единственного сына, отягощает свою совесть преступлениями[4] – все для того, чтобы сознавать свою громадную власть над миром:
- Что не подвластно мне? Как некий демон,
- Отселе править миром я могу…
На свои несметные богатства он может купить все: женскую любовь, добродетель, бессонный труд, может выстроить дворцы, поработить себе искусство – «вольный гений», может безнаказанно, чужими руками, совершать любые злодейства…
- Мне все послушно, я же – ничему…
Эта власть скупого рыцаря, вернее, власть денег, которые он всю жизнь собирает и копит, – существует для него только в потенции, в мечтах. В реальной жизни он никак не осуществляет ее:
- Я выше всех желаний; я спокоен;
- Я знаю мощь мою: с меня довольно
- Сего сознанья…
На самом деле это все – самообман старого барона. Не говоря уже о том, что властолюбие (как всякая страсть) никогда не могло бы успокоиться на одном сознании своей мощи, а непременно стремилось бы к осуществлению этой мощи, – барон вовсе не так всемогущ, как он думает («…отселе править миром я могу…», «лишь захочу – воздвигнутся чертоги…»). Он мог бы все это сделать с помощью своего богатства, но он никогда не сможет захотеть; он может открывать свои сундуки только для того, чтобы всыпать в них накопленное золото, но не для того, чтобы взять его оттуда. Он не царь, не владыка своих денег, а раб их. Прав его сын Альбер, который говорит об отношении его отца к деньгам:
- О! мой отец не слуг и не друзей
- В них видит, а господ; и сам им служит.
- И как же служит? как алжирский раб,
- Как пес цепной…
Правильность этой характеристики подтверждается и мучениями барона при мысли о судьбе накопленных им сокровищ после его смерти (какое дело было бы властолюбцу до того, что будет с орудиями его власти, когда его самого уже не будет на свете?), и странными, болезненными ощущениями его, когда он отпирает свой сундук, напоминающими патологические чувства людей, «в убийстве находящих приятность»[5], и последним воплем умирающего маниака: «Ключи, ключи мои!»
Для барона его сын и наследник накопленных им богатств – его первый враг, так как он знает, что Альбер после его смерти разрушит дело всей его жизни, расточит, растратит все собранное им. Он ненавидит своего сына и желает ему смерти (см. его вызов на поединок в 3-й сцене).
Альбер изображен в пьесе храбрым, сильным и добродушным молодым человеком. Он может отдать последнюю бутылку подаренного ему испанского вина больному кузнецу. Но скупость барона совершенно искажает и его характер. Альбер ненавидит отца, потому что тот держит его в нищете, не дает сыну возможности блистать на турнирах и на праздниках, заставляет унижаться перед ростовщиком. Он, не скрывая, ждет смерти отца, и если предложение Соломона отравить барона вызывает в нем такую бурную реакцию, то именно потому, что Соломон высказал мысль, которую Альбер гнал от себя и которой боялся. Смертельная вражда отца с сыном обнаруживается при встрече их у герцога, когда Альбер с радостью поднимает брошенную ему отцом перчатку. «Так и впился в нее когтями, изверг», – с негодованием говорит герцог.
«Моцарт и Сальери»
Написано в 1830 г., но замысел трагедии (а может быть, и частичное осуществление его) относится к 1826 г. Впервые напечатано в 1831 г.
Главной темой трагедии является зависть, как страсть, способная довести охваченного ею человека до страшного преступления.
В основу сюжета Пушкин положил широко распространенные в то время слухи, будто знаменитый венский композитор Сальери отравил из зависти гениального Моцарта. Моцарт умер в 1791 г., в тридцатипятилетнем возрасте, и был уверен, что его отравили. Сальери (он был старше Моцарта на шесть лет) дожил до глубокой старости (умер в 1825 г.), последние годы страдал душевным расстройством и не раз каялся, что отравил Моцарта. Несмотря на то что тогда же некоторые знакомые обоих композиторов, а позже историки музыки и биографы Моцарта решительно отрицали возможность этого преступления, вопрос до сих пор все же остается не решенным окончательно.
Пушкин считал факт отравления Моцарта его другом Сальери установленным и психологически вполне вероятным. В заметке о Сальери (1833) Пушкин пишет: «В первое представление «Дон-Жуана», в то время когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Салиери вышел из залы – в бешенстве, снедаемый завистью… Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении – в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать «Дон-Жуана», мог отравить его творца».
Сальери, учитель Бетховена и Шуберта, был хорошо известен во времена Пушкина как выдающийся композитор. Он славился своей принципиальностью в вопросах искусства. Познакомившись с произведениями оперного реформатора Глюка, стремившегося превратить оперу из блестящего концерта в костюмах и декорациях в подлинную драму, а музыку ее из собрания виртуозных эффектов, дающих возможность певцам щегольнуть красотой и техникой голоса[6] – в художественное выражение глубоких и серьезных чувств и переживаний, молодой Сальери решительно изменил свою старую манеру и сделался последователем оперной реформы Глюка. Он дружил с Бомарше, автором либретто его оперы «Тарар». Бомарше в печати выражал восхищение серьезным, ответственным отношением Сальери к своей задаче оперного композитора. «…Он имел благородство, – писал Бомарше, – отказаться от множества музыкальных красот, которыми сверкала его опера, только потому, что они удлиняли пьесу и замедляли действие…»
Пушкин рисует зависть, как страсть, охватившую человека, который привык ко всеобщему уважению и сам считает себя благородным.
- Нет! никогда я зависти не знал…
- Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
- Когда-нибудь завистником презренным?
- . . . . . . . . . . . . . . . .
- Никто! А ныне – сам скажу – я ныне
- Завистник…
Сальери не хочет признаться себе в низменных мотивах своего чувства и так же, как барон в трагедии «Скупой рыцарь», старается замаскировать его другими, более высокими и благородными переживаниями. Он уверяет себя, что его ненависть к Моцарту вызвана тем, что этот гениальный композитор несерьезным, легкомысленным отношением к искусству оскорбляет это искусство. Сальери негодует на судьбу («Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше») за то, что мелкий, ничтожный человек, «безумец, гуляка праздный», одарен священным творческим даром, бессмертной гениальностью. Верный жрец искусства, отрекшийся ради искусства от всех радостей жизни, умеющий самоотверженно трудиться для создания высоких художественных ценностей, Сальери негодует на Моцарта за его легкое, свободное отношение к своему творчеству, за его способность шутить над своими созданиями, за то, что он, будучи гениальным творцом, живет в то же время полной человеческой жизнью…[7] Сальери создает себе образ легкомысленного, ничтожного, не уважающего искусство человека, и это представление оправдывает в его глазах его ненависть и зависть к Моцарту. Свое желание убить Моцарта он рассматривает как долг перед искусством. Он, гений, жрец музыки, обязан вступиться за нее и уничтожить художника, оскорбляющего и профанирующего искусство.
Только в своем монологе в конце первой сцены Сальери нечаянно, сам того не замечая, высказывает подлинную причину своей ненависти к Моцарту – грубую, материальную, профессиональную зависть:
- Нет! не могу противиться я доле
- Судьбе моей: я избран, чтоб его
- Остановить – не то мы все погибли,
- Мы все, жрецы, служители музыки…
Несмотря на то что Моцарт во второй картине всем своим поведением и словами явно доказывает, насколько неверно представление о нем Сальери, тот все же отравляет его. Страсть, владевшая им, затуманивавшая его ум, удовлетворена, и он начинает прозревать истину. Моцарт прав, «гений и злодейство две вещи несовместные», следовательно, он, Сальери, не гений, призванный восстановить нарушенную небом «правоту», а просто низкий завистник, и убийство его друга – не совершение «тяжкого долга», а страшное преступление перед человечеством и искусством.
В образе Моцарта Пушкин открывает зрителю сложность и глубину другого рода. Пушкин показывает удивительный контраст между крайней доверчивостью, дружелюбием Моцарта по отношению к Сальери в обыденной жизни и гениальной проницательностью, чуткостью и верной оценкой ситуации – в его творчестве, Моцарт искренне считает Сальери своим другом; выпивая бокал, куда Сальери всыпал яд, он произносит тост: «За твое здоровье, Друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери». И в то же время в глубине души, не сознавая этого, он прекрасно чувствует, что Сальери его злейший враг, что ему грозит от него гибель и что гибель эта неминуема. Вот почему он уже три недели как пишет «Реквием» (для себя, как он думает), он считает «черного человека», заказавшего ему эту музыку, посланцем смерти, боится его и видит его даже здесь, рядом с собой и Сальери. Этим же чувством полно последнее созданное им произведение, которое он играл Сальери в первой сцене:
- Представь себе… кого бы?
- Ну хоть меня – немного помоложе,
- Влюбленного – не слишком, а слегка —
- С красоткой или с другом – хоть с тобой,
- Я весел… Вдруг: виденье гробовое,
- Незапный мрак иль что-нибудь такое…
Наконец, вспоминая о веселом Бомарше, он думает о том, «что Бомарше кого-то отравил».
Вторая сцена «Моцарта и Сальери», в которой в каждой реплике Моцарта обнаруживается этот, не осознанный им самим, но вполне понятный его собеседнику, страх и предчувствие гибели, принадлежит к высочайшим образцам драматургического искусства.
Особую роль играет музыка, трижды звучащая в этой «маленькой трагедии». Кощунственное искажение музыки Моцарта слепым скрипачом и добродушно-веселое отношение к этому Моцарта должно укрепить в глазах Сальери его презрительное отношение к «безумцу, гуляке праздному». Второй раз музыка звучит в этой сцене, когда Моцарт играет только что написанную им вещь, показывающую его проницательность в оценке отношений его и Сальери. Замечательно, что и для Сальери эта музыка явилась как бы прояснением, точной формулировкой того, что происходит в нем самом. Тут только у него созревает окончательное решение отравить Моцарта: «Нет, не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить». Третий раз зритель «Моцарта и Сальери» слышит музыку во второй сцене, когда Моцарт, уже выпивший яд, отпевает самого себя звуками своего гениального «Реквиема» в присутствии потрясенного до слез его убийцы.
Такое глубокое, содержательное применение в драме музыки, являющейся элементом сюжетного и идейного содержания, едва ли не единственное в мировой драматургии.
«Каменный гость»
«Каменный гость», как и другие «маленькие трагедии», был закончен в «болдинскую осень» 1830 г., хотя задуман и, вероятно, начат несколькими годами раньше. При жизни Пушкина напечатан не был.
В «Каменном госте» Пушкин обратился к традиционному сюжету, много раз обрабатывавшемуся в драматической литературе. Пушкину хотелось дать свою интерпретацию широко распространенной легенды, вложить свое идейное и художественное содержание в старый, общеизвестный сюжет и образы.
Подобно другим «маленьким трагедиям», «Каменный гость» посвящен анализу страсти; здесь это – любовная страсть, судьба человека, сделавшего удовлетворение любовной страсти главным содержанием своей жизни. Образ Дон Гуана[8] у Пушкина не похож на его предшественников в мировой литературе.
Дон Гуан в «Каменном госте» показан как искренний, беззаветно увлекающийся, решительный, смелый и к тому же поэтически одаренный человек (он автор слов песни, которую поет Лаура). Его отношение к женщинам – не отношение холодного развратника, профессионального обольстителя, а всегда искреннее, горячее увлечение. Он выступает «импровизатором любовной песни», хотя большой опыт выработал у него сознательные приемы обольщения женщин. Мы узнаем в пьесе об отношении его к трем женщинам – Инезе, Лауре и Доне Анне, и везде это отношение человечное, далекое от холодного цинизма мольеровского Дон-Жуана. «Бедную Инезу», рано погибшее нежное существо, у которой муж был «негодяй суровый», он любил горячо, несмотря на то что «мало было в ней истинно-прекрасного. Глаза, одни глаза. Да взгляд…» Он и теперь, через несколько лет, вспоминает ее с нежностью и сожалением. Лаура – полная противоположность Инезе; она молодая актриса, талантливая, способная «вольно предаваться вдохновенью», смелая, веселая, свободно отдающая предпочтение тому из своих поклонников, кто ей сейчас нравится. Ее Дон Гуан любит веселой, кипучей любовью, соединенной с каким-то шутливо-товарищеским отношением. Образ Доны Анны, несмотря на обычный у Пушкина лаконизм изложения, развернут с необыкновенной тонкостью, глубиной и богатством оттенков. В ней сочетаются благочестие с лукавым кокетством, скромность с горячей страстностью, наивность и неопытность с живой насмешливостью. Дона Анна – последняя и настоящая любовь Дон Гуана.
Увлекшись ею с первого взгляда, он в конце концов убеждается, что это глубокое чувство. Пушкин не дает нам повода сомневаться в искренности слов Дон Гуана, раскаивающегося в своем прошлом перед лицом этой подлинной и горячей любви: