Читать онлайн Десять величайших романов человечества бесплатно
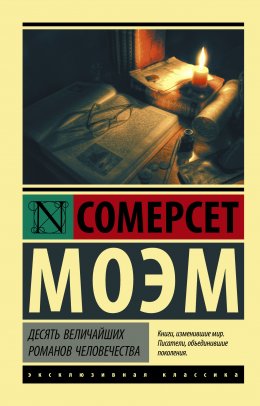
Сомерсет Моэм
Десять величайших романов человечества
Говорит мистер Моэм:
«…читатель должен получать от романа удовольствие. В противном случае роман ничего не стоит. Поэтому можно сказать, что каждый читатель сам себе лучший критик: ведь он один знает, что ему доставляет удовольствие, а что – нет…
Попробую определить, какие качества присущи хорошему роману. Его тема должна быть интересна большинству читателей… Сюжет должен быть ясным и убедительным, иметь начало, середину и конец, который логически вытекал бы из начала. Отдельным эпизодам следует быть правдоподобными и не только развивать тему, но и вырастать из нее. Созданные писателем образы должны обладать индивидуальностью, а их действия определяться характерами… И самое лучшее – если эти характеры будут интересными».
Десять величайших романов человечества
Мне хочется рассказать читателю, как случилось, что я написал эти эссе. Однажды, когда я еще находился в Соединенных Штатах, редактор «Редбук» попросил меня составить список романов, которые, на мой взгляд, были лучшими из лучших. Я выполнил его просьбу и больше об этом не думал.
В кратком пояснении к списку я написал: «Мудрый читатель получит огромное удовольствие от чтения этих книг, если он обладает полезным навыком пропускать лишнее». Через какое-то время американский издатель предложил мне переиздать эти романы, выпустив из них «лишние» куски, и снабдить каждый роман предисловием. Предложение меня заинтересовало, и я засел за работу. Большинство этих предисловий напечатали, некоторые появились в сокращенном виде в «Атлантик мантли», и так как оказалось, что читателей они заинтересовали, было решено удобства ради издать их в одной книге.
Первоначальный список претерпел одно изменение. Заканчивался список романом Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», но по ряду причин в окончательный вариант он не вошел. Сожалений по этому поводу я не испытываю. Роман Пруста – величайший роман столетия – очень длинный, и даже при существенных сокращениях его невозможно привести к приемлемому объему.
Успех его был огромен, но пришел слишком быстро, и требуется время, чтобы потомки оценили роман по заслугам. Фанатичным поклонникам Пруста, к коим я причисляю и себя, интересно каждое его слово; однажды, прибегнув к гиперболе, я написал, что скорее предпочту заскучать над Прустом, чем стану приятно проводить время над книгой другого автора, однако теперь готов признать, что не все части романа равноценны. Мне представляется, что последующие поколения потеряют интерес к тем пространным описаниям, которые написаны Прустом под влиянием господствовавших в его время психологических и философских теорий. Некоторые из них уже признаны ошибочными. Думаю, тогда станет еще очевиднее, что он великий юморист и его талант создавать оригинальные, разнообразные и жизненные характеры ставят его на один уровень с Бальзаком, Диккенсом и Толстым. Конечно, могло случиться так, что в сокращенной версии романа опущенными оказались бы те места, которые со временем станут цениться меньше, а остались бы те, что являются сущностью произведения и представляют непреходящий интерес. «В поисках утраченного времени» по-прежнему был бы огромным романом, но и превосходным.
Окончательный список десяти лучших романов выглядит так:
«Том Джонс»,
«Гордость и предубеждение»,
«Красное и черное»,
«Отец Горио»,
«Дэвид Копперфилд»,
«Грозовой Перевал»,
«Госпожа Бовари»,
«Моби Дик»,
«Война и мир»,
«Братья Карамазовы».
Начнем с того, что признать существование десяти лучших романов человечества – явная нелепость. Нет десяти лучших романов. Не уверен, что можно говорить даже о сотне; если попросить пятьдесят человек, начитанных и культурных, выбрать сто лучших романов, то по меньшей мере двести или триста произведений будут упомянуты не один раз, и, думаю, что в этих пятидесяти списках, если их составят люди, говорящие на английском, найдут место и мои десять романов. Я делаю акцент на англоязычном читателе, потому что по крайней мере один из десяти романов – «Моби Дик» – мало известен образованной европейской публике, и у меня есть большие сомнения, что его знает в Германии, Испании или Франции кто-то, помимо студентов, изучающих английскую литературу. В восемнадцатом веке во Франции увлеченно читали английскую литературу, но с того времени вплоть до сегодняшнего дня французы перестали проявлять интерес к чему-либо, написанному за пределом их границы, и потому во французский список ста лучших романов войдут произведения или неизвестные в англоязычных странах, или малочитаемые.
Большой разброс мнений можно легко объяснить. Существует множество причин, по которым определенный роман может понравиться даже искушенному читателю, и тот отыщет в нем выдающиеся достоинства. Ведь он мог прочесть роман в определенный период своей жизни или при особых обстоятельствах, когда сочинение легко могло его растрогать или тема и место действия привлечь в результате личных склонностей или ассоциаций. Я допускаю, что страстный любитель музыки назвал бы «Мориса Геста» Генри Гендела Ричардсона[1] одним из десяти лучших романов, а уроженец «Пяти городов», восхищенный точностью, с какой Арнольд Беннетт[2] описал дух места и его обитателей, включил бы в список «Повесть о старых женщинах». Оба романа хороши, но я не думаю, что читатель с непредвзятым мнением назвал бы их среди десяти лучших. К некоторым книгам читателя влечет его национальность, по этой же причине он находит в них больше достоинств, чем остальная публика. В качестве примера скажу, что любой образованный француз, составляя подобный список, включил бы в него «Принцессу Клевскую» мадам де Лафайет, что было бы справедливо, ибо роман обладает выдающимися достоинствами. В литературе это первый психологический роман; сама история – трогательная и убедительная, характеры изображены тонко и изящно; роман написан с блеском и не затянут. Действие относится ко времени, хорошо известному каждому французскому школьнику – нравственное состояние общества знакомо ему по драмам Корнеля и Расина; ассоциации с наиболее великолепным периодом французской истории придают роману особый шарм, а сам он является весомым вкладом в этот золотой век французской литературы. Но английскому или американскому читателю герои могут показаться искусственными, их поведение – неестественным, а обостренное чувство чести, отношение к собственному достоинству – смешными. Я не говорю, что они правы, просто подобные читатели никогда не назвали бы этот роман в числе десяти лучших.
Но, как мне представляется, главной причиной такой разбросанности мнений по поводу достоинств разных романов является несовершенство самой романной формы. Не существует идеального романа. Во всех десяти, названных мною, есть к чему придраться, что я и собираюсь сделать в предисловиях к ним, потому что ничто не принесет больший вред читателю, чем неумеренная хвала, часто сопровождающая книги, обычно причисляемые к классике. Читатель видит, что тот и тот эпизоды совершенно неправдоподобны, вот эти характеры фальшивы, а некоторые описания скучны. Если он отличается вспыльчивым нравом, то станет кричать, что критики, заверившие его, что он прочтет шедевр, – сборище идиотов; если он человек скромный, то станет винить себя, решив, что роман выше его понимания; а если он упрямый и настойчивый, то добросовестно продолжит чтение, но удовольствия не получит. Однако от чтения читатель должен получать удовольствие. В противном случае роман ничего не стоит. Поэтому можно сказать, что каждый читатель сам себе лучший критик: ведь он один знает, что ему доставляет удовольствие, а что – нет. Никто не заставляет читать беллетристику. Критик может оказать помощь, указав, что, по его мнению (и в этом его важная функция), относится к достоинствам романа, который признан великим, и в чем его недостатки. Но, повторюсь, главное – предупредить читателя, что тому не следует искать в романе совершенства.
Перед тем как подробнее поговорить об этом, мне хочется сказать кое-что о читателях беллетристики. Романист имеет право требовать от них определенных вещей. Имеет право требовать определенного усердия, необходимого для прочтения книги в триста или четыреста страниц, и достаточного воображения, чтобы мысленно представить сцены, которыми писатель хочет их заинтересовать, и вдуматься в созданные образы. И наконец, романист имеет право ждать от своих читателей способности к сочувствию, иначе они не смогут сопереживать любви, печали, горестям, опасностям и приключениям героев романа. Если читатель не может отдать частицу себя, он не получит от романа то лучшее, что тот способен дать.
Сейчас я попробую определить, какие качества, на мой взгляд, присущи хорошему роману. Его тема должна быть интересна большинству читателей – не только определенному слою, будь то критики, профессора, интеллектуалы, водители грузовиков или посудомойки, – она должна быть интересной самым разным мужчинам и женщинам. Для ясности приведу пример: можно написать роман о системе Монтессори[3], чрезвычайно интересный педагогам, но я никогда не поверю, что он поднимется выше посредственного произведения. В хорошем романе сюжет должен быть ясным и убедительным, иметь начало, середину и конец, который логически вытекал бы из начала. Отдельным эпизодам следует быть правдоподобными и не только развивать тему, но и вырастать из нее. Созданные писателем герои должны обладать индивидуальностью, а их действия определяться характерами, чтобы читатель никогда не мог сказать: такой-то и такая-то никогда не поступили бы так, а напротив, сказал бы: как раз этого я и ждал от героев. И самое лучшее – если характеры героев будут интересными.
Флобер написал роман под названием «Воспитание чувств» – его превозносят многие замечательные критики, – сознательно сделав главным персонажем человека такого незначительного, такого невыразительного, что невозможно сопереживать ни тому, что он делает, ни тому, что с ним происходит; в результате, несмотря на неоспоримые достоинства книги, ее трудно читать. Думаю, мне следует объяснить, почему я утверждаю, что герои должны обладать индивидуальностью; от писателя трудно ожидать, чтобы он создал совершенно новые характеры: человеческая природа – вот материал, с которым он работает, и хотя существует множество типов людей самого разного общественного положения, все же эти типы не бесконечны, да и романы, рассказы, пьесы, эпопеи пишутся не одну сотню лет, и шанс, что писатель создаст принципиально новый характер, ничтожный. Окидывая беглым взглядом прошлую литературу, я вижу только один абсолютно оригинальный образ – Дон Кихота, но нисколько не удивлюсь, если какой-нибудь ученый критик отыщет в глубине веков его прототип. Можно считать, что автору повезло, если он сумел пропустить характеры через свою индивидуальность, – конечно, если та необычна, – и придать им обманчивый облик оригинальности.
Характер должен определять не только поведение, но и речь героя. Светская женщина должна говорить как светская женщина, проститутка – как проститутка, продавец мороженого – как продавец мороженого, адвокат – как адвокат. Диалогу не следует быть беспорядочным или выражать мысли самого автора; задача диалога – раскрыть характер говорящего и способствовать развитию действия. Описания должны быть живыми, относящимися к делу, и не длиннее, чем требуется для того, чтобы заинтересовать читателя, а ситуации, в которых действуют герои, – понятными и убедительными. Изложение – достаточно простым, чтобы роман мог с легкостью прочесть человек с рядовым образованием, а стиль – так подходить к содержанию, как хорошо сшитая туфелька – хорошенькой ножке. И конечно же, роман должен быть занимательным. Я заговорил об этом в конце, но это непременное качество, без которого все остальные теряют смысл. Никто, находясь в своем уме, не станет читать роман, чтобы чему-то научиться или получить назидание. Если читателю надо именно это, то он будет круглым дураком, если откроет роман, а не учебник или сборник проповедей.
Но даже если роман обладает всеми перечисленными качествами – а это весьма много, – в самой его форме, словно изъян в драгоценном камне, есть некий дефект, не позволяющий добиться совершенства. Жанр рассказа позволяет прочесть его – в зависимости от длины – за время от десяти минут до часа; в нем одна четкая тема – некое событие или несколько тесно связанных друг с другом событий, духовного или физического свойства, обретающих к финалу законченность. В идеале к рассказу нельзя ничего прибавить или от него убавить. Думаю, тут можно достичь совершенства, и более того, не сомневаюсь, что не составит труда собрать приличное количество рассказов, где это достигнуто. Но роман может быть любой длины – таким огромным, как «Война и мир», где на протяжении определенного времени происходят разные события и действует множество героев, или таким коротким, как «Кармен». И вот, чтобы повествование было правдоподобным, а характеры героев не казались фальшивыми, автор должен включать в текст некоторые факты, имеющие отношение к основной истории, но неинтересные сами по себе. События часто нужно отделять одно от другого временным отрезком, и автору приходится для равновесия придумывать в меру сил куски текста, которые заполнили бы лакуны. Такие куски называются вставками. Некоторые писатели стремятся обойтись без них и перескакивают, так сказать, от одного яркого события к другому, не менее яркому, но мне не приходит в голову ни один пример, когда такое решение привело бы к успеху. Большинство предпочитает вставки, добиваясь большего или меньшего успеха, однако очевидно, что в целом читать их будет утомительно.
Писатель – человек, у него есть свои увлечения и фантазии, а свободная форма романа – особенно если он написан на английском или русском языках, – дает возможность поговорить о том, что близко его сердцу, и редко у кого хватает силы духа или критического чутья понять: то, что интересно ему, не обязательно вставлять в роман, если в этом нет необходимости. Почти невероятно, чтобы писатель при его повышенной чувствительности не был подвержен модным влияниям своего времени, и потому он часто пишет о том, что при изменении моды теряет привлекательность. Позвольте привести пример: до девятнадцатого века романисты отводили пейзажу мало места – несколько слов, и все, но с приходом романтизма стало модным вводить в тест пространные описания ландшафта. Герой не мог пойти и купить в аптеке зубную щетку без того, чтобы автор не сообщил, как выглядели дома, мимо которых он проходил, и что продавалось в магазинах. Рассвет и закат, звездная ночь, безоблачное небо, растущая и убывающая луна, беспокойное море, снежные вершины гор, мрачные леса – все давало повод для бесконечных описаний. Многие из них были очень красивы, но совершенно излишни, и писатели не скоро поняли, что самый поэтический, великолепно написанный пейзаж выглядит неуместно, если в нем нет необходимости – то есть если он не способствует раскрытию сюжета и не рассказывает читателю нечто важное о героях. В этом еще одно несовершенство романной формы, но и оно не последнее – есть еще недостаток, которого не избежать. Так как роман – жанр, предполагающий достаточную длину произведения, он соответственно требует и определенного времени на написание – нескольких недель по меньшей мере, обычно нескольких месяцев, а иногда и лет. Невозможно находиться так долго под чарами вдохновения. Не люблю употреблять последнее слово. По отношению к прозе оно звучит несколько претенциозно, и я предпочел бы оставить его поэтам. Поэтическое искусство благороднее прозы, но у прозаиков есть компенсация: стихотворение, если оно не шедевр, остается неизвестным публике, а роман, даже не очень удачный, привлекает внимание. Но прозаик пишет под влиянием если не вдохновения, то того, что я, за неимением лучшего слова, назову подсознанием. Возможно, потому, что этот неопределенный термин, обозначающий нечто смутное, как нельзя лучше дает представление о писателе, который является активным деятелем, только пока не начал писать, ведь тогда он становится чем-то вроде пишущего под диктовку секретаря; он обнаруживает, что пишет о вещах, о которых даже не подозревал, что знает; к нему неизвестно откуда приходят удачные мысли, а неожиданные идеи сваливаются на него как нежданные гости. Не думаю, что тут замешана мистика: неожиданные идеи – несомненно, результат прошлого жизненного опыта; удачные мысли возникают от ассоциаций, а вещи, о которых он думал, что их не знает, хранились в тайниках памяти. Подсознание вынесло их на поверхность, и они спокойно потекли с пера на бумагу. Однако подсознание своевольно и несговорчиво, на него нельзя давить и его не разбудишь никаким усилием воли; оно похоже на ветер, который дует, куда хочет, и на дождь, который равно поливает и правого и виноватого. У опытного писателя есть разные способы добиться его помощи, но иногда подсознание упрямится. Предоставленному самому себе – а в такой затяжной работе, как написание романа, это случается часто, – писателю остается только положиться на упорство и трудолюбие и на свой опыт. Будет чудом, если при помощи только этих качеств ему удастся удержать внимание читателя.
Когда я прикинул, сколько препятствий приходится преодолевать прозаику, скольких ловушек избегать, меня перестало удивлять несовершенство даже великих романов. Напротив, меня удивляло, когда недостатков было не так много. В основном по этой причине невозможно отобрать десять романов и сказать, что именно они лучшие. Могу назвать еще десять, которые по-своему не хуже тех, что я отобрал: «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Кузина Бетти», «Пармская обитель», «Доводы рассудка», «Тристрам Шенди», «Ярмарка тщеславия», «Миддлмарч»[4], «Послы»[5], «Жиль Блаз». Я могу привести убедительные причины, почему отобрал первые десять, и не менее убедительные, почему отобрал только что названные. Мой выбор случаен.
В прошлом читатели предпочитали длинные романы и автору подчас приходилось готовить для печатного станка больше материала, чем того требовал сюжет. Но нашелся простой выход. Автор вставлял в текст романа отдельные истории, иногда настолько длинные, что они тянули на новеллы, – вставки не имели ничего общего с основной темой или в лучшем случае – самое отдаленное касательство. Ни один писатель не делал этого с большей беспечностью, чем Сервантес в «Дон Кихоте». К этим вставкам всегда относились как к бесполезным пустотам в бессмертном творении, сейчас их пробегают глазами в раздражении. Современники критиковали писателя за это, и во второй части романа он изжил эту дурную привычку, совершив то, что обычно считается невозможным: продолжение романа лучше первой части; однако это не помешало преуспевающим писателям (которые, несомненно, не читают критику) пользоваться привычным приемом, дающим им возможность передать книгопродавцам объемный том, подходящий для продажи. В девятнадцатом столетии новые способы публикации принесли писателям очередные искушения. Ежемесячные журналы, отводящие много места тому роду литературы, который пренебрежительно зовется «легким», стали процветать, давая авторам возможность представлять свою работу публике частями с выгодой для себя. Приблизительно в то же время издатели поняли, что имеет смысл издавать романы популярных писателей в ежемесячных выпусках. В обоих случаях авторы были обязаны предоставить к сроку определенное количество страниц. Подобная система располагала к нетребовательности к себе и многоречивости. Во Франции, где платили по строчкам, авторы не колеблясь писали их как можно больше. Таким образом они зарабатывали на жизнь, но даже в этом случае гонорары были невысоки. Однажды Бальзак, побывав в Италии и находясь под сильным впечатлением от увиденных картин (а кто бы остался равнодушным?), прервал сюжетную линию романа и вставил в текст ни больше ни меньше как статью об этих картинах. По признанию авторов таких сериалов, иногда даже лучшие из них – Диккенс, Теккерей, Троллоп – считали ненавистной обязанностью в срок сдать очередную главу. Неудивительно, что они раздували текст, перегружая его не относящимися к делу эпизодами. Однажды печатники предупредили за короткий срок Диккенса, что в очередном ежемесячнике ему отвели два листа, шестнадцать страниц, и ему пришлось сесть за работу и вымучивать из себя текст, стараясь, чтобы тот был как можно пристойнее. Диккенс уже изрядно поднаторел в такой работе, и совершенно очевидно, что первым делом он написал страницы, которые были важны для продолжения основной темы романа.
Но у читателя нет никаких причин мириться с недостатками романа – не важно, присущи они изначально его форме, проистекают от слабости писательского дара, или от моды, или от способа печати. Для нормального читателя чтение романа – не работа. Для него чтение – развлечение. Он хочет уйти от своих проблем и готов погрузиться в жизнь героев, увидеть, как они поведут себя в данных обстоятельствах и что с ними случится; он сочувствует их невзгодам и радуется успехам; он ставит себя на их место и в какой-то степени живет их жизнью. Их мировоззрение, отношение к важным вопросам человеческой мысли, высказанные в словах или показанные в действиях, вызывают в нем удивление, удовольствие или негодование. Однако он инстинктивно чувствует, что именно ему интересно, и выискивает это так же уверенно, как собака лисий след. Иногда из-за просчета автора он теряет след на какое-то время, пока вновь не нападает на него. Остальное приходится читать по диагонали.
Всем свойственно пропускать какие-то куски текста, но делать это без потерь трудно. Насколько мне известно, некоторые люди от природы обладают даром динамического чтения, но его можно обрести и тренировкой. Доктор Джонсон[6] мастерски им владел, и Босуэлл[7] рассказывает, что «у того была удивительная способность с первого взгляда понять, что есть главное в любой книге, не тратя времени на чтение ее с начала до конца». Но Босуэлл, несомненно, имел в виду научную литературу; что до романа, то если читать его трудно, лучше не читать вовсе. Однако, к сожалению, из-за несовершенства формы, присущего роману, из-за просчетов автора или способов публикации лишь небольшое число романов можно прочесть полностью с неослабевающим интересом. Перескакивать с одного места на другое – возможно, плохая привычка, но она навязана читателю. Впрочем, когда читатель начинает опускать то одно, то другое место, он может пропустить многое, что было бы интересно узнать.
Читатели прошлых времен, похоже, обладали большим терпением, чем нынешние. Развлечений было немного, и они могли читать длинные романы, что теперь делать довольно трудно. Прежних читателей не раздражали отступления и несоответствия, разбивавшие повествование. Но некоторые из романов с подобными недостатками – одни из лучших, что были написаны. Печально, что по этой причине их будут все реже читать.
Эта книга была задумана с тем, чтобы заставить читателей познакомиться с ними. Была предпринята попытка убрать из выбранных десяти романов то, что не относится непосредственно к истории, которую рассказывает автор, к его мыслям по этому поводу и раскрытию созданных образов. Некоторые изучающие литературу студенты, профессора и критики воскликнут: ужасно, когда калечат шедевр, его надо читать в том виде, в каком он написан. Но делают ли это они сами? Думаю, они прибегают к динамическому чтению, пропуская ненужное, – возможно, они отточили навыки такого чтения для своей пользы, но большинство людей не умеют этого, и будет лучше, если это сделает за них кто-то, обладающий вкусом и интуицией. Если он справится с этой работой, то подарит читателю роман, который тот прочтет, наслаждаясь каждым словом.
О «Дон Кихоте» Кольридж сказал, что роман надо один раз прочесть внимательно, а впоследствии только в него заглядывать, то есть косвенно подтвердил, что некоторые части в нем скучны и даже нелепы, и читать их снова – пустая трата времени. Это великий и значительный роман, и профессионально изучающий литературу студент должен, без сомнения, один раз прочесть его целиком (лично я прочел его от корки до корки три раза), но я убежден, что обычный читатель, читающий для своего удовольствия, ничего не потеряет, пропустив скучные места. Напротив, тем больше он насладится теми частями книги, где происходят приключения, а благородный рыцарь и его практичный оруженосец ведут между собой забавный и трогательный разговор. Есть еще один роман, тоже весьма значительный, хотя назвать его великим будет большой натяжкой. Это «Кларисса» Сэмюэла Ричардсона, справиться с объемом которого могут только самые стойкие приверженцы романа. Не думаю, что я когда-нибудь прочел бы его, если бы случайно не наткнулся на сокращенный вариант. Работа по сокращению романа была проделана очень искусно, и у меня не возникло чувства, что нечто важное упущено.
В сокращениях нет ничего предосудительного. Не сомневаюсь, что любая увидевшая сцену пьеса в процессе репетиций подвергалась большей или меньшей переработке. Не вижу причин, почему с романом нельзя поступить так же. Ведь мы знаем, что в большинстве издательств есть штат редакторов, в чьи обязанности входит работа с рукописью, после чего книга обычно становится лучше. Если читатели начнут читать великие романы, которых не знали раньше, пока из них не выбросили куски, подобно тому, как с дерева спиливают сухие ветви, значит, усилия издателей и редакторов оправданны. Читатели не потеряли ничего важного – в книгах все сохранилось, и они получат полноценное интеллектуальное наслаждение.
Лев Толстой и «Война и мир»
Я считаю Бальзака величайшим романистом всех времен и народов, но самым великим романом – «Войну и мир» Толстого. Не было раньше и, по моему убеждению, не будет и впредь романа столь всеобъемлющего, действие которого – с огромным количеством героев – разворачивается в исключительно важный исторический период. Его справедливо называют эпопеей. Не знаю другого произведения, которое, не лукавя, можно было бы так же охарактеризовать. Страхов, друг Толстого и замечательный критик, выразил свое мнение в нескольких выразительных предложениях: «Полная картина человеческой жизни. Полная картина тогдашней России. Полная картина того, что можно назвать историей и борьбой народов. Полная картина всего, в чем люди полагают свое счастье и величие, горе и унижение. Вот что такое «Война и мир».
Когда Толстой начал писать роман, ему было тридцать шесть – возраст, когда творческая активность находится на самом пике, – закончил его только через шесть лет. Выбранное им время действия – наполеоновские войны, кульминация – вторжение Наполеона в Россию, пожар Москвы, отступление и разложение французского войска. В начале работы Толстой собирался написать роман из семейной жизни мелкопоместного дворянства, а исторические события должны были служить всего лишь фоном. Предполагалось, что герои романа, переживая испытания, духовно растут и в конце, очистившись после многих страданий, находят покой и счастье в лоне семьи. Однако во время работы Толстой стал уделять все больше внимания титанической битве противоборствующих сил и, основываясь на обширных знаниях, создал свою философию истории, о которой я вкратце скажу позже.
Считается, что в романе около пятисот персонажей. Все они четко охарактеризованы и ясны для читателя. Уже это большое достижение. Внимание автора сосредоточено не на двух или трех героях, как в большинстве романов, и даже не на одной группе, а на членах четырех аристократических семейств – Ростовых, Болконских, Курагиных и Безуховых. Трудность, которую всегда испытывает романист, если тема затрагивает судьбы больше чем одной группы людей, заключается в сложности мотивированного переключения действия из одной среды в другую, переключения естественного, чтобы его приняли. Тогда читатель понимает, что в течение некоторого времени ему рассказывали то, что необходимо знать об одной группе персонажей, и теперь готов выслушать, как обстоят дела у других, о судьбе которых он все это время ничего не знал. В целом Толстому удается делать это так органично, что кажется, будто нить повествования не прерывается.
Как и большинство писателей, Толстой создавал персонажей, используя черты людей, которых знал или о которых слышал; конечно, он использовал их только как типажи, и, как только включал воображение, они становились его творениями. По слухам, образ расточительного графа навеян дедом, Николая Ростова – отцом, а трогательной и пленительной княжны Марьи – матерью. Создавая образы двух мужчин, которых можно назвать главными героями романа, – Пьера Безухова и князя Андрея, – Толстой, по мнению многих, имел в виду себя; зная его противоречивую личность, предположить такое вовсе не странно: на примере этих полярных персонажей он хотел прояснить и постичь собственный характер. Пьер и князь Андрей сходны в том, что, как и Толстой, ищут внутренней гармонии, задаются вопросом, в чем тайна жизни и смерти, и не находят на него ответа; в остальном это совершенно разные люди. Князь Андрей – личность романтическая, он галантный кавалер, у него сильно выражено чувство собственного достоинства, он благороден и в то же время заносчив, деспотичен, нетерпим и безрассуден. Но, несмотря на все свои недостатки, он обладает притягательной силой, чего не скажешь о Пьере. Пьер – добрый, сентиментальный, щедрый, скромный, благородный и самоотверженный и одновременно слабый, нерешительный, доверчивый, его так легко обмануть, что это начинает раздражать. Его стремление творить добро, самому быть добрым вызывает сочувствие, но так ли необходимо делать его дураком? А главы, где в поисках ответа на мучающие его загадки бытия он присоединяется к «вольным каменщикам», одни из самых скучных в романе.
Они оба влюблены в Наташу, младшую дочь графа Ростова – самый пленительный образ юной девушки в литературе. Нет более трудной задачи, чем написать портрет девушки – обворожительной и в то же время интересной. В литературе такие девушки обычно бесцветны (Эмилия в «Ярмарке тщеславия»), самоуверенны (Фанни в «Мэнсфилд-парке»), слишком уж умны (Констанция Дарем в «Эгоисте») или слегка простоваты (Дора в «Дэвиде Копперфилде»), они или глупенькие кокетки, или невинны до умопомрачения. Вполне объяснимо, что писателю трудно дается такой характер: ведь в юном возрасте личность еще не сформировалась. Подобным образом и художник может сделать портрет значительным, только если превратности судьбы, размышления, любовь и страдания наложили на него свою печать. Рисуя юную девушку, самое большее, чего он может достичь, – это передать на холсте прелесть и красоту юности. Но Наташа совершенно естественна. Она мила, впечатлительна, полна сочувствия, своевольна, по-женски идеалистична, вспыльчива, сердечна, упряма, капризна – и всегда очаровательна. Толстой создал много женских образов, все они удивительно жизненны, однако ни одна так не пленяет сердце читателя, как Наташа.
В такой огромной книге, как «Война и мир», которая так долго создавалась, неизбежно найдутся места, написанные автором недостаточно ярко и живо. Я уже говорил, что скучна и затянута история взаимоотношений Пьера и масонов, а к концу романа, как мне кажется, Толстой несколько утратил интерес к своим героям. У него сложилась собственная философия истории, которую кратко можно изложить так: не великие люди оказывают влияние на течение событий, а некая заключенная в народах сила, подспудно ведущая их к победе или поражению. Александр, Цезарь, Наполеон – всего лишь подставные фигурки, символы несущей их силы, которую они не могут контролировать и которой не могут сопротивляться. Наполеон выигрывал сражения не благодаря своему стратегическому дару и большой численности войска, ведь его приказы не исполнялись, и не потому, что изменилась ситуация или ответный удар не нанесли вовремя, а потому, что враг был убежден: битва проиграна, и бежал с поля боя. Для Толстого герой войны – главнокомандующий Кутузов, потому что он ничего не делает, избегает решительной битвы и просто ждет, когда французская армия сама себя уничтожит. Возможно, здесь, как и во всех других теориях Толстого, изрядная доля истины перемешана с изрядной долей заблуждения – примером может служить его эстетический трактат «Что такое искусство», – но я не могу считать себя экспертом в этом вопросе. Допускаю, что именно для подтверждения своей теории он посвятил так много глав подробному описанию отступления французской армии из Москвы. С исторической точки зрения это, наверное, хорошо, но с литературной – не очень.
Но если художественная мощь Толстого убывает в последней части его великого романа, то она с лихвой возвращается к нему в эпилоге. Великолепная находка. И до него романисты обычно рассказывали читателю, что произошло с главными героями после того, как закончилась основная история. Ему сообщали, что герой и героиня жили счастливо и благополучно, информировали о количестве детей; главный же негодяй, если его не успели прикончить до конца романа, прозябал в нищете, женившись на ворчливой карге, – то есть получал по заслугам. Такой эпилог носил формальный характер, был не больше одной-двух страниц, оставляя у читателя впечатление, что автор снисходительно бросил ему на прощание кость. Толстой же написал по-настоящему важный эпилог. Прошло семь лет, и мы оказываемся в доме Николая Ростова, старшего сына графа, женатого на богатой женщине и имеющего детей; к ним приехали погостить Пьер и Наташа. Наташа замужем, и у нее тоже есть дети. Но их высокие стремления, жизненная активность сменились скучным, обеспеченным, спокойным существованием. Они любят друг друга, но ох какими неинтересными они стали, какими заурядными! После всех перипетий, после пережитых страданий и боли они превратились в самодовольных людей среднего возраста. Нежная, непредсказуемая, очаровательная Наташа стала рачительной матерью семейства. Отважный и благородный Николай Ростов – теперь самоуверенный хозяин поместья, а Пьер, все такой же толстый и добродушный, нисколько не поумнел. Счастливый конец – глубоко трагичен. Не думаю, чтобы Толстой писал эпилог, испытывая при этом горечь, просто он знал, что все к этому приходят, и говорил правду.
Толстой вышел из среды, где не часто рождаются известные писатели. Самый младший из пятерых детей графа Николая Толстого и княжны Марии Волконской родился в Ясной Поляне, родовом имении матери. Родители умерли, когда он был еще ребенком. Сначала он учился дома, потом в Казанском и Петербургском университетах. Студент он был плохой и диплома нигде не получил. Родственные связи открыли ему двери аристократических домов; он посещал балы, званые вечера и приемы – сначала в Казани, потом в Санкт-Петербурге и Москве. Служил на Кавказе и участвовал в Крымской войне.
В то время он много пил и играл в азартные игры; однажды, чтобы отдать карточный долг, ему пришлось продать дом в Ясной Поляне, доставшийся по наследству. Страстный по натуре, на Кавказе он заразился гонореей. Из дневников видно, что после ночного кутежа, ночи за картами, или с женщинами, или пирушки с цыганами, – последнее, если судить по русской литературе, наивно считается, или считалось, отличным времяпрепровождением, – его мучили угрызения совести; однако, когда подворачивался случай, все повторялось. Физически крепкий, он мог без устали шагать весь день или провести десять – двенадцать часов в седле, но роста был небольшого и невзрачной наружности. «Я знал, что некрасив, – писал он. – Были минуты, когда меня охватывало отчаяние: я думал, что нельзя быть счастливым на земле человеку с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазками; и я просил Бога совершить чудо и сделать меня красивым, за красивое лицо я отдал бы все, что у меня есть и что будет в будущем».
Он не знал, что нелюбимое им некрасивое лицо излучает духовную силу, делавшую его бесконечно привлекательным. Не видел своего взгляда, придававшего обаяние облику. В то время он элегантно одевался (надеясь, как бедняга Стендаль, что модная одежда компенсирует некрасивость), не забывая о своем высоком социальном положении. Один из студентов, учившихся с ним в Казанском университете, пишет: «Я избегал графа, который в нашу первую встречу вызвал у меня неприязнь холодным высокомерием, жесткой щетиной волос и пронзительным взглядом полуприкрытых глаз. Раньше я никогда не встречал молодого человека с таким холодным и – непонятным для меня – надменным и самодовольным видом… Он едва ответил на мое приветствие, словно желал показать, что у нас разное положение…» И в армии он смотрел на товарищей-офицеров со снисходительным презрением. «Сначала, – писал Толстой, – многое шокировало меня в обществе, но постепенно я привык, хотя и не сближался с этими господами. Я нашел золотую середину – ни высокомерия, ни фамильярности».
Служа на Кавказе и впоследствии в Севастополе, Толстой написал несколько очерков и рассказов, а также идеализированное описание своего детства и ранней юности; напечатанные в журнале, они вызвали у публики живой интерес, и когда он вернулся с войны, его тепло приняли в Петербурге. Однако ему не понравились люди, с которыми он познакомился. Да и он им не приглянулся. Убежденный в собственной искренности, Толстой всегда сомневался в искренности других, о чем без тени сомнения им сообщал. Мнение рождалось у него мгновенно – он его никогда не вынашивал. Он был несдержан, груб в возражениях и высокомерно безразличен к чувствам других людей. Тургенев говорил, что ничто не приводило его в такое замешательство, как инквизиторский взгляд Толстого, который вкупе с несколькими едкими словами мог привести человека в ярость. Толстой плохо переносил критику, и когда случайно прочитывал в печати неодобрительный отзыв о себе, сразу посылал автору вызов, и его друзьям стоило большого труда предотвратить дуэль по пустячному поводу.
В это время Россия переживала всплеск либерализма. На повестке дня стоял срочный вопрос об освобождении крестьян, и Толстой, проведя несколько месяцев в столице в легкомысленных забавах, вернулся в Ясную Поляну с твердым намерением освободить своих крепостных, но те, боясь подвоха, отказались. Тогда он открыл для крестьянских детей школу. Его методы были революционные. Ученики имели право не ходить в школу, а находясь в ней, не слушать учителя. Не существовало никакой дисциплины, отсутствовали наказания. Толстой проводил с детьми весь день – учил, а вечером играл с ними, рассказывал разные истории и пел песни.
Приблизительно в то же время у Толстого началась связь с женой его крепостного, в результате чего родился сын. В более поздние годы незаконнорожденный Тимофей служил кучером у одного из младших сыновей графа. Биографам этот факт представляется любопытным: у отца Толстого тоже был незаконнорожденный сын, который также служил кучером в семье Толстых. Лично мне это кажется своего рода моральной черствостью. Скорее можно было бы предположить, что Толстой, с его обостренной чувствительностью, с твердой решимостью вывести крепостных из их униженного положения, дать им образование, приучить к чистоте, порядочности, самоуважению, – что-то сделает и для собственного сына. У Тургенева тоже был незаконнорожденный ребенок, девочка, но он заботился о ней, нанял учителей, был серьезно озабочен ее благополучием. Неужели Толстой не испытывал смущения, видя на облучке родного сына, который везет брата, законного наслед- ника?
Одна из особенностей толстовского темперамента – его способность страстно увлекаться новым делом, но со временем неизбежно остывать. Неослабное упорство – не его добродетель. Два года он руководил школой в Ясной Поляне, но потом счел результаты своей деятельности неудовлетворительными и закрыл ее. Он устал, испытывал недовольство собой и плохо себя чувствовал. Позднее он писал, что мог впасть в отчаяние, если бы не оставалась еще одна, не исследованная им сторона жизни, позволявшая надеяться на счастье, – женитьба.
И Толстой решился на эксперимент. Ему тогда было тридцать четыре года. Он женился на Соне, восемнадцатилетней девушке, младшей из двух дочерей доктора Берса, известного московского врача и старого друга семьи. Молодые поселились в Ясной Поляне. За первые одиннадцать лет супружеской жизни графиня родила восемь детей и пять за последующие пятнадцать.
Толстой любил лошадей, хорошо ездил верхом, и еще он страстно любил охоту. Он навел порядок в хозяйстве и купил новые имения к востоку от Волги, став собственником шестнадцати тысяч акров земли. Жизнь протекала в обычном для его круга русле. В России многие дворяне в юные годы играли по крупной, пьянствовали и развратничали, потом женились, заводили детей и, остепенившись, уединялись в своих имениях, ездили верхом, охотились; довольно многие разделяли либеральные взгляды Толстого – их мучило невежество крестьян, чудовищная бедность и нищета, в какой те жили, и они искали пути улучшения положения своих крепостных. Толстой отличался от них только тем, что за это время написал два великих романа – «Войну и мир» и «Анну Каренину». Как такое могло случиться, покрыто тайной; это так же необъяснимо, как написание сыном и наследником ограниченного сассекского помещика «Оды западному ветру»[8].
В молодости Соня Толстая, по-видимому, была привлекательной девушкой. Грациозная фигура, красивые глаза, слегка крупноватый нос и темные, блестящие волосы. В ней была жизненная сила, задор, она обладала красивым голосом. Толстой долгие годы вел дневник, где писал не только о своих мыслях и надеждах, мольбах и самообвинениях, но также и о проступках – сексуального и прочего характера. Желая ничего не скрывать от будущей жены, он при обручении дал ей прочитать этот дневник. Чтение ее потрясло, но после проведенной в слезах бессонной ночи она вернула дневник со словами прощения. Она простила, но не забыла. Оба были невероятно эмоциональны – как говорится, с характером. Обычно под этим подразумевают, что такие люди обладают некоторыми неприятными чертами. Графиня была придирчивая, властная и ревнивая; Толстой – резкий и нетерпимый. Он настоял, чтобы жена сама кормила грудью детей, – она повиновалась с радостью, но однажды, когда при рождении одного из них груди ее воспалились, и пришлось взять кормилицу, муж несправедливо рассердился на нее. Супруги часто ссорились и бурно мирились. Они очень любили друг друга, и в целом их брак был счастливым. Толстой много работал и неустанно писал. У него был неразборчивый почерк, но графиня, переписывавшая все, что он писал, преуспела в его расшифровке, и даже понимала значение торопливых записей и незаконченных предложений. Говорят, что «Войну и мир» она переписала семь раз.
Профессор Симмонс так описал день писателя: «Вся семья собралась за завтраком, остроты и шутки хозяина оживляют беседу. Но вот он встает со словами: «Пора приниматься за работу», – и скрывается в кабинете, обычно захватив с собой стакан крепкого чаю. Никто не осмеливается его беспокоить. После полудня он выходит, чтобы размяться, – на пешую или конную прогулку. В пять возвращается – к обеду, жадно ест, а когда утолит голод, развлекает всех присутствующих живыми впечатлениями от сегодняшней прогулки. После обеда он снова удаляется в кабинет и читает там до восьми, а потом присоединяется к родным и гостям, пьющим чай в гостиной. Часто там звучит музыка, читают вслух или затевают разные игры для детей».
Это была деятельная, полезная и счастливая жизнь, и казалось, нет никаких причин, чтобы она не продолжалась еще много лет в таком же приятном и размеренном духе: Соня рожала детей, ухаживала за ними, вела дом, помогала мужу в работе, а Толстой ездил верхом, охотился, занимался хозяйством и писал книги. Он был на пороге пятидесятилетия – опасного возраста для мужчины. Молодость осталась позади, и, оглядываясь назад, спрашиваешь, чего стоила твоя жизнь, а глядя вперед, видишь приближение старости и никаких особых перспектив. И еще страх, преследовавший Толстого всю жизнь, – страх смерти. От смерти никто не уйдет, и большинство поступают разумно, вспоминая о ней только в моменты опасности или серьезной болезни. Но Толстой о ней никогда не забывал. Вот как он описывает в «Исповеди» свое умонастроение того времени: «Пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачем? Ну а потом? Я чувствовал, что под моими ногами пропасть. То, чем я жил, больше не существовало, жить было незачем.