Читать онлайн Уолден, или Жизнь в лесу бесплатно
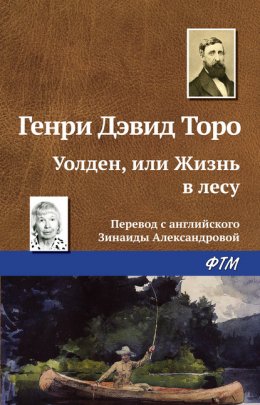
ХОЗЯЙСТВО
Когда я писал эти страницы – вернее, большую их часть, – я жил один в лесу, на расстоянии мили от ближайшего жилья, в доме, который сам построил на берегу Уолденского пруда в Конкорде, в штате Массачусетс, и добывал пропитание исключительно трудом своих рук. Так я прожил два года и два месяца. Сейчас я снова временный житель цивилизованного мира.
Я не стал бы навязывать читателю всех этих подробностей, если бы не настойчивые расспросы моих земляков о моей тогдашней жизни, – расспросы, которые иные назвали бы неуместными, но которые мне, при данных обстоятельствах, кажутся, напротив, вполне естественными и уместными. Некоторые спрашивали меня, чем я питался, не чувствовал ли себя одиноким, не было ли мне страшно и т. п. Другим хотелось знать, какую часть своих доходов я тратил на благотворительность, а некоторые многодетные люди интересовались тем, сколько бедных детей я содержал. Поэтому я прошу прощения у тех читателей, которые не столь живо интересуются моей особой, если на часть этих вопросов мне придется ответить в моей книге. В большинстве книг принято опускать местоимение первого лица, здесь оно будет сохранено; таким образом эгоцентричны все писатели, и я только этим от них отличаюсь. Мы склонны забывать, что писатель, в сущности, всегда говорит от первого лица. Я не говорил бы так много о себе, если бы знал кого-нибудь другого так же хорошо, как знаю себя. Недостаток опыта, к сожалению, ограничивает меня этой темой. Со своей стороны, я жду от каждого писателя, плохого или хорошего, простой и искренней повести о его собственной жизни, а не только о том, что он понаслышке знает о жизни других людей: пусть он пишет так, как писал бы своим родным из дальних краев, ибо если он жил искренне, то это было в дальних от меня краях. Пожалуй, эти страницы адресованы прежде всего бедным студентам. Что касается других моих читателей, то они выберут из книги то, что к ним относится. Надеюсь, что никто, примеряя платье на себя, не распорет в нем швов, – оно может пригодиться тем, кому придется впору.
Мне хочется писать не о китайцах или жителях Сандвичевых островов, но о вас, читатели, обитающие в Новой Англии, о вашей жизни, особенно о внешней ее стороне, т. е. об условиях, в каких вы живете в нашем городе и на этом свете: каковы они, и непременно ли они должны быть так плохи, и нельзя ли их улучшить. Я много бродил по Конкорду, и повсюду – в лавках, в конторах и на полях – мне казалось, что жители на тысячу разных ладов несут тяжкое покаяние. Мне приходилось слышать о браминах, которые сидят у четырех костров и при этом еще глядят на солнце, или висят вниз головою над пламенем, или созерцают небеса через плечо, «пока шея их не искривится так, что уже не может принять нормальное положение, а горло пропускает одну лишь жидкую пищу», или на всю жизнь приковывают себя цепью к стволу дерева, или, уподобившись гусенице, меряют собственным телом протяженность огромных стран, или стоят на одной ноге на верхушке столба; но даже все эти виды добровольного мученичества едва ли более страшны, чем то, что я ежедневно наблюдаю у нас. Двенадцать подвигов Геракла кажутся пустяками в сравнении с тяготами, которые возлагают на себя мои ближние. Тех было всего двенадцать, и каждый достигал какой-то цели, а этим людям, насколько я мог наблюдать, никогда не удается убить или захватить в плен хоть какое-нибудь чудовище или завершить хотя бы часть своих трудов. У них нет друга Иола,[1] который прижег бы шею гидры каленым железом, и стоит им срубить одну голову, как на месте ее вырастают две другие.
Я вижу моих молодых земляков, имевших несчастье унаследовать ферму, дом, амбар, скот и сельскохозяйственный инвентарь, ибо все это легче приобрести, чем сбыть с рук. Лучше бы они родились в открытом поле и были вскормлены волчицей; они бы тогда яснее видели, на какой пашне призваны трудиться. Кто сделал их рабами земли? За что осуждены они съедать шестьдесят акров, когда человек обязан за свою жизнь съесть всего пригоршню грязи?[2]
Зачем им рыть себе могилы, едва успев родиться? Ведь им надо прожить целую жизнь нагруженными всем этим скарбом, а легко ли с ним передвигаться? Сколько раз встречал я бедную бессмертную душу, придавленную своим бременем: она ползла по дороге жизни, влача на себе амбар 75 футов на 40, свои Авгиевы конюшни, которые никогда не расчищаются, и 100 акров земли – пахотной и луговой, сенокосных и лесных угодий! Безземельные, которым не досталась эта наследственная обуза, едва управляются с тем, чтобы покорить и культивировать немногие кубические футы своей плоти.
Но люди заблуждаются. Лучшую часть своей души они запахивают в землю на удобрение. Судьба, называемая обычно необходимостью, вынуждает их всю жизнь копить сокровища, которые, как сказано в одной старой книге,[3] моль и ржа истребляют, и воры подкапывают и крадут.[4] Это – жизнь дураков, и они это обнаруживают в конце пути, а иной раз и раньше. Рассказывают, что Девкалион и Пирра создавали людей, кидая через плечо камни:
- Inde genus durum sumus, experiens que laborum,
- Et documenta damus qua simus origine nati.[5]
- (То-то и твердый мы род, во всяком труде закаленный,
- И доказуем собой, каково было наше начало).
Или, в звучных стихах Рэли:[6]
- From thence our kind hard-hearted is, enduring pain and care,
- Approving that our bodies of a stony nature are.
Вот что значит слепо повиноваться бестолковому оракулу и кидать камни через плечо, не глядя, куда они упадут.
Большинство людей, даже в нашей относительно свободной стране, по ошибке или просто по невежеству так поглощены выдуманными заботами и лишними тяжкими трудами жизни, что не могут собирать самых лучших ее плодов. Для этого их пальцы слишком загрубели и слишком дрожат от непосильного труда. У рабочего нет досуга, чтобы соблюсти в себе человека, он не может позволить себе человеческих отношений с людьми, это обесценит его на рынке труда. У него ни на что нет времени, он – машина. Когда ему вспомнить, что он – невежда (а без этого ему не вырасти), если ему так часто приходится применять свои знания? Прежде чем судить о нем, нам следовало бы иногда бесплатно покормить, одеть и подкрепить его. Лучшие свойства нашей природы, подобные нежному пушку на плодах, можно сохранить только самым бережным обращением. А мы отнюдь не бережны ни друг к Другу, ни к самим себе.
Всем известно, что некоторые из вас бедны, что жизнь для вас трудна, и вы порой едва переводите дух. Я уверен, что некоторым из вас, читатели, нечем заплатить за все съеденные обеды, за одежду и башмаки, которые так быстро изнашиваются или уже сносились, – и даже на эти страницы вы тратите украденное или взятое взаймы время и выкрадываете час у ваших заимодавцев. Совершенно очевидно, что многие из вас живут жалкой, приниженной жизнью, – у меня на это наметанный глаз. Вы вечно в крайности, вечно пытаетесь пристроиться к делу и избавиться от долгов, а они всегда были трясиной, которую римляне называли aes alienum, или чужая медь, потому что некоторые их монеты были из желтой меди; и вот вы живете и умираете, и вас хоронят на эту чужую медь, и всегда вы обещаете выплатить, завтра же выплатить, а сегодня умираете в долгу; и все стараетесь угодить нужным людям и привлечь клиентов – любыми способами, кроме разве подсудных, вы лжете, льстите, голосуете, угодливо свиваетесь в клубочек или стараетесь выказать щедрость во всю ширь слабых возможностей – и все ради того, чтобы убедить ваших ближних заказывать у вас обувь, или шляпы, или сюртуки, или экипажи, или бакалейные товары; вы наживаете себе болезни, пытаясь кое-что отложить на случай болезни, кое-что запрятать в старый комод или в чулок, засунутый в какую-нибудь щель, или для лучшей сохранности, в кирпичный банк – хоть куда-нибудь, хоть сколько-нибудь.
Я иной раз удивляюсь, что мы легкомысленно уделяем все внимание тяжелой, но несколько чуждой нам форме кабалы, называемой рабовладением, когда и на юге, и на севере существует столько жестоких и тонких видов рабства. Тяжко работать на южного надсмотрщика, еще тяжелее – на северного, но тяжелее всего, когда вы сами себе надсмотрщик. А еще говорят о божественном начале в человеке! Посмотрите на возчика на дороге: днем ли, ночью ли – он держит путь на рынок. Что в нем осталось божественного? Накормить и напоить лошадей – вот его высшее понятие о долге. Что ему судьба в сравнении с перевозкой грузов? Ведь она работает на сквайра Ну-ка Поживей. Что уж тут божественного и бессмертного? Взгляните, как он дрожит и ежится, как вечно чего-то боится, – он не бессмертен и не божествен, он раб и пленник собственного мнения о себе, которое он составил на основании своих дел. Общественное мнение далеко не такой тиран, как наше собственное. Судьба человека определяется тем, что он сам о себе думает. Найдется ли другой Уилберфорс,[7] чтобы освободить от оков Вест-Индию мысли и воображения? А наши дамы, те готовят к страшному суду нескончаемые вышитые подушечки, чтобы не выказать слишком живого интереса к своей судьбе! Словно можно убивать время без ущерба для вечности!
Большинство людей ведет безнадежное существование. То, что зовется смирением, на самом деле есть убежденное отчаяние. Из города, полного отчаяния, вы попадаете в полную отчаяния деревню и в утешение можете созерцать разве лишь храбрость норок и мускусных крыс. Даже то, что зовется играми и развлечениями, скрывает в себе устойчивое, хотя и неосознанное отчаяние. Это не игры, ибо те хороши лишь после настоящей работы. Между тем мудрости не свойственно совершать отчаянные поступки.
Когда мы размышляем над тем, что катехизис[8] называет истинным назначением человека, и над его действительными потребностями, может показаться, что люди сознательно избрали свой нынешний образ жизни потому, что предпочли его всем другим. А ведь они искренне считают, будто у них нет выбора. Но бодрые и здоровые натуры помнят, что солнце взошло на ясном небе. Никогда не поздно отказаться от предрассудков. Нельзя принимать на веру, без доказательств, никакой образ мыслей или действий, как бы древен он ни был. То, что сегодня повторяет каждый, или с чем он молча соглашается, завтра может оказаться ложью, дымом мнений, по ошибке принятым за благодатную тучу, несущую на поля плодоносный дождь. Многое из того, что старики считают невозможным, вы пробуете сделать – и оно оказывается возможным. Старому поколению – старые дела, а новому – новые. Было время, когда люди не знали, как добыть топливо для поддержания огня, а теперь они кладут под котел немного сухих дров и мчатся вокруг земного шара с быстротою птиц, которая для стариков – смерть. Старость годится в наставники не больше, если не меньше, чем юность, – она не столькому научилась, сколько утратила. Я не уверен, что даже мудрейший из людей, прожив жизнь, постиг что-либо, обладающее абсолютной истинностью. В сущности, старики не могут дать молодым подлинно ценных советов; для этого их опыт был слишком ограничен, а жизнь сложилась слишком неудачно; но это они объясняют личными причинами; к тому же, наперекор их опыту, у них могли сохраниться остатки веры, и они просто менее молоды, чем были. Я прожил на нашей планете 30 лет и еще не слыхал от старших ни одного ценного или даже серьезного совета. Они не сказали мне – и вероятно не могут сказать – ничего, что мне годилось бы. Передо мной жизнь – опыт, почти неиспробованный мной, но мне мало проку от того, что они его проделали. Если у меня есть какой-то собственный, ценный для меня опыт, я знаю наверняка, что мои наставники об этом не говорили.
Один фермер говорит мне: «Нельзя питаться одной растительной пищей, из чего тогда образоваться костям?», – и вот он посвящает часть своего дня тому, что благоговейно снабжает свой организм сырьем для построения костей; а сам, между тем, шагает за плугом, за своими быками, которые хоть и вскормлены растительной пищей, а тащат через все препятствия и его, и его тяжелый плуг. Есть вещи, которые составляют предмет первой необходимости только в некоторых кругах, самых беспомощных и испорченных, в других они являются лишь предметами роскоши, а третьим и вовсе неизвестны.
Кажется, что все наши пути, и по горам, и по долам, уже исхожены нашими предшественниками, и что все ими предусмотрено. У Эвелина[9] сказано, что «мудрый Соломон определил даже расстояния, какие надо соблюдать при древесных посадках, а римские преторы постановили, как часто можно собирать желуди на земле соседа, не нарушая его прав, и какая доля их принадлежит этому соседу». Гиппократ оставил даже наставления насчет подстригания ногтей; вровень с кончиками пальцев – не короче и не длиннее. Нет сомнения, что и самая скука и сплин, которые якобы исчерпали разнообразие и радости жизни, восходят еще ко временам Адама. Но способности человека до сих пор никем не измерены, и мы не можем судить о его возможностях по тому, что им до сих пор сделано, – ведь испробовано так мало. Каковы бы ни были до сего дня твои неудачи, «не печалься, дитя мое, ибо кто же припишет тебе работу, которая осталась у тебя несделанной».[10]
К нашей жизни можно применить множество простых способов проверки, хотя бы, например, такую: то же самое солнце, под которым зреют мои бобы, освещает целую систему планет, подобных нашей. Если бы я это помнил, я избежал бы некоторых ошибок. А я окапывал бобы совсем не с этой точки зрения. Звезды являются вершинами неких волшебных треугольников. Какие далекие и непохожие друг на друга существа, живущие в разных обителях вселенной, одновременно созерцают одну и ту же звезду! Природа и человеческая жизнь столь же разнообразны, как и сами наши организмы. Кто может сказать, какие возможности таит жизнь для другого человека? Возможно ли большее чудо, чем хотя бы на миг взглянуть на мир глазами другого? Мы тогда за один час побывали бы во всех веках мира и во всех мирах веков. История, поэзия, мифология! – никакие описания чужих переживаний не могли бы так нас поразить и столькому научить.
Большую часть того, что мои ближние называют хорошим, я в глубине души считаю дурным, и если я в чем-нибудь раскаиваюсь, так это в своем благонравии и послушании. Какой бес в меня вселился, что я был так благонравен? Можешь выкладывать мне всю свою мудрость, старик, – ты прожил на свете семьдесят лет и прожил их не без чести, – но я слышу настойчивый голос, зовущий меня уйти подальше от всего этого. Молодое поколение бросает начинания старого, точно суда, выкинутые морем на берег.
Я считаю, что мы могли бы гораздо больше доверять жизни, чем мы это делаем. Мы могли бы сократить заботы о себе хотя бы на столько, сколько мы их уделяем другим. Природа приспособлена к нашей слабости не менее, чем к нашей силе. Непрестанная тревога и напряжение, в котором живут иные люди, – это род неизлечимой болезни. Нам внушают преувеличенное понятие о важности нашей работы, а между тем, как много мы оставляем несделанным! А что, если бы мы захворали? Мы вечно настороже! Мы полны решимости не жить верой, если этого можно избежать; прожив весь день в тревоге, мы на ночь нехотя читаем молитвы и вверяем себя неизвестности. Уж очень «основательно» приходится нам жить; мы чтим наш образ жизни и отрицаем возможность перемен. Иначе нельзя, говорим мы, а между тем способов жить существует столько же, сколько можно провести радиусов из одного центра. Всякая перемена представляется чудом, но подобные чудеса совершаются ежеминутно. Конфуций говорит: «Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы знаем то, что знаем, и не знаем того, чего не знаем».[11] Когда хоть одному человеку удастся постичь разумом то, что сейчас представляется только нашему воображению, я предсказываю, что и все люди станут строить на этом свою жизнь.
Давайте подумаем, в чем суть большей части забот и тревог, о которых я говорил, и насколько необходимо нам тревожиться или хотя бы заботиться. Неплохо было бы среди внешнего окружения цивилизации пожить простой жизнью, какой живут на необжитых землях, хотя бы для того, чтобы узнать, каковы первичные жизненные потребности и как люди их удовлетворяют, или перелистать старые торговые книги, чтобы увидеть, что люди покупали прежде всего, чем они запасались, то есть каковы продукты, без которых не проживешь. Ибо столетия прогресса внесли очень мало нового в основные законы человеческого существования; точно так же и скелет наш, вероятно, не отличается от скелетов наших предков.
Под жизненными потребностями я разумею то из добываемого человеком, что всегда было или давно стало столь важным для жизни, что почти никто не пытается без этого обойтись, будь то по невежеству, или по бедности, или из философского принципа. В этом смысле для многих живых существ имеется лишь одна потребность – в Пище. Для бизона прерий это несколько дюймов вкусной травы и водопой, да еще, может быть, укрытие в лесу или в тени горы. Животные нуждаются только в пище и убежище. Для человека в нашем климате первичные потребности включают Пищу, Кров, Одежду и Топливо; пока это нам не обеспечено, мы неспособны свободно и успешно решать подлинные жизненные проблемы. Человек изобрел не только дома, но и одежду, и приготовление пищи; вероятно из случайно обнаруженного тепла от костра, вначале – роскоши, возникла нынешняя потребность греться у огня. Мы видим, что собаки и кошки тоже приобрели эту привычку – вторую натуру. С помощью Крова и Одежды мы лишь законно сохраняем наше собственное внутреннее тепло; когда появляется избыток этого тепла, или Топлива, то есть, когда создается наружное тепло, превышающее наше внутреннее, начинается приготовление пищи на огне. Натуралист Дарвин,[12] рассказывая о жителях Огненной Земли, говорит, что он и его спутники, сидя у самого костра в теплой одежде, вовсе не ощущали чрезмерного тепла и удивлялись тому, что обнаженные туземцы, сидевшие дальше, «обливались потом, точно их поджаривали». Говорят, что житель Новой Голландии[13] безнаказанно ходит обнаженным, когда европеец даже одетый дрожит от холода. Нельзя ли сочетать закаленность этих дикарей с интеллектуальностью цивилизованного человека? Согласно Либиху[14] человеческое тело представляет собой печь, а пища является тем топливом, которое поддерживает внутреннее горение в легких. В холодную погоду мы едим больше, в теплую – меньше. Животное тепло получается в результате медленного сгорания; а болезнь и смерть наступают, когда это горение чрезмерно ускоряется, или когда, наоборот, от недостатка топлива или какого-нибудь дефекта в тяге, огонь гаснет. Конечно, жизненное тепло нельзя отождествлять с огнем, но в какой-то степени эта аналогия годится. Из сказанного следует, что слова животная жизнь почти совпадают с животным теплом. Если рассматривать пищу как топливо, поддерживающее огонь внутри нас, – а Топливо служит лишь для приготовления Пищи или для усиления внутреннего тепла путем добавления наружного, – Кров и Одежда также нужны лишь для сохранения создаваемого и поглощаемого таким образом тепла.
Итак, первой потребностью нашего организма является потребность согреться, сохранить жизненное тепло. Вот почему мы так хлопочем не только о Пище, Одежде и Крове, но и о постелях – нашей ночной одежде – и ради этого внутреннего крова разоряем гнезда птиц и ощипываем пух с их груди, подобно кроту, который в глубине своей норы устраивает себе постель из травы и листьев. Бедняк часто жалуется, что ему холодно в этом мире; холоду, как физическому, так и социальному, мы приписываем большую часть наших недугов. В некоторых широтах для человека летом возможна райская жизнь. Топливо требуется ему лишь для приготовления Пищи, костром служит солнце, многие из плодов достаточно прожариваются в его лучах; и вообще пища там разнообразнее и доступнее, а Одежда и Кров почти совершенно не нужны. В наше время и в нашей стране, как я знаю по собственному опыту, почти столь же необходимы некоторые орудия – нож, топор, лопата, тачка, а для занятий науками – лампа, бумага и несколько книг; все это стоит недорого. А ведь находятся безумцы, которые отправляются на край земли, в дикие местности с нездоровым климатом, и торгуют там 10 и 20 лет ради того, чтобы потом доживать свой век – то есть сохранять в себе тепло – в Новой Англии. Кто живет в роскоши, тот не только поддерживает в себе тепло, но и парится в чрезмерной жаре. Как я уже говорил, его поджаривают, разумеется a la mode (по моде – франц.).
Большая часть роскоши и многое из так называемого комфорта не только не нужны, но положительно мешают прогрессу человечества. Что касается роскоши и комфорта, то мудрецы всегда жили проще и скуднее, чем бедняки. Никто не был так беден земными благами и так богат духовно, как древние философы Китая, Индии, Персии и Греции. Мы немного о них знаем. Но удивительно, что мы вообще о них знаем. То же можно сказать и о реформаторах и благодетелях человечества, живших в более поздние времена. Нельзя быть беспристрастным и мудрым наблюдателем человеческой жизни иначе, как с позиций, которые мы назвали бы добровольной бедностью. Живя в роскоши, ничего не создашь, кроме предметов роскоши, будь то в сельском хозяйстве, торговле, литературе или искусстве. У нас сейчас есть профессора философии, но философов нет. Но и учить хорошо, потому, что некогда учили на собственном примере. Быть философом – значит не только тонко мыслить или даже основать школу; для этого надо так любить мудрость, чтобы жить по ее велениям – в простоте, независимости, великодушии и вере. Это значит решать некоторые жизненные проблемы не только теоретически, но и практически. Обычно же успех знаменитых ученых и мыслителей подобен успеху царедворца, а не властелина или героя. Они живут по-старинке, как жили их отцы, и не становятся родоначальниками более благородной человеческой породы. Почему же вообще вырождаются люди? Отчего вымирают семьи? Какие именно излишества расслабляют и губят народы? Нет ли их и в нашей собственной жизни? Истинный философ даже во внешнем образе жизни идет впереди своего века. Он по-иному, не так, как его современники, питается, укрывается, одевается и согревается. Можно ли быть философом и не поддерживать свое жизненное тепло более мудрыми способами, чем прочие люди?
Когда человек согрелся одним из описанных мною способов, какие еще потребности у него остаются? Едва ли это будет добавочное тепло того же рода – более обильная и жирная пища, больший и более роскошный дом, более разнообразная и красивая одежда, непрестанный и более жаркий огонь в очаге или нескольких очагах и тому подобное. Добыв все необходимое для жизни, он может поставить себе лучшую цель, чем получение излишков; освободившись от черной работы, он может, наконец, отважиться жить. Раз почва оказалась подходящей для семени, и оно пустило корешки вниз, оно может безбоязненно выпускать свои ростки вверх. Для чего же человек так прочно укоренился на земле, как не для того, чтоб настолько же подняться вверх, к небесам? Ведь наиболее благородные растения ценятся за их плоды, созревающие в воздухе и на свету, высоко над землей, не то, что овощи, хоть бы и двухлетние, которые выращиваются только ради корней и для этого часто обрезаются сверху, так что многие не узнали бы их в пору их цветения.
Я не собираюсь диктовать правила сильным и мужественным натурам, которые сами знают свое дело, будь то в небесах или в аду, и строят более роскошно и тратят щедрее всех богачей, но никогда не становятся от этого беднее и не считают, на что живут, – если только действительно есть такие люди, как об этом мечталось; не намерен я поучать и тех, кто восхищается и вдохновляется именно нынешним порядком вещей и лелеет его с нежностью и пылкостью влюбленных, – до некоторой степени я и себя самого отношу к их числу; я не обращаюсь к тем, кто убежден, что живет правильно, кто бы они ни были, – им лучше знать, так ли это; я обращаюсь главным образом к массе недовольных, напрасно сетующих на жестокую участь или на времена, вместо того, чтобы улучшить их. Есть такие, что горюют всего сильнее и безутешнее, потому что, по их словам, они исполняют свой долг. Я также имею в виду тот, по видимости богатый, а на деле удручающе нищий класс, который накопил груды мусора, но не знает, как им пользоваться, или как от него освободиться, и сам себе сковал золотые и серебряные цепи.
Если бы я попытался рассказать, как мне хотелось провести свою жизнь, это, вероятно, удивило бы тех из моих читателей, которые сколько-нибудь знакомы с моей действительной историей, и уж наверняка поразило бы тех, кто о ней ничего не знает. Я упомяну лишь некоторые из планов, которые я строил.
В любую погоду, в любой час дня или ночи я стремился наилучшим образом использовать именно данный момент и отметить его особой зарубкой; я хотел оказаться на черте, где встречаются две вечности: прошедшее и будущее, – а это ведь и есть настоящее, – и этой черты придерживаться. Вы должны простить мне некоторые неясности, потому что в моем ремесле больше тайн, чем в большинстве других, и не то, чтобы я нарочно стремился их иметь, – просто они неотделимы от самой его природы. Я рад бы рассказать все, что я о нем знаю, и никогда не писать на своей калитке: «Вход воспрещен».
Когда-то давно у меня пропал охотничий пес, гнедой конь и голубка,[15] и я до сих пор их разыскиваю. Многих путников я расспрашивал о них, говорил, где они могли им встретиться и на какие клички отзывались. Мне попались один или два человека, которые слышали лай пса и топот коня и даже видели, как взлетала за облака голубка, и им так же хотелось найти их, словно они сами их потеряли.
Как хорошо опережать не только солнечный восход или рассвет, но, если возможно, и самое Природу! Сколько раз, летом и зимою, я начинал свой трудовой день раньше кого-либо из соседей. Многие мои сограждане наверняка встречали меня уже на обратном пути – фермеры, ехавшие на рассвете в Бостон, или дровосеки, выходившие на работу. Правда, я ни разу не пособил солнечному восходу, но будьте уверены, что даже присутствовать при нем было крайне важно.
Сколько осенних и даже зимних дней я провел за городом, пытаясь подслушать, что скажет ветер – подслушать и поскорее разнести его вести. Я вкладывал в это почти весь свой капитал, да к тому же еще и задыхался, пытаясь бежать против ветра. Если бы дело касалось одной из политических партий, можете быть уверены – об этом напечатали бы в «Газете», в самом раннем выпуске. Иногда я наблюдал с какого-нибудь утеса или дерева, чтобы знаками известить о любом новом пришельце, а по вечерам поджидал на вершине холма, не начнет ли валиться небо и не свалится ли что-нибудь на мою долю – хотя мне мало что доставалось, да и это таяло на солнце, как манна небесная.
Я долгое время работал репортером в журнале, у которого было не очень много подписчиков;[16] его редактор до сих пор не нашел нужным напечатать большую часть моих корреспонденции, и я, как очень многие писатели, ничего не получал за свой труд. Но в данном случае труды сами заключали в себе награду.
Много лет я добровольно состоял смотрителем ливней и снежных бурь и выполнял свою работу добросовестно; был инспектором, если не проезжих дорог, то лесных троп, содержал их в порядке, чинил мостики через овраги и следил, чтобы они круглый год были проходимы всюду, где след человека указывал, что в них есть нужда.
Я присматривал за дикими животными нашей округи – а они так любят прыгать через изгороди, что доставляют заботливому пастуху немало хлопот; заглядывал я и в дальние уголки фермерских усадеб, хоть и не всегда знал, на каком поле сегодня работает Джонас или Соломон – это меня не касалось. Я поливал бруснику, карликовую вишню, каменное дерево, красную сосну и черный вяз, белый виноград и желтые фиалки, – а то они, пожалуй, погибли бы в засуху.
Скажу, не хвалясь, что я долго трудился таким образом, и трудился усердно, пока не стало совершенно очевидно, что сограждане не намерены зачислить меня в штат городских чиновников и назначить мне скромное вознаграждение. Счета, которые я честно вел, никогда не проверялись и уж, конечно, не акцептировались и не оплачивались. Впрочем, я к этому не стремился.
Недавно бродячий индеец принес на продажу корзины в дом известного адвоката,[17] живущего неподалеку от меня. «Нужны вам корзины?» – спросил он. «Нет, не нужны», – был ответ. «Вот тебе раз! – воскликнул индеец, выходя из ворот, – вы, значит, хотите нас уморить голодом?» Увидя, как процветают его предприимчивые белые соседи, как адвокату достаточно наплести речей и доводов, чтобы, словно по волшебству, добыть и деньги, и почет, индеец сказал себе: надо и мне заняться делом; буду плести корзины, это я умею. Он решил, что от него требуется только сплести корзину, а покупать – это уж обязанность белого. Он не знал, что необходимо сделать покупку выгодной для белого или хотя бы уверить его в этом, или же плести что-либо другое, что выгодно покупать. Я тоже плел своего рода тонкие корзины, но не сумел устроить так, чтобы хоть кому-нибудь было выгодно их купить. Но я-то все равно считал, что плести их стоит, и вместо того, чтобы выяснять, как сделать приобретение моих корзин выгодным для людей, я стал искать способов обойтись без их продажи. Люди привыкли признавать и восхвалять лишь один вид жизненного успеха. Но зачем превозносить именно его, в ущерб всем другим?
Обнаружив, что сограждане не намерены предложить мне судейское кресло, или приход, или еще какую-нибудь должность и что мне надо самому искать средства к жизни, я еще решительнее устремился в леса, где меня знали лучше. Я захотел немедленно войти в дело, не накапливая требуемого в таких случаях капитала и обойдясь имевшимися у меня скудными средствами. Я отправился на берега Уолдена не за тем, чтобы прожить подешевле или подороже, но чтобы без помех заняться своими делами;[18] уж очень глупо было бы отказаться от них из-за недостатка здравого смысла, малой доли предприимчивости и деловых способностей.
Я всегда старался приобрести навыки делового человека; они необходимы каждому. Если вы торгуете с Небесной Империей,[19] тогда достаточно конторы на побережье, в какой-нибудь гавани Салема.[20] Вы будете вывозить чисто отечественные продукты: больше всего льда и сосновой древесины, немного гранита, и все это на отечественных судах. Это выгодное дело. Тут надо самому во все входить, быть и штурманом, и капитаном, и владельцем, и страховщиком; самому покупать, продавать и вести счета, получать всю почту и самому на все отвечать; самому во всякое время наблюдать за разгрузкой ввозимых товаров; поспевать почти сразу в несколько точек побережья – ибо самый ценный груз часто могут выгрузить на побережье Джерси;[21] быть самому себе телеграфом, неустанно обозревать горизонт, окликая все суда, направляющиеся к берегу; иметь постоянно наготове товар для снабжения столь далекого и обширного рынка; быть осведомленным о состоянии всех рынков, о перспективах войны и мира, предвидеть перемены в промышленности и цивилизации, использовать результаты всех экспедиций, все новые пути и возможности для навигации; изучать карты, выяснять, где рифы, а где новые маяки, и буи; постоянно выверять логарифмические таблицы, ибо из-за ошибки в вычислениях многие суда, шедшие в гостеприимную гавань, разбивались о скалы – вспомним загадочную судьбу Лаперуза;[22] следить за успехами науки во всем мире, изучать жизнь всех знаменитых открывателей и мореходов, искателей приключений и торговцев, от Ганнона[23] и финикийцев до наших дней, и, наконец, производить время от времени учет товаров, чтобы знать, в каком положении ваши дела. Подобный труд заставляет человека напрягать все свои способности; все эти вопросы прибылей, убытков и процентов, учет веса тары и все прочие измерения и расценки требуют универсальных познаний.
Я решил, что Уолденский пруд будет отличным местом для ведения дела, – не только из-за железной дороги и добычи льда; есть и еще преимущества, которые мне, быть может, нет расчета раскрывать: выгодное и удобное местоположение. Здесь нет, как на невских берегах, болот, которые надо засыпать, хотя всюду надо строить на сваях и вбивать их самому. Говорят, что наводнение и западный ветер во время ледохода на Неве могут смести Петербург с лица земли.
Поскольку я начинал дело без обычных капиталовложений, читателю будет нелегко догадаться, откуда взялись те средства, которые все же необходимы для подобного предприятия. Что касается одежды, – если сразу перейти к практическим вопросам, – то здесь нами чаще руководит любовь к новизне и оглядка на других людей, чем соображения действительной пользы. Пусть каждый, кому приходится работать, помнит, что назначение одежды состоит, во-первых, в том, чтобы сохранять жизненное тепло, а, во-вторых, при нынешних нравах, в том, чтобы прикрывать наготу; тогда он увидит, сколько нужной и важной работы он может совершить, ничего не прибавляя к своему гардеробу. Королям и королевам, которые только по одному разу надевают каждый свой туалет, хотя бы и сделанный придворным портным или портнихой, неведомо удовольствие носить ладно сидящую одежду. Они не более чем деревянные плечики, на которые вешается новое платье. Наша одежда с каждым днем все более к нам применяется; она получает отпечаток нрава своего владельца, и мы неохотно расстаемся с ней, почти как с нашим собственным телом, и так же оттягиваем этот срок с помощью починок и иного медицинского вмешательства. Ни один человек никогда не терял в моих глазах из-за заплаты на одежде; а между тем люди больше хлопочут о модном, или хотя бы чистом и незаплатанном платье, чем о чистой совести. А ведь даже незаплатанная прореха не обличает в человеке никаких пороков, кроме разве непрактичности. Я иногда испытываю своих знакомых такими вопросами: согласились ли бы они на заплату или просто пару лишних швов на колене? Большинство, по-видимому, считает, что это значило бы загубить свою будущность. Им легче было бы ковылять в город со сломанной ногой, чем с разорванной штаниной. Когда у джентльмена что-нибудь приключается с ногами, их еще можно починить, но если нечто подобное случается с его брюками, это уже непоправимо, ибо он считается не с тем, что действительно достойно уважения, а с тем, что уважают люди. Нам редко встречается человек – большей частью одни сюртуки и брюки. Обрядите пугало в ваше платье, а сами встаньте рядом с ним нагишом, – и люди скорее поздороваются с пугалом, чем с вами. Недавно, проходя мимо кукурузного поля, я увидел шляпу и сюртук, нацепленные на палку, и сразу узнал хозяина фермы. Непогода несколько потрепала его с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я слыхал о собаке, которая лаяла на каждого чужого человека, приближавшегося к дому ее хозяина в одежде, но очень спокойно встретила голого вора. Интересно, насколько люди сохранили бы свое общественное положение, если бы снять с них одежду. Сумели бы вы в этом случае выбрать из группы цивилизованных людей тех, кто принадлежит к высшим классам? Когда мадам Пфейфер,[24] смелая путешественница вокруг света, с востока на запад, добралась до Азиатской России, она почувствовала надобность переодеться ради встречи с местными властями, потому что, как она пишет, «оказалась в цивилизованной стране, где о человеке судят по платью». Даже в городах нашей демократической Новой Англии случайно приобретенное богатство и его внешние атрибуты – наряды и экипажи – обеспечивают их владельцу почти всеобщее уважение. Но те, кто воздает богачу такое уважение, как они ни многочисленны, по сути дела – дикари, и к ним надо бы послать миссионера. К тому же, одежда породила шитье – занятие поистине нескончаемое. Во всяком случае, женским нарядам никогда не бывает конца.
Когда человек нашел себе дело, ему не требуется для этого новый костюм. Для него сойдет и старый, невесть сколько времени пролежавший на чердаке. Старые башмаки дольше прослужат герою, чем его лакею, если только у героев бывают лакеи, а еще древнее башмаков – босые ступни, и можно обойтись даже ими. Только тем, кто ходит на балы и в законодательные собрания, требуется менять костюм так же часто, как меняется носящий их человек. Если мой сюртук и брюки, шляпа и башмаки еще годны, чтобы молиться в них богу, – значит, их еще можно носить, не правда ли? А кто из нас донашивает свое платье действительно до конца, пока оно не распадется на первичные элементы, вместо того, чтобы в виде благотворительности оделять им какого-нибудь бедного парня, который, возможно, в свою очередь, отдает его кому-нибудь еще беднее, – или, может быть, следовало бы сказать: богаче, раз он обходится меньшим? Я советую вам остерегаться всех дел, требующих нового платья, а не нового человека. Если сам человек не обновился, как может новое платье прийтись ему впору? Если вам предстоит какое-то дело, попытайтесь совершить его в старой одежде. Надо думать не о том, что нам еще требуется, а о том, чтобы что-то сделать, или, вернее, чем-то быть. Быть может, нам не следовало бы обзаводиться новым платьем, как бы ни обтрепалось и ни загрязнилось старое, пока мы не свершим чего-нибудь такого, что почувствуем себя новыми людьми, – и тогда остаться в старой одежде будет все равно, что хранить новое вино в старом сосуде. Наша линька, как у птиц, должна отмечать важные переломы в нашей жизни. Гагара в эту пору улетает на пустынные пруды. Змея тоже сбрасывает кожу, а гусеница – оболочку в результате внутреннего процесса роста, ибо одежда – это лишь наш наружный кожный покров, покров земного чувства.[25] Иначе окажется, что мы плаваем под чужим флагом и в конце концов неизбежно падем и в собственном мнении и в мнении людей.
Мы сменяем платье за платьем, наподобие экзогенных растений, растущих путем наружных добавлений. Наше верхнее, чаще всего нарядное платье, – это эпидерма, или ложная кожа, не связанная с нашей жизнью; ее можно местами содрать, не причинив особого вреда; наша плотная одежда, которую мы носим постоянно, – это наша клетчатка, или cortex, а рубашка – это наша liber, или склеренхима, которую нельзя снять, чтобы не окольцевать человека, т. е. не погубить его. Думаю, что все народы, хотя бы в известное время года, носят нечто подобное рубашке. Человеку следует быть одетым так просто, чтобы он мог найти себя в темноте; и жить так просто, чтобы быть готовым, если неприятель возьмет его город, уйти оттуда, подобно древнему философу,[26] с пустыми руками и спокойной душой. Одна плотная одежда в большинстве случаев лучше трех тонких, а дешевая одежда действительно доступна большинству. Теплое пальто стоит пять долларов и прослужит столько же лет; за два доллара можно купить грубошерстные брюки, за полтора – сапоги из коровьей кожи, за четверть доллара – летнюю шапку, за шестьдесят два с половиной цента – зимнюю, а еще лучше сделать ее самому, и это обойдется почти даром. Неужели бедняк, одевшись таким образом на деньги, добытые своим трудом, не найдет умных людей, которые воздадут ему должное уважение?
Когда я пытаюсь заказать себе одежду определенного фасона, портниха важно говорит мне: «Таких сейчас никто не носит», не уточняя, кто не носит, и словно повторяя слова авторитета, безличного как Рок. Мне трудно заказать себе то, что мне надо, потому что она просто не верит, что я говорю всерьез и действительно могу быть так неблагоразумен. Услышав ее торжественную фразу, я погружаюсь в раздумье, повторяя про себя каждое слово в отдельности, пытаясь добраться до сущности и уяснить себе, кем мне приходятся эти Никто и почему они так авторитетны в вопросе, столь близко меня касающемся. И мне хочется ответить ей так же торжественно и таинственно, не уточняя, кто такие «никто»: «Да, действительно, до недавних пор никто не носил, но сейчас начали». К чему ей, спрашивается, обмерять меня, если она измеряет не мой характер, а только ширину плеч, точно я – вешалка? Мы поклоняемся не Грациям и не Паркам, а Моде. Это она со всей авторитетностью прядет, ткет и кроит для нас. Главная парижская обезьяна нацепляет дорожную каскетку, и вслед за ней все американские обезьяны проделывают то же самое. Я иной раз отчаиваюсь хоть в чем-нибудь добиться от людей простоты и честности. Для этого людей сперва пришлось бы положить под мощный пресс, чтобы выжать из них старые понятия, да так, чтобы они не скоро опомнились и встали на ноги; а там, смотришь, среди них опять оказался бы кто-нибудь с червоточиной, а откуда взялся червь, из какого он вывелся яичка – неизвестно, ибо эти вещи не выжечь даже огнем, и все труды окажутся напрасными. Не будем, впрочем, забывать, что египетская пшеница была сохранена для нас мумией.
В общем, едва ли кто станет утверждать, что у нас или в другой стране искусство одеваться действительно поднялось до уровня искусства. Пока еще люди носят что придется. Подобно морякам, потерпевшим крушение, они надевают то, что находят на берегу, а несколько отдалившись в пространстве или во времени, смеются друг над другом. Каждое поколение смеется над модами предыдущего, но благоговейно следует новым. Костюм Генриха VIII или королевы Елизаветы мы находим таким же смешным, как если бы они были монархами Каннибальских островов. Всякий костюм отдельно от человека выглядит жалким или нелепым. Только серьезный взор, выглядывающий из одежды, и искреннее сердце, которое под ней бьется, только это сдерживает смех и освящает любую одежду. Если у Арлекина случится приступ колик, его наряду придется разделить с ним все его неприятности. Когда солдат сражен ядром, его лохмотья приобретают величие царского пурпура.
Детское и дикарское пристрастие мужчин и женщин к новым фасонам заставляет многих, сощурясь, вертеть калейдоскоп, выбирая сочетание, на которое сегодня будет спрос. Фабриканты знают, что этот вкус – одна лишь причуда. Из двух рисунков ткани, различающихся лишь несколькими нитями того или иного цвета, один расходится быстро, другой залеживается на полках, а на следующий сезон именно второй часто оказывается более модным. Татуировка в сравнении с этим не столь отвратительна, как принято считать Ее не назовешь варварством только потому что рисунок врезан в кожу и не может быть изменен.
Я не могу поверить, что наша фабричная система является лучшим способом одевать людей. Положение рабочих с каждым днем становится все более похожим на то, что мы видим в Англии, и удивляться тут нечему – ведь, насколько я слышу и вижу главная цель этой системы не в том, чтобы дать людям прочную и пристойную одежду, а только в том, чтобы обогатить фабрикантов. Люди в конце концов добиваются только того, что ставят своей целью. Поэтому, хотя бы их и ждала на первых порах неудача, им лучше целить выше.
Что касается Крова, я не отрицаю, что в наше время он стал жизненной потребностью, хотя можно привести примеры, когда люди подолгу обходились без него, даже в более холодных краях, чем наш. Сэмюэл Лэнг[27] пишет, что «лапландец в одежде из шкур, натянув меховой мешок на голову и плечи, может много ночей проспать на снегу, при морозе, от которого погиб бы человек в любой шерстяной одежде». Он сам видел как они спали. При этом он добавляет «Они не крепче других людей». Но человек, очевидно, очень давно обнаружил все удобства крова и создал понятие «домашнего уюта» которое вначале относилось, вероятно, именно больше к дому, чем к семье, хотя оно едва ли могло иметь большое значение в тех широтах, где кров нужен только зимой или в период дождей, а в течение двух третей года не требуется ничего, кроме зонтика. Даже в нашем климате в летнее время дом был некогда нужен лишь в качестве ночного укрытия. В индейской письменности вигвам обозначал дневной переход, и ряд этих вигвамов, вырезанных или нарисованных на древесной коре, показывал, сколько раз люди останавливались на ночлег. Человек не сотворен таким уж могучим, чтобы ему не требовалось сузить окружающий его мир и отгородить себе какое-то укрытие. Сперва он жил обнаженный, под открытым небом, но если это было достаточно приятно в ясную, теплую погоду и в дневное время, то дождливый сезон или зима, не говоря уже о жгучем тропическом солнце, погубили бы человеческий род в самом начале, если бы он не поспешил укрыться под кровом. Адам и Ева, согласно преданию, обзавелись лиственным кровом раньше, чем одеждой. Человеку был нужен дом и тепло – сперва тепло физическое, потом тепло привязанностей.
Мы можем представить себе, как однажды, в период детства человечества, некий предприимчивый смертный нашел убежище в расселине скалы. Каждый ребенок заново открывает мир, вот почему он любит бывать вне дома, даже в дождь и холод. Он играет в домик, как и в лошадки, потому что это инстинкт. Кто не помнит, с каким интересом мы рассматривали в детстве нависшую скалу и все, что напоминало пещеру? Это проявлялся еще живущий в нас инстинкт наших далеких первобытных предков. От пещеры мы перешли к кровлям из пальмовых листьев, из коры и ветвей, из натянутого холста, из травы и соломы, досок и щепы, камней и черепицы. Теперь мы не знаем, что значит жить под открытым небом, и жизнь наша стала домашней больше, чем мы думаем. От домашнего очага до поля – большое расстояние. Нам, пожалуй, следовало бы проводить побольше дней и ночей так, чтобы ничто не заслоняло от нас звезды, и поэту не всегда слагать свои поэмы под крышей, и святому не укрываться под ней постоянно. Птицы не поют в пещерах, а голубики не укрывают свою невинность в голубятнях.
Но уж если вы хотите построить себе дом, не мешает приложить к этому немного американского здравого смысла, а не то вы окажетесь в работном доме, в лабиринте без выхода, в музее, богадельне, тюрьме или пышной усыпальнице. Вдумайтесь, как немного надо, чтобы соорудить кров. Я видел в здешних краях индейцев племени Пенобскот, живших в палатках из тонкой хлопчатобумажной ткани, когда кругом почти на фут лежал снег, и думал, что они были бы рады еще более глубокому снегу, который лучше защищал бы их от ветра. Размышляя над тем, как мне честно заработать на жизнь и при этом не лишить себя свободы для своего истинного призвания, – раньше этот вопрос тревожил меня еще больше, ибо сейчас я, к сожалению, стал менее чувствителен, – я часто поглядывал на большой ларь у железнодорожного полотна, шесть футов на три, куда рабочие убирали на ночь свой инструмент, и думал, что каждый, кому приходится туго, мог бы приобрести за доллар такой ящик, просверлить в нем несколько отверстий для воздуха и забираться туда в дождь и ночью; стоит захлопнуть за собой крышку, чтобы свободу духа обрести, и вольность и любовь.[28] Это казалось мне далеко не худшей из возможностей, и ею не следовало бы пренебрегать. Можешь ложиться спать, когда вздумается, а выходя, не бояться, что землевладелец или домовладелец потребует с тебя квартирную плату. Сколько людей укорачивает себе жизнь, чтобы платить за больший и более роскошный ящик, а ведь они не замерзли бы и в таком. Я отнюдь не шучу. Экономические вопросы допускают легкомысленные шутки, но шутками от них не отделаешься. Было время, когда крепкий и закаленный народ строил себе здесь отличные жилища почти целиком из тех материалов, какие имелись наготове у Природы. В 1674 г. Гукин,[29] ведавший делами индейских подданных Массачусетской колонии, писал: «Лучшие их дома очень плотно и тщательно кроются древесной корой, которую сдирают, когда дерево наливается соком, и сразу же спрессовывают крупными кусками, пока она зеленая. Дома похуже крыты циновками, которые плетутся из особого камыша; они тоже достаточно теплы и не протекают, хотя и не так хороши, как первые… Я видел постройки, достигавшие 60 и даже 100 футов в длину и 30 в ширину… Я часто ночевал в вигвамах, и они оказывались не менее теплы, чем лучшие английские дома». Он добавляет, что вигвамы обыкновенно устланы и обтянуты внутри вышитыми циновками прекрасной работы и обставлены разнообразной домашней утварью. Индейцы додумались даже до того, что регулировали силу ветра с помощью особого отверстия в крыше, завешанного циновкой, к которой подвязывалась веревка. Такое жилище можно построить самое большее за день – два, а разобрать и снова собрать за несколько часов, и у каждой семьи есть свое жилище, или хотя бы отдельная часть его.
У дикарей каждая семья имеет кров, не хуже чем у других, удовлетворяющий простейшим потребностям. У птиц есть гнезда, у лисиц – норы, у дикарей – вигвамы, а современное цивилизованное общество, скажу не преувеличивая, обеспечивает кровом не более половины семей. В крупных городах, где цивилизация победила окончательно, число имеющих кров составляет очень малую долю. Остальные ежегодно платят за эту внешнюю оболочку, ставшую необходимой и зимой, и летом, такие деньги, на которые можно приобрести целый поселок индейских вигвамов, и из-за этого живут в нужде всю свою жизнь. Я не намерен особо доказывать невыгоды наемного жилья по сравнению с собственным, но очевидно, что дикарь имеет собственное жилище потому, что это дешево, а цивилизованный человек снимает квартиру обычно потому, что не может позволить себе собственной, да и наемная в конце концов оказывается ему не по карману. Да, могут ответить мне, зато за эту плату бедняк в цивилизованной стране получает жилище, которое по сравнению с хижиной дикаря может считаться дворцом. За ежегодную плату в размере от 25 до 100 долларов – таковы цены в сельских местностях – он пользуется всеми усовершенствованиями, достигнутыми в течение столетий: просторными комнатами, чисто окрашенными и оклеенными, румфордовскими печами,[30] штукатуркой, жалюзи, медным насосом, пружинным замком, удобным погребом и многим другим. Но отчего же получается, что тот, кто якобы пользуется всеми этими благами, оказывается бедняком, а лишенный их дикарь, по своим понятиям – богат? Если утверждать, что цивилизация действительно улучшает условия жизни, – а я думаю, что это так, хотя истинными ее выгодами пользуются только мудрецы, – тогда надо доказать, что она улучшила и жилища, не повысив их стоимости; а стоимость вещи я измеряю количеством жизненных сил, которое надо отдать за нее – единовременно или постепенно. В наших местах дом стоит в среднем около восьмисот долларов, и, чтобы отложить такую сумму, рабочий должен затратить 10–15 лет жизни, даже если он не обременен семьей. За средний заработок я беру доллар в день, потому что, если некоторые получают больше, то другие получают меньше, – вот и выходит, что он тратит большую часть жизни, пока заработает себе на вигвам. А если он снимает его, то я не знаю, какое из зол меньше. Мудро ли поступит дикарь, если он на этих условиях сменит свой вигвам на дворец?
Можно догадаться, что я свожу почти всю выгоду от приобретенной впрок ненужной собственности к тому, что таким образом можно отложить деньги на похороны. Но, может быть, человек не обязан сам себя хоронить? Тем не менее это указывает на существенное отличие цивилизованного человека от дикаря; не сомневаюсь, что имелось в виду наше благо, когда жизнь цивилизованного народа стала системой, при которой жизнь отдельного человека в значительной степени растворена в общей цели: сохранении и совершенствовании всей расы. Я хочу только показать, какой ценой достигается сейчас это преимущество, и предложить устроить нашу жизнь так, чтобы сохранить все преимущества и устранить недостатки. Зачем говорить: «Нищих вы всегда имеете с собою», или «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?[31]
«Живу я! – говорит господь бог, – не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле.
Ибо вот, все души мои: как душа отца, так и душа сына – мои, душа согрешающая, та умрет».[32]
Глядя на своих соседей – конкордских фермеров, живущих во всяком случае не хуже других слоев населения, – я вижу, что им приходится работать 20, 30 и 40 лет, чтобы действительно стать владельцами своих ферм, которые они или наследуют вместе с закладными, или покупают на деньги, взятые взаймы. Треть их труда идет на оплату дома, но обычно они так и не выплачивают всей суммы. Правда, долги иногда превышают стоимость самой фермы, так что она становится величайшим бременем, и все-таки на нее находится наследник, хотя он и говорит, что знает ей цену. Расспросив податных инспекторов, я с изумлением узнал, что они затрудняются назвать в городе дюжину людей, у которых ферма не была бы обременена долгами. Историю этих усадеб лучше всего узнавать в банке, где они заложены. Человек, сполна расплатившийся за ферму только собственным трудом на ней, – это такая редкость, что вам его сразу укажут. Таких едва ли наберется трое во всем Конкорде. Если о торговцах говорят, что огромное большинство их – 97 из 100 – наверняка разоряется, то это относится и к фермерам. Правда, банкротство торговца, как правильно заметил один из них, большей частью не является настоящим денежным крахом, а лишь попыткой уклониться от выполнения затруднительных обязательств, т. е. крахом моральным. Но ведь это только бесконечно ухудшает картину и к тому же наводит на мысль, что и остальные трое едва ли спасают свои души и что они терпят крах в худшем смысле, чем честные банкроты. Банкротство и отказ от обязательств – вот та доска, с которой наша цивилизация совершает большую часть своих прыжков, тогда как дикарь стоит на другой доске, совсем не упругой: это – голод. А между тем у нас ежегодно с большой торжественностью устраивается Миддлсекская выставка скота, и можно подумать, что все части сельскохозяйственной машины находятся в полной исправности.
Фермер пытается решить проблему пропитания, но решает ее по формуле, более сложной, чем сама проблема. Чтобы заработать на шнурки для башмаков, он торгует целыми стадами. Он весьма искусно ставит капкан с тончайшей пружиной, надеясь добыть себе обеспеченность и независимость, и тут же сам попадает в него ногой. Вот причина его бедности; по той же причине и все мы лишены множества благ, доступных дикарю, хоть и окружены предметами роскоши. Как говорит Чапмен:
- Людское суетное мненье
- Во имя благ земных
- Небесной радостью пренебрегает.[33]
А когда фермер становится владельцем дома, он может оказаться не богаче, а беднее, потому что дом завладевает им. Я считаю, что Момус[34] справедливо критиковал дом, построенный Минервой, когда говорил, что «напрасно она не поставила его на колеса, чтобы можно было удаляться от плохого соседства». Это можно сказать и про наши дома, – они так громоздки, что часто оказываются скорее тюрьмами, чем жилищами; а дурные соседи, которых следует избегать, это мы сами, со всей нашей подлостью. Я, по крайней мере, знаю несколько здешних семей, которые много лет мечтают продать свои дома на окраине и перебраться в поселок, но так и не смогли осуществить это, и освободит их только смерть.
Допустим даже, что большинству удается, наконец, приобрести или снять современный дом со всеми удобствами. Но цивилизация, улучшая наши дома, не улучшила людей, которым там жить. Она создала дворцы, но создать благородных рыцарей и королей оказалось труднее. А если стремления цивилизованного человека не выше, чем у дикаря, если большую часть своей жизни он тратит лишь на удовлетворение первичных, низменных потребностей, почему жилище его должно быть лучше?
Ну, а как обстоит с несчастным меньшинством? Оказывается, что чем больше некоторые возвысились над дикарями в отношении внешних условий жизни, тем больше принижены другие по сравнению с ними. Роскошь одного класса уравновешивается нищетой другого. С одной стороны – дворец, с другой – приют для нищих и «тайные бедняки».[35] Бесчисленных рабов, строивших пирамиды для погребения фараонов, кормили чесноком, а хоронили, вероятно, кое-как. Каменщик, выложив карнизы дворца, возвращается вечером в лачугу, которая, может статься, хуже индейского вигвама. Ошибочно было бы думать, что если в стране существуют обычные признаки цивилизации, то в ней не может быть огромных масс населения, низведенных до уровня дикарей. Я сейчас говорю о деградации бедняков, а не богачей. Чтобы увидеть ее, мне достаточно заглянуть в лачуги, выстроенные вдоль всей железной дороги – этого последнего достижения цивилизации; я ежедневно вижу там людей, живущих в конурах, где дверь всю зиму стоит открытой, чтобы впустить хотя бы луч света, где не видно дров и трудно даже вообразить их, где старые и молодые одинаково сутулы, потому что вечно ежатся от холода и страданий и не в состоянии развиться ни физически, ни духовно. Да, не мешает приглядеться к жизни того класса, чьим трудом осуществляются все достижения нашего века. В большей или меньшей степени таково положение всех рабочих Англии, этого всемирного работного дома. Я мог бы назвать также и Ирландию, которая считается цивилизованной страной, потому что населена белыми людьми. Сравните, однако, физическое состояние ирландца с северо-американским индейцем или жителем островов южных морей или любым другим дикарем, прежде чем он выродился от общения с белыми. При этом я не сомневаюсь, что правители этого народа не глупее обычного среднего уровня цивилизованных правителей. Состояние ирландцев лишь доказывает, какое убожество может уживаться с цивилизацией. Едва ли нужно указывать также на рабов в наших Южных штатах, которые производят основные продукты нашего вывоза и сами являются основной продукцией Юга. Будем говорить лишь о так называемом среднем уровне жизни.
Большинство людей, видимо, никогда не задумывается над тем, что такое дом, и всю жизнь терпит ненужные лишения потому, что считает обязательным иметь такой же дом, как у соседа. Так и с одеждой. Неужели нам необходимо носить все, что может скроить портной; неужели, миновав период шляп из пальмовых листьев и шапок из суркового меха, мы будем жаловаться на трудные времена из-за того, что нам не по средствам корона? Можно создать дом еще комфортабельнее и роскошнее нынешнего, но все будут вынуждены признать, что он никому не по карману. Неужели мы должны вечно стремиться добыть побольше всех этих вещей, а не стараться иногда довольствоваться меньшим? Неужели почтенные граждане всегда будут с важностью внушать юношам, и советом и примером, необходимость приобрести, прежде чем умереть, известное количество ненужных галош и зонтов или пустых гостиных для пустых гостей? Почему бы нашей обстановке не быть такой же простой, как у арабов или индейцев? Когда я думаю о благодетелях человеческого рода, которых мы прославляем как посланцев небес, принесших человеку божественные дары, я не представляю их себе в сопровождении пышной свиты или повозки, нагруженной модной мебелью. Я готов допустить – странное допущение, не правда ли? – чтобы наша обстановка была богаче, чем у араба в той мере, в какой мы превосходим его нравственно и умственно. Сейчас наши дома сплошь заставлены и засорены всякой всячиной; хорошая хозяйка живо вымела бы большую ее часть в мусорную яму, и это было бы полезной утренней работой. Утренняя работа! Во имя румяной Авроры и песни Мемнона,[36]