Читать онлайн За дверью поджидают призраки. Драма немецкой семьи в послевоенной Германии бесплатно
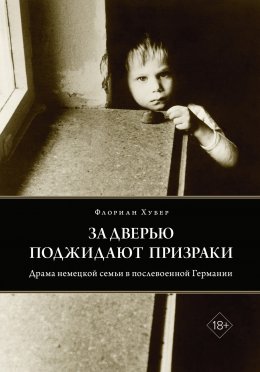
Florian Huber
Hinterden Türen warten die Gespenster
Das deutsche Familiendrama der Nachkriegszeit
© 2017 Piper Verlag GmbH, München/Berlin
© Анваер А. Н., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2023
КоЛибри®
От редакции
Эта книга, с одной стороны, основана на дневниках, письмах, воспоминаниях и устных сообщениях за полтора десятка лет, прошедших после окончания Второй мировой войны. Авторы описывают в них личные переживания послевоенного времени в контексте совместной жизни со своими мужьями и женами, отцами, матерями и детьми. Эти тексты собраны под заголовком «Воспоминания и дневники современников» в указателе источников и литературы. Помимо этого, слово было предоставлено и так называемым детям войны и поколению внуков; эти материалы помещены во втором разделе – «Посмертные воспоминания и семейные истории». Описание фоновых событий подкрепляется многочисленными историческими фактами, изложенными в третьей части под заголовком «Дополнительная литература». Дословные цитаты выделены курсивом или отсечены отступами; орфография и пунктуация их сохранены без изменения. Подтверждающие источники можно найти в приложении, в разделе «Указатель цитат». На основании закона о защите персональных данных некоторые имена изменены.
Предисловие
Есть много причин ненавидеть пятидесятые годы.
Достаточно взглянуть на преступную коррумпированность, насквозь пронизавшую государственную структуру. Всюду, вплоть до высших постов, засели старые «камрады» и плели свои новые сети. На их стороне стояли юристы и бюрократы из той же банды, которая ни за что не желала дать в обиду своих, а, напротив, делала все, чтобы затушевать преступления, соучастником которых была она сама. Свидетельства актов геноцида эти люди заталкивали в дальние углы канцелярских шкафов на съедение бумажным червям.
Таким образом, те, у кого отобрали собственность и убили близких, те, кто из последних сил сумел дожить до освобождения, подвергались глумлению: ни судебной защиты, ни перспектив. К ним не было интереса. Не было даже элементарного сочувствия. Их надежды на справедливость разбились об это холодное пренебрежение. В роли же последних жертв диктатора выступили другие: миллионы ничего не осознавших немцев хотели в итоге выставить пострадавшими себя. Ветераны всех фронтов держались легенды о рыцарском образе солдат вермахта. Они забыли слезы, пролитые по погибшим в Сталинграде товарищам; им даже не приходило в голову теперь, в тишине мира, спросить самих себя о собственном участии в тысячелетней германской катастрофе.
Можно ненавидеть самый дух этого процесса восстановления общества. Рвение мужчин, бросившихся занимать места на ступеньках карьеры, чтобы все выше и выше взбираться по служебной лестнице; и не меньшее усердие женщин, прошмыгнувших в кухни и детские. Каждый играл свою роль в стремлении к собственному дому-крепости и автомобилю на зависть соседям. Они были так сильно поглощены своим старанием, что не находили ни малейшей возможности задуматься о прошлом и об ответственности за него. Очень скоро все пришло к образцовой норме – настолько просты и прямоугольны были рамки. Непохожий, неправильный, выбивающийся из общего порядка человек должен был разбить себе о них голову, если не хотел соответствовать. То же утверждала и продукция индустрии развлечений, рисующая жизнь простыми и ясными красками. В качестве главных охраняющих фигур на пике этого общества стояли люди, облеченные авторитетом старого пошиба. В их речах звучал приказной казарменный тон; они руководили автомобильными предприятиями, торговыми фирмами или государством, сознавая полноту своей власти и оставаясь глухими к протестам.
Такими можно видеть эти годы и испытывать к ним отвращение.
Есть, однако, и много причин любить пятидесятые.
Это может прозвучать ошеломляюще, но причины эти олицетворены с теми же людьми, нужно только посмотреть на них с другой точки зрения. И в этом ракурсе эти твердолобые мужи предстают рулевыми государства и бизнеса, излучающими после поражения уверенность в себе и в своих силах. Не было ничего более необходимого для народа, лишенного всякой способности к ориентации. То были люди, не знавшие, что такое «если» и «но», они напролом шли вперед, противопоставляя беспомощности свою уверенность.
Они воплощали собой гордость, на которую вскоре начало претендовать целое поколение. Но в отличие от имперской великодержавной спеси эта гордость питалась собственными, индивидуальными достижениями. Приобретая домик на вновь отстроенной улице, люди возвращали себе счастье частной жизни, которая была разбомблена, отнята или разрушена. И с этой точки зрения трудовой энтузиазм в те годы был обусловлен не просто стремлением получить работу, он имел вполне определенный мотив. Помимо желания снова стать кем-то, речь шла о том, чтобы снова что-то иметь. Можно было собираться вместе и веселиться, ничего не опасаясь. Немецкая «Рarty» была изобретением именно того времени. Возвращались давно забытые маленькие радости жизни.
Духом восстановления общества был оптимизм, и именно так воспринимали это время те, кто в нем жил. Роли до полусмерти утомленного на работе служащего, неутомимой домохозяйки и послушных детей устарели, но они же внушали уверенность. Послевоенный период был назван «экономическим чудом»[1] лишь спустя время, ибо сами современники были исцелены верой в чудо. Для них важнее самого чуда были покой и нормальность. Вести обычную жизнь в кругу воссоединенной семьи после нескольких лет разобщенности стало немецким представлением о рае на Земле. Страна наконец смогла перевести дух. Этот покой позволил дистанцироваться от ужаса недавнего прошлого.
Для одних это было спасением из водоворота трагедий, для других – величайшим обманом эпохи, ибо в основе этого покоя лежал заговор молчания, запретивший называть своими именами и вытеснивший из сознания общества его преступления. Из этого сложилась атмосфера пятидесятых годов – кладбищенская тишина над могилами миллионов жертв, в том числе и собственных. Забвение стало гражданской добродетелью. Шум моторов и грохот строек стали звуковым сопровождением эпохи. Внутри, за фасадом, царила гнетущая тишина.
В этом крылось несоответствие: немцы вышли из моральной и материальной катастрофы очень неуверенно и хотели лишь маленького человеческого счастья. В расхожих образах и картинах этой эпохи время после драмы тридцатых и сороковых годов видится по большей части как ровная поверхность: «моторизованный бидермайер»[2], «дети, кухня, церковь»[3], «накрахмаленные нижние юбки и овальные столики»[4]. Никакой глубины, но и никакой бездны. К тому же конец сороковых и пятидесятые были фазой противоречий и вынужденного и не объединяющего соседства. Под застывшей гладкой поверхностью был слой, где обнажались линии разлома и разворачивалась психологическая драма потрясенного в самой своей основе общества.
Сценой этой драмы было то, к чему все немцы всей душой рвались до и после катастрофы: семья, убежище и оплот нормальной жизни. Хотя, и даже потому, что заговор молчания препятствовал культуре общения, в тесном семейном кругу не так-то легко было скрыть то, что подлежало умолчанию. Даже если никто не говорил об этом вслух, оно пробивалось и становилось заметным в любой мелочи. Просачивалось сквозь щели повседневности, рядилось в образы чудачеств и ритуалов и высказывалось в ссорах мужчин с женщинами, родителей с детьми. Атмосфера, которую все они совместно создали, была суммой и вершиной их переживаний.
Это была эра семейных тайн – провалов, которые было необходимо скрыть. Частная жизнь за закрытыми дверями вовсе не была тем островком мира и покоя, о котором мечтали в Германии все – от вернувшихся домой солдат до министра по делам семьи. Редко у кого все шло по заведенному порядку, словно на уроке танцев. Схема «нормальной жизни» и счастья как семейной повседневности оставалась лишь идеальным представлением о действительности. За закрытыми дверями домов жили мужчины со своими тайными воспоминаниями; женщины, позабывшие о том, что они женщины; и дети, которые видели ссоры взрослых и либо принимали в них участие, либо бунтовали. Женщины, мужчины, дети – три мира, три перспективы и три точки зрения, и все это сплетено в клубок неразрешимых противоречий.
Банальная истина: семья образует ядро общества. Но это ядро имело множество оттенков – от тускло-серого до ярко-алого и иссиня-черного. В глубоко скрытых слоях этого ядра бушевали страсти, теплилось тоскливое томление или царила ледяная холодность. Все это вело к иллюзиям и несбывшимся ожиданиям, метаниям, неискренности, двойной жизни и параллельным семьям.
Немецкий семейный космос после 1945 года был исторически уникальной «опытной конструкцией». Здесь находится ключ к пониманию эпохи и людей, сталкивавшихся друг с другом внутри конструкции. Об этом повествует книга: о драме немецкой семьи за закрытыми дверями, о молчании, о ненависти и любви.
1. Разорванный мир
Моряк в пустыне
Его занесло в пустыню. Как нарочно, именно его, человека, который всю жизнь рвался в море. Когда он выходил из палатки, раскаленное солнце било в глаза так, что вокруг блекли все цвета. Под ногами сухо шуршал песок. Вокруг, насколько хватало глаз, был виден только лагерь, построенный в строгом геометрическом порядке. Море палаток; примыкавшие друг к другу прямоугольники брезента образовывали еще один огромный прямоугольник, стиснутый по периметру сторожевыми вышками. Вздумай он уйти оттуда, далеко бы не ушел. За колючей проволокой расстилался мертвый мир – пыль, галька и раскаленные камни. Пустыня была лучшим тюремщиком, и оружием его было солнце.
Пустыня вместо моря, заточение вместо свободы, лагерное отупение вместо радости возвращения на родину. Когда вечерами в лагере вспыхивали электрические лампы, висевшие на колючей проволоке, пленные не могли избавиться от ощущения, что они зрители какого-то полуфантастического действа.
[(1) «Мир исчезал за этой непроницаемой завесой света. Свет возникал, будто из ничего, в царстве песка, в этом остекленевшем пространстве, без всякого смысла втиснутом в никуда, но, несмотря на это, тщательно охраняемом; картина, лишенная всяких признаков реальности».]
Призрачным и разорванным казался мир после поражения и краха. Вольфрам Матшос всю свою сознательную жизнь был моряком. Ради мечты он в 1930 году отважился на побег из отцовского дома в силезском Вальденбурге. Школьный совет контролировал каждый шаг Вольфрама, но в семнадцать лет он сбежал в Гамбург. Там поступил в мореходное училище, чтобы наконец покинуть сушу. Как только Вольфрам прошел курс обучения, сразу же ушел в океанский рейс.
Вольфрам Матшос стал штурманом дальнего плавания. В 1939 году он был призван в германский военно-морской флот. Во время войны на минном тральщике бороздил воды Средиземного моря, был взят в плен англичанами. В рождественскую ночь 1945 года в лагере для военнопленных под импровизированной самодельной елкой он праздновал свое спасение. Он уцелел, ему было тридцать два, и он мог начать жизнь сначала – на Нордернее, островке в серо-голубом море, где его ждала семья.
Однако транспортное судно, на борт которого в начале 1946 года взошел Матшос, направилось не в Германию, а еще дальше на юг. У Эль-Фаида, на западном берегу Суэцкого канала, англичане высадили его в египетские пески. Матшос оказался одним из примерно ста тысяч немецких военнопленных, которых британцы охраняли в дюжине построенных в пустыне лагерей. Вместо морского бриза песчаные вихри, взметаемые хамсином, так называют египтяне дующий из пустыни ветер. Ближайшим водоемом было тридцатикилометровое соленое озеро, служившее отстойником для судов, проходивших по каналу. Это было похоже на какую-то картину, на которой Бог уничтожил в морской пучине армию фараона, преследовавшую израильтян во главе с Моисеем. Название этого соленого озера звучало как образчик старого доброго английского юмора в отношении немецких пленных: Большое горькое озеро. Матшосу, однако, было не до смеха. Даже на Луне не мог бы он чувствовать себя дальше от всего, что любил.
Естественно, Вольфрам понимал, почему он здесь и почему его нельзя просто отпустить. У британцев были вопросы относительно его роли в организации и становлении национал-социалистского государства. [(2) В самом начале пребывания в плену каждый был подвергнут допросу, и по его результатам был направлен в ту или иную группу пленных.] Матшоса направили в группу C, самую многочисленную группу «нацистов». Об этом пленные между собой почти не говорили. Политика, партия, война – со всем этим для них было раз и навсегда покончено, ибо мыслями все они были на родине. Война была проиграна, Германия уничтожена, военный флот отправлен на морское дно. В их душах теплилась одна надежда: вернуться домой, к семье. Так же, как товарищей Матшоса по палатке: Шиппера, Мейера, Рюстмана, как сотню тысяч других, его самого снедала тоска по родине. Еще сильнее мучила неопределенность – с тех пор как были порваны всякие контакты, Матшос не знал, где находятся Ханни и дочери, живы они или нет.
Он познакомился с продавщицей книжного магазина Иоханной Берг, уроженкой Нордернея, на базе военно-морского флота в Вильгельмсхафене. Вольф и Ханни поженились в 1942 году, а через два года родились их дочери Ева и Рената. Ханни с детьми переехала к матери Вольфа в Вальденбург, чтобы было полегче. Однако Силезия была захвачена Красной армией. Удалось ли Ханни с детьми бежать оттуда? Добрались ли они до Нордернея? Ждут ли они его? Мысли отчаянно метались в голове. У него не осталось ничего, кроме его семьи – Ханни, Евы и Ренаты. Их имена стали для него надеждой и ожиданием, утешением и верой, заботой, страхом, любовью – всем вместе. Они были его последним якорем, они должны были, они просто обязаны были выжить.
Письма в никуда
После 1945 года в тысячах лагерей, разбросанных по восьмидесяти странам мира, сидели одиннадцать миллионов немецких военнопленных. Все эти военнослужащие считались погибшими или пропавшими без вести. Едва ли в Германии можно было найти семью, где не пропали бы отец, сын, брат или кто-то из близких. Волны войны разметали людей. Тридцать миллионов человек были разлучены друг с другом, каждый четвертый разыскивал близких. Поиск и ожидание стали судьбой поколения. Мир был разорван.
[(3) «Не оставляй меня одну в этом ужасном мире! Вернись, я могу ждать долго, если буду знать, что ты придешь».]
Берта Бёзе ждала Густава Бёзе. Когда война подошла к концу, она находилась в Пассау, в родительском доме, совсем как в те далекие времена, когда еще не знала Густава и, согласно полученной профессии, была обречена на скучную работу банковской служащей. Но потом все изменилось, как будто она никогда и не жила мирной жизнью: в 1943 году ее призвали в вермахт[5], и она стала штабным ординарцем, это было по-настоящему захватывающе – задания на Востоке, встреча с мужчиной своей жизни, дни райского счастья в местечке под названием Дубно, свадьба в Кенигсберге. Теперь все это исчезло, словно никогда и не существовало.
[(4) «Я так тебя любила. Я могу тысячу раз повторять тебе эти слова, как бы далеко от меня ты ни находился. Я хочу, чтобы звезды сказали тебе, как я тебя люблю, как сильно тоскую я по тебе».]
Эти строки она писала спустя несколько месяцев после капитуляции своему мужу Густаву, который не вернулся с войны. С января 1945 года она ничего о нем не слышала. Как раз в это время она родила их сына Детлева. С громким криком один ворвался в жизнь, в то время как другой из нее исчез. Не было никаких известий, никаких писем, никаких сообщений от сослуживцев, не было даже извещения о смерти. Чудовище войны бесследно поглотило солдата Густава Бёзе. Берта поначалу верила, что война выплюнет его обратно. Она продолжала ждать, и маленький Детлев был живым напоминанием об их общей жизни. Она хотела по-прежнему делить ее с мужем, пусть даже его не было рядом.
Так она начала писать ему в июне 1945 года. То были любовные письма, но адреса, по которому их можно было бы отослать, не существовало, и они оставались неотправленными. Берта писала их не на почтовой бумаге – она записывала их карандашом в тетради, которую ей удалось спасти, покидая Кенигсберг. На исходе казавшегося нескончаемым дня заботливая мать в паре стенографических строчек снова превращалась в двадцатитрехлетнюю влюбленную. Она мечтала показать мужу эти письма, когда он наконец будет навсегда с ними.
[(5) «Я обдумывала и выплескивала на бумагу все мое томление, всю мою тоску о том, как бы мне хотелось рассказать ему об этом самой. Может быть, он все знает и видит меня, когда я вечерами сижу над тетрадкой, думаю о нем и пишу ему».]
В письмах в никуда Берта рассказывала Густаву о своей послевоенной жизни с сыном, который никогда не видел отца. То и дело в строчках всплывало название местечка Дубно, где они познакомились в 1943 году. Дубно – маленький городок на речке Иква в Западной Украине, захваченный вермахтом в первые же дни русской кампании. Там она провела одно лето своей жизни.
«Только не плакать!» – мысленно шептала она. Это были прощальные слова Густава перед его отъездом из последнего отпуска, но слова эти не помогали. Она смотрела на фотографию, на которой ее муж никогда не отводил от нее смеющегося взгляда. Фотография стояла на столе, она была сделана на их свадьбе в Кенигсберге осенью 1944 года. Подробности этого события она и поныне помнила до мельчайших деталей: он в серой солдатской форме, она с букетом роз, голос служащего, регистрирующего брак, – словно счастливый сон. Она до сих пор не забыла ощущение, как прохладное кольцо скользило по ее пальцу. Аромат жареной зайчатины, затем вишни, а потом они продолжили праздник вдвоем, искренне и чуточку серьезно. События словно оживали, когда она погружалась в созерцание свадебного снимка. В тот день она впервые, расписываясь, написала фамилию Бёзе, а не Прицль, и только тогда окончательно поняла, что это не сон, а реальность. В той же реальности шум фронта уже докатывался до Восточной Пруссии. Тогда она не желала воспринимать то, что уже было очевидным. Реальность ускользала и теперь, когда она у себя дома в Пассау сидела за письменным столом.
[(6) «Густи, я вообще не смею ни о чем задумываться. Я все время судорожно пытаюсь представить себе, что у тебя все хорошо, что все те ужасы, о которых я слышала, не коснутся тебя, они не могут тебя коснуться».]
Игра подходит к концу
В ноябре 1947 года в Братиславе предстал перед судом многодетный отец немецкого семейства. Его обвиняли в преступлении против человечности[6]. Ханс Элард Лудин в период с 1941 по 1945 год был представителем Третьего рейха в Словакии, где отвечал за депортацию семидесяти тысяч словацких евреев. Он успел отправить свою семью в рейх до того, как сам в апреле 1945 года, спасаясь от наступающих советских войск, бежал из Пресбурга[7] в Австрию. Вскоре после этого сдался американцам, которые на основании его показаний отнесли его к категории военных преступников.
[(7) «Ханс говорит, что его дети должны знать, что он непоколебимо стоял за свое дело. Никакого видимого раскаяния, никакого осознания вины».]
Осенью 1946 года американские оккупационные власти передали его чехословацким властям.
У Ханса и Эрлы Лудин было шестеро детей. Всего за три года до этого все они жили в Пресбурге на великолепной вилле, отобранной у ее еврейских владельцев. У четы Лудин был, кроме того, загородный дом в Высоких Татрах. Они праздновали в окружении родственников и друзей традиционные немецкие праздники. Почти до самого своего конца война обходила стороной этот уголок Европы, и семья высокопоставленного дипломата продолжала вести благополучную жизнь. Теперь же супругов разделяли семьсот километров и судебный процесс, на котором Хансу было предъявлено обвинение из тридцати пунктов. Четырнадцатилетняя Эрика писала отцу в тюрьму письма, полные тоски. Как рассказывает ее дочь Александра Зенффт в своей книге об истории семьи «Молчание причиняет боль», Эрика была его любимицей, папиной дочкой. Незадолго до того она по настоянию отца отправилась учиться в школу Салем[8].
В письмах, которые Ханс Лудин писал из тюрьмы в Германию, нет душевных излияний, признаний, печали или боли. Обращаясь к семье, он скорее пытался понять смысл того, в чем состояла его жизнь и что означало для него вероятную скорую смерть. Он хотел определить степень своей ответственности и был вынужден исходить из того, что никогда больше не встретится со своей семьей.
[(8) «Это не хорошо и не плохо, это данность, такая же, как мы сами».]
Ханс Лудин пытался сохранить лицо перед самим собой и миром. Из тюрьмы он слал Эрике нравственные наставления о жизни, горячо рассуждая о совести, прилежании, товариществе, о самодисциплине и требовательности по отношению к себе. Он предостерегал свою дочь от бестактности. Проповедь добродетели как отцовское завещание.
3 декабря 1947 года суд в Братиславе признал бывшего «представителя Велико-германского рейха» Ханса Лудина – четырьмя голосами против двух – виновным в соучастии в депортации евреев Словакии. Вместо расстрела его приговорили к повешению. На следующий день он сел за стол и написал прощальное письмо.
[(9) «Игра подходит к концу. Я проиграл и должен приписать себе этот проигрыш, так, как я это чувствую».]
Это письмо он отдал священнику, который его исповедовал. Торопливым почерком написал он обращение к своей жене Эрле, ожидавшей его писем в их поместье Шлёсслехоф в Острахе в Верхней Швабии.
[(10) «Ты знаешь мое сердце как свои пять пальцев. В нем нет бесчеловечных чувств, неспособно оно и на бесчеловечные поступки. Моя трагическая вина заключается в том, что я не смог распознать суть и загадочную подоплеку системы, которой служил».]
Соблазненный, одураченный, временно ослепленный. В прошении о помиловании Лудин ссылался на давление обстоятельств и силу приказов сверху. Он признал ошибки, но не преступления. Такова была немецкая формула ухода от собственной ответственности.
Ранним утром 9 декабря 1947 года пришедший в камеру адвокат нашел его абсолютно спокойным. Серый фланелевый костюм за несколько месяцев заключения стал Лудину велик. Через адвоката он передал последний привет своей жене. После этого палач надел ему петлю на шею и, не торопясь, затянул ее. Ханс умер после девятиминутной борьбы со смертью. Семья Лудин лишилась своей опоры.
Моряк в гавани
Над палаточным лагерем у Большого горького озера висела дневная жара. За колючей проволокой – ничего, кроме чахлого кустарника и обожженной солнцем глины. Во время прогулок по загону, как называли лагерь охранники, Вольфрам Матшос иногда останавливался, чтобы сформулировать для себя мысли, которые вечерами в палатке излагал в длинных письмах. Он наконец отыскал свою семью. Ханни, Ева и Рената находились в Нордернее, с ними все было в порядке. С Рождества 1946 года начался их обмен письмами между Германией и Египтом. Объем писем был лимитирован, и он научился мельчить так, чтобы уложить три обычные строчки в одну. Листки бумаги он исписывал с обеих сторон, часто приходилось писать даже на клапане конверта. Вольфраму Матшосу было что сказать своей жене.
Все его помыслы были связаны с моментом будущей встречи с семьей в Германии. Что ожидало его дома, где он не был уже столько лет? В мечтах он рисовал все новые и новые картины этой встречи. Десятки раз он мысленно переживал первый поцелуй, самый долгий из всех, какие только можно себе представить. В каждом следующем письме он добавлял подробности к сценарию долгожданного свидания. В одном письме это добавление касалось времени: ни в коем случае он не должен приехать в начале дня; в другом он обсуждал место: не будет ли номер в отеле слишком неуютным, или наоборот, там они смогут почувствовать себя свободнее? Важным было даже правильное освещение.
[(11) «Я приготовлю длинную толстую свечу (на самом деле, она у меня уже есть), подсвечник, и мы бы зажжем ее, и будет уже поздно, когда я скажу тебе: милая Ханни, пойдем в постель. Мы оставим свечу гореть на столе. Мы медленно разденемся, помогая друг другу, и, прежде чем лечь, мы сольемся в долгом и сильном поцелуе».]
Матшос, не скрывая, писал о телесном вожделении, какое испытывал к жене. Писал о желании держать ее в объятиях, касаться ее щек и губ, гладить ее грудь, ноги, и чтобы никакая одежда не мешала ему это делать. Вечерами он сидел в палатке и описывал свое томление. Ветер египетской пустыни гнул опоры палатки – стоны ветра были звуковым сопровождением его фантазий.
[(12) «Если в ту ночь мы сомкнем глаза, то будем знать, что нам не придется куда-то изо всех сил рваться, что этот день и эта ночь дадут нам силы преодолеть все опасности грядущей повседневности».]
Грядущая повседневность… Он знал, что после праздника свидания начнется обыденная жизнь. Но как он ни старался, ему не хватало воображения, чтобы представить себе такую жизнь. Последние семь лет у них не было этой нормальной семейной жизни. Он не имел представления о том, что происходит дома, где все так изменилось за то время, что он провел в ожидании. Что он знал о родине? Матшос умолял жену писать ему обо всем, но как мало мог он понять из ее сообщений! Он постоянно и напряженно думал об этой обычной жизни.
Нынешняя повседневность началась без него и давно. На фотографиях из Нордернея, которые он повесил над своей походной кроватью и рассматривал словно посторонний из-за колючей проволоки, были запечатлены две его дочери, выросшие без него, и жена, которая научилась сама справляться с трудностями. И было странно читать в письмах Ханни о ее самостоятельности, к которой ему отныне придется привыкать.
Непривычными были и упреки, которыми она осыпала его в письмах. Она обсуждала его манеры, писала о том, что за завтраком он всегда был поглощен чтением газет, был плохим танцором и невнимательным супругом, что уклонялся от откровенных разговоров. Она писала об огрехах его воспитания, о неверных поступках. Вольфрам Матшос даже спрашивал себя, не был ли ошибкой его брак. Война закончилась, но на родине капитан-лейтенанта ждали новые битвы.
[(13) «Когда я снова окажусь рядом с тобой, не все будет гладко до тех пор, пока я смогу снова взять на себя главную роль в семье».]
В иные вечера, когда Вольфрам не знал, что делать и думать дальше, он искал совета у товарищей. Часами сидели они вместе в сумерках под пологом палатки – Гренземан, Мейер, Шиппер, его свояк Ханс. Лица мужчин исхудали, кожа потрескалась от солнца. Семейные фотографии переходили из рук в руки. Они зачитывали отрывки из писем, которые потом использовали в своих следующих посланиях. И неизбежно приходили к главному для всех пленных вопросу: верна ли она мне? Нет ли у нее другого?
В письмах между Вольфом и Ханни Матшос он возникал постоянно. Вольф умолял жену откровенно сказать ему всю правду.
[(14) «Доставляю ли я тебе этим радость, или только докучаю, я до сих пор не думал».]
Этими словами он выпустил джинна из бутылки, ибо с того момента они уже не могли отойти от темы. Когда Ханни передала ему поцелуй от «друга дома» Новака, Вольфрам напомнил ей эпизоды с Кристель и Лидией. Он пытался скрывать свое беспокойство, но все время соскальзывал на вопросы: кто, где и когда? И между скупых душераздирающих строк, полных томления по далекой жене, мелькало раздражение по отношению к ней. 9 мая 1948 года, через три года после капитуляции, он написал Ханни последнее письмо, ибо предстояло скорое освобождение. Однако ему запала в голову одна фраза, показавшаяся предвестником несчастья:
[(15) «Меня радует только то, что скоро все это кончится и ты будешь со мной».]
В последнем письме он писал не об объятиях, а о взаимном недопонимании, дурных привычках, ошибках в их браке и о «друге дома» Новаке.
В начале июня 1948 года Вольфрам Матшос стоял на пристани Порт-Саида, египетского города в устье Суэцкого канала, готовый сесть на идущий в Европу пароход. Перед ним наконец было море, по которому моряк Вольф так давно тосковал. На набережной толпились возвращавшиеся из плена, готовые выйти в свой последний солдатский марш. Но к их радости примешивались смутные предчувствия. Они не знали, нужны ли они на родине. Матшос написал много писем и многое осмыслил. Жена его, видимо, была уже не той женщиной, с которой он простился семь лет назад. Как мог он быть уверенным, что ему понравится новая, незнакомая Ханни?
[(16) «Но, когда я снова буду с тобой, мне придется посмотреть, действительно ли благоразумие, каковое ты у себя предполагаешь, является истинным, да и мне придется посмотреть, смогу ли я, словно по мановению волшебной палочки, смириться с другой Ханни. Знаешь, если я не смогу этого сделать, нам надо спокойно разойтись, ибо это будет значить, что мы не подходим друг другу».]
Транспортное судно пересекло Средиземное море и пришвартовалось в Триесте, откуда Матшос через Альпы доехал поездом до Нордайх-Моле, чтобы сесть там на пароход, следующий до Нордернея. Ханни встречала его. Стоял солнечный день. Все время плавания они простояли на палубе, на носу судна. Странник возвратился в Германию. Здесь кончаются письма Вольфрама Матшоса его семье и начинается подлинная немецкая семейная драма.
2. Мучительный путь: первый шаг
Германия: сказка руин
Тот, кто посещал Германию после войны, оказывался, среди прочего, в роли археолога или энтомолога. На первый взгляд, страна производила впечатление муравейника, разнесенного в пыль мощным пинком неведомого великана. Среди обломков и остатков некогда искусно выстроенных переходов царили хаос и непрестанная беспорядочная суета. Те, кто смог пережить удар, находились в почти доисторическом царстве теней. Время остановилось и застыло, как заметил один англичанин, приехавший в Кельн:
[(1) «Граждане продолжали существовать на ступени низшей механической жизни, как насекомые в трещинах стены, они ползали там, стараясь быть незаметными для того только, чтобы рухнувшая стена окончательно их уничтожила. Разрушение города со всем его прошлым и настоящим – это упрек тем, кто продолжает в нем жить».]
Стивену Спендеру[9] было тридцать шесть лет, когда он писал эти строки. Спендер был британцем немецко-еврейского происхождения. Перед приходом к власти Гитлера он долгое время жил в Германии, где, словно паломник, посещал святыни почитаемой им страны. Спендер был одним из первых, кто в качестве члена Союзной контрольной комиссии[10] был направлен в разрушенную Германию для помощи в восстановлении культурной жизни. Раньше он переводил на английский творения Шиллера, Ведекинда и Рильке, теперь же восстанавливал их дома: во многих крупных городах снова начали работать общественные библиотеки. При всем отвращении к нацистскому режиму Спендер, несмотря ни на что, сохранил любовь к Германии. Нынешнее свидание с этой страной вызывало у него двойственные чувства.
Он вел записи о том, что ему довелось в те дни пережить в Германии. Он повсюду беседовал с друзьями из прошлого и новыми знакомыми, с интеллектуалами и простыми людьми. Так возникло собрание впечатлений, описаний ландшафтов, встреч и курьезов.
[(2) «Необычной в этой книге является только одна тема, имеющая, однако, наибольшее значение: речь идет о Германии после крушения нацистской диктатуры».]
Стивен Спендер писал как человек, возвратившийся на свою утраченную вторую родину, жителей которой он теперь едва узнавал.
Ни один народ в мировой истории не падал так низко, как немцы в двадцатом веке. Их государство, которому они прочили мировое господство, перестало существовать. Они перестали быть хозяевами своей судьбы; они остались голыми, без крыши над головой, без ценностей, без самосознания. Правила взаимного общежития устанавливались вчерашними врагами. Людям приходилось привыкать жить в собственном доме по чужим законам. Тяжко давило бремя поражения, к боли утрат примешивалось осознание потерянной молодости. Люди, с которыми встречался Спендер, не доверяли жизни и обвиняли в этом темную силу по имени судьба.
В курортном городе Бад-Эйнхаузен в Восточной Вестфалии располагались Британская военная администрация и штаб Британской рейнской армии[11]. Победители захватили центр города, обнесли его колючей проволокой и принудительно выселили оттуда жителей. Здесь Спендер провел первые дни своего пребывания в Германии, изысканно скучая, словно в английской частной школе. Время он убивал вылазками в окрестности, это служило целям его поездки. Он пустился в исследование душевного состояния немцев.
Не раз в связи с этим он вспоминал двусмысленность тех немецких сказок, в которых за красивыми декорациями скрывается ужасающая жестокость. Он видел детей, одетых как куколки, и дома, похожие на пряники, и поражался изречениям, которыми владельцы украшали стены своих домов: «Да подарит Бог вдвое тому, кто пожелает мне того, что хочет сам». Спендер задумывался, что могло скрываться за таким фасадом. Может быть, это страсть дьявола – цитировать святое Писание.
Это знакомое и родное, вопиюще несоответствующее чудовищным насилиям недавнего времени, встречалось ему на каждом шагу. Сидя раз на скамейке в парке Бад-Эйнхаузена, он невольно подслушал разговор двух влюбленных, обсуждавших свое будущее бракосочетание. Они говорили о том, как после венчания проведут медовый месяц. Они хотели купить «мерседес-бенц» и уехать из этой унылой Германии за границу. Было ясно, что это откровенная фантазия, но молодые люди вели этот разговор совершенно искренне, не ощущая никакой неловкости. Мысль о том, что после шести лет войны им едва ли будут рады в соседних странах, нисколько не омрачала их любовные мечты.
От одного британского офицера он слышал историю о том, как тот приказал в последние дни войны расстрелять нескольких эсэсовцев, занимавшихся грабежами и вешавших мирных жителей на деревьях. Обыскав казненных, британский майор обнаружил письма родителям, полные невинных описаний пейзажей и таких же невинных новостей. У нескольких эсэсовцев нашли альбомы, между страниц которых лежали засушенные цветы. Вперемежку с цветами были вписаны посвящения близким.
Когда Спендер во время своих встреч спрашивал, как можно соединить это с леденящей душу жестокостью совершенных преступлений, в ответ он слышал лепет о долге и повиновении. Казалось, ни один из этих людей не был готов связать свою личность со злодеяниями, совершенными им во имя долга. Зависимость эта работала и в другую сторону: чем более жестоко вели себя немцы при Гитлере, тем сильнее становилась их тяга к сантиментам. Брошенные виллы Бад-Эйнхаузена представляли собой буквально святилища чувствительности.
[(3) «Другие наблюдатели согласятся со мной, если я скажу, что никогда не видел в Германии столько сентиментальных картин, книг и стихов, сколько вижу их сегодня в занятых британцами немецких домах; вещей, оставленных обитателями: бесчисленные изображения младенцев, бабочек и цветов, бесчисленные картины ярко освещенных горных вершин и солнечных закатов, бесчисленные матери, крестьяне, хижины и огонь в очаге, бесчисленные ностальгические слезы, изречения об отце, матери, Боге и красоте».]
Романтическая изнанка души не изменяла немцам во всех их поступках и деяниях. В лагерях для военнопленных немцев процветал жанр лагерной лирики, обрамленной – в меру таланта – соответствующими рисунками. В этих стихах не звучали мотивы смерти на поле брани, ужаса ближнего боя или мук совести. Лейтмотивом, генерал-басом была ностальгия, которую пленные рифмоплеты выражали стихами под такими символическими названиями, как «Родина души», «Притяжение почвы» или «Моей матери». В одном из британских лагерей на Суэцком канале неизвестный «камрад» написал блеклыми синими чернилами:
[(4) «Ярко светит солнце, добела раскаляя песок,
Но это не солнце родины.
Луна сияет ярко и несется по небу,
Но это не луна родины.
Мысль наша стремится туда, где светит полярная звезда,
И на родину, далеко, туда, где плачет моя девушка».]
В таком сказочном мире мечты жили люди, которые совсем недавно на поле боя смотрели в глаза смерти. Во время своей поездки по Германии выросшая в Кенигсберге изгнанница Ханна Арендт[12] не смогла сказать о своих бывших земляках ничего утешительного. Уже само задание, с которым она была направлена руководством Комиссии по европейской еврейской культурной реконструкции[13], угнетало ее своей безнадежностью и бесперспективностью. Ей приходилось на ощупь отыскивать растоптанные нацистскими сапогами осколки еврейской культуры в Германии.
Ханне Арендт было сорок два года, и более пятнадцати лет назад она покинула Германию. Шесть месяцев ездила она по стране и подытожила свои впечатления и переживания в небольшой книжке. Ее «Посещение Германии» стало самым известным произведением в жанре путевых заметок о послевоенной Германии. Как и Стивен Спендер, Арендт испытывала такое же раздражение от сентиментальности немцев, с помощью которой они старались избежать скорби, боли, стыда и вины. Арендт пришла к следующему главному выводу: немцы пустились в бегство от своей ответственности.
Почти все встречи проходили приблизительно одинаково. Она не чувствовала никакой реакции на происшедшее. Ей бросилось в глаза, что нигде так мало не говорят о кошмаре разрушения, как в эпицентре самого разрушения. В отношении захоронений на месте массовых расстрелов она не заметила ничего, кроме хладнокровия. В семьях не оплакивали должным образом даже своих мертвых. Она суммировала свои наблюдения описанием картины безумия; это описание часто цитируют:
[(5) «Среди всех этих руин немцы отправляли друг другу открытки с видами церквей и рыночных площадей, общественных зданий и мостов, которые перестали существовать».]
Несмотря на то что нацистские преступления коснулись жизни каждого человека, люди прибегали к бухгалтерским уловкам, чтобы уйти от осознания. Против жертв другой стороны выдвигали счет своих жертв. Иностранное господство в условиях союзнической оккупации они использовали как предлог для того, чтобы более или менее комфортно чувствовать себя в своей новой роли.
[(6) «Дело выглядит так, будто немцы, после того как им воспретили думать о мировом господстве, влюбились в свое бессилие».]
Освобождение вызвало обморочное оцепенение. После снятия режима военного положения с его ужасами, после двенадцати лет жизни в высочайшем эмоциональном напряжении и метаниях между пафосом, эйфорией и отчаянием люди, наконец, смогли поддаться фатализму, в котором робко прорастала надежда на спокойную повседневность. Люди стремились к одному: построить дом, разбить огород и собираться вместе за ужином. Люди жаждали покоя. Они мечтали о чем-то стабильном, сулившем безопасность.
Воплощением всех этих стремлений была семья. Только она могла возместить страшные потери. Нимб семьи не потускнел от того, что национал-социалисты для достижения своих целей объявили семью «ячейкой возрождения народной общности». При национал-социализме молодые супруги получали брачные ссуды, семьям доплачивали за рожденных детей, многодетные матери получали ордена. Фюрер неизменно трепал младенцев по щечкам. Да, семья представлялась как некий непоколебимый общественный институт, существующий вне времени. Семья действовала как магнит, способный отовсюду притянуть к себе разбросанные осколки. Собственно, даже те, кто утратил родину, все еще сохраняли семью. Тот же, кто потерял семью, лишался, таким образом, всего. Семью теперь считали становым хребтом будущего общества.
Где моя семья?
Эта сила притяжения была так велика, что посещавшие Германию люди не могли ее не заметить. В городах на Рейне и Руре Стивен Спендер наблюдал сцены, которые происходили в Германии миллионы раз. Они разыгрывались в жилых районах, утративших всякое сходство с образом нормальных городов. Насколько хватало глаз, видны были лишь руины. Фасады стояли как картонные маски, закрывая пустоты в домах. Жильцы спустились в подвалы, в завалы мусора, мебели и обрывков ковров. Вонь пожарища витала над остатками мертвой цивилизации. Тучи мух жужжали над горами пепла. Не сразу, но лишь спустя некоторое время Спендер понял, почему люди не покинули эти мертвые города, чтобы в других местах начать все сначала.
[(7) «Люди оставались в развалинах своих бывших квартир прежде всего потому, что это была единственная возможность снова собрать свои семьи. Сначала семьи были разорваны войной, а потом разделением на зоны оккупации. Сегодня самой заветной, самой сокровенной мечтой простых людей Германии является воссоединение их семей. Именно поэтому они месяцами оставались жить в подвалах под остатками своих прежних жилищ».]
На покрытых копотью фасадах домов Спендер видел старые лозунги: «Наши стены рушатся, но сердца наши несокрушимы», «День мести придет». То были напоминания о царстве призраков, рядом с которыми, словно в насмешку, появлялись вполне земные надписи мелом. Торопливо нацарапанные имена: «Фитхееры: все живы». «Семья Фогель и Брайденштайн: Шёнеберг Куфштайнерштрассе, 12». «Мы ищем вас, Эрнст и Клере». То был язык попавших под бомбежку, которые телеграфным стилем извещали о жизни и смерти. Из одной надписи на стене дома в Кельне можно было узнать итог жизни семьи Пённеров: «Прожили здесь 20 лет – в счастливом браке – все в заднице – все 4 брата и отец погибли». В этих нескольких словах экзистенциальная драма. Простой вопрос солдата, который по возвращении нашел лишь скелет своего дома, читается как записанный мелом крик отчаяния: «Где фрау Брилла?»
Где моя семья? Многие люди потратили десятилетия на поиски ответа на этот вопрос. Одним из следствий немецкого способа ведения войны, приведшего страну к полному саморазрушению, был крах всех информационных каналов в рейхе. Столь отчаянное положение требовало от немцев величайших усилий по самоорганизации. Двое офицеров вермахта, прошедшие Восточный фронт и оказавшиеся не у дел по возвращении во Фленсбург, взглянув на исписанные стены домов, уловили требование времени. Курт Вагнер был математиком, специалистом по числовым множествам, а Хельмут Шельски[14] – социологом, знатоком проблем взаимодействия между людьми. Оба служили в нацистских организациях, но на сей раз им были не нужны распоряжения свыше. В центре Фленсбурга они открыли импровизированную контору, где принимали заявления о розыске членов семей от солдат, беженцев и людей, лишившихся жилья в результате бомбардировок. Эти заявления они обрабатывали в рамках своей «Программы воссоединения». Каждый разыскивающий должен был заполнить два формуляра: «Основную карту» с собственными данными и «Поисковую карту» с фамилиями и именами близких; всё это в алфавитном порядке заносилось в центральную картотеку, большой поисковый автомат. Если разыскивающий был, со своей стороны, разыскиваемым, то две карты автоматически оказывались в одной ячейке. Мать находила сына, ребенок – родителей.
Поначалу Вагнер, Шельски и их добровольные сотрудники довольствовались клочками бумаги. Но вскоре у них появились каталожные карточки, которые им подвозили ящиками, перед дверями их фленсбургской конторы выстраивались длинные очереди, а папки разбухали от документов с данными. Ежедневно выяснялись судьбы сотен семей, но каждый день приходили и тысячи новых людей. Из этой провинциальной инициативы выросла целая всегерманская поисковая машина, целый город потерянных душ. В алфавитном порядке громоздились друг на друге каталожные ящики, и в них, в этих деревянных гробиках, миллионы карточек шептали все тот же вопрос: где моя семья?
До мая 1950 года поисковая служба Красного Креста смогла дать девять миллионов ответов. И тем не менее в течение еще более двух десятилетий на страну накатывали все новые и новые волны обращений, запросов, общественных акций и собраний фотографий пропавших без вести людей, и это не позволяло забыть о проблеме воссоединения семей. Зачитываемые по радио с подчеркнутой бесстрастностью извещения о розыске близких отзывались болью в сердцах слушателей, напоминая им о хрупкости жизни. Каждое имя, каждое название населенного пункта, с потрескиванием доносящиеся из динамика, звучали как эхо войны, напоминая о том, что драма немецких семей будет будоражить людей еще долго.
Правда, это уже не касалось тех, кто воссоединился с близкими, но мечта о семейном счастье часто разбивалась уже на пороге дома. С комфортом и удобствами было покончено, о них можно было забыть – жилищное ведомство начало делить квартиры и даже целые кварталы и направлять туда жителей разбомбленных домов и беженцев вместе с детьми; всем им пришлось вынужденно устраиваться в каморках, отделенных друг от друга фанерными перегородками. По распоряжению властей люди были принудительно объединены совместным проживанием, в котором тяжело было всем: слишком мало ванных, слишком мало туалетов, слишком мало личного пространства. Прежние жильцы чувствовали себя стесненными, а вновь заселившиеся – презираемыми. Это была жизнь в тесноте. Путь домой для многих семей был долгим.
Чтобы вынести об этом собственное суждение, британский издатель Виктор Голланц предпринял поездку в разбомбленные города и лично побывал в жилищах, где теснились люди. Свои впечатления он сохранил в пронзительных записях. Семь недель осени 1945 года ездил он по британской зоне оккупации. Как он сам отмечал, это было самое длительное путешествие британца по Германии сразу после войны. С его точки зрения, ответственные лица в Лондоне бросили население Германии на произвол судьбы. Голланц, поборник защиты прав человека, был в Лондоне заметной фигурой. То, что он, будучи евреем, выступил в защиту немцев, навлекло на него гнев многих недоброжелателей. А между тем он всего лишь решил объективно взглянуть на обстоятельства. Его интересовали условия жизни немецких семей.
Будучи медийным человеком, он отлично сознавал силу образов, поэтому непрерывно фотографировал, посещая Киль, Гамбург, Юлих или Дюссельдорф. Книга, написанная им после поездки в сердце тьмы, «In Darkest Germany», впечатляет не столько текстом, сколько сотнями фотографий. На одной из них стоящий в некотором отдалении пожилой господин с венчиком седых волос, сложив руки на груди, пристально смотрит в объектив. Одинокий человек под осенним дождем на фоне развалин. Этим господином был сам автор. И ничего не нужно более для того, чтобы передать всю безутешность и безнадежность катастрофы.
В ходе своей поездки по жалким семейным жилищам Голланц обнаруживал подвальные норы, со стен которых сочилась вода; бараки без крыш; квартиры, с потолков которых, словно сталактиты, толстыми пластами свисала штукатурка; оконные проемы, заколоченные картоном. Тут и там из груд пепла торчали к небу печные трубы. На одном из его снимков изображен жилой дом со снесенным фасадом; в обнажившейся квартире второго этажа мы видим семью из десяти человек, позирующих для групповой фотографии. На другой фотографии, проникнутой полным покоем, – три семьи за деревянным столом окружили своего деда.
Там, где раньше стояли жилые дома, простиралось теперь море бетонных обломков, и казалось, что это место никогда не станет обитаемым. Протоптанные тропинки вели к временному жилью, где в одной комнатке теснились представители трех поколений. Многие дети делили кровать с братьями и сестрами или с бабушкой. Кругом царило раздражение. Кислый запах стряпни пропитал одежду. Мужчины и женщины, старики и дети вынуждены были жить все вместе в тесноте крошечных помещений. Виктор Голланц покидал Германию под впечатлением тяжелой безысходности, а не облегчения. Так начиналось для многих семей воплощение мечты о нормальной жизни.
3. Мир женщин
Конец семьи
К 1950 году понятие «немецкая семья» было полностью разрушено и сведено на нет. К такому заключению мог прийти любой, кто следил за развернувшимися в обществе дебатами. Передовицы в газетах, статистика научных журналов, а также профессиональные проповедники с амвонов в один голос отпевали тот самый общественный институт, который был избран спасителем общества. Поводом послужило увеличение числа разводов во всех частях страны. Перед началом войны, в 1939 году, на западе Германии развелись 30 000 супружеских пар, а на востоке – 14 000. Для сравнения: в 1948 году в западных зонах зарегистрировали 87 000 разводов, а в восточной зоне – 38 000. В большинстве случаев это было расторжение стихийных военных браков, которые распадались после более близкого знакомства. Комментаторы говорили: «Брак в опасности», рассуждали о «кризисе брака, куда ни глянь», кричали об «эпидемии разводов» или о «раковой опухоли общества».
Врачи, психологи, политики, журналисты и эксперты всех мастей спешили ставить свои диагнозы; находились, однако, и несогласные. Одним из них был тот самый Хельмут Шельски, который в 1945 году основал во Фленсбурге поисковую службу Красного Креста, чем помог воссоединиться миллионам семей. В дальнейшем он завершил эту деятельность, чтобы иметь возможность посвятить себя рассмотрению темы уже с академических высот. Его вера в семью была непоколебимой. В одном из своих социологических исследований он вопреки пессимистам утверждал, что вследствие военных потерь и социальной деградации семья не только не распадется, но станет крепче. В этом единении, как считал Шельски, только и смогут сохраниться последние остатки стабильности в ослабленном во всех других отношениях обществе. При этом он указывал на повторяющиеся ответы опрошенных, которые говорили, что мыслят свою жизнь только ради семьи.
Другие же считали, что микрокосм семьи находился в процессе распада. Страх перед разложением первичной ячейки государства проник и в органы власти. В этой ситуации вновь оказались востребованы и возродились общественные учреждения, которые существовали во времена Веймарской республики[15] и которые при национал-социалистах стали делать основной упор на сохранении расовой чистоты. Консультативный центр по вопросам брака в берлинском районе Шарлоттенбург возобновил свою работу уже в 1945 году. Пять лет спустя Управление здравоохранения Берлина опубликовало выводы относительно роли женщин в этом семейном кризисе. Тщательно подбирая слова, стараясь сочетать мужское сочувствие и неофициальный стиль, прусский чиновник так охарактеризовал особенности условий жизни женщин в те годы:
[(1) «Отчасти супруги оказались отчужденными друг от друга; отчасти женщины, на которых свалилось бремя содержания семьи, стали очень самостоятельными, и им было тяжело полностью или частично отказаться от этой самостоятельности после возвращения мужчин. Отчасти за время отсутствия мужей женщины обзавелись множеством друзей, чаще из экономических, реже из сексуальных потребностей, что тоже надо понять; и наконец, война, на которой убивают в основном мужчин, оставила по себе большой избыток женщин, от которых трудно было ожидать, что они в будущем сами откажутся от счастья».]
Такова была, если ограничиться несколькими строчками, драма целого поколения женщин. Могли ли они предполагать, что меньше чем за десяток лет весь уклад их жизни будет настолько выбит из колеи… Культ матери в Третьем рейхе превозносил женщину как хранительницу дома и икону немецкой семьи. Но война вынудила их похоронить свои надежды и бороться за жизнь, отказавшись от мечты, чего они сами, разумеется, никогда не желали.
Миллионы женщин вынуждены были взять на себя множество ролей одновременно. Пока мужчины сражались на фронтах, женщинам приходилось полностью нести на себе бремя забот по дому. Они должны были кормить семью, заниматься текущими делами, иметь дело с властями, вести домашнее хозяйство, сопровождать детей днем в школу, а ночью в бомбоубежище. Одновременно им приходилось изо всех сил стараться сохранить любовь к далеким мужьям. Большинство женщин при этом проявило недюжинную силу воли, которую впоследствии принято стало считать чем-то само собой разумеющимся. Женщины стали центром и опорой семьи. Но и мужья, и семьи вследствие войны стали уже другими.
Мужчина в доме
Дом был полон незнакомцами, которых берлинские жилищные власти за прошедшие два года здесь поселили. Мать смогла запихнуть Эльзу и ее детей – двух дочерей и двух сыновей – в единственную квартиру, которую никто не хотел занимать, потому что она была повреждена при бомбежке. В их распоряжении была всего одна комната и кухня – этого должно было хватить для пятерых.
Эльза с матерью и сестрой починили что могли, расчищая мусор, лежавший повсюду слоями. Под ногами хрустели осколки оконных стекол, выбитых взрывной волной, скрипели известковая пыль, штукатурка и цемент. Потребовалось не раз повторить уборку, прежде чем вода в ведре перестала быть черной от грязи. После этого они втащили в квартиру свои пожитки. Для каждого были раскладушки с соломенными матрацами, а у Эльзы была еще и спасенная пуховая перина из ее свадебного приданого. Все это втиснули в одну комнату, и Эльза, затворив за собой дверь и упав на перину, почувствовала облегчение и умиротворение. Они снова в Берлине, у них собственная квартира, и самое главное – все были живы.
Уже шесть лет Эльза в одиночку воспитывала, обихаживала, пряталась от бомб и спасала от них детей – боролась за выживание. Со своим мужем Руди после свадьбы в 1930 году они вместе пережили непростые годы: она управлялась в угольной лавке, где под ногами путались ее маленькие дети, он работал водителем грузовика на собственной транспортной фирме. Только благодаря военным планам Гитлера Руди смог воспользоваться конъюнктурой, и у него появились регулярные заказы на поставки для военных строительных площадок. Условием было вступление в национал-социалистский корпус водителей грузовиков, если кандидат не желал вступать в партию. Эльза вела домашнее хозяйство и занималась делами в лавке, а Руди зарабатывал неплохие деньги. Впервые в жизни они ощутили, что прочно стоят на ногах. Так продолжалось до весны 1941 года, когда повестка со свастикой разлучила их.
На фотографии, сделанной сразу после мобилизации, мы видим Руди Кёлера в форме вермахта – мужчину с твердым подбородком, густыми бровями и уверенным взглядом. Если бы на этом снимке была и Эльза, то Руди едва ли нашел бы в бледных чертах лица этой женщины чуть за тридцать что-нибудь кроме боли. Эльза вышла замуж по любви. Супруги были преданы друг другу всей душой, служили друг другу опорой.
[(2) «Теперь я осталась одна с лавкой и четырьмя детьми; муж пропал. Я выла дни и ночи напролет. Мне очень его недоставало. Ведь, в конце концов, мы с ним трудились вместе. Мы прекрасно ладили и привыкли друг к другу. Это было ужасно».]
Мобилизация стала пожизненным приговором для Руди и Эльзы Кёлер, ибо навсегда изменила ее жизнь и ее брак. С тех пор прошли долгие месяцы, в течение которых они с мужем либо не виделись вовсе, либо встречались лишь на несколько часов, когда у Руди были дела в Берлине. Угольную лавку пришлось закрыть, так как без помощи Руди Эльза не справлялась. Младший ребенок впервые увидел отца в возрасте трех месяцев. Эльзу ни на минуту не покидал страх в любой момент потерять мужа; он мог сколько угодно писать, что ему повезло, что он занимается только перевозками в тылу – далеко за линией фронта. Но что, если он обманывает ее или не может писать всей правды?
Больше, чем авиационных налетов, боялась она обнаружить в почтовом ящике листок бумаги, с которого на нее пустыми глазами смотрел бы орел со свастикой; рядом две скупые строчки и казенное бездушное соболезнование. Изо дня в день Эльза вынуждена была учиться сосуществовать с этим страхом.
В остальном приходилось жить тем, что у нее еще оставалось. Во-первых, была помощь от организации по поддержке солдатских жен; эту помощь нужно было распределять так, чтобы ее хватало до 15 числа каждого месяца. Во-вторых, у нее осталась семья: родители жили в соседнем квартале за углом, да и обе сестры тоже неподалеку. Они помогали, пытаясь заменить незаменимое. Часто приходила ее мать посидеть с детьми, пока Эльза обивала пороги учреждений, и сестры брали на себя разные заботы, так что Эльзе удалось понемногу выстроить некую разумную систему на том пустом месте, которое осталось после Руди.
[(3) «Я не чувствовала себя одинокой, благодарение Богу. Жизнь должна была так или иначе продолжаться».]
Самое главное же заключалось в том, что она училась принимать решения самостоятельно, не обсуждая их, как она привыкла, с мужем, который находился бог знает на каком участке фронта и не имел ни малейшего представления о том, как его жене приходилось выживать в Берлине. Раньше было бы абсолютно немыслимо, чтобы Эльза самостоятельно, на свой страх и риск, с двумя младшими детьми поехала вслед за старшими, которые из-за постоянных бомбежек были со школой эвакуированы в Восточную Пруссию. Она тащила с собой половину скарба: одеяла, матрацы, перину, кастрюли, нельзя было оставить и детскую коляску – целая транспортная фирма в лице одной женщины. В Танненберге она поселилась вместе со свояченицей, двумя подругами и их детьми в рыбацкой хижине. Трудности сплотили их, деревенские жители не скрывали восхищения четырьмя женщинами с их одиннадцатью детьми.