Читать онлайн Счастливый Цезарь бесплатно
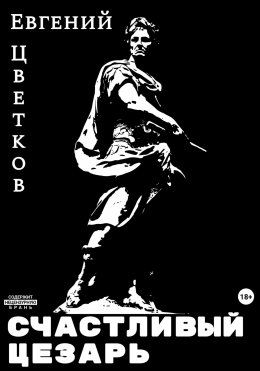
Посвящается Ольге Собинковой, жене и другу.
Счастье для одних, лето для всех.
(русская поговорка)
Человек тем от нежити и прочих в его обличье отличается, что человек – единственно кто способен быть счастливым. Бесы радуются, печалятся. Нежить горюет, веселится, но счастья человеческого они не знают. Поскольку наука в последние 200 лет призвана была всех сделать счастливыми – мое сочинение названо научным. А сказочность оттого, что герои мои так придуманы, чтобы на живущих людей не походить, потому что среди живущих я счастливых почти не встречал. Сам я, правда, счастлив был, пусть и недолго. Это знание истинного счастья помогает мне верить, что я – Человек. Впрочем, не мне судить, так ли это, однако всю жизнь я очень старался стать человеком, не давал охватить себя разочарованию жизни.
В наш век, когда сказки становятся былью, прозою жизни; а знание, еще вчера таинственное, сегодня уже доступно всем – велика надежда, что каждого из нас успеет посетить счастье. Испытав которое мы точно будем знать, что мы – Люди. Темные силы, боясь разоблачения, конечно, сильно нам в том препятствуют: что по-человечески очень даже понятно.
Глава I. Про человека разделённой судьбы
Почитать судьбу не имеет смысла. Если пренебрегать судьбой, то беды не будет.
(МО-ЦЗЫ, пятый век до Р. Х.)
Великие люди сильней подвержены влиянию звезд. На жизнь Андрея Петровича звезды слабо воздействовали. Он даже часа своего рождения не помнил: толи ночью родился, толи днем, – так что расположение светил было смазано. Судьба у Андрея Петровича тоже была никакая. Жил как все, с ним вместе родившиеся. Так, будто и не было у него своего творения жизни. Не раздумывая в отдельностях, жил всеобщностью, делил судьбу эпохи. А если и творил, то чужую мечту, не ведая про то, что творит, и ответу не подлежа особому. Служил по казённой части, одним словом, чиновником.
Редко выдавались мгновения, когда будто толчок какой в груди будил его. Тогда поднимались тяжкие веки, и озирали вокруг отвыкшие от света глаза. Очень страшно ему становилось. Поскорей душа спешила позабыться и опустить непроницаемые дню вежды, задремать привычно и сладко в своем темном обиталище. В такие дни предавался Андрей Петрович разгулу, пьянствовал и безобразил? Скандалил. А когда утомлялся плотски, то забывал себя опять.
Так, может, до конца и прожил бы он, глядя на свое дневное бытие мертвыми глазами лунатика, не прозревая истины и усматривая со скукой лишь привычные картины, если бы однажды, когда такой толчок пробудил его утром, он не увидел совсем неподалеку от себя Смерть. При свете солнышка прямо перед ним. Его сразу острым понятливым чувством так и пронизало. Горло от страха перехватило. Вцепился судорожно, что было сил, в неяркое белеющее облачками небо. “Не может быть! – прошептал. – Не может быть!! – заорал, мучаясь напряжением ускользающей жизни. А только, чего орать понапрасну? звук еще не замер – понял, что очень даже может, что так и будет, наверняка! С той же определенностью, как утро наступает или солнце закатывается. И в такой же от нас зависимости. “Какой ужас! – шептал он, осознавая в полной мере отсутствие личного бессмертия.
Прибежала из кухни жена, на крик.
– Что случилось? – спрашивает.
– Бессмертия я только что лишился, – говорит он и смотрит на нее странным взором. Она отступила назад на шажок.
– Успокойся, – говорит, – нельзя себя так распускать!
Он ее за руку хватает, стискивает руку ей больно?
– Смотри! – кричит. – Смотри! Неужели ты ничего впереди себя не видишь?!
– Ты мне больно делаешь! – вырывается жена. – Пусти сейчас же!
– Да вот же она, впереди, прямо перед нами стоит и поджидает, Смерть! – крикнул Андрей Петрович, вперяясь жутким взором в пустоту перед ним.
Жена тоже за его взглядом следует, понятно, ничего не видит, злится, волнуется.
– Ты с ума сошел, Андрей! – тоже кричит, вырываясь от него, – сейчас же возьми себя в руки!
– Трудно взять себя в руки, когда за тобой вот-вот придут, – тихим шепотом молвит Андрей Петрович. – И все кончится, кричи – не кричи, тут ты права?
– Сейчас же успокойся! – приказывает жена. – Никого тут нет!
– Неужели ты, в самом деле, не прозреваешь? – дивится он. – За тобой она ведь тоже явится, чуть попозже, а придет.
Жена от таких слов вздрогнула.
– А ну тебя, Дурак! – крикнула и бегом из комнаты. Загремела на кухне посудой.
Поговорили, одним словом, однако страх у него не прошел. И смерть не отступила.
– Как же спастись!? – тоскливо вопросил невесть кого Андрей Петрович и стал рассматривать свои руки в синих прожилках. – Как глупо! Погаснуть, даже не разглядев вокруг себя толком? Как глупо! – мучился Андрей Петрович жутким чувством бессилия перед точностью знания, и ощущал себя тающей льдинкой в океане.
Стал он вокруг себя озираться с диким и жадным чувством расставания навеки, и не узнавал жизни вокруг. Все стало таким многозначительным, оделось смыслом загадочным. И даже вещи привычные, любимые чуждо топорщились, и веяло от них враждебностью.
– Боже обратился он туда, куда никогда не обращался. – За что?
Возопил он и вдруг сообразил, что хоть и близко, а не вплотную смерть стоит, есть между ними чистое место. И полегчало на душе: не сегодня, значит, срок мой кончается. Еще придется посидеть в тюрьме жизни, – подумал он с радостным облегчением.
Смерть постояла еще недолго и отступила, так что как ни пялился Андрей Петрович, больше ничего разглядеть не мог там, впереди. Надо сказать, утомился он тоже изрядно. “Эх! Все там будем!” – умозаключил пошлой философией и отправился завтракать.
Завтракал он в это утро с особенным наслаждением и вкусом. А после, целый день очень остро, как никогда, жизнь он чувствовал, будто глядел на все при помощи иного зрения. Всякую отдельную подробность впитывал, будто в последний раз и видел. Никогда он так жизнь не ощущал, все равно что с женщиной первый раз соединялся и терял подростковое сознание.
Потом, конечно, острота притупилась, однако и позабыться, как прежде, он не сумел. Смертная греза, что в тот день подступила к самому сердцу, так и не рассеялась, притаилась в незаметном месте.
Жена возвратилась, но что-то меж ними произошло, будто легкую кисею, темную и холодную, как сентябрьская дымка, меж ними натянули? Нет! Любить он ее не перестал, и она к нему не охладела. А только не было прежней радости и утешения. В трудную минуту Андрей Петрович теперь в себя уходил, против воли одинокая охватывала задумчивость. Однако чуть оставался он наедине с собой – воспоминание хватало за душу. Душа начинала испуганно таращиться в чужую явь и не могла сомкнуть глаз. Невероятно сильное и острое чувство вновь переживал он в эти мгновения: и ужаса, и отчаяния, и какого-то дикого любопытства? Трудно описать смертное чувство у здорового человека.
“Как это я наяву все проспал, а теперь на самом краешке очнулся?!” – тосковал Андрей Петрович, страдая от бессонницы жизни. И такая его разбирала жалость, к себе, к другим, ко всему, что ползает, дышит и копошится? такая брала жалость, что начинал плакать Андрей Петрович, оплакивая все живое, весь белый свет, который во власти смерти. “Боже! Какие мы ничтожные! Какая у нас бессмысленная жизнь!”
Поплачет так, и полегчает на душе. Смерть, конечно, никуда не девалась, и ощущение от всего вокруг по-прежнему оставалось невыносимым, режущим, однако волнения того отчаяния и ужаса, как прежде, он через некое время уже не испытывал. Бывало, глядел даже с некоторым интересом на темную неизвестность впереди. “А что, разве знаем мы, что нас Там ждет? – задавался он вопросом. – Разве счастье и боль души связаны с телом? Через тело, значит, мы только с этой жизнью соединены временно. Обмокнуты в чувства и страсти, для полноты жизненного сознания?“
По прошествии времени распространилась молва среди знакомых, что Андрей Петрович малость в уме повредился, юродствует и всех, кого ни встретит – жалеет.
– Эх! – печалится, – ничего вы не понимаете! Не понимаете, что на самом деле погаснет жизни сон! И каждого освободят от солнышка и птичек!
– Мы хорошо понимаем, – говорили ему в ответ знакомые, по-дружески. – Только не принято, Андрей Петрович, смертной грезой делиться. Это все равно, что в постель к себе зазывать. На, мол, погляди, каков я в личные минуты! Хотя у тебя жена молодая… – и хохочут, зубами скалятся.
“Не те это люди, с которыми про смерть говорить”, – соображает Андрей Петрович.
– А мне все равно вас жалко! – вслух им объявляет. – И вас не станет! Кончится знакомство наше.
Ему в ответ:
– Шел бы ты подальше со своей жалостью!
Ряженые люди
Крепко задумался Андрей Петрович, чувствуя опытным нюхом Служащего человека, что неспроста, не от одной неприятности, избегают темы. “Не может такого быть, чтобы люди о самом главном в жизни своей не хотели говорить! Тут что-то кроется, тайна какая-то, про которую нельзя начать говорить, вот и притворяются. Человек больше всего разоблачения боится? Но в чем?! В чем разоблачения?! Ведь все равно помрем – чего же притворяться, будто ты бессмертный!?
Так он думал крепко некоторое время, пока совсем простая даже мысль не пришла к нему: а что если они не притворяются, а по-настоящему – бессмертные, т. е. вовсе и не люди!? Потому что всякий человек – он смертный? Он, конечно, про смерть боится толковать, но избегает разговора по-другому, не похохатывает, без злобы цинической?
Стал Андрей Петрович нарочно разговоры заводить тонкие, а сам лица разглядывает. И дивится, потому что, когда так стал он своих знакомых разглядывать по-особому и со смыслом, то совсем по-иному их увидел. Стал замечать, что многие, кого он всегда считал настоящими людьми, как-то странно ведут себя на самом деле: будто ряженые, или переодетые под человека. Стал примечать Андрей Петрович какую-то двусмысленность поведения, остроту зрачков и ухмылку в неподходящем месте. А то и откровенную злую радость наблюдал, когда она вдруг по неживому нацепленному лицу скользнет. “С кем же я имею дело, если разобраться по-настоящему?” – спрашивал он себя в такие минуты. И другое он отметил: у многих, кого раньше он и за людей не рассматривал, человеческое выражение лица появилось. Сквозь надетую масочку заведомого прохвоста вдруг светлый лик проступал. Очень дивился в такие мгновения Андрей Петрович, но сдерживал себя: служба жизни научила не поддаваться чувству.
– У кого спросить? – бессильно озирался Андрей Петрович, не доверяя теперь внешней человеческой видимости окружающих. Хоть бы знать точно, что настоящий человек с тобой говорит – тогда другое дело, – жаловался он, когда прорывалось из него накопленное молчание.
– Боже мой, кто они такие, эти, похожие на людей?! Кто они вообще такие, на самом деле?! – бывало восклицал он горестно, разглядывая людей вокруг. – “Очень даже может быть, что эти все – Пришельцы, иль Нежить, – которым просто не повезло тут, а вовсе не люди. От неудач они еще злей человека топят. Похожи! А внутрь не заглянешь: вот и неизвестно, есть там что, или отсутствует у них внутренний мир? – с неприязнью водил он глазом. – Рожи серые, а глаза совсем пустые, страшные”.
И не выведешь на чистую воду. Отмажется словесами, запутает и уйдет в себя еще глубже. Не достанешь! Чужая душа – потемки! А у этих? Вообще, не душа, наверно, а просто дыра бездонная, и глаза в точности такие – пустые. Так и должно быть, если глаза – это зеркало души, а души – нет, чему в них отразиться – лишь пустоте? Даа, странная мы причуда, – перекинулся Андрей Петрович с Пришельцев на себя. – Себя не ведаем, так сказать. Вспыхиваем этакими болезненными искорками и гаснем, так и не высветив даже краешек пустой жути вокруг. Зачем мы, крошки, вспыхиваем? – захлестывала неожиданно Андрея Петровича жалость к самому себе и людям. – Убогие светлячки в ночи. За что нас, содельников чужого сна?
Так он однажды горевал, когда совсем жуткая мысль прямо озарила морок души Андрея Петровича. “А, может, все, которые настоящие люди, просто-напросто давно спаслись. А здесь дрянь одна неведомая и неописуемая задержалась? Эпоха безлюдья пришла.’’
Сильно испугался Андрей Петрович такой мысли. “Э! погоди-ка! – одернул он себя. – Это смотря про какое спасение толк вести. Если о загробном – может, так оно и есть. Да ведь я тут хочу остаться, тут спастись, при жизни этой еще! Про такое спасение у человека, даже настоящего, спрашивать бесполезно: если и знает, все равно выразить для другого не сумеет. И здесь Андрей Петрович сделал для себя важный служебный вывод: “Так что неважно – имеются тут доподлинные люди или нет, потому что другой человек все равно про мое спасение мне не скажет. Тут надо выше брать – Ангела искать и у Ангела интересоваться!”
Андрей Петрович ищет Ангела
Такое к Андрею Петровичу пришло понимание, и стал он Ангела высматривать. А только где его сыщешь, Ангела-то, в земной жизни? Их, говорят, и на небе не так просто углядеть, если духовность неподходящая – пройдешь и не заметишь. Ну а тут, вблизи земли, одни бесы скачут; как на службе, бывало, начнет попристальней к человеку присматриваться – такая дрянь начинала мерещиться, что неудобно становилось Андрею Петровичу, глаза поскорей отводил в сторонку. Ну и, конечно, много неприятностей нажил в скором времени: не принято в жизни пристально, в упор человека разглядывать. Ведь как на жизнь смотришь, так и она взгляд возвращает: зеркало! Как ни норовись, а другим заметно твое новое видение. Начали и на него на службе посматривать: какой-то вы не такой стали, Андрей Петрович, – так говорили. Другие даже стыдить пробовали, совестили.
– Не стыдно тебе, Андрей Петрович, – говорили, – копаться в своих сытых переживаниях?! Как будто ты всех умнее и один только о своей жизни тоскуешь. Ты погляди, сколько горя на свете! Каждый день детей убивают! Голод во многих частях света и разруха! А ты только о собственной жизни и смерти думаешь…
– Так другой у меня нет, искренне удивлялся Андрей Петрович первое время в ответ. – Кроме собственной жизни и смерти, я другой не знаю. Другое дело, что мне любого человека в этом отношении очень жалко! Найди я спасение себе, я бы со всеми секретом поделился. А и себя не знаю, как спасти!
– Ты сильно изменился за последнее время, Андрей, – говорили ему в ответ, и отходили, отодвигались от него люди, с которыми служил он вместе.
– Неужели ты не понимаешь, что личное спасение – это еще не все? – возмущались другие. – Кроме личного, есть и повыше интересы!
Как ни старался, но с этими более высокими интересами Андрей Петрович все чаще шел вразрез: новое зрение ему сильно на казенном поприще мешало. Да и как не помешает, когда приказу начальства внимаешь, а сквозь надетую благообразную личину видишь откровенного беса! Приказы-то все в отношении людей издаются – вот и противоречие. “Как я раньше всего этого не замечал? – дивился Андрей Петрович. – Как теперь мне с этим жить?” – спрашивал он себя, а ответа не находил, потому что не выходило жизни в будущем, когда он туда своим новым зрением заглядывал.
От многих раздумий – большая печаль. Стал Андрей Петрович выпивать чаще, чем прежде, и при помощи простого винного средства остроту жизненного понимания притупил малость: перестал наивно удивляться по всякому видимому поводу, стал спокойней и солидней относиться к посланному ему прозрению. Однако поиска не прекращал, все время к окружающим его фигурам приглядывался, высматривая ангела. Это пристальное внимание к Другим сильно людей озадачивало. “И чего ты высматриваешь?” – спрашивали его по-хорошему знакомые. А с незнакомыми так, иногда, до драки доходило дело. “Ты чего смотришь? Надо чего?” – так его порой грубо спрашивали, заметив исходящее от Андрея Петровича назойливое внимание.
Поискал-поискал Андрей Петрович ангела в земной нашей юдоли, понятно – не нашел, и отчаялся. Господи! – возопил машинально. – Куда же идти? И тут его осенило, может, в церковь заглянуть, там поискать, где же еще, как не в церкви ангелу и ютиться. Церквей много, вот в какую зайти – вопрос! Пошел в ближайшую, ладная такая, заново подкрашенная церковка. Внутри людно, иностранцы и местные мещанки толкутся. Две из них в особенности Андрея Петровича доняли. Одна – генеральского вида баба, наглая тварь пожилая с грубым и скверным лицом, ну прямо Салтычиха, другая – подлипала, селедкой бабенка, морда щучья и голосок писклявый. Андрей Петрович по церкви пошел, ну и возле всякой иконы задерживается и высматривает ангела. Ангелы, конечно, присутствуют на иконах, только все неживые, не шелохнутся и молчат, намазанные на досках слоем краски и все тут. “Может, в воздухе присутствуют? – думает Андрей Петрович, – незримы?” Однако, если незримо и неслышно присутствие – как установить?
Пошел он к иконе Нечаянной Радости, и весь в нее проникает мысленно, уподобляя себя тому грешнику. Вот тут и заскрипели эти два мерзких голоса. Салтычиха бывалым баритоном, а вторая трубкой писклявой так и повели свою музыку: “Пришла эта Клавка, а я знаю, какие у нее намерения. Мне вся ее подноготная как на ладошке. Думает, я глупая и она меня обведет. Ей про деньги племянник мой сказал… Да я и так бы отдала, но за благодарность, а не в наглую…
– Да чистая правда, – пищит мерзко щучка-селедка. – Ты, Марья Антоновна, всегда для человека стараешься…
– Я ей сразу с порога и сказала: не туда, – говорю, – метишь, голуба…
– Ты очень прямая с людьми.
– Прямо с порога…
И так мерзко эти две талдычат, что оборотился Андрей Петрович и в них вперил. И видит: одна баба, которая Салтычиха, ничего в ней человеческого нет, так, большая толстостенная картонка с прорезями для глаз и рта. А вторая с писклявым голосом – в самом деле, щучка, но селедочного посолу. И таким духом мерзким от них понесло в его сторону, что плохо стало Андрею Петровичу. Тот, может, от отвращения и ушел бы ни с чем, однако, как нарочно, в это время к нему неожиданно поп обратился: видно, что-то в Андрее Петровиче его завлекло.
– Вы, – говорит, по какой нужде? Или так просто, интересуетесь?
Андрей Петрович на попа глядит – вроде человек нормальный.
– Я, – отвечает, – ангела ищу. Мне очень важно найти живого ангела.
– А зачем вам ангел? – натурально интересуется священнослужитель.
– Вопрос ему задать нужда во мне великая. Церковь, вроде, самое место подходящее для анеглического пребывания…
– Ангел Божий всегда в церкви присутствует.
– Вам встречался ангел?
– Нет, – честно признался Священнослужитель. – Лично не сподобился. Незримое присутствие ощущал, было такое, а так, чтобы воочию – не был удостоен.
Ну и любопытство, разумеется, берет попа, какой такой вопрос желает Андрей Петрович ангелу задать.
– Какой же у вас вопрос к ангелу имеется? – спрашивает поп.
– Как мне спастись? – отвечает ему Андрей Петрович. – От смерти, чтобы жить всегда?
– Для этого вам ангела не обязательно искать, Господь наш и Святая Церковь на этот вопрос отвечают.
– Как же они отвечают? – спрашивает Андрей Петрович.
– Основа веры нашей – сей ответ, и символ: чаю воскресение из мертвых!
Так в символе нашей веры записано. И кто душу свою ради Христа нашего потеряет, тот обретет спасение и жизнь вечную…
– Трудно человеку во все это поверить, особенно в наше время, – говорит Андрей Петрович. – Только я про другое хочу спасение узнать, как воскреснуть, не умирая. Не про загробное спасение интересуюсь я, а про тутошнее, прижизненное, чтобы не узреть смерти. Неужто так бренно все, и умрем мы неотвратимо?
– Мы не умрем, но сильно изменимся, – ответил поп. – Так сказал Учитель и Господь наш.
– Вопрос в том, насколько изменимся, – усмехнулся Андрей Петрович. – Иные люди так меняются, что становятся неузнаваемы.
– На это я вам ответить не могу, только боюсь, ваш вопрос от лукавого, потому что взыскует душа ваша невозможного для человека: мало кто сподобился живого ангела зрить воочию, – разочаровался священнослужитель в Андрее Петровиче и не полюбил его.
– У меня, вы знаете, особенное зрение развилось, – говорит ему ничуть не смущаясь Андрей Петрович. – Я многое теперь вижу совсем не так как прежде, – и смотрит прямо в лицо попу без всякой злой мысли. Ну а тот прямой этот взор Андрея Петровича по-своему переложил, нахмурился и, начертав крестик в воздухе, мол, благослови тебя Господь, отошел священнослужитель от взыскующего чиновника.
В другой церкви Андрей Петрович сам подошел к батюшке, приятный такой старичок оказался с виду, и напрямки спросил:
– Батюшка, где мне ангела сыскать?
– На небесах, сынок, – ответил ему старичок и очень даже противно вдруг усмехнулся. Андрей Петрович сразу от него отодвинулся, даже рассматривать не стал, кто перед ним, так ему неприятна стала эта ухмылочка.
* * *
Только в третьей церкви очень приятная вышла у него беседа с бабками. Те очень серьезно восприняли желание Андрея Петровича живого ангела узреть. Разволновались. “Нет, я даже и не знаю такого, не слыхивала, чтобы кто живого ангела видел при дневном свете”, – сказала одна. “Мне один раз снился и в писаниях отцов церкви есть примеры, когда во сне является ангел с мечом или так, с одними крыльями… Обязательно чего-нибудь в руках держит,” – перебила третья старушка.
Заспорили они, пока Андрей Петрович их не перебил:
– Во сне мне не надо, хотя тоже приятно, – сказал он. – Во сне себя не помнишь, а вспомнишь – растеряешься. А мне очень важную надо вещь узнать у Ангела-то.
Бабки смолкли и ждут, чего он скажет дальше: страсть хочется узнать про что Андрей Петрович собирается у Ангела выпытывать. Но Андрей Петрович им не сказал и больше не заходил в церкви, потому что понял – нет там Спасения, которого он ищет.
* * *
Сунулся Андрей Петрович к йогам, в одно, другое место зашел, где они в раздумье пребывали, сиречь в медитации, да куда там: одни бесы вокруг так и вращаются плотным кольцом, и все такие мелкие, поганые, самолюбивые, что и разглядывать толком не хочется. Может, покрупней встретился бес, так у него бы спросил Андрей Петрович про жизненное спасение: как ни крути, а тоже ангел, хоть и темный. Да не попалось крупного. Он и мелких-то больше почувствовал, чем рассмотрел.
Ходил он раза два к экстрасенсам, обращался к их сверхчувствительной силе и просил поспособствовать в общении с ангелами. И тут дело не вышло: один экстрасенс стал про перевоплощения человека толковать и сообщил Андрею Петровичу, что живет тот в последний раз на Земле.
– Удивительно! – восклицает. – У вас это последнее воплощение.
– Я это чувствую, – говорит Андрей Петрович. – Очень хорошо чувствую, потому и желаю как-нибудь спастись…
– Последнее воплощение – большая честь, – объявляет экстрасенс. – Значит, душа у вас старая и ждет ее небесное повышение…
– Мне бы земное сохранить хотелось, – бормочет Андрей Петрович, соображая, что хоть наружность у экстрасенса очень внушительная, колдовская даже, не понимает он его заботы.
Так друг друга и не поняли.
Другой экстрасенс очень красиво про Софию и Любовь говорил, однако напрямую связать Андрея Петровича с Ангелом – отказался. “Помилуйте, – говорит, как я могу вас рекомендовать, когда, быть может, вам совсем и не положено с вышней силой напрямую общаться. Вы сами должны достучаться. Сами!
Этому Андрей Петрович неожиданно поверил. К тому же от экстрасенса очень чистый свет лучился. “Может, у него мне и спросить напрямки?” – подумал Андрей Петрович.
– Послушайте, – говорит, может, вы мне заместо ангела ответ и дадите: как мне на этой Земле удержаться, не соскользнуть. Одним словом, от смерти спастись еще при жизни?
Поглядел на него экстрасенс внимательно.
– Зачем вам, – спрашивает, – тут так удержаться хочется? Там, – махнул он неопределенно рукой, – много интересней. Здесь, на Земле, только подготовка идет к настоящему…
– Неужели нет никаких средств, чтобы себя от смерти оградить? – стоит на своем Андрей Петрович.
– Странный вы, Андрей Петрович, – говорит ему экстрасенс, – не будет смерти, и жизнь пропадет. Ведь без смерти нет чувства жизни совсем… Зачем вам такое существование?
– Значит, Ангелы бессмертные, по-вашему, не Живут? – усмехнулся Андрей Петрович.
На том и разошлись, рассуждая каждый про свое, как часто бывает, если даже и настоящих два человека сойдутся.
Особое судьбинское задание
Так шло время, пока однажды, вдруг, сквозь рожу пьяницы напротив него в пивной, проступил некий образ таинственный. Андрей Петрович хоть и выпивши был, тут же обратил внимание, будто только того и ждал. И сразу же сам пьяница хрипло к нему обратился со следующими словами:
– Чего ты их жалеешь? Ты меня пожалей! Мне посочувствуй! – сипел он и пускал слюни. – А их жалеть нечего. Какие они люди?! Они ж – бессмертные! – и таким жутким смехом закатился, что Андрей Петрович обратил на него пристальное внимание. А когда вгляделся, то этот облик таинственный и проступил.
– Вот он мой ангел-хранитель, – думал он, разглядывая лицо: мешочки под глазами, щетинку седых жестких волосиков по дряблой, в красных точках коже, и нос трубчатый, торчащий влажно расширенными порами.
– Чего ты их жалеешь? – алкаш презрительно улыбнулся. – Разве люди это? Вот мы с тобой – прах! Понимаешь?! – заскрипел он зубами и придвинулся вплотную к лицу Андрея Петровича, задышал ему прямо в нос горячим нечистым запахом. – Звездный прах – сброшенный сюда, в клоаку жизни.
Андрей Петрович от дыхания отстранился.
– А ты не отстраняйся! – наседал пьяница. – Жизнь по запахам делить не надо! Она – одна и едина. Неррразрывно!!
– Я жизнь не делю, я людей различаю, – сказал Андрей Петрович, соображая как бы ему рассмотреть поотчетливей сквозь дряблое лицо светлый лик проступающий. Хоть и верил он своему новому видению, а все ж сомнение сильное его охватило как до дела дошло: “Неужели вот так просто, в грязной пивной, может светлый ангел явиться, в обличье мерзкого старого алкаша?” – тревожно пытал себя Андрей Петрович, изо всех сил всматриваясь в чудного пьяницу. Потому что одно дело в другом видеть беса, оно даже приятно, верится легко: возвышает. Мол, было время знал я его, как человека, а смотри во что превратился. Он превратился, а я – не превратился… А тут ангел, который существо выше тебя, проступает сквозь наружность неблагоприятную и хуже твоей намного”. “А как проверить?” – думал он, хорошо понимая, что другой возможности может и не представиться.
Пьяница меж тем нес свое:
– Для чего только, сброшенный, я спрашиваю? – сипел он, пуская слюни. – За каким хреном меня от звезд на грешную землю ссадили? У гадалки был. Та так и охнула. Не видала, говорит, я такого расположения светил. У вас, говорит, жизнь исчерпана для смертного человека, видно, засланы вы в наш мир с особенным бессмертным смыслом… А я и сам знаю. Ты мне, говорю ей в ответ, скажи, колдунья, с каким таким смыслом я в этой жизни нахожусь? Этого не ведаю, отвечает. Это тебе только открыться может… Вот какая каверза! только тебе, а мне не открывается! Эх! Какая мочь нужна, чтобы такое вытерпеть: знаешь, что под ногами клад, а где рыть – неведомо. Я потому и пью, если хочешь знать, – подытожил алкаш, – что не могу вспомнить… – понизил он голос до шепота горького.
– Значит, ты – Ангел со звезд, сюда скинутый по заданию?
– Выходит так, – согласился пьяница.
– А самого задания не помнишь?
– Не помню! – подтвердил алкаш.
– Слушай, – ему в ответ Андрей Петрович. – А как тебя зовут?
– Меня? Зовут?! – весь так и вскинулся пьяница. – Да кто меня зовет такого? Я сам прихожу, если вижу, что с Человеком имею дело!
– По-твоему, я – человек? – живо откликнулся Андрей Петрович.
– Поверхностно напоминаешь, а там, кто тебя знает?! Я в тебя не углублялся. А углубись в тебя – так окажется, вовсе ты и не человек, Химера или Нежить, которая снаружи вся пасется, – внутри пустая. Другое дело, если ты – Человек, тогда себя ты обнаружишь, поискав во внутренних пределах. К примеру, скажи мне, внутренний мир у тебя есть?
Усмехнулся Андрей Петрович горько.
– Покажу я тебе свой “внутренний мир”, – говорит. – Смотри! – распахнул Андрей Петрович перед пьяницей душу. – Гляди сам, есть там у меня чего или нету?
Собутыльник застеснялся.
– Да ты не стесняйся, – подбадривает его Андрей Петрович. – Плевать или сорить мне в душу не надо, а так – вот он я, весь перед тобой нараспашку…
– Видал?!
– Даа… Неприглядно.
– В том все и дело, – опять горько усмехнулся Андрей Петрович. – Вон как глазеет враждебно внутреннее мое здание. Да, я не хожу туда больше. Так, случайно, если черту переступлю, как сегодня… А думаешь, я не помышлял, не приподнимался, так сказать, над тленом? И про фею мечтал. Все думал – прилетит. Ночами не спал. Выстроил любовно сей замок воображаемый и думал простору мне не одолеть. А тут у меня раз! Как серпом и отхватило половину небесного моего окоема. Потом еще, еще! Пока владения мои с филькину грамоту не стали. Шагнешь и без всякой постепенности дали попадешь сразу куда следует: пустынь судьбы и всеобщей жизни, – красиво заключил Андрей Петрович.
– Чего ж так вышло? Кто порушил?! – стал проявлять участие пивной друг. – Неужели сам?
– Отчасти сам. Отчасти – заботы, брат! Злые настойчивые твари!
Тут их разговор как-то в сторону вильнул неожиданную.
– У тебя, небось, жена молодая, – сказал пьяница-ангел.
– Откуда ты знаешь про мою жену? – подозрительное чувство возникло в душе Андрея Петровича.
– Я много чего знаю! – загадочно и самодовольно объявил алкаш. – А! ведь угадал, молодая и хороша собой. Она у тебя в душе на самом видном месте сидит. Извини, сразу заметно.
– А что толку, если нет между нами понимания настоящего, – грустно сказал Андрей Петрович. – Приглядишься порой, и оторопь возьмет: черт знает, что она такое, это родное существо? Стихия! Стихия поглощающая.
– Это точно! – подтвердил ангел, – какая у человека жизнь, такая у него и баба: жизнь и баба – одна загадка!
В этом месте Андрей Петрович рассердился.
– Тебе, ангелу, хорошо рассуждать, – сказал он. – Ты не от мира сего, так что тебе наше человеческое горе нипочем. Ну не вспомнил задания, пожурят, как говорится, после и все дела. Так хоть знаешь, что было предназначение у тебя особое. А мне что делать, если никакой судьбы у меня вовсе не было и задания никакого: просто так родили и жил никак. Так что привлеки меня и вспоминать нечего. Просто так меня втолкнули в эту жизнь. Ни для чего! Детская мечта и морок юности, а предназначения не было и нет в моей жизни никакого, – тихо, но твердо сказал Андрей Петрович, и собеседник посуровел. – Разве я так бы теперь жил? – усмехнулся чиновник, – если бы это особенное, как ты говоришь, задание у меня было!? А я вот сколько себя помню, – ничего и не было особенного! Все, как у всех – посредственное! Разделяю судьбу поколения и эпохи. А только все равно вдруг, как накатит, – теперь он в свою очередь придвинулся и стал дышать в лицо пьянице, – как накатит тоска и тоже кажется, вроде чего сгубил, может быть, не исполнил! Что по-другому бы надо было… Вранье и мрак! Ничего не сгубил – нечего губить было: при рождении уже все было сгублено… разделили с самого начала мою особенность жизни.
Тут в разговор вступил доселе молчавший: “Что худого, – сказал он, – жить, как все люди живут. Страдания как раз и начинаются с отдельности судьбинской, когда для твоей роли жизнь не ставит спектакля. А на миру не только смерть, а и жить теплее… Другое дело, когда задание было, а не выполнил, – тут все отмазываться и начинают, мол, не было, не дали мне, заставили, как все существовать”.
– Не было у меня ничего! – стоял на своем Андрей Петрович. – Разве я так жил бы! Я человек государственный – понимаю, что такое особое задание! Может, когда как все, и легче, надежней, да только особое – оно возвышает. Я бы сразу почувствовал.
– Если б была у меня такая роль, под нее надо новую пьесу жизни ставить, неужели бы я не заметил, как все вокруг меняется?..
Говорил Андрей Петрович, а не чувствовал успокоения. И чем сильней себя он убеждал, тем меньше сам себе верил, пока вдруг не стало и ему казаться, что и у него было задание особенное, и что жизнь свою он сам загубил, побоявшись, быть может, свое истинное предназначение разведать да исполнить…
– Нет! у меня никакого предназначения не было, – тем не менее горько гнул он свое.
– Про ангелов, положим, ты мало что знаешь, – очень неприязненно перебил его пьяница, – а про судьбу свою врешь! Чтобы не отвечать.
– Может и так, – вяло согласился Андрей Петрович, вновь отодвигаясь от скверного дыхания. – Ты мне лучше имя свое назови. Какое у тебя имя? – в упор спросил он пьяницу и тут же заметил, как странная в том произошла перемена.
– Зачем тебе мое имя? – очень даже сердито спросил пьяница.
– Не знаю, – честно признался Андрей Петрович.
– Чего тогда спрашиваешь? – совсем зло крикнул ему пьяница.
Тут Андрей Петрович вроде как очнулся от наваждения. Вмиг рассмотрел грязный зальчик питейного заведения. Почуял кислую вонь и ощутил нечистоту духа. Поглядел он на рожу пьяницы пристально и диву дался, как это он мог в ней чего-то там высмотреть? Еще пристальней глянул – Господи! Да он чуть беса за духа светлого не взял. Хорошо еще вопроса главного не задал, а то и вовсе глумление могло выйти.
– А еще человеком никакой судьбы себя выставляешь! – меж тем орал пьяница, обращая на себя внимание. Окружающие одобрительно на него поглядывали и с неприязнью смотрели в сторону Андрея Петровича. – Да если хочешь знать, кто без судьбы, тот знаешь где парит?! Знаешь, какие в тебе таланты произрастали бы? Да когда судьбы больше нет, самая редкая способность в человеке гнездо вьет… А в тебе – какая редкая способность? – оглядел он Андрея Петровича злым глазом. – Зерна не сыщешь в этой куче! – совсем оскорбительно заключил мерзкий алкаш, как бы подзуживая Андрея Петровича, подстрекая к чему-нибудь гнусному в ответ. Однако Андрей Петрович сдержался. “Точно – бес!” – подумал он. – “Не надо с ним связываться”, – и отвернулся, соблюдая достоинство.
– Иди, иди, холоп эпохи! – тут же заорал алкаш, хотя Андрей Петрович еще никуда не двинулся. – Вон у тебя косая за плечами! В гроб иди! к червякам тебе и дорога!
Счастливые часов не наблюдают
Эх! поглядеть со стороны на эту убогость, на этих обрюзгших чиновников, алкаша-беса… Ну кто поверит, что эти двое, только что о судьбинском задании толковали – никто не поверит. Что и они были молоды и мечтали, и строили миры, созидали владения будущей жизни… Куда что ушло? Только груз развенчания и глухота немая, забвение – единственно что и осталось.
Кто поверит, что было, было! Никто!
Это все равно как про убийцу говорить, что и у него была мама, которая родила его. Не верится, хотя ведь точно была и, может, неплохая… Увы, поздно! И не имеет значения, было ль, иль не было – не воротить!
Ах! если бы заново прожить и жизнь иную!
Тут и подошел третий.
– Я извиняюсь, – произнес он, дружелюбно рассматривая Андрея Петровича, и пьяница тут же смолк. – Не смог удержаться. Интересный очень у вас разговор…
Андрей Петрович, только что обманувшийся, замкнулся в себе, и подошедший это почувствовал.
– Я чего стучусь, пояснил он по-простецки. – Вы, я понимаю, спасение ищете, от смерти? (У Андрея Петровича чуть дрогнул зрачок.) Это правильно, у вас еще есть время, – окинул его взором незнакомец. – Так что вам – не жалеть других, а побыстрее к спасению бежать.
– Как бежать-то? – невольно вырвалось у Андрея Петровича.
– От смерти при жизни только счастье спасает, – сказал незнакомец, лицо которого ровным счетом ничего и никого не выражало.
“Очень загадочно, – подумал Андрей Петрович. – Всякий человек обыкновенно за внешностью своей прячется, а у этого за внешностью никого нет, пустота!
– Верно! – обрадовано подтвердил пьяница. – Счастливые часов – не наблюдают! Для них время по-другому течет!
– Что такое счастье? – устало перебил пьяницу Андрей Петрович, на что человек с внешностью, за которой ничего не стояло тут же словоохотливо откликнулся.
– Счастье – это близость: любовная близость, – дообъяснил он. – Потому что какое может быть счастье в близости, к примеру, расчетливой или по насилию. Другое дело, что для бессмертия и близость требуется с чем-нибудь длительным…
– Для близости любовной, чтоб счастье испытать, и бабу надо настоящую, влез пьяница и поглядел на Андрея Петровича, и тот вновь удивился превращению: бес в наружности пропал, и просто глядело на него старое пьяное и дряблое лицо. – Об этом еще Эклезиаст тосковал. Потому за суету все и брал, что не нашел, видать, такой стоящей бабы: “Чего еще искала душа моя, – сам признавался, – и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Эх! – говорит, – все суета сует и всяческая суета”.
– Можно с Музой соединиться, – в свою очередь перебил пьяницу человек с одной внешностью, – родить бессмертные строки и в них после жить вечно. А можно с наукой сойтись и в мысли рожденной существовать, хотя и тесновато: мысль ограничена в смысле чувств. Ну а просто взыскуешь бессмертия, напрямую – полюби богиню и пусть она тебя полюбит, вступи с ней в близость и, как в мифах, возведет тебя она на бессмертный Олимп. Наша жизнь, дорогой, – обозвал он Андрея Петровича “дорогим” – мифу следует. Другое дело – какому! Потому что редкому мифу она следует редко. На время, конечно, может спасти и просто земная баба, если с ней вступишь в близость любовную и счастье испытаешь. Вот почему любовь, говорят, побеждает смерть. Но это только на очень короткое время спасение. Для спасения длительного требуется длительное счастье…
– Где же эту богиню взять? – спросил Андрей Петрович, утрачивая веру окончательно.
– Легче всего богиню среди проституток искать, – влез снова пьяница.
Андрей Петрович так и оторопел.
– Почему среди проституток? – спросил он, пораженный.
По сходству: та и другая для всеобщего употребления, и обе очень редко кого из нас любят, мужиков-то. Другое дело, что рассмотреть в бабе, да еще проститутке, богиню – не просто!
– Кто любит по-настоящему, тот всегда в своей бабе богиню видит… – возразил незнакомец пьянице.
– Вот почему любовь и побеждает смерть, – объяснил он, хладнокровно глядя прямо в глаза Андрею Петровичу. – Конечно, временно побеждает, пока богиня чудится…
Компания за соседней стойкой покатилась со смеху.
– В литературе описано, – не моргнул глазом человек с одной внешностью. – Не только любовь всегда должна быть настоящая, и полюбить вас должны именно таким, каков вы есть На Самом Деле! – внушительно и строго завершил он речь.
– Откуда я знаю, какой я На Самом Деле? – искренне и тихо сказал Андрей Петрович.
– В том все и дело! – закричал пьяница. – На других засматриваешься, а ты на собственной личности взгляд свой опробуй. Если ты эту личность в себе обнаружишь. Многие всю жизнь себя найти не могут, и нет у них ни с кем любовной близости и счастья: ни с музой, ни с бабой, ни с карьерой. А как полюбить и соединиться с потерянным человеком?
Окружающие с большим интересом прислушивались.
– И почему это ангел с бесом всегда вместе ходят?! – вырвалось у Андрея Петровича непроизвольно, потому что рассмотрел он этих двух. Дело в том, что в роже пьяницы теперь явственно обозначился светлый лик ангела, что, конечно, никак не укладывалось в пристойную картину с сизым носом и пупырышками дряблой кожи. В незнакомце, напротив того, вначале ничего не мог рассмотреть Андрей Петрович, а сейчас отчетливо бес проступил, так и высунулся из внешне вполне благообразной наружности.
– А ты философ! – заулыбался пьяница, любовно глядя. – Ты прости меня дурака, старого, что давеча в жемчуге твоем усомнился. В тебе зерна, теперь вижу…
– А это для свободы выбора, – пояснил третий. – Чтобы не было худа без добра и добра без худа… – и засмеялся.
– Значит, жизнью смерть правит, раз в жизни все так устроено, чтобы Человека до счастья не допустить, – утвердительно объявил Андрей Петрович, на прощанье.
– Догадливый ты мужик! – страшно обрадовался пьяница-ангел.
– Ищи себя, брат! – сказал бес и пожал ему руку.
– Спасибо, – поблагодарил Андрей Петрович. – Мне было очень важно все это услышать.
На том и расстались. Окружающие посмеивались.
– Ты очень хорошо сегодня выступил, – сказал пьяница третьему.
– Ты тоже неплохо, – сказал третий. – Жаль! – добавил задумчиво. – Я думал, этот чин – человек и составит с нами троицу. Но понял, что не созрел он еще для такого, чтоб меж нами посредствовать.
– Святого духа в нем недостает! – согласился старик с лицом ангела-пьяницы. – Только где же нам третьего найти, чтоб человек был? Перевелись люди, как я погляжу.
– Похоже на то, что людей настоящих нонче маловато стало, – согласился тот, который был на беса похож. И они отправились искать человека, который бы составил с ними троицу: у них были свои планы.
Магия жизни
Вот как окунешься в нашу жизнь, хлебнешь забвения в грязной пивной, а пусть даже и в чистоте, и затоскуешь, заскорбишь: Куда подевалась вся магия жизни? Где узорчатые колонны, тайные книги, ходы и зеркала… Очарование и волшебство вещей? Как получилось, что угасла тайна жизни; убогим и одинаковым серым и уродливым стали жилище, уклад и быт… Как поверить, что магия жизни вся ушла в человека, такого же серого и уродливого? Как поверить, что за этой тусклой наружностью имеется душа, в которой сосредоточился сон жизни? А снаружи осталась лишь мутная, некрасивая обертка жизни.
Катил Андрей Петрович в автобусе домой и все себя спрашивал: “Кто это такие были, эти двое? Неужели правда встретил он тех, кто отвечает на вечные вопросы? А с другой стороны, откуда в таком мерзком алкаше такие мысли. Неспроста! – убеждал он сам себя, не в силах поверить в чужие возможности, сильно выше собственных: наружность вроде та же, и пиво пьет, а, На Самом Деле, не пьяница это, а светлый ангел… Как в такое поверить?”
Даа! разобраться на деле, кто мы такие, так и в ангела поверишь: потому что разве есть в нас понятие об истинной сути. Привычка одна, тонкий такой ледок, а чуть не так ступишь – и провалился в жуть. Да если попросту задуматься уже страшно, скажем, не было тебя тыщи лет и не будет Никогда! Это ж сон какой-то получается, если начнешь вдумываться и в себя смотреть. Ну какое отношение моя поющая душа и приподнятое сознание имеют к этой плоти, втиснутой в железный гроб на колесах? Ведь мысленно я и на Луне успею побывать, пока домой трясусь в общественном передвижении. Как же это яви удается нас так запутать и привязать к себе?
* * *
Размечтался Андрей Петрович, не подавая виду, стал воображать иные жизни, картины перебирал приятные, пока ехал в плотно набитом железном автобусе в направлении своей жилплощади. Ему повезло, и он сидел. Оттого и возможность была помечтать втихомолку. Те, что стояли, тискали друг друга и осуществляли экзистенциализм: иностранную философию остроты существования. Чувство бытия у плотно стоявших было сильным. Мечта тут не требовалась.
У сидевших этой остроты, конечно, не было, но отвращение содержалось не меньшее. Вот так и катили, чертыхаясь, притиснутые, потные, сдавленные, проклиная эту жизнь… Может, среди стиснутых вынужденно в единство, были самые что ни на есть характеры: и Ноздревы, и Коробочки, и Цезари, и кто хочешь! Да только, как это проявить? Все притиснуто, нет владений, где нрав свой и чудачество можешь вещественно выразить… У всех, приблизительно, все одинаковое. А если и чудит, то скрывает от постороннего взора, свои причуды. Вещички, которые выказывают норов, в ящик припрячет, если не тот придет человек. Без внешности голенькие стали люди. Ни тебе родословной с медальками за стати и книгами породы, ни богатства, ни положения… Потому что сегодня – это положение, а завтра, глядь – ни положения, ни человека! Сгинул! И ни одна душа не полюбопытствует, куда это бывший наш Президент пропал?
Голенькие они все одинаковы. Ну, один чуть выше, другой ниже… разве это различие? Люди… И в этом смысле, Андрей Петрович, ничем от ехавших с ним вместе не отличался. Разве что по случаю ему повезло и он сидел, а не мучился смятый в проходе.
Но, если снаружи такое сходство и пригнанность, то вовсе не означает это, что под одинаковой личиной одна и та же начинка содержится. Там, за дверью души такие (у некоторых) распахиваются пространства! Такие чудные владения, что дух захватывает. Но мало кто тебя так просто к себе в личный мир запустит. Не очень-то приглашают. А силой проникать еще не научились, и мысли подслушивать не научились как следует. А в какие только размышления не пустится человек в переполненном нашем автобусе. Да для того хоть, чтоб как-то отвлечься, скрасить…
Вот и Андрей Петрович хоть и сидел с непроницаемым лицом, и лицо неприметное, и фигура средняя, а сильное движенье мысли внутри имел. “А чего? – думал он. – Почему бы мне не быть другим? К примеру, Цезарем или Понтием Пилатом? В историю войти и в книги!”
Потом мысль Андрея Петровича перескочила с личностей истории на фантастические произведения сегодня, про Пришельцев, которых от людей земных никак не отличишь. А Пришельцы эти, что ангелы, что бесы, не от мира сего существа, тем временем человеку земному всякую пакость чинят. Поумней которые, и те с ними договориться не могут. Прав мой полуангел-алкаш сегодняшний. Многие должно быть засланы в нашу жизнь с особенным заданием, но такие, как я, про то совсем не знают. А такие, как Ангел пивной – припомнить не могут вовремя, а когда припомнят, то поздно, зря лишь мучают себя… – так думал Андрей Петрович, рассматривая исподтишка людей вокруг. Были и другие мысли, однако тут объявили ему остановку. Андрей Петрович, враз соскучившись, мысли скомкал, поднялся проворно с сиденья и стал проталкиваться к выходу.
“Ишь глаза налил! – заметила одна простая баба, которую он толкнул с некоторой даже намеренностью. – А еще в шляпе!”
Андрей Петрович и правда был в шляпе. Но ничего не ответил, только зло глазом зыркнул в сторону переодетой Марсианки…
– Чего глазом зыркаешь? – с вызовом отозвалась баба. Но Андрей Петрович уже миновал ее и благополучно вывалился из железного бока катафалка. Хрустнули и с трудом закрылись двери автобуса, и этот гроб на колесах покатил дальше, а он остался на улице под темным небом. Постоял, вдохнул воздух и пошел к огромной плывущей громаде дома, светящейся сотнями окошек. Два из них принадлежали ему.
* * *
Жена его встретила любезно: по всему было видно, что ждала, была особенно красивая, смотрела ласково и требовала внимания.
“Красивая, – утвердительно подумал Андрей Петрович, – а не вижу я в ней богиню! Значит, нет меж нами этой Настоящей Любви, которая побеждает смерть! – огорчился Андрей Петрович. – Никуда бы и ходить не надо, искать. На дому спасение… если верить алкашу…”
– Ты что? Случилось что-то? – встрепенулась жена, глядя вопрошающей тревогой. – Я тебя так жду сегодня, сама не знаю почему…
– Ничего не случилось, – пробормотал Андрей Петрович, отводя взгляд.
– Мне даже неприятно стало, как посмотрел! С кем ты сегодня набрался?
– Хм! А кому приятно? – хмыкнул он неразборчиво. “Зубы у ней сильно белые,“ – отметил Андрей Петрович про себя. – Забудь! – сказал он вслух и жену свою обнял. – Слава Богу, едва добрался в этом проклятом автобусе…
– Машину нам надо, Андрюша, – сказала жена.
– С шофером, чтобы он меня из пивной довозил до дому, – усмехнулся Андрей Петрович.
– Сама привезу, была бы машина, – не спорила о пивной жена…
Он принял ванну.
Поужинали, в тишине. “Детей бы надо завести”, – вяло подумал он. – Но разве через детей спасешься?”
Включил телевизор. “Проклятые ящики, наполненные жизнью”.
– Хочешь смотреть? – спросила она.
Он выключил – изображение погасло.
– Иди ко мне, – позвала ласково.
“Готовится, – подумал. – Ну, сегодня ты моей кровушки не много попьешь, – улыбнулся ей тоже ласково. – А ведь люблю. Знаю, что по капелькам тратит, а люблю. И сладко!”
Обнял. Постояли, прижавшись друг к другу.
Потом в постели пригляделся к ней после любовной ласки. Она лежала, закрыв глаза. Ресницы темные. Тени под глазами, а черточки все облика так пронзительно обострились, прямо огонь какой-то играл у ней в лице…
“Ну, ведьма, чистая ведьма“, – вздохнул он. А она глазищи открыла, в них темно, и только глубина эта горячая.
– Ты знаешь, – сказала, – мне прямо чудилось, будто мы с тобой, а сверху еще два глаза на нас, страшные серые и холодные, глядят. Ты чего за мной подглядываешь?! – резко спросила.
– Я сегодня узнал про спасение от смерти. Смерть побеждает только любовь, – сказал Андрей Петрович, задумчиво на нее взирая.
– Значит, мы с тобой не умрем? – она сладко потянулась. – Ведь мы с тобой друг друга любим? Правда, любим?! – прижалась, однако он отстранился.
– В том все и дело, что любовь не простая должна быть. Вот ты мне признайся, как ты меня любишь?
– Да как захочешь, дурачок, – хихикнула она.
Андрей Петрович поморщился.
– Не в этом смысле… Ты меня любишь как человека, такого как я есть голенького, или со всем остальным в придачу?
– Конечно, голенького, не одетого же.
– Не шути шутки, – сказал Андрей Петрович. – Любовь должна быть только в отношении меня такого, Каков я есть На Самом Деле! А если я и сам не знаю – каков я? Настоящий-то! И потом баба сама должна быть человеком, для настоящей любви требуется и женщина соответствующая.
Жена на такие речи обиделась.
– По-твоему, – говорит, – я не настоящая баба?
– Не в том дело, – морщится Андрей Петрович и корит себя за то, что дурацкий с ней разговор затеял.
– Нет! Ты мне, пожалуйста, скажи прямо: не устраиваешь, мол, ты меня, не угодила?
– Да ты пойми, – увещевает он, – тут загадка: себя-то мы не знаем, кто мы такие? Может, пришельцы или нежить? А спастись только люди могут при помощи вот такой настоящей любви друг к другу. Для этого загадку эту надо разгадать. Вот ты, к примеру, кто ты?
– Жена твоя, глупенький, жена!
– Неет, не в том смысле, На Самом Деле, кто Ты?
– И на самом деле тоже самое, – улыбнулась она. – Совсем ты скоро у меня свихнешься. Меньше пить надо…
– А я вот не знаю, кто я такой на самом деле? Может, марсианин? Погляди, у меня глаза пустые или нет? – он придвинулся к ней и стал глядеть прямо в зрачки жены. Та даже отодвигаться стала.
– Да что с тобой? С чего они у тебя пустые? Очень даже наполненные, ты у меня умный, – погладила по щеке.
– Потому что у марсиан глаза пустые, – пояснил он задумчиво.
– Ты думаешь, есть настоящие пришельцы? – поинтересовалась жена.
– Да мы все, может, и есть самые настоящие. Пришли, только не помним себя, потом уйдем… Вот вспомнить бы, откуда мы взялись и зачем тут сидим пожизненно?
– Некоторые совсем “ниоткуда”, а “сидят” с очень даже большим удобством. Они хорошо знают “Зачем”. И за твой же счет устраиваются, пока ты раздумываешь…
– За мой счет не очень устроишься…
– Вот именно! А жаль! Могли бы не хуже других отбывать свой жизненный срок, как ты говоришь. А то, на тебе: пожизненное заключение, да еще и без удобств. Я так не хочу… Слава Богу, не чета “этим” – хорошо знаю, кто я и откуда?
– Что ты знаешь? Хотя тебе это и не надо… Стихия, прав ангел… Чем себя вообразишь такая и есть.
– Какой еще ангел?
– Алкоголический, милая, из пивной. Вот впустила бы меня вовнутрь, я бы там погулял и выяснил, какая ты, на самом деле.
– Иди, – охотно придвинулась она. – Ты знаешь, как я по тебе всегда скучаю… Можешь вообще там оставаться… – засмеялась грудным смехом.
– Да не туда. – с досадой отодвинулся, – в душу впусти меня, вот куда!
Она обиделась.
– Мне нечего от тебя скрывать! И пусть я – воображенье, твое, кстати. А и настоящая – я очень даже ничего!
– При чем тут скрывать? – отозвался он грустно.
– Нет! Ты всегда меня в чем-то подозревал…
Потом она уснула. Дышала негромко, но с силой, глубоко.
– Счастливая! – позавидовал ровному сопению молодой жены. – Здесь сладилась и шасть! К себе в уютные сновидения. Сама говорила, что ей никогда плохие сны не снятся. Одни только приятные. Неет! С такой не спасешься, – от этой мысли стало ему горько на душе. Счастливая – ей и спасаться не надо. Это у меня наяву кошмары вокруг, и в сон не спешишь, потому что тоже неизвестно, какая гадость привидится, когда соображение выключено. Как это нас выключают, в самом деле? – задался он вопросом.
Встал с постели и пошлепал в ванну. Справив нужду, помылся и обратил внимание на вид свой в зеркале.
– А глаза и у меня пустые, – умозаключил, разглядывая изображение. – Значит, и я тоже Пришелец. А не ведаю, кем и для чего я сюда заслан, потому что скверная это тайна, и не желаю ведать. Может, потому и не выносим одиночества, тишины, что в одинокой тиши начинаешь вспоминать чего-то, небось, чего вспоминать вовсе не следует. И страх ползет от потаенной мысли, что за нерадивость взгреют, что не выполняешь задания, за беспамятство, за то, что Себя не помню, не говоря про задание.
Снова улегся возле молодой жены.
– А вот она? Откуда она? Тоже, небось, заслана. Может, особенно, про твою душу и прибыла. Счастье, что и она себя не помнит, – утешился мыслью об ихнем сходстве. – Хотя, порой, так блеснет глазами, легкая жуть возьмет. Пристально так выглянет из нее совсем даже нечеловеческое… Мммда… – зевнул он беззвучно.
– Эх! – потянулся. – Лучше вспомнить бы, право! Вот оно и было бы утешение. Время есть еще, не старый. Исполнил бы, не торопясь, и восвояси. А то, чего нас засылают на эту убогую планету?! Небось, ссылка или лагерь такой особый. Со всех мест себя не помнящих сюда шлют, и сидите, голубчики, пока не припомните как следует все, чего от вас требуется!
– Интересно, – усмехнулся, – есть ли вообще Люди? Не засланные, не присланные, и без всяких особых и неособых заданий? Как разгадать? Чужая душа потемки. Если и подсветит, впустит, то неизвестно чего изобразит и намалюет. Воображение играет. Даже когда взаправду все, и то не поверишь. Спим наяву и сами себе снимся. Тут и сам черт ногу сломит…
Где же тут любовь сыскать, настоящую, к тому, чего сам не ведаешь?! Если и встретишь – мимо прошагнешь, не поймешь, что это твое спасение: настоящая любовь ведь в тебе совсем другое подразумевает.
– И спросить не у кого… – была у него последняя мыслишка. – Настоящего Человека бы встретить, тот, наверное, знает. Подсказал бы, как сегодня. А марсиане поганые с пустыми глазами разве скажут, если и ведают чего? Открутится, гадостей наговорит и сгинет, если припрешь. Да я сам первый разве признался бы кому, если бы и узнал все в точности, припомнил бы Кто я, Зачем и Откуда? Никогда бы никому не сказал. Затаился бы и выжидал, пока срок кончится… А хорошо бы было все-таки припомнить. Впрочем, надо будет – напомнят!
С тем и заснул.
Напомнили про себя через сон
Поменьше надо думать о чужом, пришельцах, Марсианах. На своем надо сосредоточивать глаз, а на неведомое не зариться. Потому что заснул Андрей Петрович, а ему тут же такая тягостная дрянь причудилась, видать, все от мыслей его накануне.
Привиделось, будто он работу, вроде отчета или диссертации, сдает. Тема работы – наше внутреннее устройство, и в особенности одна мысль подчеркивается, что, если рассматривать нас как человека в человеке – такое устройство совсем непригодное… Сдает он работу, а не принимают, никак не может с делом покончить, хотя все в порядке. Все сидящие за столом, члены комиссии на Него пялятся, к работе никакого внимания. И вроде (во сне-то) не в первый раз такое происходит.
Андрей Петрович в отчаянии. Не выдержал, говорит, мол, пожалуйста, вы работу мою почитайте, ознакомьтесь, а меня чего касаетесь? – оставьте в покое! Какое я к ней отношение имею? Вы работу судите, не трогайте, мол, меня.
В этом месте к нему человек из собрания и подсаживается, в плаще.
– Я слышал, – начинает он, поглядывая. – Вы очень сильный интерес к людям испытываете? – Да так в него и впился глазами.
– Простите, – начал Андрей Петрович. – Кто вы? и чего хотите, как говорится?..
– Да бросьте, – фамильярно отмахнулся Плащ. – Я не с тем к вам. Тут совсем другое.
– Интересовался, – подтвердил Андрей Петрович неохотно. – Только давно это было. Да и не было интереса, так, любопытство, скорее…
– А не бывало так, – спрашивает Незнакомец, – чтоб вам почудилось, будто вы – не вы, не человек?
– Бывало! – честно признался Андрей Петрович…
– …И места не находится, Личины подходящей житейской никак не нацепить, в особенности, когда с женщинами. Потому что женщина доверяет тому лицу, что в центре выбитого лужка топчется. А вы – особый, и на обочине!
В этом месте стал Андрей Петрович смутно припоминать себя: “Да я же сплю, вроде бы!” – так он сам себе сказал, но Незнакомец ловко отвлек его внимание.
– Я могу вам сильно помочь, только лучше уйти нам отсюда, – зашептал Плащ и поднялся. Андрей Петрович медлил.
– Ну что же вы?! Следуйте за мной! – приказал Плащ.
Пожал плечами Андрей Петрович и последовал за Плащом.
– Я за вами давно наблюдаю, присматриваюсь, – заговорил Плащ на улице вполголоса.
– Чем заслужил, вроде ничего не натворил я такого, за что нонче Привлекают…
– Натворить не натворили, а заслуживаете! Сам не знаю отчего, но я вам сразу поверил, – так и щупал его глазками Плащ.
– Всегда легче верить, чем подозревать. Намного проще и запоминать ничего не надо.
– Это, может, и верно, но вы порой так свободно выражаетесь… Не принято свободно, мыслишка сразу виться начинает, чего это он позволяет себе? Не по заданию ли или рука у него есть крепкая? Лучше не быть таким откровенным порой.
– Да какой я откровенный?! – в сердцах воскликнул Андрей Петрович. – Вовсе и нет во мне никакого откровения… – но вторую часть не сказал вслух, только подумал…
– Конечно, – меж тем продолжал Плащ. – Вам неудобно себя хвалить. Я понимаю…
– Да что это за похвала! Ведь человек он откровенен в двух случаях, когда дурак или себя не затрудняет…
– Вот-вот… именно.
– Чего за глупость себя хвалить?
– За незатруднение, – возразил Плащ. – Потому что Незатруднять себя – есть наивысшая, непозволительная роскошь жизни. Оттого все себя затрудняют!
– А я, по-вашему, не затрудняю?
– В том все и дело!
– И потому вы за мной пристально следите?
Плащ только головой в ответ кивнул и вздохнул.
Некоторое время шли они молча. Потом Плащ неожиданно сказал.
– Так что видите сами, как получается. Лучше всего вам себя самого объявить!
– Это как это так?! Кому, куда объявлять!?
– Смелый вы человек, – вздохнул снова Плащ. – Но только я все равно вам верю…
– Послушайте! – Андрей Петрович разозлился не на шутку. – Да кто вы такой, в конце концов?! – И взял Плаща за грудки. Человек тот был щуплый.
– Я соглядатай, – не сморгнув, ответил Плащ, и Андрей Петрович его выпустил.
– Спец Служба, значит, полиция?
– Так удобнее. А вообще, надзираю для иных миров, так сказать. Такое мне вышло задание за фигурами приглядывать… уфф! – вздохнул. – Видите, как я откровенен с вами?
– Значит, вам это надо, если откровенничаете, – усмехнулся Андрей Петрович. – Впрочем, ко мне не относится ваше задание: какая я фигура?
– Надо верить человеку, – обиделся Плащ.
– Да какой вы человек, если для других миров соглядаете?
– Нонче многие в человечьем обличье ходят, – уклонился Плащ от прямого ответа.
– Ладно! – глянул на него в упор Андрей Петрович из сновидения. – Чего вам от меня надо?!
– Надо, чтобы вы припомнили… – сказал Плащ тихо.
Спящий так и дрогнул.
– Но что? Что припоминать?! – заволновался он, сам себя не понимая.
– Видите, как вы разволновались, значит, есть что! – спокойно отметил Плащ. – А припомнить немного и надо. Только про Себя, и все дела… Кто ты, откуда и с каким заданием, так сказать, выражаясь языком следственным.
– А если не стану?
– Поможем! – оборвал его Плащ. – Но лучше самому. Когда со стороны подсказывают – нет той убедительности…
– Но за что?! За что меня?.. – недоумевал Андрей Петрович.
– Такая жизнь у Нас. Заставляет задумываться. Теперь не прикроешься ни медалькой родословной, породистость кобельков и сучек роли не играет, ни деньгой, ни положением… Так что лучше всего в точности какой ты есть На Самом Деле, таким и выставлять себя! Потому что, какой ты голенький – такая тебе и цена. Поневоле задумаешься, а?!
Кивнул головой согласно Спящий и тут же спохватился: “Как глупо! Как глупо!! Зачем я головой кивнул?!” – застенал внутренне.
– Вот видите, – удовлетворился Незнакомец и прибавил: А про какую любовь вы говорите, я не понимаю совсем, – завершил Плащ свою речь. – Такие дела. Советую не откладывать! – сказал он и распрощался с оторопевшим Андреем Петровичем за ручку. Тот потом еще долго недоумевал про любовь и до самого утра укорял себя за то, что руку подал невесть кому!
Внутренний мир.
С утра Андрей Петрович замкнулся в себе. Притворил дверцу, которая вела во внутренние его пределы перед самым носом жены, да так плотно, что как она ни пробовала, а не могла найти к нему подхода. Обиделась сильно. Потом пробовала достучаться, однако он не отозвался, даже никак не обнаружил, что слышит, как она грохочет там снаружи. Совсем равнодушно скользнул он внутренним оком по ее изображению на сетчатке глаза и отвернулся.
Здесь во внутренних пределах Андрей Петрович первым делом огляделся. Привычно пробежал мысленным взором по всем ближним пространствам, где располагались всякие брошенные недавние его начинания. Как мусор и выброшенные газеты, валялись обрывки мыслей, вяло их подтаскивали к нему, к стопам слабые порывы в душе. И так же вяло Андрей Петрович отпихивал эти совсем ему ненужные теперь мысли ногой в сторону. Ни день, ни ночь были тут во внутреннем его мире. Так, сумерки, хотя еще и не последние, когда чернота уже совсем стекается и заливает дно чаши. Солнце, надо сказать, никогда здесь не светило. Хотя, конечно, бывали светлые деньки и в душе Андрея Петровича.
Устало прислонился он к каменной стенке затверделых своих чувств и горько задумался. “Как это можно, чтобы меня полюбили таким, как я есть, если я сам на себя в упор и поглядеть боюсь?” – такой он задал себе вопрос. И этот вопрос так перед ним и нарисовался неким причудливым миазмом, прямо в застылой пустоте и провис перед носом. Отмахнулся от него рукой Андрей Петрович и обратил свой взор туда, где еще виднелись развалины когда-то выстроенного им Замка Надежды. В стенах, почти обвалившихся совсем, зияли мрачные темные дыры, которые неизвестно куда вели. Прямо за этими развалинами замыкалось очень невысокое и плотное небо: большого простора не было в душе Андрея Петровича.
Робко шагнул он в одну из темных дыр в стене и очутился во внутреннем дворе. Аллея из темных дерев вела к приземистому каменному дому. Прошел он по аллее, затем по ступеням поднялся к резным дверям и ступил в просторный холл. “Смотри-ка, – подивился, – еще что-то осталось! Не все развалилось. Только темно тут”. Стал он шарить в поисках огня, но нигде не мог отыскать спасительной искры, пока каким-то чудом не обнаружил, на ощупь, огарок свечи на каминной полке и с неимоверным трудом зажег его. Никак не хотело гореть пламя. Едва появился огонек – сразу полегчало ему и даже дышать тут стало вольготней, а зала внутреннего покоя расширилась, просторней стала и веселей.
Эх! Вспомнил он, как в юности одним только движением он зажигал веселое пламя огненное, которое так и жгло, так и сверкало всеми переливами. “Куда что ушло?” – грустно подумал Андрей Петрович. И тут услышал он, скорей даже почувствовал, легкое движение среди теней. Подумал, что это от свечи, однако свеча горела хоть и слабо, но ровно тянулся огонек кверху. Движение же было из стороны в сторону, будто перебежал кто залу и вновь замер.
– Кто здесь? – громко вопросил Андрей Петрович, и бледная почти прозрачная тень выступила из темноты и встала перед ним. Стал он всматриваться, тяжелея чувством.
– Кто ты? – наконец молвил Андрей Петрович, не в силах распознать.
– Не узнаешь? – шепнула тень. – Я твоя последняя Надежда. Остальные все давно померли. Хочешь поглядеть? – и, не дожидаясь согласия, повела за собой. Последовал за ней Андрей Петрович, ни на шаг не отставая и бормоча: мол, извини, так давно я с тобой расстался, что и не узнал: так вдруг страшно ему стало потерять ее в сгустившемся у него внутри сумраке.
Хотя вроде невелик был замок, а шли они долго по разным переходам. Вначале Андрей Петрович даже внимание обращал мимоходом на какие-то странные картины, что неожиданно выступали из темноты, на лица, про которые нельзя было сказать, живые они или мертвые… “Это память моя! – догадался он наконец. – Мы бродим в лабиринте памяти”. Когда очередное чем-то знакомое лицо возникло перед ним, он попробовал даже оживить его воспоминанием. Но лицо не ожило. “Кто это такой?” – шел дальше и мучился Андрей Петрович, однако так и не припомнил.
– Они все умерли давно для тебя, не трудись! – сказала тень, и он отвлекся, утомившись к этому времени.
Тут картины вокруг переменились. Под ногами тусклым холодом и фиолетовой гладкостью простерся лед, а стены пропали. Пустота распахнулась во все четыре предела от того места, где шел утомленный Андрей Петрович, следуя за своей последней Надеждой, как она ему про то сказала. “Разве может быть надежда – последней?” – удивлялся он мысленно. “Никогда не бывает так, чтобы никак не было. Всегда бывает так, что как-то да бывает… говорил бравый Швейк, и он был прав… – бодрился Андрей Петрович. – Хотя, смотря на что надеяться! Можно и потерять Надежду, если точно знаешь!”
В этом месте своих раздумий он обратил внимание, что лед был непростой. В нем, как будто в стекле, были вморожены самые разные фигуры и даже целые представления, картины. “А это что такое?” – воскликнул Андрей Петрович, пугаясь, потому что высмотрел совершенно явственно, например, голую женщину у себя под стопой и даже, как ни странно, тут же ее вспомнил. Именно в такой позе… И сообразил в одно мгновенье: “Господи! Как ужасны охладевшие чувства! Неужели они все тут покоятся?! – подумал и стал озираться Андрей Петрович.
А Надежда торопила. “Поздно внимание тратить, – сказала она строгим голосом. – Их не растопишь, не разогреешь!”
– Куда ты меня ведешь? – воскликнул Андрей Петрович, все сильней ощущая преследующий его Страх. Он уже несколько раз оборачивался, и хотя разглядеть пока ничего не мог – чувствовал Присутствие позади нагоняющего Ужаса.
– Сам знаешь куда, – ответила тень.
– Ты же знаешь, что меня все время преследует страх! – он вновь обернулся. – Я боюсь этой встречи с самим собой, Настоящим…
– Поэтому я и последняя твоя надежда.
– Значит, и ты меня скоро покинешь:
– Или – осуществлюсь, – усмехнулась тень…
– Как беспощадно устроена жизнь! – сказал Андрей Петрович.
– Для тех, кто ищет спасения – какая может быть пощада? Пощада сродни ласковому вранью. А тебе зачем это? Ты себя высоко мнишь!
В это время они как раз шли по просторному кладбищу.
– Узнаешь? – спросила тень. И Андрей Петрович оторопело огляделся. Совсем запущенные в беспорядке теснились могилки. Некрасивыми кучками сухой землицы. На многих даже не было никакого знака. Хотя везде торчали пусть и криво, вбок кресты, большие и маленькие.
– Вот оно, кладбище твоих былых надежд. Как видишь, все похоронены и на каждой из них ты поставил Крест. Недаром чиновником служишь – аккуратный, – сказала ему Надежда-Тень.
Андрей Петрович меж тем нагнулся и попробовал разобрать написанное на одном приличного размера памятнике с крестом, – и не смог прочитать.
– Неужели я даже не помню собственных устремлений?
– Оставь, – сказала Надежда. – Что похоронено – не оживишь! Тебя впереди ждет живое, а мертвые пласты ворошить – себе дороже!
– Обнадеживаешь… – сказал Андрей Петрович, однако последовал за Надеждой-тенью, которая к этому времени окрепла и сильно сгустилась и уже не напоминала тень, а выглядела довольно плотно и привлекательно. Так что Андрей Петрович стал присматриваться, по-прежнему не отставая ни на шаг, уже совсем с другим интересом. В одном месте, там, где дорога пошла вниз, а после вбок и неожиданно сузился проход, он протянул руки и полуобнял свою Надежду, с удовольствием ощутив при этом ее согревающую теплоту.
– Постой! – сказал Андрей Петрович. – Погоди маленько, куда спешить. Дай мне хоть обнять тебя и согреться немного.
Она позволила. Андрей Петрович прижался и такую горячую телесность ощутил, такое жаркое тепло, что стал руками водить и полез сразу во все места. Сильнейшее при этом ощутил он желание. Она заметила, почувствовала (да и как было не почувствовать, весь его срам так и выставился наружу).
– Ты с ума сошел! – отстранилась она строго. – Хочешь собственную Надежду вы…ть!
Его как ледяной водой обожгло от такого грубого злого слова, и в нем, конечно, как в любом человеке, разом все и опустилось.
– Ну, успокойся! – обняла она его и утешила ласково. – Нельзя же так. Недалеко идти, а ты разволновался. Не надо спешить. Дойдем, там ты меня и осуществишь. Вот уже насладишься, если душенька твоя пожелает… – так она его утешала и торопила. Андрей Петрович сильно, однако, засомневался в этом месте и шел неохотно, пока не рассудил, что в конце концов так и должно, видимо, быть, и нельзя сразу исполнить желанное, как только захочешь. Надежда времени требует…
– Пришли! – раздался ее голос, и он поднял глаза, устремленные до того на дорогу, и поразился.
– Это же тупик! – воскликнул он, потому что они, в самом деле, зашли в тупик. Оборотился он назад, и там все завалено и пути нет.
– Куда ты меня привела, последняя моя Надежда? – горько возопил Андрей Петрович.
– Я привела тебя к самому себе, – сказала она. – Разве ты не стремился к тому?
– Я думал найти выход, а здесь тупик, – воскликнул Андрей Петрович. – И себя я плохо чувствую!
– Тупик, да не совсем, – сказала Надежда. – Однако я тебя должна здесь покинуть, – сказала она и стала таять.
– Как так, покинуть?! – Закричал он, а только кому кричать, когда ее нет уже, Надежды-то?
– Моя последняя надежда и та растаяла, – сказал Андрей Петрович. – На что же я, дурак, рассчитывал? Как глупо! Надеяться на то, что все не так, как есть, а много лучше… Как глупо! Вот я и в тупике… – такой произносил он монолог, соображая меж тем, как же ему выбраться отсюда. И ничего не мог придумать, потому что выхода не было. Сжалась его душа, и куда ни обращался Андрей Петрович, везде его встречала стена. “Не прошибить! – горько прошептал он. – Хоть в лепешку расшибись – не прошибить!”
Тут взглянул он сам на себя и увидел мерзкие зеленоватые щупальца, которые так и вились вокруг, сжимали грудь и теснили дыхание. Вмиг почувствовал он всю силу охватывающего его отчаяния. Прямо на его глазах удушающая сила так и сжала ему горло. “Нет! – заорал Андрей Петрович, сопротивляясь изо всех сил. – Не поддамся! – и не без труда, последним усилием отодрал от себя липкую извивающуюся гадость. “Боже! – возопил. – Помоги мне! – и обратил взор ввысь. И видит, там появилась и возвращается к нему Надежда. Потянулся он к ней изо всех сил и руками стал цепляться. Она спустилась к нему. Судорожно схватился он за нее обеими руками, прижался к ней Андрей Петрович и шепчет: “Не покидай! Утешь меня!”
И Надежда его утешила. Сильнейшее чувство испытал он от этого соединения.
– Вот и исполнилось, чего ты хотел, – сказала она ему грустно. – Теперь-то я точно тебе не нужна.
Превращение
Андрей Петрович, все еще переживая чувство, оправился, глянул на свою Надежду совсем другими глазами и поразился: такая она была раньше привлекательная, а тут совсем уродиной стала, постарела и всякую для него привлекательность потеряла.
Отвел он от нее глаза, и видит, впереди засветилось что-то. “Вот он выход!” – воскликнул Андрей Петрович и кинулся туда, откуда ему засветило. И видит перед ним прямо огромное зеркало. И в этом страшном Зеркале Души он увидел себя таким, каков он был На Самом Деле. И даже дыхание у него перехватило. Странное и страшное на него смотрело существо из глубины, в которую завела его последняя Надежда и там овладела им в минуту отчаяния. Маленький карлик с худосочным обросшим волосами низом, где болтался отдельно солидного размера детородный член. А выше пояса совсем детское шло тельце, которое увенчивалось двуликой головой. Один лик был справа, а один слева, как будто лицо составлялось из двух половин совсем непохожих друг на друга и едва ли совпадающих даже. Потому что левая половина была женская, а правая мужская. Когда же поворотился Андрей Петрович боком, то увидел, что и голова у него совсем необыкновенной формы, бобом, и с очень маленькими прижатыми ушками.
– Какой ужас! – воскликнул Андрей Петрович и в гневе обратился к тому месту, где лежала оставленная им Надежда. “Так вот оно, твое осуществление!” – крикнул он и стал бешено эту надежду свою топтать. Пока совсем не растоптал – не успокоился. Когда же притомился и глянул себе под ноги, и увидел, что он натворил – страшно присмирел Андрей Петрович.
– Что же я натворил такое! – прошептал он и с опаской поворотился к Зеркалу Души своей.
Да только в том месте, где зеркало – ничего нет: пустота образовалась. Тут скосил глаза на самого себя Андрей Петрович и понял, что виденное им на него перешло, что он и стал тем самым уродом из стекла. Ощупал в испуге он свои ноги, болтающийся срам… “Чем бы прикрыться?” – подумал и вдруг почувствовал, как его начинает охватывать в это время незаметно подкравшийся к нему ужас. Темным воздухом струится по коже и проникает внутрь. Как мог стал бороться Андрей Петрович, а страх уже в нем поселился, изнутри пожирает. Только мерзкие звуки чавкающего кошмара виснут в воздухе. От этого всепожирающего Ужаса так сжалась душа Андрея Петровича, что не помня себя он кинулся вперед, в пустоту, чтобы хоть как-то спастись от стискивающей его каменной безнадежности…
И очутился снаружи, за столом у себя в кухоньке, с яичницей в зубах и женой, которая по-прежнему стучалась к нему.
– Ага! – воскликнула она. – Наконец-то ты соизволил обратить на меня внимание. – Боже! – вдруг отшатнулась она, разглядев его. – Во что ты превратился?! Какой ужас! Что ты с собой сделал?
А он на нее глядит и видит, что она-то тоже преобразилась у него на глазах, и вовсе не человек, а так, что-то вроде кошачьего существа в платье с выставленными наружу прелестями. А вместо лица – птичья морда с острым клювом: вот-вот клюнет. Тут вышла меж ними безобразная сцена.
– Ты лучше на себя посмотри, – говорит он ей. – На что ты похожа!
– По-твоему, я вообще животное?! – в гневе воскликнула жена.
– А кто же ты еще, – говорит он в ответ. – Теперь я вижу отчетливо, с кем я жил все эти годы!
– Ах вот как! Ты с животным жил, а я? Я жила с этим мерзким ничтожеством! С этим грязным похотливым уродом! – и лапкой своей с острыми красными когтями в него тычет.
– Вижу, не нравлюсь я тебе, Настоящий, – говорит спокойно так ей в ответ Андрей Петрович.
– Да какой ты настоящий?! Настоящие они о жизни думают, сейчас только жить начинают. Им некогда о смерти думать. И мир у них – настоящий, живой! не твой – внутренний!
– Мерзавцы жить начинают, а не люди!
– Да ты им просто завидуешь, – так и обдала его ядом жена. – Они – могут! А ты – нет!
– Вот ты и найди себе такого способного.
– Найду! – зловеще произнесла жена и, надо сказать, вскоре свое слово сдержала. А в конце этой сцены она вскочила и бегом в спальню. Дверью хлопнула и зарыдала.
– Да что же это такое?! – слышит он. – За что?! Ненавижу! Ооох! – орет и причитает. – Что же с тобой сделали, жизнь моя?! Откуда взялся этот мерзкий урод?
Стало Андрею Петровичу очень любопытно, к кому это она обращается. Пошел он в спальню, дверь открыл и видит – обнимает жена мертвое евойное тело, каким он был до своего превращения. Заливается слезами, от рыданий заходится и кричит: На кого ты меня покинул, любимый мой?!
Усмехнулся Андрей Петрович при виде такого, беспощадными глазами на нее смотрит и говорит:
– Вот и оставайся со своими трупными чувствами. Теперь вижу ясно – ты никогда меня не любила таким, каков я На Самом Деле! Тебе вот этот кусок благообразного тела дороже был моей душевной сущности…
– Хороша у тебя твоя душевная сущность! – так и зашипела она ядовито. – А еще меня животным обзывает! А ты, разве любил меня? На самом деле?!
– Вот и поговорили! – спокойно ей в ответ Андрей Петрович. – Теперь у меня хоть сомнений не будет, – и вышел от нее, дверь прикрыл без звука и хлопанья. Она там злобным визгом залилась и в дверь как пустит чем-то тяжелым. “Лампу разбила, дура!” – подумал Андрей Петрович и отправился в прихожую. Тут часы начали отбивать время, и он заторопился. Надел пальто, шарф замотал, шляпу и в зеркало на себя глядит. А там, конечно, жуткий карлик на него сразу двумя половинками лица так и пялится. “Какой ужас! – затосковал и заметался Андрей Петрович. – Как в таком виде показаться людям на глаза? Хорошо, хоть срам прикрыл, а то совсем неприличие одно… Может, не идти?” – мелькнула мысль, но такую мысль он тут же отбросил в сторону. “Если сейчас рубикон не перешагнуть – надо вешаться! Когда Это все пройдет. Тьфу!” – плюнул Андрей Петрович и поспешил от зеркала наружу в тот мир, где располагалось Учреждение, в котором он служил.
Сослуживцы
Влез Андрей Петрович в служебный автобус и, присев на заднем сиденье, огляделся. “Боже!” – поразился он в который раз и одновременно сильно приободрился. – Ну и уроды!”
Так воскликнул он беззвучно, рассмотрев тех, кто сидел с ним в одном экипаже.
В свою очередь, сидевшие с ним рядом тоже скользнули по нему взглядами, и у некоторых в глазах кое-что промелькнуло. Однако вмиг исчезло, если и отразилось у кого живое чувство. “Тоже приметили, – подумал Андрей Петрович, – но не все. Видать, кто про свое уродство знает, тот и в другом видит отчетливей, – догадался он. – А, может, и не так. Хорошо бы спросить кого, да неудобно… все равно, что про горб у горбуна выведывать…”
Тут бы Андрею Петровичу посовеститься, однако жажда знания его обуяла: видят они меня так же как я их или не видят? – горел он любознательным пламенем. Эх! Была не была, – решил Андрей Петрович и, переступая границы приличий внутри себя, подсел к своему сослуживцу – упырю, которого до сих пор знал, как человека порядочного. Тот покосился и хмуро кивнул в ответ на приветствие.
* * *
– Ты что такой мрачный? – спросил Андрей Петрович, для начала разговору. – Выглядишь вроде замечательно, а лицо тучей?
– Я не мрачный, – ответил упырь-сослуживец. – Я задумчивый… А выгляжу хорошо так, потому что приболел. В гробу вообще расцвету.
– Ну а я, как тебе сегодня кажусь? – прямо без обидняков спросил его Андрей Петрович. Сослуживец посмотрел на него равнодушно и ответил:
– Как вчера, так и сегодня ты мне кажешься, – и отворотил лицо в сторону.
– Неужели никаких ты перемен во мне не видишь? – стал допытываться Андрей Петрович от упыря-сослуживца правдивого мнения.
– А что, есть перемены? – усмехнулся, поворотив свою упырью рожу, сослуживец. – По-моему, ты всегда так выглядел, как сегодня. По крайней мере, для меня.
“Вот свинья!” – подумал Андрей Петрович, но не обиделся.
– Мы ж друзья, – тихо сказал он так, чтобы другие не слышали, – потому и спросил. Считается, что мы все люди, ну а взглянешь попристальней – порой такое углядишь.
– Ну и что ты во мне углядел? – поинтересовался сослуживец.
“Эх! Была, не была,” – подумал Андрей Петрович и возьми да ляпни:
– Ты сегодня прямо упырем выглядишь, – сказал он, – я даже забеспокоился.
Сослуживец повел в сторону Андрея Петровича глазом и спокойно ответил:
– Не знаю, может, я и кажусь тебе упырем, лично я себя за человека считаю, – сказал он. – Хотя, конечно, на нашей службе нетрудно кем хочешь стать…
Так он ответил, и Андрей Петрович понял, что сослуживец его не видит, а воспринимает по привычке. “Вот оно что! – вмиг озарило Андрея Петровича. – Других видит тот, кто себя видит!”
А сослуживец как-будто догадался о чем-то.
– Я не советую тебе, Андрей Петрович, – сказал он и снова повел набрякшим глазом, – разглядывать чужие обличья и сущности, не принято! Мы – чиновники жизни, в особенности должны стеречься и вершить дела, не взирая на лица. А сущности выяснять человеческие – это не наше дело! – повторил он снова и отвернулся от Андрея Петровича, тем самым, показывая, что больше говорить про это не желает.
– Это верно, – примирительно стал бормотать Андрей Петрович. – Не для того мы поставлены… у нас дела бумажные…
– Вот именно! – глухо отозвался упырь и смолк окончательно.
“Значит, это лишь мне мерещится и видится всякая чертовщины в себе и других! – осознал Андрей Петрович. – А все, что тут едут, может, и понятия про свою личность не имеют, не то что мою. Повеселел он, и совсем иным глазом легонько повел по сидевшим вокруг него, удостоверяясь. Страшное собрание ничтожнейших тварей ехало с ним в одном железном гробу на колесах.
“Ни одного человеческого лица!” – поражался он снова и снова, забывая про свою собственную двуличную ничтожность. “Что это за особенное собрание такое”, – дивился он, не переставая. Только у одного из них, у маленького лягушачьего вида человека, в черном плаще, вдруг смигнул один глаз, и в зрачках вспорхнуло птичкой любопытство, когда встретился с ним своим взором Андрей Петрович. Однако Андрей Петрович тут же глаза отвел.
Так, всю дорогу, пока они тряслись до места Службы, исподтишка, с превеликим интересом рассматривал Андрей Петрович обличья своих сослуживцев, сам защищенный их слепотой.
А и в самом деле, очень причудливые с ним ехали фигуры. У многих вообще ничего от человеческого не осталось под взглядом Андрея Петровича, так, скажем, огромная вша вместо человека или таракан с усами. Были и составные, как Андрей Петрович, наружности. Только у Андрея Петровича вдоль две личности были сложены, а тут поперек или наискось. Одна рука человечья, а другая лапа лапой, так и загребает, а сама личность пущена справа налево наискось вниз, этаким зигзагом… Что их всех роднило – это ничтожность размера в сравнении с человеческим. Допустим, по наружности вша была огромной, если с обыкновенной вошью сравнивать. В отношении человеческой величины настоящей – фигура была карликовая.
Надо сказать, упырь был большого размера и отличался от других, так что Андрей Петрович в его сторону избегал глядеть. Было несколько дамочек, которых раньше Андрей Петрович всегда рассматривал с теплым мужским чувством. Сегодня, он с трудом узнал их в маленьких злых кошачьего вида фигурках. “Не туда ты раньше глядел, Андрей Петрович, – укорил он себя. – Не то и видел…” – добавил с грустью, припоминая собственную жену и то, во что она превратилась теперь…
Тут они, впрочем, прикатили на место, и Андрей Петрович сосредоточился на ином, казенном интересе. Отвлекся от разглядывания своей личности и личностей окружающих.
Судьбинское учереждение
Уселся Андрей Петрович за свой стол и преобразился: стал выше ростом и грозней лицом, в особенности, одной его половиной. Вместо поганого приказного закутка открылся вид: дорога и Андрей Петрович – Страж этой жизни начал вершить судьбы Прохожих людей.
Служил Андрей Петрович в учреждении, куда сходилось много разных судьбинских человеческих дорожек и тропинок. Многие жизненные пути так прямо и вели в это учреждение, если, конечно, хотел человек чего. К примеру, за границу выбраться или получить себе место под Солнцем получше да попросторней.
А стол Андрея Петровича так тот прямо на самом перекрестке был установлен, где разные судьбинские тропинки и дорожки сходились и дальше уже превращались в протоптанную, набитую дорогу.
В сущности, людьми Андрей Петрович и не занимался, а глядел на бумаги, которые обыкновенно проситель держал в руках. Смотрел внимательно, верны ли подписи и обстоятельность Прошения – выправлена ли. А на лицо человеческое, так мельком разве что взглянет, да тут же глаза и отведет. Впрочем, и смотреть было не на что. Приятных и Человеческих в высоком смысле слова лиц попадалось до обидного мало.
Однако сегодня он стал особенно жадно вглядываться в приходящих и обращающихся к нему. Вглядывался и поражался – будто впервые видел – какие уроды тянулись, совсем на людей похожие. Хотя бумаги – чин чином, все как надо, по-людски, выправлены.
“Чудеса!” – про себя дивился Андрей Петрович. “Где же настоящие люди и почему они сюда не обращаются? Неужели Настоящему Человеку ничего от нашего Учреждения не надо? Не может такого быть: у всех имеется нужда и в месте под солнышком, и в радостях земных. Так он раздумывал, неслышными пальцами души перебирая мысли, а сам непроизвольно и скорей по привычке служебной отмечал разные виды наружностей среди проходивших мимо. В основном шли, конечно, люди мелкие. Кто повидней да покрупней, небось, другими путями пользовались, напрямую, не заходя к Андрею Петровичу. А тут, в большинстве это были разные жуки и жучки, пронырливые твари (сейчас в особенности всю их подноготную отмечал усовершенствованный глаз Андрея Петровича). Снаружи модным пальто или жакетом прикрытые, припудренные, если самочка, а то и в шубах таких, что и жена министра себе никогда не позволит… – внутри этого пальто иль шубы всего лишь хищные членистые существа разного калибра и стати, разумеется, однако юркие и беспощадные, как все насекомые. Андрею Петровичу, впрочем, и новое видение его не больно нужно было: этих он знал по большому опыту Службы и видел во множестве. Другое дело, что раньше лишь ощущал он чувством, сейчас просто видел глазом, что упрощало отношение.
* * *
И все эти жучки хотели одного: жить, как Люди, в этой жизни. Про то и бумаги у них просили. Просили человеческих должностей, места человеческие делили между собой, человеческого домогались жилья и даже разрешения просили быть похоронену на кладбище, которое ближе к Центру, где именитых и важных людей хоронили. Просили дозволить и разрешить, и не препятствовать в ихнем шустром и самом разнообразном жизненном занятии человеческих мест и возможностей. Они на все были согласные, и Андрей Петрович бумаги проверял только для вида, потому что уверен был – формула и знаки соблюдены. Эти просители на волшебное “сезам откройся” – не рассчитывали.
Другая большая, еще большая часть приходивших к нему, были Кляузники. Которые для себя лично в общем-то и не просили ничего и никуда дальше его стола не шли и не стремились. Их цель была в том, чтобы Другим Не Дать. Какую они от этого радость испытывали или пользу для себя извлекали – одному Богу известно? Странное дело, среди тех, на кого эти Кляузники заявляли, жучков почти не было. А писали они про каких-то совсем неведомых Людей, которые даже и не понятно чем занимались и в чем провинились перед другими и жизнью?
Если жучки хотели воспользоваться человеческим, всем какое оно ни было, Кляузники, напротив того, желали лишить, страстно хотели, чтобы ничего человеческого вокруг них не было. Пристально рассматривая сегодня их уродливые тени в профиль, – профиль живой и мертвый (среди кляузников были покойники, еще отбывавшие свой судьбинский срок, эти с особой злобой влачили бренное свое существование).
Притащился старый леший, который требовал возмещения убытков, которые он потерпел от лесорубов. Целой толпой пришли какие-то ну прямо животные, которые требовали себе защиты от уничтожавших их людей.
Андрей Петрович, располагая теперь точным взглядом на людей и вещи, не спорил, бумаги брал и отправлял их по протоптанной дороге дальше. Обрадованные открывающимися возможностями нового просторного и натоптанного пути, просители благодарили и обнадеженные уходили, не замечая усмешки во взоре Андрея Петровича, который хорошо знал, куда, На Самом Деле, ведет этот путь. “Удивительное дело, – бормотал он себе под нос, – почему никто за Людей не просит? А сами Люди не обращаются, не приходят сюда?”
Пока он так думал, глядь, идет мужичок к нему. Невысокого росточку, крепыш. Увидел его Андрей Петрович и сразу признал – не местный, издалека мужичок. Местный не пошел бы сюда. Мужичок меж тем шапку снял свою, поздоровался и, поблескивая глазом хитроватым, объявил:
– Я в отпуск сюда приехал, – говорит, – заодно и дело свое разрешить. Писал в разные места – не отвечают. Верней, отвечают, да по-казенному, не по-людски.
– Какое вас дело привело? – вежливо его Андрей Петрович спрашивает.
А тот ему в ответ на “ты”:
– Слушай, – говорит, – Служивый, – ты закон Паскаля знаешь?
“Безумец! – тут же подумал Андрей Петрович. – Не похож, однако, на “чайника”, глаза разумные…”
На всякий случай ответил с осторожностью:
– Вроде бы помню, а там кто его знает…
– Да по физике, в пятом классе проходили…
– Это когда на любой глубине одинаково всех давят, с какой стороны не зайди? – пошутил Андрей Петрович.
– Веррно! – обрадовался мужичок. – А ты шутник! – оценил и одобрил он Андрея Петровича. – Так вот какое дело, – и начинает разворачивать чертежи. – Я двигатель придумал Вечный. Да ты не смейся, правда!
– Нет, дорогой, – говорит ему Андрей Петрович. – Вечного Двигателя быть не может. Академия постановила давно. Только временные приспособления возможны в нашей жизни.
– Да ты погляди! – сердится мужичок. – Смотри: берешь бочку и в нее трубку метра три высотой вставляешь, тонкую, в эту трубку воды нальешь и бочка вдребезги разлетается. Так?
– Вроде так, – одобрил Андрей Петрович, смутно припоминая далекое знание.
– А теперь гляди, берем две таких бочки на весах. В одну трубку вставляем, она на бочку давит и весы вниз наклоняет – другая бочка вверх задирается! Из нее желобок проводим к концу вставленной трубки в первую бочку…
В этом месте Андрей Петрович слушать перестал. – Нет, – сказал он строго, – это чушь собачья! Я хоть и не ученый, однако, ты, братец, не туда едешь мозгами своими…
– Ладно, Чиновник, – обиделся мужичок. – Я с тобой говорить не стану – вижу, что без пользы. А и ты не последняя голова наверху, на тебя есть управа тоже!
Сказал он так и мимо стола Андрея Петровича, чуть не оттолкнув его в грудь, прямо пошел мужичок по начинавшейся за столом сразу проторенной набитой дороге.
– Ты зря туда идешь, – сказал ему Андрей Петрович, внутренне жалея мужика.
– Зря, потому что думаешь, я правды не сыщу? – крикнул ему в ответ мужичок, даже не поворачиваясь и продолжая путь.
– Да нет, – Андрей Петрович голос понизил. – Эта дорога никуда не ведет! Ко мне назад и вернешься! Только зря обувку истопчешь!
Не поверил, разумеется, мужичок, а шаг придержал. Оборотился и на Андрея Петровича глядит.
– Остановить хочешь? – говорит он с недоверием.
– Для твоей же пользы, – увещевает его Андрей Петрович, ну при этих словах мужичок “завелся”, конечно.
– Мне, – кричит, – народная и людская польза дороже! Я, – кричит, – за человечность и пострадать готов…
– Иди, раз так, – ему в ответ Чиновник, – до скорой встречи!
На этом и разошлись.
Борцы за права человека
“Вот и дурак!” – подумал Андрей Петрович и тут видит, к нему целая орава движется, с разных сторон, а вроде как соединены они решимостью. Посмотрел он еще пристальней на них, как ближе подошли, и сердце замерло: наконец-то! – подумал он. – Люди настоящие пришли!” Обрадовался Андрей Петрович, навстречу им даже потянулся, но тут же порыв свой умерил, потому что ответных улыбок не встретил на их лицах.
Молча разложили перед ним пришедшие свои бумаги. Стал глядеть Андрей Петрович на то, что в бумагах этих написано, и вновь в душе у него потеплело. Во всех бумагах говорилось о Правах Человека и о нарушении этих Прав! Пришедшие Люди требовали защитить Человека от самых разных напастей и несвобод. Не препятствовать Человеку в смысле географическом, не приковывать его к одному только месту под солнцем, а разрешить свободно перемещаться с места на место. Разрешить Человеку по его желанию пересекать Границу с иным лучшим Миром и даже удаляться туда на постоянное жительство, если того он желает. Чтоб не препятствовали Людям говорить чего хотят они и писать про чего пожелает их душа – такие были бумаги. Гуманистические, одним словом. Про угнетенные народы в Третьем мире и обиженные нации во Втором и Первом. Читает их наш чиновник и странное чувство испытывает, вроде его на один бок все время переворачивают… Однобокость какую-то во всех этих человеколюбивых документах ощущает. А в чем – никак ухватить не может. Не к чему придраться. “Что это они все время про одних обездоленных толкуют, – подумал он, – как будто среди процветающих нет людей, и прав им человеческих не надо… И нации все какие-то не те выделены,” – огорчился Андрей Петрович за нацию, которую своей считал, а ее как раз в предлагаемой защите человеческих прав и не подразумевалось…
Нахмурился он и стал тогда очень пристально и придирчиво рассматривать пришедших. Ну и, разумеется, высмотрел всякое. Несколько из них были в самом деле, как говорится, без сучка без задоринки: Люди. А в других разглядел Андрей Петрович, при более пристальном рассмотрении, какую-то неопределенность внутренней сути: как будто они составные были, из разных частей, – собранные Люди.
Наружность человеческая, а лица своего нет: то одно, то другое обличье выставится, двойственность какая-то и неопределенность. Андрей Петрович свой взор вонзил изо всей силы, и ничего не разглядел. Понял он тогда, что на всех этих фигурах надеты очень непростые маски, и зрения у него еще недостает, чтобы сквозь эти хитрые личины проникнуть.
– А почему спрашивается, – такой им задал вопрос Андрей Петрович, – только евреям можно свободно в Страну Обетованную въезжать? Как будто до других Людей вовсе нет дела. Странную вы обнаруживаете сущность, тем самым… – подвел он итог. А они ему в ответ:
– Потому что у евреев есть договор с Всевышним в отношении Страны Обетованной. Про других же нигде в святых книгах не упомянуто и никто за них не просит. Так что, если другие пожелают – пусть сами едут. У нас там, в бумагах и про татар, и про заботы немцев, и еще про разные нации написано… А вот ваш намек про нашу Сущность весьма оскорбительный: какое дело вам до нашей сущности, когда вы тут поставлены бумагами и законами заведовать, не взирая на лица и нации.
– Боже упаси! – непритворно испугался Андрей Петрович обиды правоборцев. – не до вашей сущности дела нет. Но если давать права – так всем. А то однобокость получается: у одних есть договор со Всевышним и сразу два места под солнцем, а другим и одного места, порой, не достается. Разве иные нации не мечтают о Стране Обетованной, вы же за права для всех людей выступаете…
– Значит, вы против договоров с Богом, – тут же ухватились пришельцы. – Может, у вашей жизни цель вообще Господа упразднить, а заодно и человека извести? – стали они на Андрея Петровича наседать, однако тот не сплоховал.
– Если человеком считать только таких, у кого договор с их Всевышним, – усмехнулся он, – я против. Потому что какая цель у жизни вообще – я не знаю. А вот в частности знаю одно – не задумана наша жизнь так, чтобы в ней только договорные личности хорошо себя чувствовали. Нет такой цели в нашем существовании. Наша земля – не обетованная. И это не ко мне вопрос, это к вышестоящим. Я – величина малая.
– Оно и видно, – ему в ответ. – Ничего! Доберемся и до Вышестоящих!
– Пожалуйста, – приглашает их Андрей Петрович и бумаги назад им в руки вкладывает. – Идите! Дорожка прямая, натоптанная…
– Хитер ты Чиновник, – так грубо ему в ответ “тычут”. – Эта дорожка нам известная, а снова к тебе возвращаться – неохота. Мы лучше по целине, по нехоженой тропе двинемся – авось дойдем!
– Не советую вам это делать, – говорит им Андрей Петрович.
– А ты не пугай нас! – они в ответ и пошли прямиком.
Зеркало эпохи
Посмотрел им вслед Андрей Петрович и пошел обедать. Дорогу он запер на засов. После обеда отправился в Место Общественного Пользования. Люди вокруг него разные ходили, все из того же учреждения. Он теперь уже приспособился и на ихнее уродство внимание старался не обращать. Здоровался, как положено, шутил. Потом подошел к Зеркалу, чтобы поправить свою внешность и оглядеть перед тем, как снова заступать на службу – и глазам своим не поверил. Прежний благообразный Андрей Петрович глядел на него из стекла и даже слегка улыбался. Тут повел он глазами, отыскивая в стекле других, которые рядом с ним, и увидел, что и в них исчезает, пропадает в этом зеркале уродство.
Вот тут-то он и вспомнил, что у него дома зеркало старинной работы, жена по случаю купила, из совсем другой эпохи.
“Вот оно что!” – даже присвистнул мысленно Андрей Петрович, вмиг сообразив все обстоятельства. – Значит, иной бы себя и увидел, как следует, а не в чем отразиться. В зеркальце Эпохи своего уродства не видно! А кто со стороны заметит и скажет – не поверит, по злобе обложили, подумает… Как же тебе повезло, что ты в иной Эпохе Зерцале себя узрел! Почему тогда жена себя не видит в истинном свете? – спросил он себя и тут же сообразил, что прежде надо, наверно, собою стать: она, может, и видит, да самой себе не признается…
“Погоди, Андрей Петрович, – сказал он, во все это время как прикованный к Зеркалу. – Так, может, и ты вовсе не себя увидел, Настоящего, а всего лишь собственное уродство от Эпохи!? Из других времен Зерцало, оно верней и отразило, а в этом – опять стали правильными черты. Это современное зерцало и в нем мы все приятно выглядим. Значит, даже и уродство это не мое, а каким меня наше время сделало… – такие мысли, одна за другой, стремительно взлетали над поверхностью души, как взлетает над водной гладью утопающий, чтобы тут же, похватавшись за пустоту руками, вновь погрузиться в пучину…
Меж тем, по мере того как осознавал все это Андрей Петрович, образ его в стекле таял, пока вместо целого отражения осталась какая-то скверная тень, подобие одно, да и то, чуть погодя, стерлось, не оставив следа в чистом, сухом незамутненном более его волнением стекле.
– Вот оно что… – только и смог произнесть Андрей Петрович, не в силах оторвать глаза от зеркала, а ноги от пола и отойти. – Если миновать эту эпоху, отвлечься, то меня вообще не существует!
– Ты чего уставился и любуешься собой? – пристал к нему Сослуживец-Упырь. – Все перемены в себе отыскиваешь? – и захохотал, дыша на Андрея Петровича сытостью и доброжелательством. Андрей Петрович отметил, что в Стекле ничего от упыря в его сослуживце не было: выглядел очень даже благопристойно.
– Да вот любуюсь, как мы выглядим в Зерцале Эпохи, – пошутил в ответ Андрей Петрович.
– Всяк по-своему смотрится, а только я тебе скажу, – понизил голос Сослуживец, будто догадался о тайных мыслях Андрея Петровича. – Никто не хочет по-дурацки выглядеть. Вот и стараются соответствовать. Уродуем, брат, часто себя, еще как подчас уродуем, чтобы только в этих кривых зеркалах человеком смотреться. То-то, дорогой Андрей Петрович, кто понимает, конечно… – и отошел он от него, усмехаясь.
“Дураков на свете немного, – подумал Андрей Петрович. – Так что со зрением твоим новым надо осторожность проявлять…” – и тоже отправился на Служебное Место.
Загробный магистрат
Еще заступить не успел, как появился очередной Проситель. Пришел он откуда-то совсем сбоку, по совсем нехоженой тропке: даже удивился Андрей Петрович. Ну а как глянул на Просителя – диву дался: перед ним стоял живой Цезарь! В иные времена и внимания не обратил бы, а тут при обострившемся новом зрении своем, когда все вокруг он совсем в ином, нежели ранее, видел свете – его так и резануло, и вмиг распознал он пришельца. “Чего ему от меня надо?” – подумал Андрей Петрович взволнованно.
Проситель посмотрел на Андрея Петровича как на пустое место и молча сунул ему бумагу. “Правильно он на меня посмотрел, – горько-униженно подумал чиновник. – Пустое место я и есть!”
В бумаге значилась просьба Иной Жизни.
Андрей Петрович дальше и читать не стал. Отодвинул бумагу и на Просителя стал смотреть, а потом и говорит:
– Не понимаю, – говорит Андрей Петрович, – как такой человек, как вы, могли ко мне попасть? Я Цезарями не заведую, за ними отдельное ведется наблюдение.
В глазах у Просителя так и прыгнуло удивленное чувство:
– Господи! – воскликнул он. – Наконец-то хоть один меня признал! А то ведь все за безумца считают. А скажи я кому, что я – Цезарь, сразу в дурдом упекут… Да! Я – Цезарь. Это правда. А здесь брожу в загробье вашем.
– Какое это загробье, у нас это жизнью называется, – искренне возразил Андрей Петрович.
– Для вас жизнь. А для меня – Загробье. Я свою жизнь, настоящую, отчетливо помню. Здесь ее нет.
– Но и полей Элевсинских тоже нет, – защищался как мог Андрей Петрович.
– Их и не должно быть. Мы с тобой, Чиновник, в Аиде, в Аду – не в райском забвении.
– Да, – согласился Андрей Петрович. – Жизнь – несладкая. За что только нам такое наказание – вот в чем вопрос?
– Не знаю, – честно признался Цезарь. – Знаю только, что большей убогости и уродства и представить нельзя…
– Бывает много хуже, – усмехнулся чиновник.
– По качеству жизни – вряд ли. По мере страданий – разумеется, страдания – пропасть без дна. А вот убогость здесь достигнута предельная… – тут чувство надежды озарило все черты Цезаря. – Слушай, Страж, помоги мне отсюда выбраться, из этой убогой, нелепой вязкой гадости, которую все эти рабы называют жизнью. За что меня сюда засунули, за какие, я спрашиваю, грехи?!
– Получается и я из рабов, – обиделся Андрей Петрович. Что же ты, Цезарь, перед рабом просьбою унижаешься?
– Ты своих возможностей даже и не ведаешь, Чиновник. Потому что не ведаешь про Себя. Да захоти ты, пожелай только – такое можно натворить! Впрочем, как ты можешь взять и Захотеть! У магистратов всех столетий один сюжет: тянуть, брать взятки, подличать или подсиживать собратьев… – чиновные дела. А своеволить – дудки! Разве поставила бы жизнь тебя на это место, если бы ты знал про себя?!
Хотел было обидеться Андрей Петрович за чиновный сюжет, но передумал. “Ведь правду говорит, – подумал он, припомнив вмиг свою чиновную жизнь.
– Я хочу, – сказал он, – очень хочу от смерти спастись, и кое-что я про себя уже ведаю, – добавил Андрей Петрович грустно. – Ладно. Если это – Ад, кто же я такой, на самом деле?
– Ты – загробный Магистрат, вроде Радаманта, только мелкого ранга, – не моргнув глазом, сказал Цезарь. – Воистину, себя ты не ведаешь, раз боишься умереть…
– Это брат Миноса, что ли? – проявил знания Андрей Петрович.
– Он самый, однако, Минос судит, а Радамант, как ты, на пересылке загробной судьбы жребии сортирует.
– Выходит тут еще не Ад, а что-то вроде предвариловки и доследования, если судейскими пользоваться словами. Чем же я могу тебе помочь? – сильно задумался Андрей Петрович. – Я ведь ничего не могу, на самом деле.
– Как же ты тогда узнал меня? – поразился Цезарь. – Так не бывает: если узнал – значит, можешь! Мы с тобой раньше не встречались… Я бы вспомнил…
– У меня только сегодня открылось новое зрение, – застеснялся Андрей Петрович.
– Вот оно что… – задумался посетитель. – Себя ты, выходит, только рассматривать начал.
– Вот ты говоришь “загробье”. И я – Радамант, то есть мертвец уже! Откуда страх смерти тогда? Если уже все свершилось?
– А что может быть ужасней, чем вдруг очнуться мертвым среди таких же мертвых, их липких чужих кошмаров, благих намерений и правдолюбия бездушных тел? Отсюда и страх – разоблачение истины такой жизни – очень страшит.
– Да, – согласился Андрей Петрович, – я сам заметил, не любят большинство про смерть толковать.
– Естественно, в доме повешенного о веревке не говорят.
– Где же не повешенные? Люди, настоящие, как их сыскать?
– А что им тут делать? – засмеялся Цезарь. – Для жизни – жизнь. Для мертвых – загробье.
– А ты, как же ты попал сюда, Цезарь?
– Не ведаю я, Магистрат. Знаю лишь одно – втолкнули незаслуженно и заперли дверь! Отопри мне, Страж, засовы!
– Хочешь я тебя в Италию отправлю или Британию? – предложил Андрей Петрович. – Я это могу сделать, хотя, конечно, и нарушая…
– Сошел ты Страж с ума! Тут мертвые только правят, а в нонешней Британии или Италии – они ведь Царствуют! Не смены географии, иной прошу я жизни, досрочно!
– Отсюда досрочного нет освобождения, – тихо сказал Андрей Петрович. – Все пожизненное отбывают заключение, и я не слыхал, чтобы кто-то выбрался раньше иль был помилован.
– Ты не знаешь, Чиновник, – еще как выбирались!
– Я не слыхал, – сказал Андрей Петрович. – Если по-человечески рассуждать, то нет другого пути отсюда, как только через смерть. Люди надеются на знание, конечно, в Науку верят, что приоткроет Наука запертые врата, но это все лишь в виде надежды. Я сам ищу спасения, – добавил, понизив голос, Андрей Петрович.
Поглядел на него Цезарь.
– Не мне тебе про спасение рассказывать, – произнес он загадочные слова, – когда ты у самой главной возможности поставлен.
– Какой такой возможности? – совершенно искренне был поражен его словами Андрей Петрович.
– Это ты сам должен открыть для себя. Там, где твоя Смерть – наша жизнь только начинается! Ты сейчас мне помоги. Не можешь спасти меня – не надо! Отправь меня опять туда, где я был Цезарь! Где мне не надо больше таить свою природу, и нужен я другим. Здесь, в этом проклятом закутке времен, я и высунуться не смею наружу – сгноят в палате умалишенных! “Почему это вы себя Цезарем считаете, а нас, получается, – презираете?” – так мне совсем недавно одна дамочка сказала. Вы понимаете, что то, как вы себя ведете – это плевок в лицо всем окружающим? – горько улыбнулся Цезарь.
– Там все будет так, как уже было и пережито! – воскликнул Андрей Петрович.
– Пусть! все лучше, чем это прозябание! – тут Цезарь-Проситель наклонился к Андрею Петровичу и сообщил: – В нашей жизни мы все время одно и тоже переживаем. Не в новизне суть, а в качестве. И потом, разве сравниться Путеводителю с желанным местом? Тут главное доехать, а читать про станцию можно сколько хочешь… Да только и тут мы не ищем новых мест, а выбираем любимые одни и те же пенаты…
– Как хочешь! – сказал Андрей Петрович. – Это я могу для тебя сделать. А только опять ведь сюда, боюсь, тебе придется возвратиться… – вдруг осенило его.
– Кто знает, – улыбнулся хитро Цезарь. – К тому времени ты, может, чуть переменишься и выпустишь меня из Проклятого Круга.
Поднялся Андрей Петрович из-за стола, повел рукой и очертил квадрат, и тут же открылся проход. Махнул на прощанье рукой и ушел туда Цезарь.
* * *
Сильно подивился тому, что он сотворил, Андрей Петрович. “Как это я сделал? – спрашивал он себя снова и снова и даже рукой водил, очерчивая в очередной раз маленькие воротца, однако второй раз и третий никакого прохода не открылось. Стал думать Андрей Петрович, что ему это все приснилось или привиделось. И от таких мыслей сильно он хмурился. Тут в отдалении показались возвращающиеся Борцы за Права Человека. Вид у них был сильно помятый и не такой настойчивый, как прежде. Двоих недоставало.
– Где же ваши два товарища? – полюбопытствовал Андрей Петрович.
– Они до Конца пошли, – мрачно ответил один из Борцов.
– Вот видите, – сказал Андрей Петрович. – А вы мне не верили. Это еще хорошо, что вы возвратились. В иные времена, когда ужасов не напускали, а попросту всех приканчивали, кто туда шел (он махнул рукой в направлении, откуда возвратились борцы), так легко вы не отделались бы…
– А ты, чиновник, – антисемит. К инакомыслящим плохо относишься, – стал соблазнять его один из борцов.
– Я к арабам ничего не имею, – не поддался Андрей Петрович.
– При чем тут арабы? – искренне подивился защитник людей.
– Так они же семиты, и религия и язык у них почти те же, что у евреев.
– Вот оно что, – присвистнули борцы за права, – грамотный ты, однако. Зря только – к нам нельзя так относиться.
– Да никак я к вам не отношусь! – в сердцах воскликнул Андрей Петрович. – Вам и невдомек, что имеются люди не хуже вас, которые к вам никак не относятся. Вы бы попросили, не выделяя себя – другое, может, дело вышло бы… – тут Андрей Петрович задумался на миг и сказал: – Вон туда идите, – и, как будто осененный вдруг знанием, махнул рукой. И открылась дорожка поганая, узенькая дорожка, так что и ступать на нее было противно.
– Разве это путь к тому, за что мы боремся? – воскликнули Борцы.
На что им Андрей Петрович из Священного Писания цитаткой ответил:
– Входите узкими вратами, широкий путь ведет к погибели… – сказал он.
Трое борцов посовещались и ушли по тропке, которая тут же за ними и провалилась. Двое других остались, но с ними общаться Андрей Петрович не стал. Вмиг отгородился толстой стеной и уже совсем приготовился к тому, чтоб в себе до конца дня от всех затвориться, как вернулся смешной мужичок.
– Ты прав был, Чиновник! Зря я тебе, дурак, не поверил! – объявил мужичок добродушно.
– Ну вот видишь, сказал ему на это Андрей Петрович, отворяя ему дверь, которую уже приготовился захлопнуть.
Мужичок с любопытством оглядывался.
– Пустовато ты живешь, я смотрю, – сказал он, наконец. – Слушай, Чиновник, а мой двигатель ты все-таки недооценил! – прищурился.
– Ты из горла пил когда-нибудь? – усмехнулся Андрей Петрович.
– Хе! – так и фыркнул в ответ мужичок, мол, о чем ты спрашиваешь?
– Так вот и представь себе, ты в бутылку дунул – она у тебя из руки выскользнет?
Мужичок сосредоточился и, по-видимому, очень явственно представил.
– Даа… – сказал он и стал чесать затылок. – Ошибочка вышла! Надо же как неловко получилось! Недодумал! Ну ты меня извини, – повинился он перед Андреем Петровичем. – Я ж отпуск специально взял для этого дела. Надо же! – и снова представил…
– Закон Паскаля – по всем направлениям жмут одинаково внутри жидкости. Это не то что в жизни, где только сверху вниз и нажимают, – добросердечно торжествовал Андрей Петрович.
– С меня причитается, – мужичок стал приглашать.
– Ну что ты! С какой стати… – стал отнекиваться Андрей Петрович.
– Нет, брат, ты меня просветил, я и ставлю! – мужичок был тверд.
– Да мы и не найдем нигде в это время, два часа отстоишь за бутылкой.
– Зачем бутылкой, посидим как положено.
– Посидишь, когда все забито…
– А у меня свояк кооперативный кабак открыл! – объявил изобретатель. – Нам толкаться не к лицу.
И Андрей Петрович сдался.
Богиня на асфальте
В уюте кооперативного кабачка, после расслабляющего действия пшеничной и нежной закуски, которая состояла из языка, домашнего приготовления, селедочки с отварным горячим картофелем и отварной осетринки с хреном (тут же и капуста собственного засола белела свежее снега и хрустела сочностью немыслимой и недостижимой для общественного производства) Андрей Петрович вдруг расцвел душой и по-детски расхвастался перед изобретателем.
– Ты знаешь, какие люди мимо меня проходят, и какими мне приходится, порой, вершить судьбами? – стал объяснять он почтительно слушавшему его мужичку. – Вот как думаешь, кто у меня сегодня перед тобой был? И выдержав молчание: Сам Кай Юлий Цезарь!
– Нуу! это ты малость перегнул! – не поверил изобретатель. – Чего ему тут в нашей жизни делать?
– Вот в том все и дело! Ты сообразительный! – похвалил Андрей Петрович собеседника. – Нечего. Нечего ему тут делать! – крикнул Андрей Петрович. – Он и просил меня, отпусти, мол, меня, Страж, отсюда к иной жизни! А как я его могу отпустить, если у нас у всех заключение пожизненное?!
– Это верно! – согласился изобретатель. – Посожены крепко, на всю катушку мотаем срок.
– Я ему и объясняю, а он говорит, ты, мол, своих возможностей не ведаешь! Это я своих возможностей не знаю, так надо понимать… Ты, говорит, только захоти и пожелай – все исполнится…
– Ох и заливаешь ты, Чиновник! – искренне восхитился мужичок, на что Андрей Петрович так же искренне обиделся:
– Дубина стоеросовая, – сказал он сердито. – Настоящий Цезарь был. У меня ведь, – тут он наклонился к мужичку и шепнул, – зрение, Зрение! особое на такие дела! Другое дело, что со стороны иному, да и вообще мало кому видно, что он – Цезарь! И объявить нельзя – вот в чем беда! Попробуй ты, объяви себя Кулибиным или Пржевальским – в дурдом повяжут!
– Это верно, я много натерпелся пока даже за свой двигатель стоял и боролся! А тут все равно что царем обзовешь себя – не любят люди возвышения.
– В этом все дело! Никакого возвышения не любят, а если оно настоящее – конец! Все как один уничтожать станут! Мол, чем ты лучше меня и по какому праву ты – Цезарь, а я – гов-о?
– Ну и что ты с ним сделал, с Цезарем-то? – вернул мужичок разговор в нужное место.
– Я его в древнюю евойную эпоху отправил, где он не как в нашей жизни – фиалкой в проруби болтается, а всамделишный Цезарь и есть!
– От даешь! – так и зашелся от восторга мужичок. – Здорово!
– А ты не веришь мне, – сказал Андрей Петрович. – И зря!
– Чего ж ты меня не отправил куда-нибудь, где и я повыше окажусь ростом? А, Чиновник, отправь меня тоже? – стал просить мужичок. – Неужели тебе твое зрение во мне никого не обнаруживает, может, из какой будущей эпохи, а!?
– В будущее не пробовал заглядывать, – совсем расхвастался пьяный Андрей Петрович, – а в отношении иной в тебе личности, скажем, князя или чего ты там хочешь – не вижу я никого! Ты не обижайся, потому что ты – Человек! Это в наше время так редко, верь мне, что выше любого князя возвышается! Ты не знаешь, какие на свете водятся уроды!
– Я знаю, – сказал мужичок, – а обидно, что человек ты, скажем, и все тут, и нет никакой в тебе тайны эпохи!
– Я бы и себя отправил, так со мной еще хуже, – стал жаловаться Андрей Петрович. – Ты хоть человек, а меня – вовсе нет! Пустое я, брат, место! Вон, когда я тебя сегодня допустил до себя, даже ты сразу обратил внимание, пустовато, говоришь.
– Я не в этом смысле, – стал утешать его изобретатель.
– Не надо! – остановил его Андрей Петрович. – Я лучше знаю. Пустое! И самое страшное, что не у кого спросить! А так, конечно, если бы я знал, что я, к примеру, Ломоносов, я, может, тоже себя втихаря переправил. Здесь другое страшно, – сказал он, снова понижая голос до шепота. – Куда ни отправишь, назад все равно вернут, опять в то же место!
– Значит, надо в будущее стремиться! – догадался мужичок.
– В том и дело… – смолк Андрей Петрович, раздумывая над будущим.
– Это конечно, если не знаешь себя, то лучше с места не трогаться, – подсказал мужичок. – Однако так чтобы пусто совсем было – не верю я в такое. Свято место не пустует. Так что смотри, как бы не заняли… – стал советовать он Андрею Петровичу стеречься от захватчиков.
– Кому я нужен!? – горько сказал в ответ Андрей Петрович, и тут, как обнаружилось вскоре, он был не прав.
Последнее, что запомнил Андрей Петрович, это то, как они пили за здоровье Цезаря и за Рим. При этом кричали, что Москва – это третий Рим, а четвертому не быти! В этом к ним присоединился хозяин кооператива и еще какие-то люди.
Славное вышло застолье, хотя и оскорбительным казалось Андрею Петровичу недоверие собутыльников в отношении Цезаря и его, Андрея Петровича, возможностей.
– Тут все дело в нашем взгляде на себя и других! – кричал он возбужденно. – Как вы понять того не можете?!
Тут ему предложили испытание, скажем, обратить свой взгляд на хозяина. Андрей Петрович посмотрел и хоть пьяный был, а поостерегся. И под всеобщий хохот заявил, что не видит он ничего особенного. “Ничего особенного не видит! Да он – чудовище!” – закричали все вокруг и подняли Андрея Петровича на смех. Ну а после ему всякое зрение совсем отказало, хотя и временно, разумеется, как все в этой жизни. Когда же вернулось к нему зрение на миг, то увидел он картину странную. Будто Сам он располагался на высоте фонаря уличного, а под ним, на голом и жестком асфальте лежало тело, которое, это Андрей Петрович сразу почувствовал, принадлежало ему. Его это было тело. Однако по поводу этому он, в том виде, в каком он был вывешен над улицей, никакого беспокойства или еще какого неприятного чувства не испытывал. Смотрел он просто на распростертую под ним фигуру в пятне фонарного света и ни о чем в особенности не думал. Знал только, что пока вот так он смотрит, вывесившись над собой, никто, ни одна живая душа, к нему, к евойному телу не подойдет. Знание это было хотя и новое – очень точное. “Лежал, окутан мглой!” – такая вертелась в нем фраза, и он понимал, что это относится к теперешнему положению. Что пока он вот так на себя распростертого глядит – никто его не видит. Знал он и другое, что стоит ему соединиться опять с этим телом своим, как тут же его заметят и подойдут, другие люди, которых он тоже не видел сейчас. Впрочем, совсем ему возвращаться и не хотелось. Так чудно было здесь, хотя и на небольшой высоте, пропускать сквозь себя жизнь, не задерживая ничего. В это самое мгновение он и увидел ее, Богиню. Легко так, едва ступая, она приближалась к распростертой фигуре на асфальте, и он понял, что она его Увидела. Так он весь и потянулся к ней и в тот же миг очнулся. Поднял с трудом голову. Молодая проститутка, скверно накрашенная и пьяная, поднимала его за голову и бормотала: “Ну, пошли! Вставай, дурак! Сейчас милиция приедет…” Тут Андрей Петрович снова свой взгляд на окружающий мир утратил, и теперь уже надолго, до утра, хотя тело его послушно двигалось и последовало туда, куда направляли его нежные женские руки.
Глава II. Речка Рубикон
То, что совершается без участия, – это от неба!
То, что не вызвано самим человеком и все же
совершается, – это от судьбы!
(МЭН-ЦЗЫ, четвертый век до Р. Х.)
Смутные времена настали в Риме. Забыли граждане закон, порядок. Не стеснялись больше претенденты на должности. Выставляли на улице столы и раздавали черни деньги, привлекая на свою сторону. Вооружившись мечами и дубинками, купленные избиратели отправлялись на Форум и требовали должности своему покровителю и благодетелю. Дубинка теперь выбирала консулов и трибунов. С утра до вечера толпились люди на Форуме. Забитый рядами лавчонок, кабачками, статуями, портиками, Форум похож был на встревоженный, громко гудящий улей. Слухи молниями пронизывали толпу. Узкие улицы, напоминавшие колодцы, сжатые рядами восьми-девятиэтажных домов, с раннего утра были забиты народом. Город-муравейник тысячами выбрасывал из своих ячеек фигурки в белых тогах. Как белые встревоженные термиты, сползались они ручейками к священному центру Рима.
Благоговейное отношение к его величеству Государству связывало их, римских граждан, воедино, в один огромный организм. От него, от этого живого гиганта, они, миллионы свободнорожденных, черпали уверенность в завтрашнем дне, находили силы в самое трудное время, и если так было надо, шли, не дрогнув, на смерть, как это делают в нашем теле миллионы клеток, затягивая рану. Они поклонялись этой глыбе, составленной из них, ощущали ее пульсирующую силу.
Здесь не было тех, кто противостоял Риму. Здесь все были “за”. Поэтому распри особенно были беспощадными, и жестокость римлян не знала предела, как беспредельна была их сила единения.
И вот сейчас могучий дух Рима двоился. Борьба, внутренняя борьба охватывала государство-великана. Помпей или Цезарь?! И выбрать Рим не мог, хотя явственно кричали все его клетки: Покоя! Мира! Единой власти! Сильной власти!
Гулял влажный холодный ветерок по гладкому мрамору колонн. Чуть шелестят тяжелые листья священного фикуса. Когда-то, семь столетий назад, волчица выкормила под ним Рема и Ромула. Потом Ромул Рема убил… Гуляет ветерок, скользит за храм Согласия, чтобы снова вернуться с другой стороны и пронизать холодком тех, кто стоит крайними в плотной толпе, облепившей форум.
Напряженность передавалась каждой фигурке. Тревожно, мучительно напряглись души. Вязкие ползли слухи. Они появлялись неожиданно из ниоткуда и пропадали в никуда. Темное настроение великана гуляло роем болезненных предчувствий и видений по стране. Предчувствия томили. Во все стороны ползла беда.
Чуть слышен говор. Люди осторожны. Кто знает, за кем победа? И лучше промолчать пока. Не всем же быть Катонами и резать правду-матку. Не всем.
Летают, шелестят вместе с ветром негромкие слова. Потому что, хотя и хочется промолчать, но еще больше хочется поговорить. Потому что дальше так жить нельзя и пусть будет, что будет, но нужен нам диктатор, нужна власть, покой и определенность…
– С торгов пускают отечество. Забыты честь и совесть… – хмурится старый воин, рука ищет по привычке рукоять меча и, не встретив ее, пальцы растерянно мнутся, будто только сейчас вспоминая, что нет давно там того, что ищут они.
– Цезарь перешел Альпы, движется на Рим…
– Не тягаться Помпею с Цезарем…
– Помпей хитер. Читал последнее постановление? Теперь кто не в Риме – должности не получит. Надо лично присутствовать.
– Засудят Цезаря, явись он тут без легионов. Катон публично клялся привлечь его к суду…
– Тише! Тише! От Цезаря письмо зачитывают.
Заволновалась толпа и стихла.
«Отцы сенаторы! Пусть буду частным я лицом, сложив с себя все должности и званья. Предстану перед согражданами и буду добиваться чести. Но пусть также поступит и Помпей… – толпа рукоплескала Куриону.
Что тут началось! «С разбойником надо говорить мечом!» – бешено закричал Лентулл, отталкивая Куриона.
– Сограждане! – увещевал Цицерон. – Оставьте Цезарю провинцию и легионы!
– Согласен! – крикнул Помпей и руку поднял в знак одобрения.
– Проклятье соглашателям! – вновь закричали Лентулл и Марцелл. – Забыли, сколько растратил Цезарь!? Как осквернял святыни, пренебрегал знамениями неба и вашими законами! У Цезаря один закон – тирания!
– Помпей! – возвысился над толпой голос Катона. – Неужто ты вновь собираешься повесить себе на шею Цезаря? Тебя избирает народ, не Цезаря!
И перекачнулось настроение черни. «Помпей! Помпей!» – ревели глотки.
Курион и Антоний отбивались от наседавших приверженцев Помпея.
– Нас, народных трибунов, изгоняют силой! Куда вы смотрите, люди! – тщетно кричали они толпе, теснимые со всех сторон. – Позор вам, граждане Рима! – орал Антоний. – Чем вас купил Помпей? Меня бесчестят, народного трибуна, – куда вы смотрите?! – разрывая на себе одежды, Антоний попер на толпу с хрипом, давясь проклятиями. Толпа расступилась, люди избегали его бешено вращающихся глаз. Так покинули Антоний и Курион Форум, провожаемые испугом толпы и улюлюканьем помпеянцев.
* * *
Это утро поэт Марцелл, известный в Риме острослов и злобник – сладко проспал. Он проспал визит к патрону, с которым должен был именно сегодня толкаться по всяким делам. Проспал кредиторов, которым обещал расплатиться утром… «Зато как чудесно я выспался!» – думал поэт, разглядывая мир с непривычным добросердечием. Не рассчитывая на прощение патрона и на его обед, он направил свои стопы к Форуму в надежде встретить своих друзей и, кто знает, быть может, одолжить у них денег. И тогда, тогда плевал он на этот обед, на котором патрону попадут нежную телятину, а ему суждено давиться жесткой, как подошва, старой коровой, да еще в придачу выслушивать литературные испражнения теперешних хозяев жизни, которые в стихах смыслят, как наши свинья в лукринских устрицах, и также к ним относятся… Эх! – возмечтал поэт. – Если деньжонок достану, и Зенофила ко мне расщедрится лаской… О Зенофила! – возмечтал он напевая:
Милая, щедро умею платить за любовь я любовью,
Но и язвящих меня также умею язвить.
Не издевайся же так над влюбленным и будь осторожней,
Чтоб не навлечь на себя гнева тяжелого Муз.
Такие стихи нараспев прочитал и ступил на Форум. Увы, сегодня там вместо прогуливающихся чинно матрон, кокетливых красоток в ярких покрывалах и щеголей – толпа черни запрудила свободное пространство. Пораженный остановился поэт и купил колбаску у толстого галла.
– Чего шумит народ? – поинтересовался.
– Антония с Курионом изгоняют, – сказал колбасник и добавил, вздохнув, – не к добру, все же народные трибуны, а с ними так обращаются…
Откусил поэт кусок колбаски, едва пожевал и выплюнул.
– Ну и дрянь у тебя колбаски! – сердито воскликнул. – Ты чем их набиваешь? Небось, бешеными римскими собаками и самыми учеными ослами: узнаю их ядовитые языки, размолотые в слизь употребленьем…
– Ты хоть поэт, а груб, – сказал хмуро колбасник. – На! забери назад свои гроши, мои колбаски не для таких гордецов в тогах, как ты…
– Теперь я понимаю, чего эта чернь исходит воплями. Твой наступает час, колбасник. Посторонись народ в тогах, умри поэт – миром теперь правит колбасник!
Тут встал поэт в торжественную позу и продекламировал язвительно такой стих.
Над всеми ими будешь ты владыкой, над площадью и гаванью и Пниксом.
Совет попрешь ногами, а стратегов во всем урежешь.
Людей засадишь в тюрьмы ты, и сам их там стеречь ты будешь,
А в Пританее с девками кутить.
Признайся, колбасник, не знаешь ты откуда строки? Хоть писано про тебя. Вчерашним рабам побольше плохих колбас, сладчайшие стихи им ни к чему!
Колбасник обиделся
– Я знаю Аристофана строки: я – грек, – сказал он самым достойным голосом.
– Тем хуже! – воскликнул поэт. – Зачем ты, грек, торгуешь галльскими колбасками? Вот и получается, Коринфянину верь, но другом не считай! – Марцелл запахнул тогу и гордо удалился, однако забрав предварительно деньги.
Соседи колбасника понимающе переглянулись, и заговорщицки подмигнули друг другу вчерашние рабы.
* * *
Горюет человеческая душа, бессильная перед напором звериных чувств народа. Горюет от невозможности учредить разумное и доброе на земле в короткой жизненной юдоли. Зверь торжествует, играя в судьбинские шахматы со Спасителем.
Теперь за Цезарем ход. «Чего он тянет?» – хмурится темная сила. – «Цезарь! Твой ход!» – шепчет настойчивый, неумолимый Рок. – Напрасно испытываешь, Цезарь, судьбу – перед Судьбой и Боги бессильны. Заставит Рок своего любимца вновь отдаться страшным ласкам небесной длани.
* * *
На заре Курион и Антоний прискакали прямо в лагерь десятого легиона. В разорванных одеждах, в пыли предстали они перед солдатами, высыпавшими из палаток.
– Где Цезарь! – кричал Антоний. – Доколе терпеть нам униженья? Чего он ждет? Нас, народных трибунов, стащили с Форума, силой! Позорно гнали, как рабов, палками! Мы чудом избегли смерти!
Зароптали легионеры.
– Какое униженье! Проклятые помпеянцы! Давно пора рассчитаться с ними! Заплатит Рим за оскорбление, пусть Цезарь ведет нас! На Рим! – раздался рев солдатских глоток…
На Рим!
Разбушевались страсти нехорошие, так и выметнули едким бурьяном в душах. И обрадовались, возликовали бесы, предвкушая богатую трапезу. Ангелы загрустили. Потому что ангелы питаются любовью и нежными чувствами, зелеными сладкими росточками сердечного участия. Это бесы едят чувства резкие, мясистые. Покинула доброжелательность, осиротила, и сорные травы вмиг заглушили нежные всходы любви в наших душах. Нечем закусить светлой силе. Стали голодные ангелы переметываться на темную сторону, вызывая осуждение верховных сил и намечая перелом времен.
Вот и задашься невольной мыслью, какая выгода нам, смертным, оттого что топчутся светлые и темные стада на пастбище души нашей? Общипывают до последней травинки все, что в наших душах произрастает, ничем не гнушаясь. Иль вся разгадка в том, что поле отвергнутое начинает жухнуть и гнилью, ржой идет налитое зерно. И жизнь становится не мила, когда в душе не сжаты хлеба и бурьян осенний не выполот. В такие мгновенья на все готов пойти человек, только бы вновь его посетили небесные созданья и сняли урожай души нашей, освободили от набухших зарослей чувств. Великая тайна причастия, когда во всякий раз мы воскресаем в Жертве, вновь ощущая острым чувством новорожденного, что живы, живем! Как страшно жить, когда нашу душу уже никто не посещает! Вот оно – одиночество, ни с каким другим не сравнимое!
В таком ужасном одиночестве Цезарь и пребывал всю ночь. Настойчиво он шел и шел по пустынной дороге сонного царства души и не понимал, куда все подевались, почему вокруг ни одной живой твари? Даже теней не было. И только под самое утро появились знакомые места, а перед глазами стали виснуть неживые картины минувшего. Сонная хмара стала проясняться, и даже песня заиграла.
Галлов Цезарь покоряет, Никомед же Цезаря:
Нынче Цезарь торжествует, покоривший Галлию,
Никомед не торжествует, покоривший Цезаря…
Дурацкая песенка, не переставая крутилась в голове, и все спрашивал он и спрашивал невесть кого: мол, причем тут Никомед? Ну причем тут Никомед? Потом ему мерещились пираты, палуба и солнце, и он, молодой и гневный просил снова и снова отпустить его по-хорошему, и обещал не предавать их смерти… И рожи вокруг, широко разевая рты, ржали от хохота. «Я распну вас на крестах», – кричал в бешенстве Цезарь, а злодеи хохотали, катались от смеха по жаркой дощатой палубе корабля, и никак не кончался мерзкий сон, пока у главного пирата лицо не стало вначале красным, а потом багровым, и страшно глянули прямо в упор на Цезаря светлые глаза Суллы. «Ваша победа! – крикнул Сулла. – Получайте его!.. и тут же тело Суллы начало гнить, а в сползающих лоскутьях так и кишели мелкие, едва заметные глазу насекомые… И снова грянула та же песня: Никомед не торжествует, покоривший Цезаря! Никомед… здесь и пришел конец противным видениям. Цезарь покинул владения души и очутился вмиг в дневной яви, где он тоже был Цезарем, да только не таким, каким ему хотелось. Очнулся Цезарь человеком внутри сложившейся про него Легенды. Отточенной и завершенной для будущего исторического существования легенды о непобедимом Цезаре, великом счастливце, который всю жизнь испытывал и проверял свою бесконечную удачу. В одно краткое мгновение он ощутил это страшное различие меж собой настоящим, которого помнил острым чувством: Я – есмь! – и тем Цезарем, каким выставляла его чужая воля судьбы и человека. «Вот почему так легко было Загробному Магистрату меня сюда отправить. В настоящую жизнь за нас некому шагнуть, самим надо пробиваться. И не живут два раза живой жизнью. Лишь в легенде собственной мы обретаем бессмертие…»
* * *
Такая чистенькая и завершенная была Легенда, с единой волей Рока, легко прослеживаемой от рожденья, когда оракулы возвестили, по Всей Земле рождение непобедимого полководца. Судьба, перед которой бессильны Боги, таким наделила его запасом счастливого везенья, что даже удача Суллы пред ним отступила. Великого удачника Суллы, который из Ничего сотворил свою судьбу, стал властелином Рима, и долго был творением счастлив.
Тонким нюхом задолго до всех он учуял опасность в этом, тогда еще подростке. И Цезарю пришлось скрываться, потому что его причислили к врагам диктатора. Его лишили наследства и жреческого сана, в который еще мальчиком он был посвящен, требовали отказаться от жены. Больной, страдая от лихорадки, которая бросала его то в жар, то в холод, каждую ночь он менял место ночлега, откупался от сыщиков. За него просили, но Сулла отказывал. Спасли его девственные весталки, у которых было право заступничества за приговоренных к смерти, и два самых близких соратника Суллы. Глядя страшными светлыми глазами на багровом лице, Сулла сдался, воскликнул напоследок: «Ваша победа, получайте его! но знайте: тот, о чьем спасении вы так стараетесь, когда-нибудь станет погибелью дела, которое мы с вами отстаивали: в одном Цезаре таится много Мариев!»
И вот могучий Рок Счастливого Цезаря его ласкает, ведет сквозь жизнь. Не оставляет сомнения у врагов или друзей.
«Все будет хорошо, коли я того пожелаю!» – порой говорил он друзьям, и друзья превращались во врагов. «Гляди, как он себя превозносит!» – шипела раскаляясь зависть. Да и кто мог буквально принять заявление, что с ним, Цезарем, люди должны разговаривать осторожней, и слова его считать законом! Хоть бы один человек спросил, почему ты так говоришь, Цезарь? В голову не пришло даже самым близким к нему на миг заподозрить простую и страшную причину. Цезарь не возносил себя – он знал Судьбу и по великодушию предупреждал – ибо перед судьбой мы бессильны. Все!
Так, он просил пиратов отпустить его по-хорошему и обещал не предавать их смерти. До слез смеялись они его угрозам, распять их на крестах, если не отпустят. Зря смеялись, зря не послушали его. Заплатив выкуп, он тут же снарядил суда, догнал их и в точности исполнил то, о чем предупреждал. Правда, и тут великодушие победило: на крестах распял, но уже мертвых, вначале заколов, ибо на кресте – нет мучительней и дольше смерти!
В личной жизни был Цезарь несчастлив. Совсем юной умерла любимая им жена Корнелия, и горе Цезаря не знало пределов. В то же время ушла в иной мир тетка Юлия, заменявшая ему мать. На похоронах он произнес, следуя обычаю, похвальные речи, в одной из которых превознес свой род в таких словах: «Род моей тетки Юлии восходит по матери к царям, по отцу же – к бессмертным богам: ибо от Анка Марция происходят Марции – цари, имя которых носила ее мать, а от богини Венеры – род Юлиев, к которому принадлежит и наша семья. Вот почему наш род облечен неприкосновенностью, как цари, которые могуществом превыше всех людей; и благоговением, как боги, которым подвластны и самые цари!»
Сильно не понравилась речь его недоброжелателям: усмотрели в ней гордыню и притязания непомерные. А, ведь, в речи, на самом деле содержался очень прозрачный намек врагам – отступить, примириться с ним! Если бы вовремя поняли! Многих бед избежал бы Рим…
Ведь, дружбу и преданность он ставил выше всего. Часто его великодушие не знало пределов даже к врагам. Увы! Я обречен на одиночество и зависть! – порой горько восклицал Цезарь. – Меня ненавидят даже те, кто ценит меня. Те, что исполняют божественную волю – обречены!
Обречены на исполнение! Вот почему дух его противился железной узде, снова и снова рвал поводья предназначенья, закусывая до кровавой пены удила Судьбы. Так проверял он страшное и точное чувство, которое им заведовало.
Неужто мы, сами по себе, так ничтожны! Жалкие куклы рока! – восклицал он перед статуей Александра Великого. – Неужто и ты – беспомощная живая кукла, которой играючи вертели божественные пальцы!? Ты завоевавший и покоривший в моем возрасте весь мир! Что я тогда? Совсем ничто? Завоевал несколько провинций с варварами… – печалился он перед статуей. – Зато сколько нажил врагов!
После Корнелии взял в жены Помпею, из рода Помпеев. И в этом браке он был неудачлив. Помпея заводила любовников. Один из них Клодий проник к ней в женском платье на праздник Луперкалиев или Доброй Богини, запретный для мужчин, и был пойман. Сенат назначил следствие по делу об оскорблении святынь. Цезарь был вызван в качестве свидетеля, но заявил, что ему ничего неизвестно про это дело. «Почему же ты дал развод жене?!»
«Я дал жене развод, – сказал Цезарь спокойно, – потому что мои близкие, как я полагаю, должны быть чисты не только от вины, но и от подозрений».
И Клодий вскоре погиб – подозревали Цезаря, хотя он был невиновен вовсе.
Любили его простые люди, солдаты обожали его. Он им был близок и доступен настолько, что в походе распевали похабные про него песенки:
Прячьте жен: ведем мы в город лысого развратника.
Деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии.
У него было много любовниц. Позором на его целомудрии были отношения с царем Никомедом. Тут враги изгалялись, как могли, хотя, на самом деле, никаких отношений с Никомедом у него и не было. Старик любил его – это правда, и даже позволял ему Цезарь иногда ласкать себя, целовать. У Никомеда была страсть к мальчикам, но эта страсть Цезаря не коснулась, он не испытывал удовольствия от старческих прикосновений. Цезарь любил женщин. Любил он и дочь Никомеда Нису, которую старик ему, в сущности, подсунул, только бы он разрешил иногда прикасаться к нему…
Никогда он не был, как называли его враги: «царевой подстилкой» или «злачным местом Никомеда». Раньше Цезарь хотел царя, а теперь царства, – злоречил Бибул в своих эдиктах. И Цицерону ума не достало, яд красного словца победил, когда Цезарь, защищая Нису перед сенатом, перечислял все услуги, оказанные ему Никомедом. Цицерон встал и перебил его, громко заявив: «Оставим это, прошу тебя: всем отлично известно, что дал тебе он и что дал ты ему!» Цицерон никогда не любил Цезаря. Цезарь высоко ставил его за удивительный дар красноречия и прощал, прощал даже тогда, когда сводил Цицерон грязную сплетню про то, что любимая им Сервилия, мать Брута, свела с ним и свою дочь, Юнию Третью.
Хотя тот же Цицерон честно признавал его великим оратором. «Как? Кого предпочтешь ты ему из тех ораторов, которые ничего не знают, кроме своего искусства? Кто острее или богаче мыслями? Кто пышнее или изящнее в выражениях?» – писал он о Цезаре. Боги и высшие силы ничем Цезаря не обошли: все возможные таланты и способности были даны. Про его «Записки» в галльскую войну Гирций заявил, что они встретили такое единодушное одобрение, что, кажется, не столько дают, сколько отнимают материал у историков… Оружием и конем он владел замечательно. Знал математику и астрономию настолько, что сумел произвесть сложные расчеты, ввел новый календарь, исправленный от ошибок. И даже это вызвало злобу и раздражение: когда кто-то сослался в сенате на восход завтрашнего солнца, один из врагов Цезаря злобно крикнул: «Да! по указу!», – намекая на введенный Цезарем календарь.
И такая злоба, такое противление ему было во всем. Когда он стал консулом вместе с Бибулом, и тогда его обошли сторонники Суллы, вражески к нему настроенные. Тут же провели постановление, позволявшее новым консулам брать в управление лишь самые ничтожные провинции. Злой дурак Бибул вставлял палки в колеса по любому поводу и без повода, пока однажды совсем вывел из себя Цезаря и тот силой прогнал его с Форума. Дело было совсем ничтожное. Цезарь внес законопроект, а Бибул стал останавливать его, ссылаясь на дурные знамения. Цезарь вначале отшучивался, а после так разъярился, что схватился за меч и прогнал Бибула. На следующий день Бибул подал жалобу о насилии, но не нашлось никого, кто бы выступил с зачтением этой жалобы. Бибул в такое пришел отчаяние и так напугался, что до конца консульства не выходил из дому, и лишь в злобных эдиктах выражал свой протест. После того и распространился такой стишок:
В консульство Цезаря то, а не в консульство Бибула было:
В консульство Бибула, друг, не было впрямь ничего.
Цезарь ни в какие дурные предзнаменования и приметы не верил.
Вот когда Цезарь помирил Помпея и Красса, и втроем они договорились не допускать несправедливости к себе.
Пусть Галлию он получил в управление благодаря помощи тестя, Луция Пизона, своего преемника по консульству, на дочери которого, Кальпурнии, Цезарь женился. Свою дочь Юлию выдал за Помпея, товарища по триумвирату. Они и помогли вдвоем. Только какой была Галлия, когда он ее получил, и какой стала после, когда за девять лет он завоевал больше пяти тысяч километров в охвате, всю землю от Пиреней и Альп до Рейна. Первым из римлян напал он на зарейнских германцев и разгромил их. Он покорил Британию…
И вновь настиг безжалостный Рок Цезаря. Он потерял вначале мать, потом дочь и чуть погодя, внука. Помпей перестал быть родственником. Срок Цезарева Консульства истек, и Помпей провел новый закон, по которому те, кто отсутствовал в Риме, не могли домогаться должностей. А в Рим приехать можно было лишь частным лицом, распустив легионы. Провел такой закон Помпей и, якобы по забывчивости, не сделал для Цезаря обещанного исключения. Когда спохватился, было поздно: закон, вырезанный на бронзовых досках, уже отнесен был в хранилище. Приехать в Рим частным лицом Цезарь не мог. Он остался в Галлии. Помпей был назначен единым правителем. Помпей правильно все рассчитал. Единственно чего не учел он – страшной колесницы цезаревой судьбы, под колеса которой он теперь сам себя увлекал.
Такова была Легенда. Теперь в ней оставался последний шаг, последняя часть для завершения.
– А где настоящая жизнь? – возопил мысленно Цезарь, полностью придя в Себя. – Где Жизнь?
– Как это ужасно! – воскликнул Цезарь вслух. – Став живой сказкой, лишиться над вымыслом власти! Жестокая Судьба, как скверно ты меня изобразила! Кто сочинил эту роковую пьесу? Неужто я сам себя такого выдумал? Так это выдумка! Зачем за правду принимать, дурацкий вымысел? Ведь настоящего, Меня, во всем этом нет! Чужого много больше! Только в начале я руку приложил, чтобы увековечить Себя… и вмиг Меня не стало. Где же тут Я? Ко мне относится как-то, того не отрицаю, со мною связано; частично правда… да только Самого Меня во всей этой Легенде – нет! Разве я так хотел бы жизнь прожить?! Разве о том мечтал, что всучивает мне Легендарный мой Образ?
Как подло вершится Рок, – ведь став Живой Легендой, уже ничего нельзя, не можешь ничего поделать: из песни слова не выкинешь, Ивану-Царевичу не выпрыгнуть из сказки!
Вот отчего такая пустынь в моей душе. Я – Цезарь легенды. Все остальное – мертво. Откуда взяться живительным росточкам чувств, когда обкатано колесо судьбинской пьесы и роль вершится, минуя страсти.
Быть может, исполнив, я вновь стану самим собой? – мелькнула надежда и пропала. Не в этой жизни… – горько подумал Цезарь. – Не в этой жизни… Исполнение судьбы дает силу – не счастье! И самая великая легенда всегда завершается вместе с жизнью, исчерпываясь последней победой. Достигший вершины от Земного обязан уйти. О Боги! Как избежать мне этой драмы бессилия жизни перед небом?! Этой ненужной трагедии конца?! Жестокие Боги, неужто мне не удастся, хоть напоследок, пожить По-Настоящему?!
Так громко выкрикнул Цезарь последние слова, что раб, возникший с тазиком для умывания и кувшином, испугался и попятился, едва осмелился заглянуть в незрячие, повернутые внутрь себя глаза Цезаря.
– Боги используют нас, а после смеются над нами, не так ли? – обратил он страшный свой взор, все еще повернутый внутрь, к рабу? Тот почтительно испуганно промолчал.
– Чего молчишь? Говори!
– Так и люди поступают, во всем подражают богам, – пробормотал раб.
– Ты – философ, – сказал Цезарь, спустил ноги на пол и сунул их в сандалии.
Умылся, сполоснул рот и вытерся льняной чистой салфеткой. Раб вышел и вошел второй раб – брадобрей. Начался день римского декорума. Раб массировал ему щеку, потом делал горячий компресс и, направив бритву, начинал скрести отросшую за ночь щетину. Брил ловко так, что почти не оставалось следов раздражения. Этот цирюльник был удачей. «Обязательно отпущу его на свободу, – думал Цезарь, пока цирюльник массировал ему лицо. – Такой мастер не должен быть рабом. И ведь недорого купил», – вспоминал он, как лично приобрел этого раба буквально за гроши, потому что наружность раб имел тщедушную и болезненную, и возраст юности миновал давно. Землевладельцы таких не покупали, матроны и щеголи городские не соблазнялись.
Невольничьи рынки были слабостью Цезаря. Однажды он купил молоденького раба за такие деньги, что постеснялся вписать сумму в расходы, чтоб не подсмотрел кто. «А этого обязательно отпущу». И раб, будто чувствуя его мысли, особенно нежно порхал пальцами возле лица Цезаря, едва касаясь, скреб щетинку, начавшую седеть.
После началось утреннее облачение в тогу. Третий раб, еще накануне сложивший белоснежную ткань, проложил все складки дощечками, и теперь вынимал их одну за другой по мере обматывания и приспускания сложной материи вокруг фигуры повелителя. Цезарь обыкновенно не завтракал.
* * *
В белоснежной тоге с небрежно волочившейся по земле задней полой Цезарь вышел на утреннем приеме. Клиенты почтительно толпились поодаль. Магистрат стоял впереди всех и любезно улыбался, все время поправляя складки непривычной для него римской одежды, в которую он вырядился по случаю приезда высокого гостя. Сам магистрат был галлом.
Дружно грянуло приветственное «Аве». Цезарь взглянул на небо, прищурился, встретившись взором с ослепительным утренним солнцем: «Так все похоже на Настоящее! – подумал он. – Хотя и во сне солнце сверкает ничуть не слабее…» Следуя старинному декоруму, Цезарь стал обходить всех, по очереди здороваясь с каждым. Магистрата он поцеловал. Задержался возле двух жрецов-друидов…
– Скажи, жрец, – обратился он к одному из них, – как отличить сон от яви?
– Во сне свидетельство затруднено, – ответил жрец. – Одно и то же всякий смотрит по-своему, и Настоящие Люди встречаются редко.
– Наяву Настоящих Людей тоже мало. Диоген днем с фонарем искал, – не нашел.
– Во сне на многие вещи глаза не закроешь, – сказал другой жрец. – Морганье рушит царство Гипноса.
Цезарь улыбнулся и стал моргать.
– Ничто не порушилось, – сказал он, – похоже на Явь! И Свидетелей сколько хочешь. О чем вы просите: о перемене или о сохранении?
«Какие странные у них лица! Совсем непроницаемы», – подумал Цезарь, пробуя тщетно проникнуть взором за каменную твердь жрецов. Увы! взгляд мячиком отскакивал или скользил бессильно по равнодушной, бесстрастной поверхности.
– О сохранении прежнего, Цезарь. Дозволь нам молиться по обычаю наших отцов!
– Пусть так и будет, – произнес Цезарь дозволяющие слова, и обрадованные жрецы хотели удалиться, выражая всяческую благодарность, когда Цезарь их задержал вопросом:
– А правда, – спросил он, – что у вас человек, когда помирает, потом может родиться камнем или деревом?
Жрец улыбнулся.
– Родиться деревом человек не может, но дух его может витать в камне или древе, как мы бродим у себя в дому. Земная и небесная география соединены.
– Не хочешь ли ты сказать, жрец, что ваши священные дубы, камни и родники соединяют землю и небо.
– Да, Цезарь, это путь на небеса.
– Для всех? – поинтересовался Цезарь.
– Для всех, кому отворится дверь, – торжественно сообщил жрец. – Все Святые Места таковы, но есть и другие. Там, где Боги спускаются на Землю – для людей таится Удача, там спрятаны груды Счастья.
– И можно пообщаться, поговорить с Богами?
– Не пообщаться – соприкоснуться. Божества воплощаются в Духе, как в чувствах мы воплощаемся в телесном.
– Что ж, я знаю теперь, где прячется Счастье, – сказал Цезарь и жестом отпустил Жрецов.
Так поздоровавшись со всеми уселся Цезарь на возвышении в креслице, и первым к нему тут же приблизился его личный секретарь – раб. Стал вполголоса докладывать: «Антоний и Курион прибыли. Из Рима их, по слухам, изгнали. Возбуждали солдат, и сейчас должны быть тут…»
– Послушай! – перебил его Цезарь негромко, так чтобы стоявшие в отдалении не могли его услышать. – Правда, меня считают развратником и прячут жен и дочерей?
Секретарь опустил глаза долу, не зная как ответить.
– Иль, скажем, что я ставлю себя выше всех смертных… Отвечай! – приказал Цезарь.
– Такова легенда, Цезарь! Так люди говорят, – нехотя ответил секретарь.
– Что еще говорят люди?
Секретарь не знал, как ему быть.
– Разное, – промямлил он. – Я не прислушивался к тому, что люди сочиняют…
– А разве есть что-нибудь помимо того? – спросил Цезарь, соображая про себя удивительную убогость лица секретаря. «Боги! Да ведь и лица-то вовсе нет! Отдельные подробности ненужные никому. Фигуры, лишенные жизни. Как пусто и казенно внутри истории про нас самих! Что надо сделать, чтобы Легенда обрела страсть и теплой кровью наполнились и ожили легендарные люди?! Где воображенья полет, кто написал так постно и скучно нашу великую драму жизни?! В Легенде ведь все возможно! Где ласковая фея? Где звездная нимфа и полет счастливого чувства?!
Тут Цезарь остановил свой взгляд на кончике носа раба-секретаря, и мысль прервалась. Кончик носа был весь в мелких бисеринках пота, покраснел и шевелился совсем отдельно от остального лица. Самого же лица теперь совсем не было: смазливая наружность так и расползалась под цезаревым взглядом. «Какой немыслимый урод!» – воскликнул беззвучно Цезарь и увидел, как поехала верхняя губа у секретаря в сторону, обнажая зубы с одной стороны, при этом нижняя губа стала растягиваться одновременно в ту и другую половины наружности. И вот мерзкая жалкая улыбка лакея обнажила ровные мелкие белые зубы. В глазах при этом, как рыба в омуте, притаился и прятался под корягой на дне откровенный ужас.
– Я хочу, – сказал Цезарь совсем тихо, – чтобы пока я тут, живу внутри Легенды, явилась мне нимфа небесная, ласковая Муза, восторг и чудо неземное, что-нибудь! Потом ведь все равно сухой переписчик выбросит лучшие строки. История не сохранит того, что было главным при жизни. Не бойся, раб! Раз я попал в Живую Легенду – пусть будет чудо! Иди! – отпустил он секретаря. – И думай!
Судорожно проглотив горловой ком, отступил секретарь.
Очередной проситель приблизился вместе с Магистратом.
– Чего ты хочешь? – Цезарь оглядел вмиг неловкую фигуру. «Тоже галл, не умеет носить тогу, чужая одежда, а старается…»
– Вот, – протянул неловкий человек свиток, – обращаюсь к тебе, Цезарь, как к богу – не откажи.
Магистрат наклонился к Цезарю и тихо произнес:
– Вернейший человек, – и тут же почтительно отпрянул.
– Ты просишь о гражданстве? – Цезарь пробежал глазами свиток-прошение. – Зачем ты хочешь стать римским гражданином?
– Хочу, Цезарь, чтобы сын мог называть имя отца, – тихо ответил проситель.
– Вот оно что… для сына стараешься. Что делает твой сын?
– Он строит дома, храмы. Он – зодчий, Цезарь, – не без гордости ответил проситель.
– Да будет так! – сказал Цезарь, и просияло лицо просившего. – Однако, – добавил Цезарь, и сияние настороженно застыло на лице, даю тебе гражданство с тем условием, чтобы выстроил ты здесь, в Равенне, общественные бани. Согласен? Как ты считаешь, Магистрат?
Одно мгновение колебался проситель. Магистрат толкнул его в бок.
– Согласен, Цезарь, – грустно сказал проситель, уже сейчас соображая, откуда он наберет денег на постройку. «Соглашайся! Не думай!» – шипел ему на ухо Магистрат.
– Согласен! – снова выкрикнул проситель.
– Тебя и сына твоего будет народ благодарить и помнить века. Ты сможешь имя свое на входе выбить!
– Благодарю тебя, Цезарь! Воистину ты щедр, – благодарил и кланялся новый гражданин Рима.
Потом один за другим подходили те, кто ничего не осмелился просить и лишь свидетельствовали свое почтение, и взором надеялись на приглашение к обеду. Одних Цезарь позвал на обед, другим – сказал ласковые слова, третьих одарил улыбкой – никого не оставил без внимания.
Уже заканчивался утренний прием, и последние клиенты, граждане Равенны, готовились подойти к Цезарю, чтобы после у себя в доме рассказать, как они сегодня говорили с великим Цезарем и что он им сказал в ответ. Счастливцы, получившие приглашение на обед, чувствовали себя на седьмом небе и заранее соображали, как это поднимет их и в чьих глазах, предвкушали торжество над врагами и недоброжелателями и кураж перед завидующими друзьями…
В этот самый миг и появились Курион с Антонием в сопровождении двух центурионов. Их вид говорил за себя. В пыли, разорваны одежды, лица небриты с воспаленными глазами от бессонной ночи и бешеной скачки.
Все почтительно отступили в одну часть атрия. Цезарь подошел к ним тот же час и обнял каждого, облобызал троекратно.
– С какой вы вестью? – спросил, жестом как бы приглашая всех в свидетели того, что скажут прибывшие.
– Цезарь! – воскликнул Антоний. – Рим назначил Помпея единой властью. Нас гнали с позором, палками, как рабов! Твоих посланцев!
– Друзья-сограждане! – воскликнул Цезарь. – Все знают, что дружбу и преданность я ставлю выше всего. Я всегда был великодушен даже к врагам. Увы! Я обречен на одиночество и зависть! Меня ненавидят даже те, кто ценит и еще недавно был мне другом. Кто исполняет вышнюю волю, – Цезарь пальцем ткнул ввысь, – отвержены! Обречены! Но горе тем, кто помешает исполненью…
Тут все придвинулись к Цезарю и стали заверять:
– Цезарь! неужели мы тебя предали? Цезарь! В чем упрекаешь ты нашу верность тебе?! – орал Антоний. – Разве не сам ты медлишь с приказаньем? Веди нас!
– Я сделаю все, чтобы охранить Рим. Все будет хорошо, коли я того пожелаю! – так рек Цезарь.
– Пожелай! – выкрикнул Антоний.
– Эти слова повторяют твои враги, – сказал Курион.
– Знали бы они, Курион, причину, почему со мной надо говорить осторожно, а слова считать законом… – спокойно и загадочно заявил Цезарь, однако причину не огласил. – Магистрат, готова ли баня?
Магистрат почтительно кивнул.
– Баня приготовлена раньше обычного, Цезарь, как ты приказал.
– Не приказал, но просил, – поправил его Цезарь.
Тут появился секретарь Цезаря, лицо у него так и перекашивало от возбуждения. Цезарь сделал дозволяющий подойти жест. Раб приблизился и зашептал Цезарю на ухо:
– Я обнаружил! Цезарь! Как ты приказал… нимфа… Продают на базаре. Невольница.
– Ты, раб, свихнулся! – посуровел Цезарь. – Безумную рабыню мне предлагаешь?! Не боишься? Ведь головой ответишь!
– Люди говорят, невероятной, мол, красоты. Прости меня, Цезарь, если чего не так! Однако взгляни! Если безумица – чем ты рискуешь, кроме как выпороть меня… Я для тебя стараюсь… Сам говорил – история не сохранит…
– Магистрат, – обратился Цезарь к почтительной фигуре, стоявшей деликатно поодаль. – Я передумал. Вначале хочу взглянуть на твой город и рынок, поглядеть на тех, кого судьба растоптала, минуя их волю. Говорят, живой товар в Равенне особенного качества! Нет чувства страшней – бессилия. Когда ничего не можешь поделать и даже убить себя нет власти… Веди, Магистрат, туда, где продают живых людей, – воскликнул Цезарь, и Магистрат не мешкая отдал приказ. Два центуриона двинулись впереди, за ними Магистрат и Цезарь и после все те, кто толпился в атрии. Клиенты сопровождали патрона.
Пышная процессия двинулась по улице Равенны, вызывая неподдельное любопытство граждан и рабов. С опаской поглядывали люди на повелителя. У кого ненависть была во взгляде, тут же глаза в землю упирал: не дай бог – заметит Повелитель!
Самые причудливые и странные лица высовывались из окошек, стиснутых камнями. Так и выставлялась какая-нибудь немыслимая рожа в узкой каменной прорези, невольно приковывая взор безобразной своей наружностью. В одном месте Цезарь даже остановился, не поверив глазам своим. Рожа в то же самое мгновение пропала.
– Кто тут живет, в этом здании? – строго спросил он Магистрата.
Магистрат поглядел на Цезаря странным взором.
– Тут никто не живет, Цезарь. Этот дом на продажу… Может, бродяга какой забрался, – предположил он, и Цезарь лишь досадливо махнул рукой.
Но вот впереди показался рынок, и отвлекся повелитель. Шум, толчея так и вцепились со всех сторон, обращая на себя внимание, липкими настойчивыми пальцами заворачивали в свою сторону.
– Веди, Магистрат, показывай, где у вас тут музами торгуют?
Невольники и невольницы стояли на дощатом круглом помосте, который поворачивался по мере того, как аукционер-зазывала начинал выкликать с прибаутками достоинства очередного раба.
– Малоазийские прелести! Способные и шустрые ребята! Верят только в своего бога, поэтому другие боги их не любят… 3000 сестерциев! 3500 тысячи… раз! 3500 тысячи два! кто больше?
Больше никто не предложил, и пожилой земельный владелец купил раба из Малой Азии за 3500 сестерциев. «Все эти сирияне, иудеи и прочие оттуда – замечательные приказчики, – объяснял он кучке своих клиентов, сопровождавших богатея на рынок. – Кровь выпьют, и самый ленивый у них станет работать. Конечно, глаз за ними нужен: мудреный народ…»
– Черноморский скиф! Лучшие гладиаторы! В сельской работе перетянет троих… – меж тем преподносил Ведущий Продажу очередного, высокого и по виду сильного, раба. – 5000 сестерциев начальная цена…
Покупатель знаком показал, что желает осмотреть раба. Тот соскочил с помоста, разделся. Покупатель стал щупать мускулы, заглянул в рот.
– Вот это жеребчик! – захихикали в толпе, увидав срам раба, который был необыкновенной величины. Две матроны глаз не могли отвести от такого чуда, однако торговать раба не стали.
Рынок был небогат сегодня. Похоже, все эти рабы были перекупные и несколько раз сменили они жадные руки торговцев. Торговец, человек невысокого роста, кланяясь приблизился к Цезарю.
«Какой у него неприятный взгляд, как у змеи, – подумал Цезарь. – Занятие, конечно, не из возвышенных…»
– Чем могу служить тебе, Цезарь! За счастье почту, – сказал торговец, заискивая с самой любезной улыбкой, однако глаза так и остались холодными.
– Говорят, у тебя здесь муза продается? – сказал Цезарь. – Не боишься торговать божественным?
– Разве посмел бы я! Шутишь, Цезарь! – воскликнул торговец. – Она – безумная колдунья, Цезарь! Я уже на ней пострадал и крепко. Купил за 5000 тысяч в расчете заработать. Теперь не могу продать за тысячу. Никто ее не берет. Кто пробовал сойтись с ней – лишились силы. Из трех притонов вернули: разоряет, клиенты бегут от нее.
– Что она красива? Небось польстился на внешность, раз так много заплатил?
– Польстился, – послушно согласился Торговец.
– Показывай, я не боюсь колдовских чар! – приказал Цезарь.
– Не говори потом, Цезарь, что я тебя не упредил, – мялся Торговец.
– Веди, где ты прячешь божественное? На чем надумал нажиться! На посланном с неба, если правда она – нимфа! А если больше того – Муза? Тогда совсем тебе не поздоровится: Музы не любят тех, кто ими торгует… – засмеялся Цезарь.
– Я честный торговец, – сказал в ответ Торговец Рабами, и в голосе у него звучала обида. – Мой товар всегда пощупать можно, и в том я честнее. Разве прочие вокруг не продают себя и других да так, что неизвестно чего тебе всучивают, в результате. Продавая другого человека, я не обманываю. Открыто продаю, без всякой хитрости…
– Ты дерзок! – сказал Цезарь. – Хоть прав отчасти, когда про других говоришь. Жаль, ты себя не видишь!
Вспыхнули глаза у торговца.
– Прости, Цезарь, – сказал он. – Ты – владыка, а я презренный торговец рабами. Я – свободными людьми, ведь, не торгую. За что меня упрекаешь? Вот! – показал он рукой на клетку, в которой сидела женщина, и отошел в сторонку.
– Выведи ее наружу! – приказал Цезарь, – я не вижу толком, даже как она выглядит.
Торговец крикнул повелительно, однако женщина не отозвалась.
– Ты видишь, Цезарь, я тебе говорил, – сказал торговец. – Убил бы давно – денег жалко потраченных на нее.
– Выведите ее! – приказал Цезарь телохранителям, и те полезли в клетку.
В ту же секунду она легко поднялась и подошла к Цезарю, так что теперь их отделяла лишь загородка.
– Не боишься, Цезарь, совершать насилие над божественным созданием? – спросила усмехаясь.
Цезарь глядел на нее внимательно и поразился: так хороша и удивительно грациозна была рабыня, что невольно страх даже в сердце к нему проник: «А ведь и правда – богиня! – подумал он. – Не может смертное созданье быть столь прекрасным!»
– Ты очень красива, – сказал он вслух.
– Забери меня, Цезарь, к себе, – сказала она. – Ты – земной владыка. Я – пришла со звезд. Смотри, какая пропадает красота! – и поворотилась легчайшим одним движением. Все так и охнули от восхищения.
– Ты – нимфа, богиня или Муза? Как тебя зовут?
– Меня не зовут, я сама прихожу, – улыбнулась красотка.
– Торговец, я забираю у тебя божественное создание! Не тебе владеть небесным – торгуй земным! Божественное не переносит рабства…
Тут он наклонился к Магистрату и шепнул ему:
«В баню мне ее пришли!»
Магистрат кивнул. «Торговцу заплатить его 5000!» – приказал Цезарь. Торговец кланялся и благодарил, все хотел дотронуться от переполнивших его чувств до Цезаревой тоги, но его вмиг оттеснили.
Рабыню посадили в носилки и понесли. И Цезарь не задержался там, где пахло рабами, круто повернувшись, зашагал прочь от невольничьей толкучки.
* * *
В банях Цезарь не стал задерживаться в гимнасии и от игры в мяч отказался. Его познабливало, и он прямо отправился в душный жаркий кальдарий. Сегодня парился он в одиночестве. От горячей обволакивающей влажной нежности размягчился Цезарь. «Все сон! – устало думал он. – Малая часть моя. Остальное – чужие сны, в которых я занимаю так много места, что не проснуться, не выскочить… Такое сновиденье от яви не отличишь ничем…»
Неслышно вошла рабыня. Остановилась, не доходя шага, в ожидании…
– Ты – из моего сна! – сказал ей Цезарь. – Крупица личного, того что только мне принадлежит…
Рабыня улыбнулась.
– Я из твоей легенды, – сказала она.
– Кто ты? – Цезарь приподнялся на локте. – Не может такая краса, язык, движение быть у рабыни.
– Я – Муза истории, Цезарь.
– Которую я на базаре купил! – воскликнул Цезарь.
– Так было легче мне посетить тебя, попасть в одну с тобой жизнь.
– Почему ты не сохранилась в ней?
– В рассказах о Победителях, таких как ты, – для Музы нет места. Да и кто из смертных, что сочиняют прошлое, способен поверить в меня, по-настоящему? Без аллегорий. Разве ты веришь, Цезарь, что я – Муза?
– В это трудно поверить, – пробормотал Цезарь. – Ты – сон, в котором себя не помнит человек.
– Раз так – не спрашивай, не домогайся причин у Музы. Я следую вдохновению – не рассудку. Рассудком мной не завладеешь.
– Сама пришла, за что такая честь?
– Ты – Цезарь – любимец Муз. Я лишь одна из них…
– Как лестно все то, что говоришь ты. Какой изысканный язык: у рабыни такого не бывает… О Боги! Как мне поверить в Тебя?! Меня охватывает безумие, дрожу священным трепетом… Мне кажется, я знаю тебя, только не припомню, как, где? Как по-иному ощутить тебя, Божественная Муза?
– Отдайся мне, полководец! Забудь про брань и славу – отдайся Музе! Вот и проверишь, когда соединишься со мной, любовный мы заключим союз: иного не терпят Музы и мстят насильникам…
– Кто устоит пред искушеньем! – воскликнул Цезарь. – За сладкий Союз с Божественным в земной красе – готов я всем пожертвовать!
– Ты лжешь, удачливый полководец, – сказала женщина, лаская ему плоть. – Лжешь!
– Нет, я не лгу. Я твой! – шептали его губы.
О! как были ласковы и как легки прикосновенья маленьких божественных рук! Какая гладкость кожи, какой у смертных не бывает… «Я буду вечно твоим! – шептал Цезарь, вступая с Музой в окончательную любовную близость, испытывая от этой любовной близости такую сладость, такое счастье, какого не знал еще в жизни своей.
– Воистину! Ты – сладчайшая Муза! – воскликнул он в последней истоме жизненного чувства, после которого существование прерывается, не в силах дольше обременять.
– Вот видишь! Нет проще средства, чем отдать себя божественному, чтобы поверить, – ласково сказала ему Муза, хотя Цезарь уже не слышал ее слов, позабывшись в счастливом чувстве, – поверить, но ненадолго. Ты не узнал меня, а Музе надо отдаться навсегда, навечно, – печально сказала Муза и, легкой став тенью, покинула Цезаря.
Очнулся Цезарь.
– Как было мне хорошо с ней, какая удивительная рабыня, – думал он не в силах сразу придти в себя. – Я сделаю ее свободной… Конечно, она безумна по-своему, что верит будто она и есть великая Муза…
Открыл он глаза и понял, что рабыня его покинула. Оставила надпись: «Ты не узнал меня?!» Не может быть!?! – воскликнул. Вмиг поднялся с каменного влажного и жаркого ложа и выбежал в раздевалку. Кликнул стражу. Перепуганные вмиг прибежали два Центуриона, а с ними сам Магистрат…
– Где рабыня?! Сыскать немедля! – рявкнул Цезарь. – Сбежала! Вернуть! – кричал Цезарь, еще не в силах забыть пережитое только что счастье, уже предчувствуя навек потерю.
Угрюмый, отправился он отдохнуть часок перед обедом, приказав сразу будить, если сыщется рабыня
.
* * *
Разбудили его к обеду и первое, о чем спросил Цезарь, сыскалась ли рабыня?
– Еще не сыскали, Цезарь, – последовал смущенный ответ Магистрата. – Я все дороги перекрыл, далеко не могла уйти…
– Похоже на то, что правду она говорила, – мрачно изрек Цезарь. – Тогда ее не вернуть мне, моей музы. Поздно. Готов ли обед?
* * *
Обед начался в полном молчании. Цезарь хмурился и никто не решался начать разговор. Антоний ел жадно. Курион был задумчив и кокетливо поигрывал палочкой с заостренным концом. Гости почтительно поглядывали на повелителя, ели торопливо все, что подавали на стол. Подавали надо сказать отменно: старался Магистрат.
Вначале шли всякие закуски. Маслины так и лоснились маслянисто темными боками. Острый гарум был отменного качества. Хлеб подавали еще горячим. Отдельно – горячие бобы. Потом какие-то невероятно нежные колбаски местной выделки. Потом шли рыбные перемены. Когда же принесли устриц, таких белых, таких свежих и нежных, что могли соперничать с перламутровой нежной белизной самой раковины, – вдруг повеселел Цезарь. Улыбнулся и разом за столом будто солнышко засветилось…
– Вот, – сказал Курион, – эта палочка называется – стимул. Ею греки колют в незаживающую ранку на шее у осла, когда он упрямится. А мой знакомый все время заявляет, что у него в жизни нет стимула, не хватает стимула…
Смеялись.
– Цезарь! – воскликнул Антоний. – Неужели тебе недостает такой вот палочки, чтобы действовать? Скажи причину, которая оттягивает решенье?
– Это мой последний шаг к вершине, – ответил Цезарь. – На вершине достигать нечего. Тяжкий замысел судьбы, Антоний, себя исчерпывает, круг замыкается и актер, исполнивший роль, будет лишь с трепетом ждать рукоплесканий невидимой толпы божественных зрителей. Вот я и думаю: похвалят ли? Зарукоплещут?!
Или в молчании старости лишь смерть нас ждет впереди? С другим не сравнимое отчаяние достигших вершин в земном от полного бессилия пред Небом! Не верю! Не может так быть, чтобы без всякого смысла вершилась Судьба! Когда в земном достигнута вершина – должно распахнуться небо! Как может, чтобы блестяще исполненная роль не награждалась аплодисментами? Не рукоплещут бездарю.
– Ты неземного ждешь рукоплесканья, а Боги рукоплещут, когда в неземные ступишь пределы, Цезарь. На небесах, говорят мыслители, нас ждет признанье. Здесь на Земле божественное проявляется осторожно и небеса стерегутся, в особенности, если ты – любимец богов. Человек – созданье хрупкое, вспомни Семелу, сгоревшую под взглядом Зевса: взгляд бога живого для нас губителен, – так возразил ему сотрапезник. – Не ловушка ли это, Цезарь, нашего устройства? когда ты говоришь про смысл! Разве бессмысленное существование мучительно? Вон, погляди, сколько народу живет безвестно и робко, без всякого свершения и замысла. А так просто, потому что родили, живет, не ведая себя и не нуждаясь в смысле…
На это Цезарь так ответил:
– Когда Мастер завершает скульптуру иль роспись – сотворенное начинает жить. Мы видим чудо воплощенное: из Ничего родилось Прекрасное, в котором есть все. Судьбинский круг, когда замкнут, и замысел исчерпан, подобен творению искусства. Из вязкого материала жизни пальцы Судьбы лепят Завершение. Загадка в том, кто я – глина или пальцы?
– Глина и пальцы равно отдыхают, когда завершена скульптура…
– Кто же живет, иль Что? Иной жизнью? – воскликнул Цезарь. – В чьих глазах.
– Цезарь! – воскликнул философ. – Человек умирает и вновь рождается много раз. Как Феникс становимся мы хладным пеплом, удовлетворив собой огонь желаний. И в новом огне, новой страсти, вновь воскресаем, рождаемся из пепла. Чтобы чувствовать жизнь все время – надо все время претерпевать смерть. Таков сюжет существования. Тут и богам завидно, ибо не раз в 500 лет, как птица Феникс, а всякий день способны мы жечь себя и воскресать: вообрази силу жизненного чувства! Иное дело, что воскресаем мы – другими людьми. Тот человек, который прежде был нами – гибнет. Мы так меняемся, что прежнего Себя – совсем не помним. Как он переменился! – кричат вокруг. – Я знал его двадцать лет и вдруг – человек стал неузнаваем! А это просто другой человек. Тот же, кого ты знал лет двадцать, – умер! Так мы не помним и прошлых наших рождений и жизней… Чудо не в том, чтобы восстать из тлена и жить, а в том, чтобы воскреснуть Себя не утратив!
– Женщинам много легче. Они себя не утрачивают, – заявил Курион. – Только кричат в сладкую минуту: Ой! Умираю! И тут же воскресают снова теми же, что были и с прежним желаньем: тут ненасытны они и смерти не страшатся. Пугает женщин старость…
– Вот я и откладываю решенье, не в силах поверить в тщету Судьбы, – задумчиво произнес Цезарь. – И в ожиданье чуда, которое единственно по исполненью: хочу быть счастливым! Исполнив земное – хочу все время быть счастливым!
– Ты, Цезарь, желаешь богом стать, – заметил на такие речи пьяница Антоний. – Лишь Боги всегда счастливые, и то, пока в земное дерьмо не вляпаются… – и хохотал, хохотал и багровел опухшей рожей…
– Ты прав! – воскликнул вновь Цезарь. – Для настоящего счастья надо соединяться с божественным! Сегодня я про то узнал. Увы! Муза истории не любит гласности, и та легенда, в которой мы все живем, – счастливых мгновений не хранит.
Тут все на время смолкли, задумавшись. Проворные рабы убрали остатки еды, посуды. Красивый виночерпий стал разливать вино. Музыка заиграла, и плавно играя формами пышными, бесстыдная гадитянка начала свой волнительный танец…
– Я расскажу вам, друзья, свое ночное виденье, – сказал Цезарь. – Свой странный сон, в котором все обнаружило себя, что будет с нами. Решенья, Антоний, не мы принимаем, – мы лишь угадываем содержанье…
Видение Цезаря
Я побывал в Аиде! – так начал Цезарь свой рассказ. – Аид называется Третьим Римом. И всякий, кто находится там, рождается в этом Загробье, как в самой обычной жизни. Только себя не помнишь, до поры до времени. И даже не ведаешь, что происходит вокруг на самом деле. И я – Цезарь, там родился, как все. Таково рождение в Аиде. Ты думаешь, что вокруг идет жизнь, что другой жизни нет, и даже радуешься жизненному чувству, любви, пока в какой-то миг, вдруг, не открываются глаза, и ты понимаешь, Кто ты такой и куда ты попал. Вот когда начинаются Аидовы мученья. Что может быть ужасней родиться Цезарю среди рабов. Несчастных существ, совсем перед тобой невиноватых.
О Боги! Что это была за жизнь! Эти проклятые комнатенки, в которых ютилось по несколько человек! Эти бесконечные очереди за всем, чего бы ты ни захотел. Сутолока и сумрак. Все серое, убогое, некрасивое… и звуки, это постоянное бормотанье, шарканье ног, гул странных повозок… С самого утра миллионы рабов бежали на свои рабские службы и копошились так до вечера. Вечером забивались в свои жалкие конуры, отдыхали, как могли, и утром снова бежали соответствовать великому рабству жизни. Потому что главное была не работа – а соответствие этому рабству. Были там и очень умные люди. Свое существование они очень ловко объясняли. Пусть, говорили, во внешнем мы – несвободны; зато внутри, в душе нашей и мыслях – парим!
Вот и спрашивается: если в мыслях ты – князь, а живешь рабом, – кто ты такой? Безумцы! Философы рабской жизни! Поэты, воспевающие кнут. Нет! Не передать словами этой тягостной, из мелких чешуек, дремы, которая затягивала, как грязная занавеска, души Людей! Заволакивала сознание и люди, даже хорошие, умные, в сумерках той жизни переставали различать цвета, краски пропадали, и даже черное и белое в равной мере становилось – серым.
Но самое смешное, что они, эти существа в том страшном мороке-сне, называли происходящее с ними Жизнью! Про свою загробность они и не ведали: боялись смерти, находясь в ее чертогах. Вместо того, чтобы бежать оттуда, не оглядываясь, лишь случай подвернись – скорбели о том, что придется расстаться с тюрьмой. Находясь в Аиде, боялись Аида и помещали его там, где начиналась жизнь. Все перевернули в том жутком царстве… Они спасали уродов и слабых, а сильных и талантливых уничтожали!
Больше всех мне досаждали рабы при искусстве, танцоры, поэты, ученые… Ненавидели с первого взгляда, как ненавидит разбогатевший раб разоренного хозяина. «Подумаешь! корчит из себя принца, Цезаря! – злобно так восклицали. – А мы тут хоть удавись, пляши вприсядку!»
Как они надо мной издевались, ощущая мою особенную природу! Стоило мне их приблизить или самому потянуться к ним искренне – тут же наглели и едва ли ногами не начинали попирать. Отдалюсь, бывало, – ненавидят. Мол, смотри, какой гордец, заносится! Нас за людей не считает!
И еще – чиновники, Магистраты – те сразу служивым нюхом прозревали во мне опасность, не любили сильно, однако – уважали. Даже советы давали, поучали, мол, нельзя себя так вести, как ты ведешь себя: сам в дерьме, а жесты царские, замашки! Ты очень, говорили мне, странное на других людей производишь впечатление.
Не может быть, – решил я в какой-то миг, – чтобы такая жизнь происходила Наяву. Все это мне снится, либо я в преисподней, тягостном загробном царстве, где мучения составляют главное в существовании. И все эти люди вокруг – одни лишь тени, подставленные для виду, которые истаивают от печали и смертных чувств. И все, что вижу я, – морок один, через который осуществляется мое наказание, непонятное и несправедливое.
Стал я искать путей спасенья, высматривать правильное Учреждение, где сидит Радамант или его подручный Магистрат Загробья. Чтобы потребовать, просить – отпустить меня с миром! Избавить от смертной и хладной, жуткой грезы. И чувствую – не вырваться мне, не проснуться. Самоубийство не помогло! Увы! Тут же меня возвратили к той же самой тусклой и страшной жизни этого загробного полумрака. Я понимал, конечно, что мертвым не дано себя убить. Но согласиться с тем, что я уже мертв – нет! К этому я не был готов, душа моя была жива… Понял я тогда, что в одиночку, не очнуться мне из этого сна и не избежать мучений…
– Скажи, Цезарь, а женщины в том царстве смерти были? Любил ли ты их, как любишь здесь? Любили они тебя? – стали спрашивать гости.
– Женщины там были, однако одиночества моего они не могли прогнать: ведь женщина подобна жизни, зерцало существования. А в той загробной грезе основой жизни , главной ее пружиной была нужда Жить, Быть как Все. То есть Никем и Никаким. Вот женщины и отражали в своих чувствах эту серую одинаковость. Потянется вроде, ощущая необычность мою… А после видит – нет подтвержденья высоты моей природы и отшатнется тут же. Ведь Цезарем я был лишь в личном чувстве, – я знал, Кто я. Но Знал в одиночестве.
– Скажи, Цезарь, кому там поклоняются в Аиде? Каким богам?
– В особых храмах там поклоняются невидимому Богу, единому в трех лицах.
– Как у этрусков, подобен их бог четырехликому Янусу.
– Невидимый, как у Иудеев…
– Да, боги у них иудейские, – подтвердил Цезарь. – Но наши иудеи кладут запрет на изображенье, а там, в загробье – рисуют божество и поклоняются ему через намазанный лик.
– С чем схоже изображенье их бога? Подобное Зевесу или Египетской природы?
– Их бог подобен просто человеку, в изображенье, – сказал Цезарь. – Тут какая-то тайна, ибо цель и смысл поклонения – Спасение, и жизнь иная и вечная… Все это меня и натолкнуло на отдельное подтверждение моей догадки о том, что мир и жизнь вокруг – ненастоящие. Но как их Бог спасает от смерти себя ей предавая – не понял я. Они распинают Его, чтобы потом с Ним вместе воскреснуть. Подобно Озирису или Орфею…
– Как же ты спасся, Цезарь? Неужто через иудейского божка? – захохотал Антоний.
– Ко мне явилась Муза, – ответствовал Цезарь. – Спасительная фея из тех, что прилетали к царю Нуме, в древности нашей. Она-то мне и шепнула: «Возвращайся, Цезарь! В Истории все это числиться не будет все равно! К чему страдать напрасно… Я вновь приду к тебе в достойном тебя существовании. Здесь жизни нет». – Но как мне отсюда вырваться, – воскликнул я. – Я пробовал даже убить Себя, чтобы исчезла пелена вокруг – не вышло… Как ускользнуть из подземелья?
– Убить и уничтожить можно лишь живое – а здесь ты, как мертвый, – ответила мне Муза. – Другое надо, чтобы уцелеть и выскользнуть в спасительную дверь – Признание. Хоть кто-нибудь из этой жизни должен увидеть в тебе Цезаря – тогда ты спасен.
– А ты? – спросил я. – Ты, разве, меня не узнаешь?
– Я этой жизни не принадлежу.
Сказала и растаяла. Вокруг совсем сгустились сумерки и стало глухо: ни человека рядом, ни богов… Где, средь кого мне взыск чинить признания Себя такого как я есть? И чувствую в себе нежданное вдохновение, как будто отвечает мне Музой вдохновленная душа моя и говорит – куда идти.
Стал вновь обходить загробные магистратуры, думаю, вдруг наткнусь на прозорливого. Долго бродил, пока однажды попал, видать, туда, где жребий мой поджидал меня. И магистрата увидел за странным таким столом, прямо на перекрестке жизненных дорог. К нему много путей судьбы сходилось, и люди, иль тени – не ведаю того, так и тянулись, брели каждый своим.
Пришел я к нему и прошу: Спаси, – говорю, – меня от этой жизни!
Он смотрит на меня, и вот что удивительно, вроде место он занимает и фигура есть, в особенности издалека, а в то же время, как будто место пустое, только взгляд один и чувствую на себе. «Ты – Цезарь!» – говорит он мне: вмиг признал. Я диву дался и чувствую – конец приходит моим страданиям. Тут он мне предлагает отправиться в другую географию. «Спаси меня, – прошу я. – Убери меня совсем из этой жизни… Отправь меня туда, откуда я пришел», – прошу я его.
Он и отправил. Нарисовал рукой, очертил так легко в воздухе дверцу, и дорога открылась. Я по этой дорожке и пошел. Долго шел, пока уже совсем под утро появились знакомые места и очнулся я наконец от тягостного сновидения.
Вновь с вами, друзья. И эта беседа в историю не попадет. Не попадет в историю и сегодняшняя встреча моя. Она опять явилась мне, чудесная Муза, Богиня, а Я… – не узнал ее. Да и не смог бы отдаться, как там, в Загробье. Здесь иные нас ждут заботы: когда звенят мечи – муза уходит. Наверно, Власть и Вдохновенье редко соприкасаются.
– Гениально! – закричали гости за столом, выражая всячески восторг. – Воистину ты, Цезарь, дружен с Музами…
– Увы! Если бы так, – сказал Цезарь. – К несчастью – все это голая правда.
Но вот какая странная мысль мне не дает покоя: не обманул ли меня тот Магистрат в Аиде-Сне. Взял и отправил меня, но в жизнь ненастоящую, а в нашу с вами сочиненную легенду. Ведь там, в загробном сне, откуда я вырвался при помощи вдохновенья Музы, я про себя все знал. А здесь? Кто сможет доказать, что все мы сейчас в живой и настоящей жизни? Что мы не выдумали, не сочинили сами происходящее с нами? Составили живое описание себя, событий, страстей и стали тем, Чем Кажешься! И жизнью живем сейчас мы вовсе не настоящей, а легендарной.
Внутри легенды я нахожусь про самого себя и нас всех, легенды сложившейся при нашей жизни. Вот отчего так легко было загробному Магистрату меня оттуда отправить, потому что оправил он меня не в прошлое живое, а в историю, которая, как известно, живет вечно, которую мы своим присутствием лишь оживляем в памяти человеческой.
– Цезарь! Разве не лестно человеку при жизни стать легендой! Не это ли высшее достиженье в жизни! – воскликнул Курион.
– Это ловушка, Курион, из которой не выбраться. Быть героем легенды, – тягостней нет существованья: игрушка и прихоть тех, кто сочинил тебя! Марионетка, осознающая свои дерганья и бессильная во всем, кроме страданий. Потому что страдания у тех, кто стал легендой, – сохраняются самые неподдельные, настоящие человеческие. Только никто про то не ведает! Потому что в легенде про наши страдания ничего не Написано! И вся мука – невыразима, сохраняется при тебе и переживается втихомолку, лишенная спасительного выражения, спасительных излияний человеческого горя… Легенда суха и равнодушна к своим героям. И стоит мне исполнить предначертанное – опять я попаду в тот страшный загробный Третий Рим. Потому что видение мое – не сон. И вновь буду мучиться, пока не доберусь до Страшного Магистрата, который вновь с легкостью переправит меня сюда, в то же место нашей с вами легенды… И так кружиться я буду вечно, не в силах порвать порочный круг и не ведая про ошибку, которую совершаю вновь и вновь в неведомом месте. Вот отчего, друзья мои и соратники, я оттягиваю решенье, сколь могу, ибо все равно все предначертано и будет так, как записала нежная ручка Клио.
– Цезарь, неужто вправду ты, сочинив эту прекрасную историю, хочешь заставить нас в нее поверить? – зашумели сотрапезники. – Разве в такое можно поверить?!
– Поверить трудно, – согласился Цезарь. – Меня сегодня в бане ласкала Муза, а я и не понял, тоже не поверил…
– Ха, ха, ха, – давясь от хохота, Антоний никак не мог выговорить слово: – Мууузза! – наконец прохрипел он. – Гениально!
– Муза нас может посетить в любое время и в любом месте. Меня она посетила в бане, прикинувшись рабыней, смиренно ласкала меня, а я не поверил, не понял, что это спасение мое пришло. Что стоило мне ради нее пожертвовать Легендой – и спасусь. Я ей отдался, спасительной Музе, но только на мгновенье, и тут же очнулся. Пришел в себя – Муза тотчас же меня и покинула. Магистрат, сыскали рабыню?
– Нет, Цезарь, как в воду канула…
– Прекратить поиски, здесь ее с нами давно нет.
– Мне нравится, Клянусь Богами! Наша легендарная жизнь! Скажи, чего тебе не хватает, Цезарь? По мне – тут все есть: женщины, вино, богатство, звезды, даже магистрат и тот есть… еще одна победа – и будет совсем полная Легенда!
– Ты прав, все имеется в нашей сказочной жизни, – ответил Цезарь. – Кроме одного: Надежды!
– Какой еще надежды? Разве что на победу! Я в это сильно верю!
– Надежды – на Иное! Внутри Легенды все уготовано, и быть Иного не может!
– Написанное можно дополнить! – воскликнул Курион.
– Дополнить, не переписать! Не сочинить иное, возвышенное, лишь старчески добрать уже постылой радости!
– Цезарь, в написанной легенде, истории известно все наперед. Скажи, мы победим?
– Мы победим, чтобы погибнуть, Антоний!
– Как, Цезарь, как мы погибнем? – кривлялась багровая рожа Антония, давилась смехом.
– И мне скажи, Цезарь, как суждено мне погибнуть? Скажи, Цезарь! – стали приставать подпившие друзья.
– Тебя, Антоний, погубит любовь царицы…
– Не худо, я согласен! – закричал Антоний и захохотал вновь красной своей рожей.
– Тебя, Курион, погубят собственные страсти.
– Иносказательно говоришь, Цезарь. Какую себе ты участь заготовил?
– Трагическую. Антоний, ты переживешь меня!
К вечеру у Цезаря разболелась голова. Он боялся припадка и удалился в дом, в темную, без звука комнату. Звук, свет и особенно запахи мучили его бесконечно. Боль вяло пульсировала в онемевшей голове. В горле стоял противный ком. С этого всегда начинался припадок. Он лежал, застыв, без движения, боясь пошевелиться. И старался ни о чем не думать. Каждая самая малая перемена тут же отдавалась мучительным, как зубная боль, толчком. От затылка к глазам. Казалось ему, что в голове у него приглушенно работает страшная пульсирующая машина, которая ввинчивает тонкое сверло в затылок и тщетно пытается достать острием до глазниц… Медленно, болезненно он проваливался в онемелый сон. Растянутая на липкой паутине голова погружалась вместе с темными стенами, комнатой, потолком… И где-то в дальнем отчужденном углу темно и сумрачно стояло и глядело со стороны молчаливое сознание. Привычку смотреть издалека на мир, на себя, на людей он приобрел в детстве, когда в одиноких играх вдруг останавливался и застывал ненадолго, пораженный этим странным ощущением отвлеченности. И только много времени спустя он понял, что не отвлекается и не со стороны глядит, а наоборот, уходит в себя, уходит и глядит на то, что вовсе не он. Разве это изможденное тело, вытянувшееся и застывшее от боли, – это он? Эта голова, лицо с синими дугами мигрени под запавшими глазами… Эти мысли и нелепые чувства – разве все это он? Нет! Он свободный и невидимый, легкий, без боли и муки бесстрастный свидетель собственных бед и радостей, в равной мере ненужных.
Но не оторваться, не отойти далеко! Навек привязан он невидимой нитью, навек… до скончания века. Пока не войдет он внутрь совсем, навсегда и больше не вернется. А пока ты жив – живи. Ты обязан жить! Жизнь – дар, подарок. Да и не возникало в нем особых мыслей о том, чтобы не жить. Вовсе нет. Уже давно хотел он только одного – покоя. И чего тебе надо, Цезарь? – твердят вокруг. Тебе так везет, как не везло никогда и никому. Ты баловень судьбы.
Он честолюбив и скрытен. Все эти разговоры о покое – только маска. Катон… Мчат безумные кони судьбы и тащится, волочится по земле привязанное к ним толстыми канатами обстоятельств его странное и страшное существование…
Он погружался все глубже в темное и вязкое небытие больного сна. Оставались только голоса. Катон, невыносимый в своей логике разума и морали и абсолютно глухой к логике жизни. Глупец. Ты, как вещая Кассандра, выкрикиваешь пророчества, которым никто не верит. А ты? Счастлив как Цезарь? Нет! Не мне везет. Я сплющенное, бешено прыгающее в пыли колесо. Из беды в беду. И только страшное невезение других, чужая беда спасает… Сознание устало и безнадежно старалось забыть себя, поплыть туманом. О, боги, беззвучно шепнул он, дайте счастливому Цезарю передохнуть, – шепнул и услыхал его Гипнос, темными крыльями закрыл последние оконца в больной голове…
Какая на утро отвратительная голова после припадка мигрени. Цезарь проснулся. Разбитый, с каким-то особенно тягостным ощущением жизни. «Опять жить надо», – пожалуй, этими тремя словами точней всего можно передать то удивительное состояние опустошенности и тягости бытия, которое порой приходит к нам в такие вот утренние минуты. Сама боль прошла. Голова одеревенела, онемела, мысли, как с трудом сгибающиеся на морозе пальцы, вяло и неуклюже шевелились.
Какой дикий приснился ему сон! Он сошелся с собственной матерью. К чему ужасное сновидение? Впрочем, сейчас это его не беспокоило. Он находился в том сумеречном безразличии, которое равнодушно в равной мере и к радости, и к ужасу, и к беде…
В отдалении слышался неясный говор, шум. О, неизбежные клиенты, толпящиеся в передней с раннего утра. Несчастный жребий победителя! С утра бежит он по домам тех, от кого зависит его карьера, к патрону, другу за поддержкой, сам принимает тех, кто от него зависим. Мудр и умен Лукулл. В разгаре славы плюнул на все и удалился в свои сады и зажил «как Лукулл». Как долго никто не верил ему. Все думали, что строит он козни, замышляет против государства что-то нечистое… Потому что так не бывает, чтобы добровольно отказался римлянин от борьбы, интриг, политики, карьеры… Так не бывает…
Дверь распахнулась, неслышно вошел раб.
– Проси, – вяло произнес Цезарь. – Пусть войдут. Мысль неотступно вращалась вокруг сна. К добру иль худу?
При молчании всех вокруг Цезарь принес жертву. Задумчиво глядел он на дымящиеся внутренности. Вот печень, расположенье вен, напоминающих сплетенные деревья. Нет! Ощущения беды внутри не возникало. Все ауспиции казались благоприятными. Облегченно вздохнув, он приготовился общаться с этим днем, друзьями, клиентами, откупщиками… кого там только не толпилось у властителя провинции.
Он принял решение. Главное, не вызвать подозрений. Днем посетил школу гладиаторов, как было запланировано гостеприимным магистратом Равенны. На арене то наступая, то отступая назад, в танце смерти двигались пары бойцов. Звенела сталь, время от времени рассекая со свистом воздух. Высокое синее небо горело зимним влажным холодом. Бездонное, опрокинутое на землю… Как там Гортензий? – подумал Цезарь. Еще вчера он при всех передал ему командование войском. При всех ушел от дел, чтобы отдохнуть, развлечься. Цезарь лениво глядел на танцующие пары гладиаторов. Удар, наклон, нырок и свист сухой стали, рубит холодный воздух рука, бойцам жарко…
Цезарь вздохнул. На вечер назначен ужин. Какой ужасный ему приснился сон… Но все ауспиции благоприятны. И потому голос внутри говорил: не делай! Не смей! Не надо!
Гости расположились на мягких ложах вокруг изящных резных столиков. Неторопливо текла трапеза, и так же неторопливы были слова. За едой пили мало. Кто сколько хотел, и, если отказывался гость, то не принуждали. Пили обычно после, когда еда закончена. Цезарь поднялся. Спокойным голосом пожелал всем здравствовать и попросил дождаться его возвращения. Обязательно дождаться. И удалился. Ужин продолжался. И сначала за одним, потом за другим столом уже полилось красное, как кровь, густое вино в чаши, и голоса зазвучали громче… Один за другим тихо, не привлекая внимания к себе, поднялись и последовали за Цезарем его самые верные, надежные друзья…
Бешено летит возок по темной дороге. Цезарь путал следы. Ни зги. На небе облака. И только чуть отсвечивает белая дорога. Ночь летела за ними, глушила стук копыт. Все молчали. И в темноте не видно было, хмурились или, наоборот, светились лица. Не видна тревога, и радость не видна…
– Мне приснился странный сон, – тихо сказал Цезарь. – Я сошелся с собственной матерью.
Он замолчал. Копыта выбивали глухую дробь в каменной пыли дороги.
– Это к добру, – так же тихо отозвался наконец прорицатель. – Это означает только одно. Ты снова победишь. Но в этот раз трофеем будет все государство. Мать – это отчизна, Италия. Ты станешь повелителем Рима, Цезарь, – и невидимая в ночи скользнула усмешка по лицу говорившего.
Возок резко встал, и всех качнуло вперед. Дорога кончилась. Внизу неслышно текла река, проступая темной лентой в начинавшемся рассвете. Небо быстро белело. Только что плотные сумерки еще кутали землю и смазывали контуры и различия. И вот уже тьма стремительно растекается от востока и тает, превращаясь в тонкую голубую прозрачность.
Поморщившись, Цезарь спрыгнул на землю.
Солнце еще не поднялось. Утренняя заря пылала ярко начищенной медью. Красная, жаркая полоса росла от края земли. И красные блики играли на шлемах и вычищенных панцирях воинов. Полетело короткое, хриплое, как карканье ворона, приветствие.
– Да здравствует Цезарь! Да здравствует Цезарь! – слова рубили воздух.
– Вот твоя Италия! – один из друзей взял его под руку. – Ты колеблешься?
– Поздно колебаться, – мрачно ответил Цезарь.
– Неужели ты боишься?
– Цезарь ничего не боится, – он в задумчивости смотрел на реку, за ней начиналась италийская равнина. Перейди, и конец. Не конец, а начало позорной гражданской войны, и сколько бед тем, над которыми ты хочешь властвовать…
– Твой сон. Он – вещий, Цезарь, – произнес прорицатель. – Но если ты не веришь снам, погляди на птиц и загадай.
Стайка черных точек, напоминавшая мух, парила высоко в светлом небе.
– Ну, погляди! – голос прорицателя зазвенел, – гляди!
Птицы повернули направо.
– Ура! Ра! Ра! – хрипло понеслось по равнине. Как боевые кони, солдаты нетерпеливо переступали с ноги на ногу. Вынырнувший краешек солнца ярко засиял тысячей бликов и огней, отразившись в металле.
– Что ты медлишь, Цезарь! Мы верим в твое счастье. С тобою богиня удачи. Веди нас!
– Не мне везло. Не везло другим, – пробормотал Цезарь, будто просыпаясь от какого-то своего внутреннего сновидения.
Он повернулся назад, лицом к застывшим и ждущим его приказаний железным солдатам Рима. Холодным огнем горело утреннее светило в тысячах нагрудниках.
– Ну что ж, – Цезарь вздохнул, – жребий брошен. Но видят боги, я здесь ни при чем. – Он поднял руку, взмахнул ею, и двинулись когорты, металлом разбрызгивая нежную утреннюю воду.
Глава III. Добралась наука до человека
Приход духов предвидеть нельзя.
И как можно относиться к ним безразлично?
(Ши Цзин (Книга песен) VIII–IX век до Р. Х.)
Учитель сказал: «Обладаю ли я знаниями?
Нет, но когда низкий человек спросит меня,
то даже если я не буду ничего знать, я смогу
рассмотреть вопрос с двух сторон и обо всем
рассказать».
(Конфуций «Беседы и высказывания»)
Добралась наука до человека. И таких, как Цезарь, приготовилась объяснить. Проникло знание в живое поле жизни: впрыснул химию запрета и глядь! Как ветром сдуло жажду власти. Серотонончик в крови понизился и лимфу жадным чувством править не тревожит. А кортизола добавь, к примеру, – вмиг опустеет сердце, любовный трепет покинет душу, и безразличное придет смиренье. Вот почему вожаки минувших дней мутили воду непрестанно и в поданных поддерживали напряженье. От напряженья – кортизола больше, а тестостерона, который заведует страстями – меньше. Вот и угрозы нет – покорны слуги, и вянут враждебные чувства. А вожаки ликуют: у вожаков, ведь, химия другая, и кортизол тестостерону не помеха, не то, что у робких сердцем.
Эх! Кто сказал, что мы равны? Кто сказал, что эта жизнь нас всех вновь и вновь востребует в очередных рожденьях? Дудки! Востребует Браминов, Кшатриев и Кого-надо – и все! Про остальных чего говорить, они только в мечтах про жизни прошлые нонче пытают у жуликов – лекарей. И в самом деле, какие у теперешних людей возможны перевоплощения, прошлые иль будущие жизни, когда в этой, единственной, они себя Уже не помнят и не живут как люди вовсе! Смех один на таких перевоплощенья тратить. Иное дело Цезарь, особые люди, отмеченные еще с древних эпох в законах великого Ману, где все про эти перевоплощения и написано взаправду. Вот до таких добраться науке и всеобщему их подвергнуть рассмотрению! И добрались!
Да только человек не поддался. Ты ему химию, а он в такое состояние погрузится, что не то что химия – дышать ему не надо. Понятно, разрежь его на куски в эту минуту – назад не придет. А и разрезать нелегко: вроде сила какая обернута вокруг и защищает. Это лишь обыкновенные бессознательные люди легко поддавались. Хотя какие это люди.
Так что научные авторитеты приостановились, потому что, как ты в сознание влезешь чужое? Здесь вся наука про вещи теряется. Сознание – оно ведь бестелесно, ни массы, ни заряда – каким поймать прибором сей мираж. Тут надо ученому в одно соединяться: с собой, прибором и тем, что померить желаешь. А как соединишься – так всякое различие и пропадает – неясно, где Ученый, а где Явление. Не разберешь где Кто и Что и Как. Все на границе тончайшей брезжит в единстве морока и яви. Сознание не спутано временем и к месту не прикреплено, как вещи. Разве что привычкой, навязанной годами младенчества и детства. А жить-то, на самом деле, можно даже по-разному. И в снах чужих и грезах, или в душе читательницы, к примеру; в истории – как Цезарь. Сознательная жизнь бывает очень разной. А нет сознания – все по ранжиру привычки, Сейчас и Тут, в разложенной на всех Судьбе эпохи, нации иль географии. Привычные сюжеты детства, школы, как у всех – защитного цвета костюмы службистской формы жизни, под коей скрывается, порой, неведомо что. Любая пакость может поселиться, даже инопланетная – не различишь без специальной подготовки.
Такие развели философии. Большой рубеж наметился на стыке одних времен с другими, когда ось звезд, качнувшись, перешла из Рыб к великому Водолею. Переменилось понятие жизни. Космическим подуло ветром смысла, неведомого последним векам, когда только в соцветие химических молекул вникало знанье. И вожакам такое новое понимание жизни не много оставляло места. Зачем нужны Вожди, когда Человек со своим сознанием способен жить, к примеру, в своих сладких мечтах, и выгнать его оттуда нельзя: права человека стали соблюдать. Так кем же тогда править, кто будет работать и созидать нашу жизнь?
Властители Жизни и забеспокоились, большие средства отпустили науке на изучение нежелательных человеческих психологий, когда человек вместо того чтобы идти в ногу со временем или в армии честно служить – возьмет и отойдет в сторонку. Или того хуже, вообще отринет мир и в себя погрузится, нырнет в глубины, а когда опять наружу ступит – совсем другой человек, и сознание у него совсем другое. И что такой преображенный способен натворить – неизвестно. Надо заново за ним смотреть, всю анкету переписывать…
Отпустили науке деньги на особое скорое и пристальное изучение всяких загадочных и вредных сознаний в человеке. Стали ученые вникать поглубже в людскую сущность – диву дались! Такие страсти обнаружились. И не в том дело, что люди неровными оказались, а много хуже. Как до отдельных личностей дошли, то выяснилось – совсем ничего общего они с Человеком не имеют, и что простому человеку счастье, таким особенным, не от мира сего существам, – одна беда и огорченье. И еще страшней картина обнажилась – многие вообще не были живыми существами: много мертвяков оказалось подставлено было в жизнь для неизвестной цели и неизвестно кем. Не зря Андрей Петрович подозрения испытывал в отношении некоторых знакомых. Понятно, что у мертвяков отношение к смерти совсем не то, что у живого человека. Им живые люди вообще неприятны.
И, как всегда это бывает, слухи пошли гулять про то, что нами мертвяки правят, которым нет дела до человеческой радости. Что нежить – она, как известно, бедой людской себе пир справляет… Что дыру в небе озонную специально проделали, чтобы совсем человека прижать, чтобы не дать ему продохнуть, не то что личным спасением заниматься. Все чаще о конце света объявлять стали, и такое развелось количество колдунов, лекарей и спасителей, что нормальному человеку, не подсоединенному к космосу и не видевшему Летающие Блюдца, неудобно становилось в том признаться… Одним словом, началась массовая перестройка жизни и началась она с сознания. Кто ее начал и с какой целью – Бог про то ведает, однако началась. И тут хочешь – не хочешь пришлось согласиться, что Сознание – оно первично! И в каком состоянии наше народное сознание сейчас пребывает – такой и жизнь будет. И если во вредном состоянии – то и жизнь такая вредная получится. И чтобы хоть просто так жить стало возможно (о лучшей жизни никто уже и не заикался) надо, чтобы люди очухались, опамятовались в том, куда они свое сознание подевали? В какое такое состояние погрузились, что оттуда не выбраться…
Неученые люди и философы стали во множестве создавать объясняющие теории, чтобы выпутаться из неприятного сложившегося положения. Про мертвяков и всякую бесовскую нежить, к примеру, так объясняли и во всяких печатных изданиях распространяли: Дело не в том, что они (мертвяки и бесы) – не люди! А в том, что человек в самых разных Состояниях может находиться и самые разные роли исполнять. И даже так бывает, что, если в одном состоянии ты, к примеру, начальник, а в другом – черт знает кто, то находясь в одном, про второе свое состояние человек и не помнит даже. Так получается, что вроде два совсем отдельных в нем живут существа. И цель человека этих существ в одно соединить. Потому что когда душевность человека раздроблена, то ему очень трудно жить. Всякий раз в новую фигуру перевоплощаться. Изображать – изображают: и бесов, и мертвяков, и святых, порой, изображают. Всякие личины нацепляют, а как снять – глядь и прилипла масочка-то: роль и замысел – захватывают! Как в желобе бобслея – летишь, только успевай поворачиваться. Замыслы-то все вечные, классические. Из них просто так не выпрыгнешь, коли начал исполнять и соответствовать.
Тут наметилось вообще иное толкование человека: человек – и есть этот самый ассортимент ролей и замыслов, набор программ, вложенных в счетную Машину Жизни. Другое дело, что, конечно, красота и высота исполнения, легкость, – у всех разные. Иной так Ромео сыграет, что потом Джульетта всю жизнь по больницам бродит безутешная… – даже шутили в солидных журналах по этому поводу.
Так что все эти состояния и множественные личины, пусть и нечеловеческие – вполне естественны для человека. Это как с гипнозом: нормальный человек как раз гипнозу сильно подвержен, в особенности, если на людях и массовый сеанс. Вот кто не подвержен гипнозу, кого внушением из одного в другое состояние не переведешь, у кого вообще имеется только одно состояние – за такими надо внимательно наблюдать. Вот именно они-то и особенные. Они-то и неизвестно какую роль в человеческих судьбах играют!
Так утешали и развлекали народ печатные страницы, а в то время ученые, которые выполняли задание Правителей Жизни, уже создавали настоящие теории для последующего помещения туда любого сознания. Чтобы после отобрать самые подходящие нашей жизни, а от неподходящих избавиться. Создавали теории, не особенно их выставляя, и готовили себя, как приборы, для будущего подтверждения этих теорий через личное проникновение в душевность с последующим измерением и отчетом. Главной теорией среди этих скрытых от глаз и внимания народа научных умозрений – была теория Академика Х., имя которого, несмотря на перестройку жизни и гласность слова, – было по-прежнему строго засекречено.
Академик и гипнополе
Гипнополе вначале теоретически ввели в научное рассмотрение. Как электромагнитные волны, в свое время, чтобы объяснить разные явления и события иным путем не объяснимые. Потом уже стали радиоволны принимать замкнутыми друг на друга двумя металлическими пластинками и катушечкой с проволокой: стоит простой такой контур построить и смотришь, – в нем электричество начинает бегать в лад с волной пролетающей… Хоть доподлинно разве известно – есть эта волна или нет? Речь ведь идет о способе описания при помощи, так сказать, волнового воображения ума. А так, кто его знает, что это за явления такие: свет, радиоволны и прочие электромагнитные дела, которые так чутко откликаются на металл, а, скажем, на деревяшку или из палочек и тряпочек сложенную замысловатость – не откликаются. Так что доведись нам под рукой только растительное или камень – не видать нам изображения в ящике и звука не слыхать на далеком расстоянии без металла.
Так и с Гипнополем вышло. Ввели теоретически, а как вышло дело до приемных устройств, пришлось ограничиться живым: на мертвое вещество в особенности, к примеру, на пластмассу, это поле совсем никак не откликалось. Не возбуждало оно в мертвом материале того, что в живом зажигало. Однако, если форма этих живых колебаний соответствовала нашему сознанию, то подобием силы тока – служили чувства.
Они и тащили усталую душу вновь и вновь по одному и тому же сюжетному кругу к высокому напряжению драматического момента. И какая разница, этот разряд наивысшего напряжения был положительным или отрицательным! Главное, человек разряжался и в этой сцене разряда и разрешения кульминировало его ощущение жизни… Вот отчего одни и те же ошибки, в одном и том же фарсе совершали люди. Не потому что глупы или не понимали, а вновь и вновь тянулись вдоль токовой линии привычного, хоть и гибельного лицедейства, чтобы с уверенностью ощутить знакомую кульминацию. Как бабочки на огонь летели, захваченные движением известного сюжета, в одни и те же драматические узлы и сплетения. И отношения, конечно, между этим полем и приемниками живыми отличались сильно от схожих отношений для волн электромагнитных. К примеру, свет и радиоволны – в непрерывном беге с самой большой дозволенной скоростью мчат, а Гипнополе – оно на месте стоит, как привязанное, и с телесным расстоянием не затухает, а меняется в силе только в зависимости от разницы в состояниях души нашей. Если один человек грустит, а другой счастьем напоен, то расстояние меж ними получается очень большим, и то, что звучит в одном из них порожденное тем же самым Гипнополем, в другом совершенно иной оборачивается передачей… Одним словом, пространственно-временное описание как для предметов, для гипнополя не подходило: оно было везде и в любую механическую секунду, однако передача звучала в живых телах-приемниках разная.
Ближе всего, по сходству, если объяснять, положение напоминало сон, в котором себя вспоминаешь или на чем-нибудь соберешь внимание: только сосредоточишься мысленно – глядь переменилось видение. Самое чудное и пока необъяснимое наступало, когда полностью человек сам себя припоминал во сне, мол, сплю, а тело мое там-то, сам я – то и другое, – а это все мне снится и я про это знаю доподлинно… Вот когда такое случалось, то и наступало совсем неведомое качество: получалось будто, скажем, в телевизоре передача сама себя с отчетливостью рассматривать и глядеть начинала, не нуждаясь больше в зрителях. Невозможно такое представить даже, равно как и объяснить, если даже испытаешь сам. Потому что, если объяснением можно было бы другому передать, то этому другому и трудиться достигать ничего не понадобилось бы. Но тут загвоздка выходила в сравнении с предыдущей наукой, которая из всего вокруг только узкую всеобщность и рассматривала. Тут всеобщность в случае гипнополя присутствовала, но требовала от человека личных усилий. Это, как с симфонической музыкой получалось – любой может слушать, а чтобы понять и насладиться, надо развивать в себе приспособление, прибором стать, который на музыку откликается…
Много вышло зависти и обид в связи с таким делением людей на способных и неспособных работать в качестве прибора. Одно дело, когда каждый может поглядеть на стрелку со стороны и удостовериться в истине измеренного, а другое – когда стрелка эта в душе располагается и постороннему не видна. А чтобы удостовериться лично, надо самому таким прибором стать…
Однако, самое главное, что обнаружилось – превращение людей, соприкасавшихся с Новым Знанием, и странное присутствие в их жизни невидимых сил, о которых раньше и не подозревали. Как будто за такими Исследователями состояний души особо присматривали, и если удавалось Новым Ученым открыть что-то, видать недозволенное – их просто изымали из жизни. То несчастный случай, то вдруг личное помешательство ума происходило у Жрецов нового Знания, то еще какая-нибудь судьбинская дрянь случалась, и Ученый больше ничего открыть не мог. И, если не умирал во плоти, то как будто ему в каком-то месте заклинивало и полностью отказывало не то что в откровениях, а и в простом соображении…
Слухов про это ходило много, хотя доподлинно так никто никогда и не обнаружил прямых улик этого таинственного надзора. Разве что бульварные газетки все писали, да в кино показывали, как за нами следят Инопланетяне, Духи и прочие нежизненные сущности… Однако с очевидностью стало всем понятно: новое Знание – опасно. И в каком обличье эта опасность себя обнаружит в жизни – остается загадкой…
Именно в связи с такой опасностью за Новым Знанием и был учрежден особый надзор уже земного свойства, чтобы, как говорили, защитить наших Ученых от злых и пока еще неведомых сил. По крайней мере, оградить хотя бы от несчастных случаев и происшествий таинственного свойства… Хотя кого земной надзор когда-нибудь защитил от проявления в их жизни неземного? К тому же, настоящих Ученых разве испугаешь. Гораздо страшней были возможности открытий Нового Знания на поприще Сознания души и жизни. И Надзор за учеными установили (так говорили многие) вовсе не для защиты их от неведомых сил, а чтобы не дать утаить Открытое. Потому что многие, преображаясь в процессе открытия, начинали испытывать особую ответственность за открывшееся им, там, в глубинах Сознания, и не торопились делиться своими откровениями со все теми же зоологическими вождями и правителями жизни.