Читать онлайн Дело Верхне-Выска бесплатно
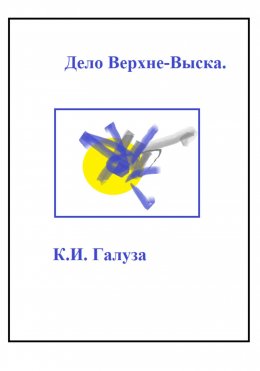
Пролог
Локация: Паровозная станция, солнечная осень, 1916 год. Один пассажирский поезд ожидает отправки. Другой поезд, прибывает. Заправка паровоза углём и водой. Погрузо-разгрузочные работы. Казённый охраняемый вагон. Патриотические плакаты. Коммерсанты, приказчики, рабочие, пассажиры. Торговцы снедью. Мальчишки, бегущие с чайниками за кипятком, и торгующие газетами. Крики: «последние новости с фронта!» Пар, гудки провозов.
Вспыхивает спичка, распахивается серебряная крышка часов, бежит секундная стрелка.
В коляске с поднятым верхом двое мужчин. Зрелый, обеспеченный господин, в серой кепи, седеющими усами, белым воротничком и манжетами, и юноша напротив в студенческой форме. За возничего сидит ухарь-парень в коротком бушлате, брюнет с усиками, с низко надвинутым лаковым козырьком фуражки, оглядывается по сторонам. Это он подкуривал папиросу от спички.
Два саквояжа на полу коляски. Зрелый, закрывает крышку часов, раскрывает саквояжи и смотрит по сторонам. В раскрытых саквояжах на цилиндрических самодельных бомбах лежат пистолеты. Рядом со Зрелым упаковочная бумага, две картонки и шкатулка. Студент крестится.
– Ты чего крестишься Кинжал? – спрашивает с прищуром Зрелый, своего визави, он спокоен, даже весел.
– Это я так, это ничего, – отвечает юноша – «Кинжал», он явно нервничает, продолжает быстро креститься. Озирается по сторонам, мельком глядит в сумки.
– Какой же ты «Кинжал» тогда? – замечает вальяжно Зрелый, – Так – ножичек перочинный. Тебе форму студента зачем дали? Чтоб ты крестился? Они не крестятся сейчас, не верующие, большей частью. Подумает ещё кто: «чего это так студент перепугался»? Что и про Бога вспомнил, а? Прекрати, и не вертись. – Зрелый неторопливо опять раскрывает крышку часов. – До сигнала ещё четыре минуты.
– Это я так, на всякий случай, товарищ Сахар, вдруг перед Господом предстану…
– Не «товарищ», на улице – просто «Сахар», – поправляет зрелый, – спокойнее, ты же не в первом деле, проверенный боевик…
– А он завсегда так, – поясняет возница в пол-оборота, – деревенский же. Не перекреститься бомбу не бросит. И на верфях кассу брали – крестился, я видел. Но взяли же…
– Тебе что, Кофий, – замечает Кинжал вознице, – ты из интеллигенции просвещённой, не крещённый. А мы, крещённые, под Богом ходим, за всё ответ строже держать будем. И когда я за народ иду, должен…
– Время. – обрывает Сахар, – Минута, выдвигаемся на исходную.
Сахар и Кинжал разбирают пистолеты, перекладывают бомбы в две симпатичные картонные коробки, сворачивают простой бумажный кулёк. Кофий взводит курок в кармане куртки, принимает кулёк с бомбой.
Сахар подчёркивает:
– Спокойно, неторопливо идём…
Кофий спрыгивает с облучка. Сахар и Кинжал с картонками, одна на другой, спускаются с коляски. Все трое идут в сторону вагонов.
Сахар:
– Запомни, Кинжал: если бы мы под твоим Богом ходили, то и не ходили бы уже.
Кинжал согласно:
– Так-то оно так. Даёт Господь за народ послужить. Потому я с вами и иду. А вы, братья, если что, за меня свечку поставить, так не за Кинжала, запомните: за Николая.
Кофий, Сахар, переглядываются с какими-то людьми по сторонам, у тех так же низко надвинуты козырьки и шляпы. Кинжал, (что-то шепчет губами, глядя вперёд), с картонками водной руке и другой рукой в кармане, идёт справа от похожего на фабриканта Сахара, тот двигается степенно, широко. Сахар закрыл пистолет накинутым плащом, широкое кашне развивается при ходьбе, в левой руке у него шкатулка, на вид от сигар. Кофий, слева от Сахара, с кульком в одной руке, и другой, в кармане короткого бушлата, идёт манерно, шугая голубей.
Степенно шагая, Сахар, приоткрывая крышку шкатулки большим пальцем, заглядывая на лежащую в ней металлическую бомбу, командует:
– Всё, расходимся. Ждём сигнала.
Товарищи его чуть замедляются, пред тем, как разойтись. Кинжал поворачивает голову на Сахара. Кофий, шагая подпинывает очередного голубя, прищурившись от солнца, тоже полуоборачивается. Сахар улыбаясь вскользь замечает:
– И запомни, раб божий, Николай, Бога…
Голубь, вспорхнувший от ноги Кофия, резко уходит над лицом Сахара, тот дёрнув рукой опрокидывает бомбу из шкатулки себе под ноги. Это последнее, что он видит: металлический цилиндр, сверкая на солнце блеском, переворачиваясь, летит вниз, на мостовую, выложенную карельским гранитом.
Взрыв, и сразу ещё два, трое боевиков исчезают в клубах дыма.
Дым рассеивается, Сахар лежит ничком в луже крови, раскинутый плащ становится красным, рядом его оторванная нога, медленно опускается шёлковое кашне. Катится фуражка Кофия, он в «красной» жилетке, с обезображенным лицом, лежит на распахнутом чёрном бушлате. В порывах дыма удаётся увидеть, как скрюченный на правом боку, на мостовой, Кинжал, истекает кровью, он ещё жив. Сквозь дым Кинжал встречается взглядом с человеком из толпы. У того надвинутая на глаза шляпа, в одной руке круглая картонка, другая рука в кармане пальто. Кинжал напоследок пытается ему что-то прошептать губами. Человек делает несколько шагов назад, и пропадает в толпе.
Отхлынувшая от взрыва толпа, ещё колеблется, крики «убили», «бомбисты», «на помощь» «врача», свистит свисток полицмейстера
Кинжал видит, как из толпы, шагов за тридцать, от торговых лотков выходит беременная женщина в платке, её хватает за руку девочка. Она тянет женщину назад. Женщина успокаивает девочку, делает несколько шагов. Девочка осторожно идёт за матерью.
Кинжал видит перед собой свою коробку от пастилы с красным наливным яблоком сбоку на этикетке. В ней неразорвавшаяся четвёртая маленькая бомба. Кинжал делает усилие и накрыв коробку собой, стреляет в неё из пистолета, под собой, из кармана студенческой куртки.
Небольшой взрыв, тело Кинжала подпрыгивает. Дым рассеивается окончательно.
Вид сверху: на распахнутом чёрном бушлате навзничь лежит Кофий. Сахар ничком, без ноги, на красно-белом плаще, перечёркнутый своим кашне. Ничком на мостовой, в крови лежит Кинжал. Камера приближается, на затылок Кинжала опускается маленькое, очень маленькое, голубиное пёрышко.
Толпа очевидцев движется в разные стороны. Охрана почтового вагона с оружием на перевес, переглядывается между собой. Сквозь толпу пробивается полицейский.
Полицейский охранникам:
– Братцы что это?
– Кажись бомбисты кого убили, ревоцунеры.
Полицейский:
– Где они видели? Выручай служивые, один я!
Полицейский скрывается в толпе. Старший охраны переглядывается на своих, затем на сбившихся служащих, сдающие опечатанные холщовые сумки и принимающие их. Кивком указывает своим следовать за полицейским.
Старший охраны останавливает человека служащего, в штатском:
– Да погодь, теперь принимать, выдавать…
Служащий указывая на испуганных двух с опечатанными мешками:
– А их куда, обратно?
– Почём сейчас знаю? Жди.
Старший устремляется за полицейским в эпицентр взрыва.
Служащий:
– Возвращаемся господа.
Из сумятицы толпы к служащему выходит прилично одетый человек в фетровой шляпе. В левой руке у него картонка. Его останавливает один из двоих оставшихся охранников.
– Куда прёшь, назад.
Служащий:
– С какого ведомства Вы? Принимать – выдавать, теперь после.
Охранник, отодвигая винтовкой как шлагбаумом:
– Сказано: отойди, потом.
Подошедший человек, охраннику:
– Мне надобно сейчас, – быстро достаёт пистолет из кармана пальто, и, приставив дуло пистолета к груди замершего охранника нажимает курок. Охранника отбрасывает выстрелом. Тут же, человек стреляет в упор во второго охранника. Тот тоже падает. Замерший служащий опускается наземь. Человек делает кому-то повелительный знак, и швыряет картонку в открытую дверь вагона.
Взрыв.
Полицмейстер и старший охранник у тел бомбистов, приседают, разворачиваются. Их и остальных охранников, расстреливают с разных сторон. Грабителей много, они по-разному одеты, действуют безжалостно.
Динамичная музыка. Прочая…
Вагон грабят, взрывают сейфы. Перестрелка с живыми, раненными охранниками. Обыватели бегут в разные стороны.
Отъезжают гружённые пролётки, заскочившие в них боевики держат очевидцев на мушке.
Глава I
Утром, на станции «Полевая», за Верхне-Выском, при загрузке паровоза углём и водой, боевая группа партии большевиков напала на охраняемый почтовой вагон.
Группа состояла из пяти основных троек, осуществлявших вооружённое нападение, и двух резервных, наблюдающих за действиями из вне, подключавшихся к операции только в случае крайней необходимости.
В первые мгновенья налёта по не выясненным причинам, подорвавшись на собственных бомбах, погибла вся вторая тройка.
Это казалось провалом, а сыграло на руку: вызвало шум, неразбериху, все кинулись спасать искалеченных взрывами людей, даже охрана вагона, потеряв бдительность и рассеяв тем самым свои силы.
Замешкавшиеся остальные нападавшие очнулись, и дальше действовали по плану: побросав свои бомбы, взорвав дверь вагона, по одному от каждой тройки кинулись добивать контуженных, взрывать сейфы.
Восемь оставшихся налётчиков, жёстко подавив сопротивление растерявшейся внешней охраны, рассредоточились для прикрытия. Через четверть часа шесть пролёток, скинув на ходу в условленном месте большую часть награбленного, утянули за собой начавшуюся погоню к реке.
У воды, где их ожидали сообщники, боевики бросили экипажи и разделились. Одна группа переправилась на другой берег, а другая на лодках, по течению реки ушла, вероятно, в сторону соседнего уезда.
Набирающий мощь маховик розыскных мероприятий по горячим следам, результатов не дал.
Логично, что дальше губернии, двух-трёх уездов, террористы уйти ещё не могли. В зону пристального внимания, на сто квадратных вёрст, попали: три города, шесть рабочих посёлков со станциями и пристанями, несколько деревень и усадеб, всего в общей сложности до двух десятков населённых пунктов.
Дороги, железнодорожные станции и речное судоходство подверглись беспрецедентным сериям облав. На дальних подступах по просёлочным дорогам уже выдвинулись казачьи разъезды. К вечеру, не имея никаких результатов, пришли к выводам: не может им так господь помогать, чтобы выскользнули. Прячет их чёрт за пазухой: рассыпались, залегли на явочных квартирах, на складах речных или в лесных сторожках, может.
Но выползут. В деревнях чужим не спрятаться. Плохо, что в городах уездных осенние ярмарки – одна началась, другая закончилась, и приезжих на речных вокзалах и железнодорожных станциях много.
У подозрительных лиц ворошили тщательнейшим образом всё: багаж, ручную кладь и сопроводительные документы. Досматривались приготовленные к отправке товарные вагоны и баржи. Любых подозрительных не старше сорока лет без внятной цели нахождения в зоне розыска, задерживали до выяснения, не взирая на чины.
Любому филеру пообещали сто рублей за ценную информацию и в три раза больше за первого взятого живого бомбиста.
Сгоряча даже задержали: бродячий цыганский табор, труппу Херсонского цирка, артель из тридцати лесорубов. Проверяли так рьяно что и засовестились. Результатов не было.
Отсутствие значимой информации (убитых бомбистов второй тройки ещё не могли опознать), и то, что след живых как испарился воспринималось губернским начальством охранного отделения уже более чем, как повод рассмотреть кадровый состав на предмет профессиональной пригодности.
Из столицы шли депеши одна за другой, людей не хватало. Ждали летучий филерский отряд из Москвы и помощь опытными людьми из Санкт-Петербурга. Первейшей задачей ставилось блокировать территории уже двух губерний – огромный квадрат, который затем и предстояло скрупулёзно перетрясти, выявить организаторов и пособников дерзкого ограбления.
«…Убийцы должны быть схвачены любой ценой, задумавшие и исполнившие сие обличены. Необходимые полномочия и ресурсы предоставляются.» – концовка последней депеши из Петербурга, зачитанный на совещании экстренно созданного центра расследования преступления.
Часть первая.
Уткин Ефрем Владимирович – слесарь вагоноремонтных мастерских железнодорожной станции Верхневыска, отужинав крепкими щами, курил на лавке у низенького окна самокрутку, читал Горького. Надо читать. Товарищи настояли, разговор был.
«…Де-ма-го-ги-я» – утверждался Ефрем в первоначальном мнении о литературе данного рода вообще. Вот зачем оно: пацан умер, дед умер, платок не отдали, кинжал не продали… Ещё и деньги пропали, на рабочее дело не пошли. Хорошо хоть пишет не долго. Товарищ Горький. Краткость изложения писателя окрыляла Ефрема. Обещал – прочитал. Не Карл Маркс, конечно, но тоже нужный писатель. И про цыган знает и в стихах умеет. «А бурю мы устроим, не сомневайтесь» – затягиваясь крымским рубленным табаком пообещал Горькому Ефрем, – « не подведём». /
За закрытую дверь кто-то потянул снаружи, убедился, что заперто. Известно, кто – Митрич. Только он так: тянет, вдруг открыто, после стучит. Ещё и стучит сначала абы как, проверяет бдительность.
– Кто? – громко просил Ефрем, – по чужим сеням шастает?
– Затворять сени надо, хозяин, – послышалось от знакомого гостя.
Ефрем вынул деревянный клинышек, впустил Митрича:
– И зачем мне там затворять? Акромя хлама, да дров нет ничего…
– А что дрова денег не стоят? – сощурился Митрич, – али даром пришли?
– Даром это только ты ходишь, – уколол гостя Ефрем.
– Неправда твоя. Бесполезный я человек что ли? – Митрич насупился, – А и четвертинку принёс…
– Это к месту. А сам уже одну выпил, а, Юлиан Митриевич? – предположил Ефрем.
– Может и выпил, но в медицинских целях, дезоиинфекции противостою…
– Попадёшь ты, фелдшар, под арест со своей самогонкой…
– А ты не каркай. Для успокойства нервов можно, и аптеки спирт продают. А буржуазия в кабаках развлекается, о сухом законе не думает.
Ефрем кивнул, перевернул два стакана на столе:
– По всем статьям значит идёшь вразрез с правящим режимом. Наливай.
Юлиан Дмитриевич вынул склянку, разлил. Предложил:
– За рабочее дело.
Выпили стоя до дна. Хотя лучше бы было разделить полстакана на два глотка. Но давились молча, сдержанно.
– Не ослепнем мы от неё? – с натугой, непроизвольно прошептал Ефрем.
– Не боись, на один глаз видеть будем, – парировал Митрич, – Ты книжку прочитал?
– Читал…
– И, что?
Ефрем проверил новое заученное слово на слух:
– Де-ма-го-ги-я.
– Чи-иво? – удивился Митрич.
– Как твоя самогонка, – сопоставил Ефрем, – сшибает в дышло крепко, а хотелось бы помягче чуть, шоб дышать можа спокойно…
– Ты что такое говоришь-то? – Митрич нахмурился, – Хто тебе лучше товарища Горького аллегорически разъяснит? Моя самагонка не для дворянцев делана. Для простого люда, нашего.
– Вот я про то и говорю: очень у тебя самогонка воняет. Веры в чистоту её нет.
Митрич открыл рот, дослушал, и, осёкся. Поводил головой, как будто сгонял мысли в кучу, решил:
– Я те не налью больше.
– Да ладно, чего ты… Ну не люблю я всякие самодельные аллегории, – признался Ефрем.
Митрич вздохнул:
– Тёмный и бессознательный ты, как весь наш народ. И просвещаться не хочешь. Шустовского, или водки сладкой хочешь, а то не понимаешь – что всякая мягкость – тебе же враг! Заманивают тебя этим в хорошую жизнь, отрывают от рабочего корня, от наших привычек. Не понимаешь…
– Чего ж не хочу? Добрый хлеб от мокрого отличаю.
– Хлеб, самогонка… Для тебя люди пишут, что б тебе понятнее было, как жить. Куда идти. Правильно сказано: «Рождённый ползать, лететь не сможет!»
– Ну да. А вот ты мне объясни, – неожиданно захмелел Ефрем резко, и сам тому удивился, как повело, – рождённый траву жевать, бык, конь, слон, тоже же не полетят в небо, и что? Им теперь расстраиваться? Оно же так и устроено и без Гоголя… Ясно, что пингвин – не волк, в лес не побежит… И крокодилом не станет, даже если захочет.
– Ты брось это. Спит в тебе ещё классовое сознание и крокодилами с пингвинами прикрывается. Где ты их видел? Он ещё и рассуждает! Ты кто такой?!
В дверь сдержанно постучали. Ефрем с интересом повернул голову на стук, он никого не ждал. Если свои, то теперь постучат, как условлено. И стук повторился: теперь он напоминал стук вагонов. Ефрем встал, подошёл к двери, бесшумно отодвинул клёпанную железную щеколду (делал сам), подтолкнул дверь рукой. В сенях стоял товарищ Смирный, за ним двое. Смирный улыбался дружелюбно, но с прищуром. Правая рука в кармане куртки.
«Смирный» – потому что по поддельным документам – Андрей Смирнов, находился на не легальном положении, к Ефрему приходил и раньше «по слесарному делу»: замок на чемодане починить, щеколду купить. Настоящее имя его Ефрем не знал, познакомивший их Митрич вкрадчиво сообщил: «Учти: пустяками не занимается, без Браунинга не ходит. «Решительный, – решает много, и важный человек в рабочем деле не первый год. Теперь ответственность на тебе большая, Ефрем, – за связь с этим человеком. И ты её оправдать должен…».
Один раз Смирный приходил познакомиться, с чемоданом, и оставил чемодан на хранение. В другой раз – остался переночевать, утром ушёл с чемоданом. Ел немного, говорил мало, больше расспрашивал про людей, которых Ефрем считал надёжными и про жизнь в городе.
– Я Вам железку на дверь заказывал, – помолчав, громко сказал Смирный Ефрему, всё так же улыбаясь, вглядываясь, вслушиваясь.
– Один я, почти. – развеял его опасения Ефрем и посторонился.
– Это кстати, – входя, заметил Смирный
За ним вошли двое его спутников. Первой оказалась молодая женщина с саквояжем (с таким обычно ходят врачи), второй, пропустивший девушку вперёд, а затем оглядевшийся на ступеньках на проём открытой двери в сенях, – под стать Смирному: руки в карманах расстёгнутого пальто, с надвинутым на глаза козырьком высокой фуражки.
Ефрем, впустив людей, прошёл, запер сени, (что редко делал даже на ночь), вошёл за гостями, закрыл дверь, на щеколду и клинышек, опустил, расправил занавеску на окне, приподнял фитилёк керосинки.
–Товарищ Ефрем. Ефрем Владимирович. /Товарищ Митрич/ Это Егор, Егор Петрович и Мария Николаевна – познакомил присутствующих Смирный. / добавил:
– Нам лучше сейчас к себе внимание не привлекать, сборища не устраивать. Конспирация очень важна сейчас. Ты по важному делу, товарищ Митрич? Срочное что-то?
– Не. Значит мне и идтить надо, – понял Митрич, – я так забегал…
– О том, что мы здесь, знать никто не должен. Это важно. – задержал Смирный Митрича, – если кто-то из местных товарищей нам понадобится вызовем через Ефрема. А сейчас – полная конспирация.
Митрич кивнул, взял со стола склянку, убрал в карман. Погрозил пальцем Ефрему над книжкой, попрощался понимающе глазами и вышел. Выходить ему явно не хотелось. Ефрем, проводив Митрича, прикрыл сени, взял несколько полешек на руку. Потом положил их, стряхнул мусор, и снова взял. Слова «полная конспирация» внушили Ефрему серьёзности. Поздние гости были ему людьми необычными. Ну а люди же, с дороги.
– Щи будете? Крепкие… – предложил Ефрем.
– Будем, – весело согласился Смирный, – и чай.
– Крепкие – это что значит? – полюбопытствовал Егор
– На костях день томили – пояснил Ефрем гостю, – соседка у меня щедрая.
Мария Николаевна – молодая барышня, в короткой фетровой шляпке с узкими полями, сосредоточенно расстёгивала фетровые перчатки, посматривая при этом по сторонам, имела вид современной, уверенной в себе женщины, у которой впрочем не ладилось с застёжкой на запястье.
Егор Петрович, в коротком пальто, вошедший последним, (про таких говорят: «ладно скроен, крепко сбит»), походил на приказчика опытного. Смотрел вокруг открыто, дружелюбно.
(Ловкость он никогда и не выказывал. Улыбался чаще даже простовато. В одном кармане носил кисет жаккардовый, в другом пачку дорогих папирос. С пятнадцатого года в розыске. При себе всегда имел нож складной, испанский, им и брился).
Ефрем встал на колени у стены, откинул верхний щит, достал чугунок со щами, убранный уже, из подпола. Закрыв подпол, поставив чугунок на стол, озадачился:
– Сервизов-то у меня нету… Барышне в тарелку налью, а вы так похлебаете?
– Ложки-то есть? – Егор, оглядевшись, повесил фуражку у рукомойника, снял пальто, завернул рукава сорочки.
– Ложки есть, – потвердил Ефрем, – три, как раз. И хлеб, монастырский, добрый. Из-под перевёрнутого чугунка на столе Ефрем достал завёрнутую в бесцветное льняное полотенце краюшку. «Щей-то маловато на троих будет» – подумал он, и вспомнил:
– И сало ещё есть! – с радостью вновь открыл подпол, достал, поставил на стол ещё один чугунок с кирпичом на крышке.
– Мышей значит в чёрном теле держишь, – понял Егор, -а чугунково-кирпичная система хранения провизии работает по всей России. Ты чего стоишь, Маша?
– Уборную покажите, – попросила Мария Николаевна Ефрема.
– На задний двор, через ту дверь, – показал Ефрем, – там нужник по доскам…
Девушка вышла, Смирный тоже снял куртку, сел к столу. Егор уже резал сало своим хитрым, изогнутым, иноземным ножом, после половинку хлеба.
– Вот, Россия, – заметил он, – где щи: серые, где зелёные, где кислые, а тут крепкие…
– Лишь бы тиной не воняли, – отозвался Смирный, – вода у тебя – того…
– С бочки вода, – пожал плечами Ефрем, – а ты бы хотел, чтобы я в рукомойник с колодца носил? У нас не Петербург, вода по трубам не ходит…
Ефрем расшерудил золу в печке, бросил полешки, снял кочергой пару колосников и опустил чугунок ближе к огню, поставил чайник рядом, поколол ещё щепы. Растапливая, прислушивался к разговору. Гости говорили меж собой тихо: «..два-три – точно. И тише воды…»
Вошедшая Маша, помявшись у рукомойника сообщила:
– У вас вода кончилась…
Ефрем взял перевёрнутое ведро у порога, вышел на улицу к бочке с дождевой водой на углу дома, вдавил, зачерпнул, выбросил ладошкой насекомое. Принёс воду в дом, налил в железный рукомойник.
– Предупреди соседку, что постояльцы у тебя, – попросил Смирный, – на пару дней напросились, кума свояк какой-нибудь и брат его, с женою…
– Она видела меня из окна, – объяснила Маша Ефрему.
– И нас значит увидит, – заключил Смирный, – плохо, что нужник у вас один и двор общий без забора…
– У нас с ней, так-то, и дом общий, на два хозяина, – заметил Ефрем, – она за стенкой.
– Плохо, – задумчиво отозвался Смирный, – я об этом и не думал и не знал, что ли… А чего её не слышно было не раньше, не сейчас?
– Ты под ночь приходил и уходил утром, – хмыкнул Ефрем, – она песен не пела…
– А ты её как заметила, Марья Николаевна? – поинтересовался Смирный.
– Шторку она двинула.
– Интересно, – рассуждал Смирный, – свет у неё не горит, не спит, шторки двигает, давно она тут живёт?
– С полгода, – припомнил Ефрем, – а половина эта давно продавалась, я-то два года назад купил… Бабы ко мне не часто ходят, – признался он, – вот она и высунулась за шторку. Если б к ней мужик пришёл, я б, наверное, тоже на него поглядел…
– Ты ходишь к ней, – подмигнул Смирный, – за сахаром, она к тебе за солью?