Читать онлайн Алиби бесплатно
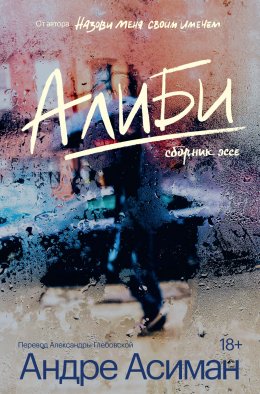
© 2011 by André Aciman
© А. Глебовская, перевод на русский язык, 2022
© Издание, оформление. Popcorn Books, 2023
* * *
Майклу – Hermosura[1]
Алиби – этимология: от лат. alibi, «где-либо в другом месте», устар. вариант предложного падежа от alius, «другой».
Лаванда
I
Жизнь начинается где-либо в другом месте и пахнет лавандой. Отец мой стоит перед зеркалом. Он только что принял душ и побрился, сейчас наденет костюм. Я смотрю, как он затягивает узел галстука, опускает уголки воротника, застегивает рубашку. И – вот оно, как всегда: лаванда.
Я даже знаю откуда. На туалетном столике стоит флакон причудливой формы. Помню: у меня тяжелый приступ мигрени, я лежу на диване в гостиной, мама лихорадочно придумывает, как бы отвлечь меня от боли, берет флакон, свинчивает крышку, смачивает жидкостью платок, подносит мне к носу. Тут же становится легче. Платок остается у меня. Мне нравится держать его в кулаке, слегка запрокинув голову, будто была драка, меня ударили в лицо и кровь еще не унялась, – а еще так иногда выглядели другие люди, хворые или подавленные, они бродили по дому, время от времени нюхая скомканные носовые платки, – и это было похоже на последнее обреченное усилие удержаться от обморока. Платок мне нравился, нравился и таинственный запах, исходивший из его складок, нравилось тайком приносить его в школу и украдкой доставать на уроке, потому что запах возвращал меня к родителям, в их гостиную, в мир, где царил такой неизбывный покой, что сам его аромат обволакивал меня хранительным облаком. Вдохнуть запах лаванды – и я обласкан, счастлив, любим. Вдохнуть запах лаванды – и в голову приходят добрые мысли о жизни, о близких, о самом себе. Вдохнуть запах лаванды – и какие бы расстояния нас ни разделяли, мы все оказываемся в одной теплой уютной комнате, где много пухлых подушек и огонь в очаге, а по крыше барабанит дождь, напоминая, что мы в укрытии. Вдохнуть запах лаванды – нам не грозит разлука.
Старый отцовский одеколон продается по всему миру. Достаточно войти в любой большой универсальный магазин – и вот он, пожалуйста. Полвека прошло, а вид флакона не изменился. Я мог бы – будь я достаточно предусмотрителен, чтобы не рисковать тем, что в один прекрасный день я зайду в магазин, а там его нет, – приобрести флакон и где-то его хранить как символ отца, моей любви к лаванде или того осеннего вечера, когда, будучи уже подростком, я пошел с мамой покупать себе первый лосьон для бритья, не смог выбрать, один вернулся в магазин на следующий вечер, после уроков, – и, к великой своей радости, обнаружил, помимо прочего, что мужчинам дозволено наносить на себя разные ароматы под тем предлогом, что им нужно бриться.
Меня ошарашило многообразие ароматов на свете, а еще сильнее ошарашило то, что среди них нашелся и лосьон моего отца. Я попросил продавца дать мне попробовать этот запах, намеренно произнес название лосьона не так, наигранно удивился, разглядывая конусообразный пузырек, как будто передо мной чужак, которого я по ошибке поприветствовал, зная, что дома мы с этим флакончиком в самых задушевных отношениях, зная, что ему ведомы не только все извивы самых тягостных моих мигреней – как вот мне ведомы все изгибы его тела, – но ведомы ему и мои воображаемые побеги из школы в материнский платок, а про фантазии мои ему ведомо больше, чем я дерзаю ведать и сам. Тем не менее там, в магазине, который вот-вот должен был закрыться на ночь, – моя неспособность сделать выбор вызывала у владельца нарастающее нетерпение – меня зачаровало нечто новое, нечто одновременно и опасное, и притягательное, как будто все эти бесчисленные пузырьки, аккуратно расставленные рядами по торговому залу, хранят в себе обещания ночей в больших городах, в которых все – здания, огни, лица, лакомства, места и мосты, которые мне предстоит пересекать, – делает мир желаннее прежнего, хотя бы потому, что и сам я благодаря тому или иному зелью сделался желанным – для других или для самого себя.
Я целый час нюхал разные флаконы. В результате купил лавандовый одеколон, но не тот, что был у отца. Заплатил, попросил завернуть покрасивее – и почувствовал себя так, будто мне выдали свидетельство о рождении или новый паспорт. Теперь это и есть я – вернее, этим я мне предстоит быть, пока флакон не опустеет. А там и вернемся к этому разговору.
Со временем я открыл для себя множество разновидностей лаванды. Бывает лаванда легкая, эфемерная; бывает нежная и робкая; встречается пышная, назойливая; бывает терпкая, как будто ее срезали в поле и оставили настаиваться в котле с уксусом; попадается невыносимо сладкая. Порой лавандовые духи пахнут как целая грядка с пряными травами, порой в них сквозит столько специй, что основу уже и не различишь.
Я экспериментировал со всеми, накупил множество пузырьков, причем не только ради того, чтобы собрать полную коллекцию, и не в поисках идеальной лаванды – скрытой лаванды, ур-лаванды, что превыше всех лаванд, но потому, что мне страшно хотелось доказать или опровергнуть одну вещь, которую я заподозрил с самого начала: что лаванда, о которой я мечтаю, – это та самая, с которой я вырос и к которой обязательно вернусь, установив, что все остальные мне не подходят. Возможно, искал я именно беспримесную лаванду. Обыкновенную. Папину. Уходишь в большой мир, приобретаешь там самые разные привычки, выучиваешь множество языков – и пренебрегаешь лишь одним, тем, на котором говорили дома, как вот обычаи, которые тебе всего ближе, это те обычаи, про которые ты знать не знал, что это обычаи, пока не увидел, что у других людей они совсем иные, – и сразу понял, что собственные тебе очень даже по душе, хотя от них ты успел отстраниться до такой степени, что уж и не помнишь, в чем их суть. Я собрал все запахи мира. Но мой аромат – каков он, мой аромат? Был ли у меня когда-то собственный аромат? Будет у меня аромат единственный – или мне захочется присвоить их все?
Накупив несколько лосьонов для бритья, я скоро выяснил, что все они склонны терять свой блеск, как вот некоторые актиноиды проживают короткую радиоактивную жизнь, прежде чем претвориться в свинец. Некоторые пахли слишком сильно, или слишком слабо, или слишком сильно вот тем и недостаточно сильно вот этим. В некоторых не хватало проявления моей сути, другие намекали на то, что и вовсе не было мной. Наверное, выискивая недостатки каждого аромата, я одновременно выискивал недостатки и в самом себе – и таковой была не только неспособность выбрать правильный аромат и даже не только помыслы о том, что мне аромат вообще нужен, а моя уверенность, что одеколон своею благодатью способен подтолкнуть меня к новой жизни, о которой я так мечтал.
Впрочем, даже критикуя каждый новый аромат, я постепенно к нему привязывался, как будто то неведомое, что было связано не столько с самими ароматами, сколько с той частью моей души, которая искала их неустанно, соблазнялась ими и в итоге благодаря им расцветала, нельзя было утратить ни за что. Случается, что история недолговечных привязанностей для нас важнее самих привязанностей, как вот история романтических отношений окрашена романтикой сильнее, чем сами отношения. Порою к сакральному мы обращаемся через слепой ритуал, не через веру, – так привычка, а не характер делает нас теми, кто мы есть. Порою в одежде и аромате, которые мы носим, сущности нашей больше, чем в нас самих.
Поиск идеальной лаванды был подобен поиску той части моей души, которая только в аромате и нуждалась для того, чтобы выйти из вселенской спячки. Я искал ее так же, как искал свою цветовую гамму, марку сигарет, любимого композитора. Отыскав правильную лаванду, я в конце концов смогу сказать себе: «Да, это я. И где же я был все это время?» И все же стоит купить этот аромат, и это самое «я», которое должно вот-вот проклюнуться, – как то самое «мы», которое проклевывается, когда мы покупаем новую одежду, или оформляем подписку на журнал, нам идеальным образом подходящий, или оформляем абонемент в спортивный клуб, или переезжаем в новый город, или открываем новую религию и совершаем новые обряды с новыми единоверцами, среди которых заводятся новые друзья, – это самое «я», понятное дело, оказывается тем самым, которое нам всегда хотелось замаскировать или отогнать. Действительно, чего я ждал? Аромат другой, человек тот же самый.
За последние тридцать пять лет я перепробовал едва ли не все одеколоны и лосьоны для бритья, до которых додумались производители парфюмерии. Не только с лавандой, но и с сосной, ромашкой, чаем, цитрусом, жимолостью, папоротником, розмарином, с дымными вариациями самых тонких пряностей и кож. Нет для меня занятия любезнее, чем уставлять аптечный шкафчик и бортик ванны флакончиками в два-три ряда, и каждый из этих фиалов – крошечное непроклюнувшееся воплощение того, кем я был, или хотел быть, или стремился стать в будущем. Аромат А: приобретен в таком-то году в надежде на встречу со счастьем. Аромат Б: приобретен, когда аромат А почти закончился; помог мне отказаться от А. В, знаменующий собою внезапную усталость от Б. Г получен в подарок. Никогда он мне не нравился; носил, чтобы порадовать дарительницу, прекратил, как только она исчезла из моей жизни. Потом появился Д, который так мне понравился, что в итоге я приобрел Е с девятью его собратьями производства того же парфюмерного дома. Из-за Е утомился от Д вместе со всеми его изотопами. Обрел Ж. Возненавидел его, как только понял, что он нравится глубоко несимпатичному мне человеку. Появился З. Как я обожал З! С З мы провели вместе много лет. Его больше не выпускают – нужно было вовремя запастись впрок. С другой стороны, при всей моей к нему любви я от него отказался задолго до того, как его прекратили производить. Вернулся к Д, который мне всегда нравился. Да, то, что надо. Но тут я понял, что с самого начала что-то было немного не так, в Д чего-то не хватало. Опять перестал им пользоваться. О женщине, которая на миг заглянула в мою жизнь и за десять дней нашего знакомства изменила меня навеки, я помню одно – подарок. Я продолжаю носить подаренный ею аромат в знак надежды на то, что она уже скоро вернется. Тому двадцать лет, и от нее остался только флакончик, который напоминает не столько о ней, сколько о том, каким я некогда был любовником.
За свою жизнь я многое выбросил в мусор. Но ни одной бутылочки из-под лосьона для бритья. При каждом переезде я везу их с собой – как вот древние брали с собою в странствие маски предков. В каждой бутылочке заключена часть моей души, я в формальдегиде, мой дух. Можно, как в арабской сказке, потереть сосуд и вызвать оттуда меня прежнего. Иной вызванный, несмотря на протекшее время, оказывается живым, хотя среди моего имущества давно уже нет тех вещей, в которые эти запахи облачены и которыми обладают; другие вызванные попросту скончались или стали настолько скучны, что мне не хочется иметь с ними ничего общего; я забыл их телефонные номера, любимые песни, мимолетные причуды. Я беру в руки старый аромат и внезапно вспоминаю, почему он воскрешает в памяти самые искрометные дни моей жизни – искрометные не потому, что они были счастливыми, а потому, что я столько времени провел, взыскуя счастья, что задним числом кажется, будто часть этого воображаемого счастья перетекла в реальность и пропитала своим запахом целую зиму, обтянув пленкой счастья дни, про которые я всегда твердо знал: мне вовек не захочется пережить их снова. И вот я держу флакон, который кажется мне драгоценнее очень и очень многих вещей, и начинаю думать, что рано или поздно некто горячо мною любимый – именно любимый и горячо – случайно заглянет сюда, откроет его и подивится, что же мог для меня значить этот аромат. В чем именно я все эти годы пытался поддержать огонек жизни? Это запах ранней весны, когда мне позвонили и сказали, что все сложилось, как я хотел. Это вечера рядом с мамой, когда она приехала повидаться со мной в центре города, и я подумал, какой же она стала старенькой, – я только что сообразил, что она была на десять лет моложе меня нынешнего. Это ночь в ля-миноре. «А это? – начнут допытываться они. – Это вот что?»
Запахи не истаивают десятилетиями, и те, кого мы любим, могут потом по ним вспоминать нас годами, однако легенда, заключенная в каждом флаконе, герметизируется в момент нашего ухода. Больше наш дух не заговорит ни с кем. Он лишь следит, как те, кого он любил, открывают флакон и приступают к исследованию. Ему смерть как хочется выкрикнуть с неистовством десяти розеттских камней, которые умоляют сквозь века, чтобы их услышали: «Вот в этот день я познал удовольствие. А вот это – ну как вы можете этого не знать? – это тот вечер, когда мы встретились, стоя после концерта возле Карнеги-Холла, и с какой легкостью одно повлекло за собой другое, и потом, когда пошел дождь, мы некоторое время подождали под укосиной – обоим не хотелось уходить, дождь стал удобным предлогом, начало беседы двух незнакомцев, – а потом метнулись в ближайшее кафе, там – гнусный кофе, сырая обувь, мокрые волосы, смурной официант-иностранец, что-то пробормотавший на невыразимском, когда мы дали ему щедрые чаевые, – мы сидели и говорили про Малера и про “Четыре квартета”, и никто, даже мы сами, ни за что бы не догадался, что потом мы окажемся вместе в квартирке-студии на Верхнем Вест-Сайде». Вот только голоса не слышно. Умереть – значит забыть, что ты когда-то жил. Умереть – значит забыть, что ты любил, страдал, обретал и утрачивал желаемое. Завтра ты скажешь себе: я ничего не вспомню, не вспомню этого лица, колена, этого старого шрама, руки, которая все это пишет.
Флаконы для меня – дублеры. Я храню их, как древние египтяне хранили свою утварь: на тот день, когда она потребуется в загробной жизни. Расстаться с ними сейчас – значит умереть до срока. И тем не менее случаются моменты, когда я думаю: а ведь здесь должно быть много, очень много других флаконов, не только тех, которые я потерял или позабыл, но и тех, которыми никогда не обладал, о существовании которых и не подозревал даже, но они – не помешай нам нечто малозначительное – могли бы придать моей жизни совершенно иной аромат. Вот улица, по которой я прохожу каждый день и не подозреваю, что через много лет она приведет к некой квартире, про которую я пока ведать не ведаю, что однажды она будет моей. Как же я могу этого не знать – или науки не существует вовсе?
И наоборот, есть места, с которыми мне доводилось распрощаться задолго до того, как пришлось их покинуть, – места и люди, чье исчезновение я репетирую раз за разом, не просто чтобы понять, каково будет жить без них в назначенный срок, но и чтобы отсрочить разлуку, предвосхитив ее заранее. Я живу в темноте, чтобы не ослепнуть, когда сгустятся сумерки. Так же я поступаю и с жизнью, придаю ей дополнительную условность и непрогнозируемость, только чтобы забыть о том, что однажды настанет мой день рождения, а мне уже будет не суждено его отпраздновать.
И сколь же непредставимо, что те, кто причинил нам невыносимую боль, вывернул нас наизнанку, в какой-то момент были совершенными незнакомцами, для нас как бы еще и не рожденными. Может быть, мы многократно встречались с ними тут и там, указывали им дорогу на улице, открывали дверь, вставали, чтобы пропустить их на место в заполненном концертном зале, – и ведать не ведали, что именно этот человек разрушит нас в глазах всех остальных. Я с радостью отсек бы от своей доли несколько лет в конце жизни, чтобы вернуться вспять и перехватить тот вечер под укосиной, когда оба мы накинули пальто на головы и помчались сквозь струи дождя пить кофе, и я тогда произнес – почитай, и не подумав! – не хочется пока говорить «спокойной ночи», хотя дело уже и шло к рассвету. Я не пожалел бы нескольких лет – не ради того, чтобы переписать или вычеркнуть этот вечер, но чтобы поставить его на паузу и, как оно всегда бывает, когда мы берем какой-то интервал времени в скобки, получить возможность гадать до бесконечности, кем бы я стал, если бы дело приняло иной оборот. Время, по своему обычаю, оказывается не в том грамматическом времени.
Вдоль стен аптеки Санта-Мария-Новелла во Флоренции тянутся ряды крошечных ящичков, и в каждом из них таятся иные ароматы. Здесь я бы мог создать собственный музей ароматов, собственную лабораторию, воображаемый Грасс – парфюмерную столицу Франции со всеми этими его забавными ателье, узкими переулками и петлистыми проходами, соединяющими одну фабрику с другой. В моем музее ароматов даже составится собственная периодическая система, в которую войдут все запахи моей жизни, начиная, понятное дело, с самых простых и легких – лаванды, водорода в мире ароматов, – а за ним будут расположены второй, третий, четвертый, и все они будут стоять в ряд вехами моего бытия, как будто в течении времени действительно есть свой метод. На место гелия (He, атомный номер 2) у меня встанет «Эрмес» (Hermes), на место лития (Li, 3) – «Либерти»; «Бернини» займет место бериллия (Be, 4), «Босари» – бора (B, 5), «Карвен» – углерода или карбона (C, 6), «Найт» – азота, он же нитроген (N, 7), «Оникс» – кислорода или оксигена (O, 8), а «Флорис» – фтора (F, 9). И глазом не успеешь моргнуть – а вот уже вся моя жизнь разложена на эти элементы: «Арден» вместо аргона (Ar, 18), «Кнайз» вместо калия (K, 19), «Каноэ» – кальция (Ca, 20), «Герлен» – германия (Ge, 32), «Ив Сен-Лоран» – иттрия (Y, 39), «Пату» – платины (Pt, 78) и, понятное дело, «Олд спайс» вместо осмия (Os, 76).
Как и в периодической таблице Менделеева, ароматы можно распределить по рядам и категориям: по травам, цветам, фруктам, пряностям, древесине. Или местам. Людям. Любовям. Гостиницам, в которых то или иное мыло одело флером незабываемого аромата тот или иной великий город. По фильмам, блюдам, костюмам, концертам, которые нам понравились. По духам, которыми пользовались женщины. Или даже по годам – флаконы можно снабжать ярлыками, как это делала моя бабушка: она на каждой банке с цитрусовым джемом проставляла надпись своим старческим почерком, отмечая, из чего и в каком году он изготовлен, – как будто каждому аромату присвоен собственный номер Werke Verzeichnis. Aria di Parma (1970), Acqua Amara (1975), Ponte Vecchio (1980).
Лосьоны для бритья, которыми я пользовался в 18 лет и 24 года, – запахи разные, но вносим их в один столбик: их объединяет поездка в Италию. Я в 16 лет и я же в 32 года: возраст удвоился, но я все еще нервничаю, прежде чем в первый раз позвонить женщине; в 40 я так и не научился решать математические задачи, в которых не разобрался в 20; многократно перечитав «Грозовой перевал» и посвятив ему много лекций, я в 48 лет все равно лучше всего помнил аромат, под который впервые открыл эту книгу в 12, четырьмя «поколениями» ранее. Я в 14, 18, 22, 26 – жизнь, переложенная в отрезки из четырех единиц. Я в 21, 26, 31, 36 – то же, но из пяти. Метод фолио, кварто, октаво – половинками, четвертинками, осьмушками. Жизнь, представленная в виде ряда Фибоначчи: 8, 13, 21, 34, 55, 89. Или Паскаля: 4, 10, 20, 35, 56. Или простыми числами: 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Или комбинациями всех трех: в 21 год я был хорош собой, почему я сам так не думал? Столько всего со мной происходило в 34, почему мне так хотелось снова стать тем, кем я был в 17? В 17 спал и видел, чтобы мне исполнилось 23. В 23 мечтал встретить девушек, с которыми был знаком в 17. В 51 все бы отдал, чтобы мне было 35, а в 41 готов был дерзнуть и сделать то, на что бы не отважился в 23. В 20 лет 30 казалось мне идеальным возрастом. Удастся ли мне в 80 убедить себя, что мне вполовину меньше? Забрезжит ли в снегах лето?
Со временем не договоришься. Мы живем по Фибоначчи: три шага вперед, два назад, или наоборот: три вперед, пять назад. А бывает, что и в обоих направлениях одновременно, в стиле «Крабьего канона» Баха, сплетая комбинации ароматов и выборочных приязней в нечто, что оказывается бесконечной последовательностью эфиров и благовоний, которые начинаются с простейших и разрастаются до очень сложных: один атом углерода, два, три; шесть атомов водорода, восемь, десять… C3H6O2, этилформиат; C4H8O2, этилацетат; C5H10O2, этилпропионат; C5H10O2, метилбутаноат (у него запах яблок); C5H10O2, пропилэтаноат (запах груш); C6H12O2, этилбутират; C7H14O2, этилвалерат (банан); C8H9NO2, метилантранилат (виноград); C9H10O2, бензилацетат (персик); C10H12O2, этилфенилацетат (мед); C10H20O2, октилацетат (апельсин-абрикос); C12H24O2, этил деканоат (коньяк); C9H6O2, кумарин (лаванда). Скажи «лаванда» – и вот тебе аромат, цепочка, жизненный путь.
В этом и состояла гениальность Менделеева. В понимании, что, хотя он и способен определить любой элемент, многие из них еще не открыты. Поэтому он оставил в таблице пустые места – для отсутствующих, грядущих элементов – как будто жизненные события можно выстроить в столь четкую идеализированную числовую последовательность, что, даже если и не знать, когда они случатся и какое воздействие окажут, их все равно следует ожидать, высвобождать для них место еще до их наступления. В том же ключе я рассматриваю и свою жизнь, вглядываюсь в слепые места: в запахи, которые так для себя и не открыл; флаконы, на которые не наткнулся и не проведал про их существование; обличия, которые так и не принял и потому по ним не скучаю; в интервалы времени, которые мог бы прожить, но не прожил; в людей, с которыми мог бы встретиться, но встречу пропустил; места, в которые мог бы попасть, влюбиться в них и в итоге сделать своим домом, но до которых так и не добрался. Это пустые клетки, «редкоземельные» моменты, непройденные пути.
II
Есть и еще один аромат, женские духи. Не знаю никого, кто бы ими пользовался. Никто с ними не ассоциируется.
Я открыл его однажды осенним вечером, возвращаясь домой с университетского семинара. В Кембридже, что в штате Массачусетс, на Брэттл-стрит есть одна высококлассная аптека, и мне случалось – просто чтобы поваландаться и не попасть домой раньше нужного – пойти кружным путем и в ней приостановиться. Мне нравилась Брэттл-стрит в районе Гарвардской площади, особенно ранним вечером, когда витрины магазинов сияют, а люди возвращаются с работы, заканчивают дневные дела, кто-то ведет за руку детей, суета прохожих придает тротуарам плотность, которую я со временем полюбил, – хотя бы потому, что она вроде бы содержала в себе посулы на вечер, пусть я уже успел убедиться в их лживости. Только на тротуаре я и чувствовал себя дома в этой неприветливой безликой части города, где столько времени и столько лет растратил в одиночестве, где все, кого я знал, всегда были слишком заняты слишком мелочными заботами. Я скучал по дому, по людям, ненавидел одиночество, скучал по чаю, пил чай в одиночестве, чтобы вспомнить, каково это – чай рядом с кем-то еще.
В такие вечера алжирские кафе всегда заполнялись до отказа. Приятно было выпить чаю с незнакомцами, пусть даже я с ними никогда и не заговаривал. Зиккурат чайных жестянок высился на захламленном прилавке за кассовым аппаратом. В итоге я перепробовал все чаи, от дарджилинга до формозского улуна, лапсана-сушона и зеленого пороха. Само представление о чае нравилось мне больше собственно вкуса – так и табак приятнее представлять, чем курить, а составлять представление о людях приятнее, чем с ними дружиться, и моя квартира на Крейги-стрит была куда хуже представления о доме.
Аптека находилась в конце череды магазинов возле угла Черч-стрит. Крайняя точка перед тем, как повернуть и направиться к дому. Я зашел туда однажды вечером. Внутри оказался мир совсем иной, чем я себе воображал. Крошечная аптека была забита дорогими косметическими средствами, дорогими духами, шампунями со всех концов земли, кусками мыла из Старого Света, бальзамами, лосьонами, полосатыми зубными щетками, кисточками из натурального меха, имперскими кремами для бритья. Мне там очень понравилось. Старомодные шкафы, старомодные товары, общая старина этой лавки – во всем, вплоть до стародавних бритв и пожилых владельцев из Центральной Европы, – все это выглядело таким приветливым, уютным. Вот я и спросил – нельзя же просто валандаться, ничего не купив, – лосьон для бритья, про который думал, что его не окажется, а выяснилось, что он не только есть в наличии, но с ним и еще целая линейка той же фирмы. Вот и пришлось купить вещь, пользоваться которой я перестал лет десять назад.
Через несколько дней я пришел снова, и не только потому, что визит в аптеку позволял отсрочить неизбежное возвращение домой, не потому, что хотелось повторить этот опыт – дверь открывается, перед тобой целая вселенная ушедшей в прошлое галантереи, – а потому, что сама эта лавка стала последней остановкой в воображаемом Старом Свете, прежде чем мир превратится в то, чем является на самом деле: в Кембридж.
Еще раз я пришел однажды в самом начале вечера, после сеанса в кинотеатре «Брэттл». Пока шел французский фильм, снаружи начался снегопад, Кембридж стремительно заметало, все говорило о том, что ночью будет метель. Перед входом в кинотеатр над Брэттл-стрит образовался сияющий ореол – такой же, как и над городком Клермон-Ферран в фильме. Машин почти не было, и соседские детишки собрались у входа в ресторан «Касабланка» с санками – они намеревались отправиться на реку Чарльз. Я им завидовал.
Домой не хотелось. Вместо этого я решил добрести до своей аптеки. Цель ничем не хуже любой другой. Я как можно стремительнее захлопнул стеклянную дверь, причем потопал снаружи ногами, прежде чем шагнуть под крышу. Внутри стояла молодая светловолосая женщина с мальчиком лет четырех и прижимала платок к носу сына. Мальчик пытался высморкаться, но безуспешно. Мать улыбнулась ему, продавщице, мне – едва ли не с извинением, потом свернула платок и еще раз поднесла к носу сына. «Noch einmal», – скомандовала она. Мальчик высунул голову из красного капюшона и постарался. «Noch einmal», – повторила она увещевающе, напомнив мне мою собственную маму: когда она уговаривала меня сделать что-то для меня полезное, голос ее наполнялся таким безграничным терпением, что я вдруг осознал, насколько отдалился от любви всех других. Через несколько секунд в зале потянуло холодом. Мать открыла дверь и вместе с закутанным ребенком вышла наружу.[2]
Внутри остались только мы с продавщицей. То ли в такой зачарованный вечер у нее уже не было никакого желания заниматься работой, то ли потому, что время уже шло к закрытию, продавщица – она уже неплохо меня знала – предложила мне понюхать совершенно особую вещь, произнесла название духов.
Слышал такое? Мне показалось, что слышал, но, подумав, я усомнился. Не обращая внимания на мои попытки отговориться, она открыла крошечный флакон. Смочила стеклянную пробку и дотронулась ею до своей кожи жестом, который я воспринял как попытку погладить меня по щеке – меня бы это и не удивило, я давно ощущал, что у нее ко мне слабость, в частности, поэтому и приходил, – но она мягко поднесла гладкое обнаженное запястье к моим губам, и я бы, наверное, поцеловал его, не подумав, если бы не видел раньше, как и другие торговцы парфюмерией делают в точности такой же жест.
Никогда раньше мне не доводилось нюхать ничего даже отдаленно похожего. Я одновременно оказался в Таиланде, во Франции и на судне, направлявшемся в Босфор, – на борту женщины, закутанные среди лета в меха, они обсуждают «Медленную часть» Веберна, поворачиваются ко мне, шепчут: «Noch einmal?» Аромат этот затмил все прочие, которые я знал раньше. В нем присутствовала лаванда, но лаванда развоплощенная, рассеянная, разрозненная – именно поэтому я попросил у продавщицы разрешение еще раз понюхать ее запястье, но она, видимо, уловила подтекст моей просьбы и засомневалась, как сомневался и я, что речь тут об одних лишь духах. Вместо этого она мазнула крышкой по полоске бумаги, которую выхватила из пенальчика, набитого такими же полосками, слегка помахала ею в воздухе, подсушивая, а потом вручила мне с заговорщицким видом – было видно, что ее моей любознательностью не проведешь, она уже догадалась, что в жизни моей и так уже есть как минимум две женщины, которым хочется одного: чтобы эта полоска, которую я принесу вечером домой, через несколько дней превратилась в подарочный флакон. Взгляд ее польстил мне невыразимо.
На третий вечер я пришел снова, потом опять – теперь уже не ради лавки, и не ради снега, и даже не ради призрачного вечернего свечения над Брэттл-стрит, но ради открытия, содержавшегося в этом флаконе, ради женщин в мехах, которые курили сигариллы на борту яхты, глядя, как Геллеспонт тает вдали. Я даже не знал, были ли духи причиной моего там появления, или они уже превратились в предлог, в маску под маской, потому что, даже если на самом деле я приходил к продавщице или к тем женщинам, образ которых вызывало во мне искрение ее глаз, я одновременно ощущал, что за нею маячит силуэт другой женщины, моей матери, в другой парфюмерной маске, притом что я чувствовал, что и она, скорее всего, не более чем маска, за которой скрывается мой отец, в давние-давние уже времена: он стоит перед зеркалом, довольный тем, что он – тот мужчина, которым был, когда смачивал щеки лавандовой водою после бритья. И он, как теперь и все остальные, истончился до полупрозрачной маски, символа любви и счастья, которые я пытался обрести, но уже отчаялся. Точно непостижимый мираж, запах взывал ко мне с другого края пропасти, пересечь которую так трудно, что я подумал: возможно, это и с любовью никак не связано тоже, ибо любовь не может быть источником таких тягот, а значит, наверное, и любовь лишь маска, и если я жажду не любви, то, значит, слив этого водоворота, в котором я вращаюсь, обусловлен лишь мной – и мной только, – но мной, расточившимся в стольких пространствах, на стольких уровнях, что при попытке прикосновения я ускользаю подобно ртути, или скрываюсь подобно лантаноиду, или всплываю наверх, чтобы через миг превратиться в какое-то безнадежно безликое вещество.
Духи оказались настолько дорогими, что унести с собою я смог – предварительно рассыпавшись в новых извинениях, которые, похоже, стали для продавщицы доказательством того, что в моей жизни действительно есть другие женщины, – лишь взвесь на полоске бумаги. Полоску я сохранил как вещь, принадлежавшую человеку, уехавшему на время: он меня не простит, если я не стану нюхать ее ежедневно.
Примерно через неделю, еще раз посмотрев тот же фильм, я выскочил из кинотеатра и зашагал к аптеке – но оказалось, что уже закрыто. Я постоял там несколько минут, вспоминая тот вечер, когда видел здесь мать с сыном, вспомнил ее светлые волосы, убранные под шляпу, глаза, которые, блуждая по залу, поймали мой взгляд, пока она уговаривала мальчика, – она будто уловила во мне одновременно и вожделение, и зависть. Может, она нарочно сделала взгляд подчеркнуто материнским, чтобы пресечь любые попытки вступить в беседу? Может, продавщица перехватила мой взгляд?
И вот я представил себе, как мать с сыном выходят из лавки, на Черч-стрит, мать с трудом раскрывает зонт, и они направляются в сторону Кембридж-Коммон, бредут через пустынное поле, яркие сапожки глубоко увязают в снегу, спины повернуты ко мне навеки. Все это казалось настолько реальным, и исчезали они с такой торопливостью, подстегиваемые ветром, что я едва пресек порыв выкрикнуть единственные известные мне слова:
– Frau Noch Einmal… Frau Noch Einmal…[3]
Я тогда представил себе, что это мои жена с сыном, – я всею душою мечтал о том, что они у меня когда-то появятся. Я возвращаюсь домой с работы, выхожу из автобуса на Гарвардской площади, она в последний момент перед ужином выбежала туда же по делу, купить ему игрушку в аптеке, потому что утром пообещала: «Ну подумаешь, ну избалуем его слегка! Ну надо же – вот так вот столкнуться в снегу, да еще именно сегодня!» Но теперь, с расстояния во много лет, я думаю, что она могла быть моей матерью, а тот мальчик – мной. А может, это, как всегда, просто маска. Я был одновременно и собой, и своим отцом, собой-студентом, вместо библиотеки отправившимся в кино, собой – отцом этого мальчика, причем лучше настоящего: я, наверное, дам ему подольше положенного насладиться детством, а в будущем стану давать ему неопределенные советы касательно грядущего, – и все это напомнило мне о том, что шпаргалки, которые мы тайком проносим с собою сквозь время, написаны симпатическими чернилами.
Тому мальчику из аптеки сейчас тридцать лет – на пять больше, чем было мне, когда я счел себя достаточно взрослым, чтобы назваться его отцом. При этом, если я и сегодня моложе его в его тридцать лет, все равно в тот заснеженный день я был куда старше нас обоих нынешних.
Время от времени я возвращаюсь к этим духам, особенно когда брожу по косметическому отделу на первом этаже очередного большого универмага. Я неизменно прикидываюсь тупицей: «А это что?» – спрашиваю я, изображая мужа-невежду, пытающегося срочно купить жене подарок. Мне рассказывают, меня опрыскивают, мне выдают надушенные полосочки, я их засовываю в карман пальто, вынимаю оттуда, кладу обратно, уношусь мыслями к тем дням, когда мечтал о жизни, которую, кажется, все-таки не прожил.
Возможно, аромат – это самая надежная маска, маска, отделяющая меня от мира, меня от меня, меня другого, теневого меня, за которым я следую, которого распознаю, но признать не могу, ощущая при этом, что эти разговоры про другого меня сами по себе – самая обманчивая маска. С другой стороны, возможно, аромат – это всего лишь метафора для слова «нет», которое я сочетал со всем, что видел, хотя спокойно мог на его место поставить «да» – в разговорах с собой, с отцом, с жизнью, – возможно, потому, что я никогда и ничего в этом мире не любил достаточно сильно и надеялся скрыть этот факт от самого себя, заслонившись мыслью, что лучше мне поискать в другом месте, или потому, что я любил и вожделел каждый из этих ароматов, но все не мог решить, на котором остановиться, а значит, лучшее припрятал до того дня, когда подкатит вторая жизнь. Вот ведь занятно: вожделенными мне кажутся единственные духи – те, которые я так и не купил. Причем именно их все знакомые мне женщины коварно отказывались носить. Соответственно, при мысли о них вспомнить мне некого. Эти духи – символ придуманной жизни, но из них не лепится ни один образ.
Прошлой зимой я вернулся в ту аптеку с девятилетним сыном. Мы обходили окрестности – я теперь так всегда делаю, если возвращаюсь в места, которые слишком прочно вплетены в ткань моей жизни, так, что даже нет смысла задаваться вопросом, любил я их когда-то или нет. Как всегда, прикидываюсь, что выбираю духи для жены. «Как думаешь, эти маме понравятся?» – спрашиваю я у сына, надеясь, что он ответит «нет», он так и отвечает. Я извиняюсь. Мы рассматриваем зубные щетки, мыло, старомодную зубную пасту, вот передо мной даже отцовский лосьон для бритья – таращится едва ли не с укором. Даю сыну его понюхать. Ему нравится. Спрашиваю, узнаёт ли. Узнаёт. Пробуем другой. Он ему тоже нравится. Ловлю себя на надежде, что сын сейчас создает собственные воспоминания.
Ничего не купив, мы открываем стеклянную дверь и выходим. Резкий поворот направо, шагаем через Коммон. Я пытаюсь рассказать сыну, что однажды, почти тридцать лет назад, увидел его здесь мельком. Он на меня смотрит как на сумасшедшего. Или, может, это я себя тут увидел много лет назад, спрашиваю я у него. Он говорит мне взглядом: ну ты и ненормальный. Хочется ему рассказать про фрау Нох Айнмаль, вот только не подобрать слов. Вместо этого говорю: рад, что мы здесь вместе. Он отшучивается. Я отшучиваюсь в ответ.
Тем не менее я все же останавливаюсь немного постоять на том самом месте и вспоминаю, как в тот вечер едва не выкрикнул: «noch einmal», обращаясь к ветру на пустых заснеженных улицах Кембриджа, вспоминаю ту немку и ее счастливчика мужа, как он каждый вечер возвращается с работы. Вот здесь, в двадцать пять лет, я придумал жизнь, которую надеялся прожить. А сейчас, в пятьдесят, на миг вернулся к этой жизни, существовавшей лишь в моем воображении.
Прожил ли я ее? Прожил ли я предначертанную мне жизнь? Которая из них важнее, которая мне лучше помнится: та, которую я придумал, или та, которая воплотилась в реальность? Или я уже сейчас, до срока, забываю их обе, жизнь одну за другой забирает назад те вещи, которые я надеялся сохранить навсегда, одну за другой переворачивает карты рубашкой вверх, чтобы сдать другому его талью?
Ла-Буйадис, июнь 2001 года
Домик, в котором мы гостим неподалеку от Экс-ан-Прованса, окружен зарослями лаванды, которые зыблются и волнуются всякий раз, как над полями пролетает ветер. Завтра последний наш день в Провансе, мы уже перестирали всю одежду и развесили сушиться на солнце. Я знаю, что в следующий раз эту рубашку надену уже на Манхэттене. Знаю и то, что запах солнечного света и лаванды, укрывшийся в складках, вернет меня обратно в этот лучезарный провансальский день.
Десять утра, я стою в саду рядом с плетеной корзиной, куда сложено выстиранное белье. Жена пока не знает, что я решил развесить белье самостоятельно. Пусть ей будет сюрприз. И я уже сварил кофе.
И вот я вешаю полотенце за полотенцем, трусы мальчишек, их бесконечные футболки, носки, подкрашенные красноватой глиной из Руссийона – надеюсь, что она никогда не отстирается. Мне нравится запах. Нравится распределять рубашки по веревке, оставляя между ними не больше сантиметра. Нужно еще следить за прищепками, расходовать их экономно, чтобы на все хватило. Знаю заранее: жена найдет, что покритиковать в моем методе. Мысль эта меня забавляет. Мне нравится эта работа, отупляющий ритм, на фоне которого все остальное выглядит таким простым и обыденным. И пусть бы оно продолжалось вечно. Начинаю понимать, почему люди так долго развешивают белье на просушку. Мне нравится запах пористой древесины прищепок, сложенных в глиняный горшок. Нравится запах глины. Нравится слушать перестук капель, падающих с наших больших полотенец на гальку, мне на ноги. Нравится стоять босиком, нравятся простыни, которые далеко не сразу повесишь ровно, и на каждую нужно по три прищепки, по две на концах и одна для полноты картины в середке. Я оборачиваюсь и, прежде чем взять в руки очередную рубашку, провожу пальцами по стеблю лаванды. Как здесь просто дотронуться до лаванды. Подумать, как много и долго я переживал, а вот ведь она, и она мне дарована, как золото было даровано инкам, которые, не задумываясь, отдавали его чужакам. Здесь желать уже нечего. Quod cupio mecum est. Что нужно, у меня уже есть.
Вчера мы ходили осматривать аббатство Сенанк. Я сфотографировал сыновей на фоне лавандового поля. На расстоянии лаванда кажется темной – этакий синяк на море зелени. Если подойти, каждое растение представляет собой обычный куст-переросток. Я научил сыновей растирать в пальцах цветки лаванды, не потревожив при этом пчел. Мы поговорили про монахов-цистерианцев, про изготовление красок, спиртных напитков и ароматических экстрактов, а еще о святом Бернарде Клервоском, о торговых путях Средневековья, которые существуют и по сей день и тянутся от этих крошечных аббатств по всему миру. Я ведь убежден, что моя любовь к лаванде началась именно здесь, с эссенции, собранной с кустов, растущих на этом самом поле. Я ведь убежден, что здесь она и завершается, в самом начале. И тем не менее при всех моих убеждениях все может начаться заново: отец, мать, девушка с духами на запястье, фрау Нох Айнмаль, ее мальчуган, мой мальчуган, я сам в детстве, вечерняя прогулка по снегу, дух в бутылке, Розеттский камень внутри каждого из нас, который ни человеку, ни любви, ни дружбе не отвалить в сторону, жизнь, о которой мы думаем каждый день, жизнь непрожитая, жизнь, прожитая наполовину, жизнь, которой нам очень хочется зажить, пока еще есть время, жизнь, которую хочется переписать, – была бы возможность, жизнь, которая останется ненаписанной, а может, ее и невозможно было написать, и жизнь, которую, как мы надеемся, другие проживут гораздо лучше нас, – все это, и в этом я убежден, спрядено в одну нить, в которую вплетена вещь очень простая – тяга к единению с миром, к поискам нечто вместо ничто, а если это нечто найдется, его нужно удерживать до последнего, будь это даже всего лишь стебель лаванды.
Сокровенность
Я наконец-то снова на виа Клелия. Впервые я оказался рядом, когда вернулся в Рим почти сорок лет назад, второй раз – пятнадцать лет спустя, потом еще раз через три года. Но по ряду причин – связанных скорее с моим нежеланием сюда возвращаться – каждый раз либо дело было ночью, когда не видно ни зги, либо я не решился попросить таксиста свернуть направо и немного постоять, чтобы я успел взглянуть на наш старый дом. С виа Аппия-Нуова, многолюдной простонародной магистрали, я виа Клелия видел лишь в отдалении. После третьего раза бросил попытки. Если я и приезжаю в Рим, то никуда не выбираюсь за пределы центра.
Однако летом позапрошлого года я вместе с женой и сыновьями сел на метро, и мы вышли на Фурио-Камильо, в двух кварталах к северу от виа Клелия – именно так, как я себе это и представлял. Два квартала – достаточное расстояние, чтобы свыкнуться с новым опытом, рассортировать впечатления, открыть шлюзы памяти, один за другим, – без усилий, опаски, церемоний. И те же два квартала нужны, чтобы возвести все необходимые преграды между мной и этой улочкой – прибежищем низов среднего класса: ее неопрятное сварливое приветствие, когда четыре с лишним десятка лет назад мы, беженцы, высадились в Италии, я так и не смог забыть.
Я собирался зайти на виа Клелия там, где она пересекается с виа Аппиа-Нуова, и не спеша поздороваться с улицами, названия которых в основном взяты из Вергилия: виа Энея, виа Камилия, виа Эуриало, виа Турно, – и перенести далекое эхо имперского величия на этот обшарпанный квартальчик. Я собирался по пути навестить все неприметные достопримечательности: печатню (все еще на месте), утлую бакалею-пиццайоло, парочку угловых баров, мастерскую водопроводчика (закрылась), цирюльню на другой стороне улицы (закрылась тоже), табачную лавку, крошечный бордель – никто не решался заглядывать в дверной проем, когда две неряшливые старушенции оставляли дверь приоткрытой, то место, где хрупкого сложения уличный певец стоял каждый день после полудня и ревел бронхиальные арии, опознать которые было непросто, – а когда он прекращал гнусавить, слышно было лишь, как монетки дождем сыплются на мостовую.
Прямо над этим местом находился дом.
Продвигаясь по виа Клелия с женой и сыновьями, указывая им на разные подробности, которые я так досконально изучил за те три года, которые мы прожили здесь с родителями в ожидании американских виз, я поймал себя на мысли: хорошо бы, чтобы никого из тех, кого я знал в те дни, нынче уже не было в живых, а если они и живы, пусть меня не опознают. Не хотелось давать разъяснения, отвечать на вопросы, обниматься, прикасаться, подходить близко. Я всегда стыдился виа Клелия, стыдился ее славных обитателей, того, что когда-то жил среди них, стыжусь я и своих нынешних чувств, стыдился – об этом я сказал сыновьям – того, что вечно вводил в заблуждение одноклассников по частной школе, говорил, что живу «неподалеку» от зажиточной Аппиа-Антика, а не в самом сердце простецкой Аппиа-Нуова. Стыд никуда не делся; стыд так не поступает, он здесь, на каждом углу улицы. Стыд, представляющий собой нежелание быть теми, кем мы, по собственному убеждению, вряд ли и являемся, может превратиться в самое глубинное наше свойство, даже более глубинное, чем то, кем мы являемся, как будто под именем нашим погребены рифы и затонувшие города, где кишат некие создания, наименовать которых нам не приходит в голову, ибо они пришли в мир намного раньше нас. На самом деле, когда мы двинулись к другому концу виа Клелия, мне хотелось одного – поскорее с этим покончить: «Вот мы и посмотрели виа Клелия», – сказал бы я тогда, но при этом я твердо знал, что мне страшно хочется ощутить внезапную вспышку памяти, которая оправдает этот визит.
Раздираемый между желанием, чтобы все это закончилось навек и бесповоротно, и желанием хоть что-то почувствовать, я заговорил с сыновьями о нашем визите в нарочито беспечном тоне. Вообразите себе – три года прожить в этой трущобе. В жаркие летние дни тут еще и воняет. Вот на этом углу я однажды увидел мертвого пса – он попал под машину, оба уха были в крови. А здесь, сидя по-турецки на тротуаре у трамвайной остановки, каждый день попрошайничала молодая цыганка, дерзко выставив голое смуглое колено из-под цветастой юбки – дикая, бесстрашная, бесстыжая. В воскресный полдень виа Клелия превращалась в морг. Жара летом стояла невыносимая. Осенью, вернувшись из школы на восемьдесят пятом автобусе, я шел потом выполнять мамины поручения – всегда выскакивал из дому бегом, чтобы успеть до закрытия магазинов, а в ранних сумерках смотрел, как расходятся по домам молоденькие продавщицы и неизменно думал про «Аравию» Джойса. Барышня из крошечной бакалеи в конце улицы, продавщицы из крошечного местного универсама, барышня из мясной лавки, хозяин которой всегда отпускал в кредит к концу месяца, когда делалось туго с деньгами.
Была еще девушка, которая каждый день приходила на уколы витамина Б12. В годы Второй мировой войны мама пошла на фронт медсестрой и теперь радовалась возможности эту девушку поколоть – хоть какое-то занятие. Потом мы с девушкой сидели и болтали на кухне до самого ужина. Позже она исчезала в лестничном пролете. Пина. Дочь хозяйки дома. Я никогда не испытывал к Пине ни малейшего влечения, но по доброте душевной скрывал отсутствие чувств с моей стороны за покровом деланой робости и неопытности. Разумеется, робость и неопытность были вовсе не делаными, но я беззастенчиво переигрывал, изображая скрытую заинтересованность и якобы сокрытую под ней дерзновенность: я, мол, способен на всякие непотребства, только дай сигнал. Я изображал честный застенчивый взгляд, чтобы тщательнее спрятать свое свирепое смущение.
С барышней из универсама все было строго наоборот. Мне не хватало смелости встретиться с ней взглядом, приходилось всякий раз изображать высокомерие человека, который когда-то бы на нее, может, и потаращился, а вот нынче не станет.
Свою застенчивость я ненавидел. Пытался ее скрывать, но скрывать было нечем. Сама попытка ее спрятать заставляла стыдливо покраснеть и смутиться сильнее прежнего. Я постепенно возненавидел свои глаза, рост, акцент. Чтобы заговорить с незнакомцем, или с барышней из продуктового магазина, или с кем-то еще, нужно было полностью отключиться от внешнего мира, взвесить свои слова, расчислить свои слова, изобразить искусственный романаччо, чтобы спрятать мой иностранный акцент, а чтобы избежать грамматических ошибок в итальянском, приходилось разбирать каждое предложение на части еще до того, как оно зазвучит, причем из-за этого я совершал ошибки еще грубее – так писателю случается изменить ход фразы в процессе ее написания, но потом он забывает убрать следы того, куда она вела изначально, – и в результате начинает говорить сразу на несколько голосов. Я притворялся перед всеми – перед теми, от кого ничего не хотел, перед теми, от которых хотел всего, что дадут: пусть только помогут мне попросить. Притворными были мысли, страхи, сущность, даже та сущность, которая вроде бы и не была моей.
Помню, вечерами по средам мне полагалось ходить за покупками и сдавать бутылки в продуктовый магазинчик в конце виа Клелия. Барышня, отвечавшая за расстановку товара по полкам, подходила к прилавку и помогала мне. Я пугался всякий раз, когда смотрел, как она стремительно опорожняет мешок, – мне казалось, что время утекает быстрее, чем мне бы хотелось. Ее, похоже, нервировал мой взгляд, потому что, уставившись на меня, она всякий раз сметала с лица улыбку. Взгляд у нее был мрачный, вздорный – взгляд человека, который пытается удержаться от грубости. Другим мужчинам они расточала улыбки и пошловатые шутки. На меня угрюмо пялилась.
На станцию метро Фурио-Камильо мы приехали в десять утра. В этот час в конце июля я обычно сидел в своей комнате наверху, чаще всего за книгой. Случалось, что мы, пока не так жарко, ходили на пляж. Но к последней неделе месяца деньги заканчивались, и мы оставались дома – слушали радио, откладывали на кино в будни, когда билеты в обшарпанном пустом заштатном кинотеатре за углом стоили дешевле, чем по воскресеньям. Кинотеатров было два. Один исчез, другой, ныне сильно расфуфыренный, стоит на виа Муцио-Сцевола, названной в часть древнеримского героя, который, узнав, что убил не того человека, сжег себе правую руку. В этом кинотеатре однажды вечером незнакомый мужчина положил ладонь мне на запястье. Я спросил, что с ним такое, он торопливо пересел на другое место. В те дни, сказал я сыновьям, в уборную в кинотеатре лучше было не ходить.
Еще один квартал, и вот, всего-то пять минут прошло – а визит окончен. Оно всегда так, когда я возвращаюсь на старые места. То ли здания мельчают со временем, то ли время, потребное для того, чтобы посетить их снова, сжимается до неполных пяти минут. Мы прошли улицу из конца в конец. Больше ничего не оставалось, кроме как пройти снова, обратным путем. Я чувствовал: жена и сыновья ждут моего решения, что мы делаем дальше, – и они рады, что с визитом покончено. Когда мы шли по улице обратно, я все-таки простоял еще несколько секунд перед тем самым домом, не только чтобы проникнуться важностью момента и не говорить потом, что я поспешил и все испортил, но еще и потому, что по-прежнему надеялся: вот сейчас нечто нераскрытое выскочит, потянет меня за рукав, воскликнет, как случается воскликнуть людям, явившимся к тебе на порог после долгих лет разлуки: «А ты меня помнишь?» Но ничего не произошло. Как и всегда бывает со мной в такие моменты, душа будто бы онемела.
Процесс письма о таком событии – задним числом, как вот я все это записал в конце того дня, – способен избыть эту немоту. Я был уверен, что в процессе письма исчезнут те вещи, которых не существовало на момент моего визита, или они существовали, но я их видел не вполне, мне требовались время и бумага, чтобы в них разобраться, – так, чтобы в записанном виде они ретроспективным образом придали моему визиту должную значимость, ту, которую часть моей души надеялась обрести на виа Клелия. В процессе письма мне, возможно, удастся узнать эту улицу сокровеннее, чем в те времена, когда я на ней жил. В процессе письма я ничего не изменю и не преувеличу: речь идет просто о раскопках, перестановках, плетении повествования, спокойных воспоминаниях в тот момент, когда обыденная жизнь кивает тебе с довольным видом и идет дальше. В процессе письма там, где жизнь поставила вещи, возникают фигуры: вещи остаются в прошлом, фигуры – с нами. Даже сам по себе опыт немоты, будучи перенесенным на бумагу, приобретает сдержанную и невозмутимую грацию, меланхолическую каденцию, в которой есть и сокровенность, и трепет – в сравнении с изначальной пустопорожностью.
Напиши про немоту – и немота превратится в нечто. Взломай плоские поверхности, откопай их тени, займись сотворением мифов.
Может, в процессе письма – а в конце того дня я все это записал – мы находим слова, чтобы вытолкнуть себя из немоты в жизнь, – или в процессе письма мы получаем суррогатное наслаждение, чтобы еще с большей немотой откликнуться на полученный опыт?
Три года в Риме – а я ни разу даже не прикоснулся к этой улице. Это у меня в натуре – пореже к чему-то прикасаться, задевать этот город разве что по чистой случайности. Так я три года смотрел, как молодая цыганка сидит на куске гофрированного картона у трамвайной остановки, и ни разу не попытался пробить брешь в ее запечатанном непроницаемом угрюмом взгляде. А если случалось говорить про нее друзьям в школе, я, чтобы скрыть волнение и вожделение, обзывал ее «чумазой».
Испытал ли я разочарование? Это ж сродни преступлению – не натолкнуться ни на единую еще трепыхающуюся примету прошлого. Неужели немота означает, что все воспоминания о ненависти к этой улице канули в никуда? Может, прошлое просто отмирает в нашей душе – вернулся, но ничего не вспомнил?
Испытал ли я облегчение? Время не обрело романтического флера. Нет там прошлого, чтобы его откопать, да никогда и не было. Я мог бы с таким же успехом не жить там вообще никогда.
Я чувствовал себя как человек, пытающийся наступить на собственную тень, или как читатель, который подростком забыл подчеркнуть важный абзац в книге, а теперь, несколько десятков лет спустя, не в состоянии воскресить юного читателя, которым когда-то был.
С другой стороны, на обратном пути с западного конца, может, тенью был как раз я, а не улица, не мои книги, не тот, кем я был когда-то.
На секунду, пока я стоял и смотрел на крошечный закругленный балкончик, я ощутил потребность кликнуть самого себя к окну – у итальянцев ведь принято выкрикивать твое имя снизу, с тротуара, и просить тебя подойти к окошку. Впрочем, я не просто выкликал себя. Я пытался себе вообразить, чем я мог заниматься там, за окном, много лет назад. Июль перевалил за середину, ни пляжа, ни друзей, я, по сути, заперт в своей комнате с книгой, постоянно скрываюсь от внешнего мира за закрытыми ставнями, отчаянно возводя с помощью книг воображаемый барьер между собой и виа Клелия.
Что угодно, только не виа Клелия.
В той комнате на виа Клелия я сумел создать собственный мир, ни с чем внешним не соотносившийся. Создать свои книги, свой город, себя. Только-то и нужно было, что позволить романам, которые я читал, распространить свою ауру на эту улицу, накрыть иллюзорной пленкой эту улицу – пленкой, которую смывало вниз по виа Клелия, будто пласт дождевой воды, и этот нетребовательный, непритязательный, приземленный район простонародного Рима будто озаряло таинственное сияние. В дождливые дни, когда ранним вечером опустевшая улица начинала блестеть, я пусть и сидел совсем один в своей комнате наверху – но я был совсем один в «негромко гудящем мерцающем городе» Д. Х. Лоуренса, городе куда лучше нашего. Меркнущий зимний свет переносил меня прямиком на безлюдные набережные Достоевского в петербургскую белую ночь. А солнечным утром, когда с рынка в квартале от нас со всей своей грубости доносились громкие вопли, я оказывался в тоскливо-дождливом Париже Бодлера, и, поскольку повсюду вокруг были отзвуки бодлеровского Парижа, внезапно вульгарный романаччо, который я полюбил, лишь уехав из Рима, приобретал земную галльскую посконность и делался почти выносимым, звонким, аутентичным. В самом начале утра, открывая окна, я внезапно оказывался в Англии Вордсворта, где «купола, театры, храмы спят… блистая в воздухе бездымном» под «синим пригородным небом» «Битлз». А когда я наконец отложил в сторону «Леопарда» Лампедузы и мне стали повсюду мерещиться пожилые сицилианские патриции, один потеряннее другого в новом ощеренном мире, какого ни одному из них даже и не представить, а уж тем более не обжить, мне стало ясно, что я не один. Все, что осталось от этих сицилийцев, – это их топорное высокомерие, их древний обветшалый дворец со многим множеством комнат и шаткими балкончиками, которые оглядывались через плечо истории вспять, на завоевание Сицилии норманнами. Можно шагнуть на виа Клелия и оказаться в крошечном парке, где чахлые деревья и пожухлая трава говорили мне о том, что я вступил в покинутые охотничьи угодья Фридриха II Гогенштауфена.
Что угодно, только не виа Клелия.
Почему же сейчас виа Клелия не кажется мне мертвой? Живой она не была никогда. Я терпеть ее не мог с самого первого дня – и из-за нее почти что возненавидел Рим.
И все же, будто чтобы наказать меня нынче за то, что много лет назад я скалькировал свои собственные образы на эти тротуары, виа Клелия возвращала мне их обратно – без единой прибавки. Вот тебе торгаши Бодлера, забирай; вот тебе шляпа Раскольникова – сам поносишь; вон там шинель Акакия – теперь твоя; а если посмотреть на Аппия-Нуова сквозь тусклые окошки Обломова, увидишь ветшающее поместье Лампедузы, а за ним город Д. Х. Лоуренса – бери, все твое. Стены мира я обставил книгами, теперь город возвращал их мне одну за другой, как возвращают неиспользованный инструмент, ненадетый галстук, деньги, которые не стоило брать взаймы, книгу, читать которую ты даже не собирался. Однажды после полуночи виа Клелия замело снегом из «Мертвых» Джойса – она приобрела лучезарность, какой не бывает за пределами книг, и этот снег мне вернули с краткой подписью: «Ты что, не знал, что на виа Клелия снегопадов не бывает?». Лондон Де Квинси, Флоренция Браунинга, Оран Камю, Нью-Йорк Уитмена год за годом дожидались, плесневея на депоненте. «А истина для тебя всегда была недостаточно хороша, что ли» – осведомлялась улица, и во всех ее чертах искрился сарказм.
Мне только и осталась, что иллюзорная пленка, тень тех трех лет, которые я здесь провел. Шагая из одного конца виа Клелия в другой с женою и сыновьями, я понял, что собрать для выбраковки я здесь смог лишь вымыслы, обманы, которыми вымостил эту улицу, чтобы сделать ее пригодной для житья. Мифотворчество и притворство, и тогда, и сейчас.
Лишь гораздо позднее тем вечером до меня дошло, что самые истинные и сокровенные мгновения нашей жизни, как самые истинные и сокровенные наши воспоминания, сотканы вот из таких эфемерных непрочных нитей. Вымыслов.
Виа Клелия стала моей улицей обманов. Некоторые обманы, как раздавленную жвачку, так долго топтали день ото дня, что их уже не отдерешь и не отчистишь. Взгляни на этот угол, лавочку, печатню – увидишь только Стендаля, Нерваля, Флобера. Под ними – ничего. Лишь память о трех годах ожидания американских виз.
В те дни у нас не было ни телевизора, ни денег, ни возможности забываться за покупками, ни друзей; почти не было родственников, а заводить разговор про карманные деньги не имело смысла. На неделю мама давала мне денег лишь на покупку одной книги в бумажной обложке. Я их и покупал три года подряд. Покупка книг стала способом бегства с виа Клелия – садишься в субботу на восемьдесят пятый автобус и проводишь остаток дня, копаясь в бесчисленных римских магазинчиках иностранной литературы. Перебираться из одного магазинчика в другой, не обращая никакого внимания на город, – именно так я существовал в Риме, познавал Рим, свой особый мир, который, несмотря на мое книжное отшельничество, для меня был не менее реальным, чем повседневный мир римлян или тот Рим, на который приезжали смотреть туристы. Моими достопримечательностями были книжные магазины, а между ними тянулась паутина узких мощеных переулков, отороченных охристыми стенами и мусором. Пьяццы с обелисками в центре, музеи, церкви, великие развалины – все это было для других.
Субботними утрами я выходил из автобуса на Сан-Сильвестро и бродил по центру в надежде заблудиться, потому что любимейшим моим занятием было неожиданно наткнуться на один из знакомых книжных магазинчиков. Я постепенно проникся любовью к старому городу: Кампо-Марцио, Кампо-деи-Фиори, пьяцца Ротонда. Мне нравилось приглушенное величие обветшалых зданий – внутри, я знал, там дворцовые покои. Они нравились мне в субботнее утро, в полдень, вечером выходных. Виа Дель Бабуино стала моим Фобур Сен-Жермен, виа Фраттина – Невским проспектом: улицы, где толпы заполняли тускло освещенные тротуары, способные за несколько секунд украситься ожерельями газовых фонарей рубежа веков, мерцающих в зачарованных сумерках.
Мне даже нравились люди, которые внезапно появлялись из зданий семнадцатого века, – они вели экстравагантно-крикливую мифологическую жизнь, и в ней любовь, фильмы, скоростные автомобили уносили вас в места, о которых восемьдесят пятый автобус не ведал совсем ничего. Мне нравилось немного послоняться в центре после закрытия книжных магазинов, когда улицы начинали пустеть, побродить по этой волшебной части города, где узкие мощеные улочки и маломощные фонари, казалось, знали заранее, задолго до меня, куда меня так тянет направить свои шаги. Я начинал понимать, что, помимо виа Клелия и книг, за которыми я приехал, существует нечто еще, что не дает мне прямо сейчас отправиться назад к дому, и что раз уж книги выдали мне алиби, которое вполне устраивает и моих родителей, и меня самого, то мое пребывание в старом Риме обретает теперь иной смысл. Я постепенно полюбил этот Рим, притом что Рим этот находился скорее во мне, чем в самом Риме, потому что в этом самом Риме, который я полюбил, меня самого было больше, чем собственно Рима, и я ни на миг не мог быть уверен в том, является ли моя любовь искренней, или ее породили мои тайные устремления, брошенные в первый же старый переулок, встретившийся на моем пути.
Десятилетия ушли на то, чтобы понять, что этот странный теневой мир моего собственного изобретения одновременно принадлежал и всем остальным. Кто бы мог подумать… Я прятал свой стыдливый, сотканный из подросткового одиночества Рим от всех, а нужно было лишь поделиться хоть одной картинкой, и тогда все, молодые и старые, сразу бы поняли… Эмерсон: «Уверовать, что то, что истинно и сокровенно для тебя, истинно и для всех, – признак гениальности. Озвучь свое скрытое убеждение – и в нем откроется универсальный смысл».
На самом деле я видел не собственно Рим, я видел пленку, которой, как фильтром, накрыл старый город, и в результате научился его любить, пленку, поисками которой я занимался всякий раз, отправляясь в книжный магазин и возвращаясь поздно вечером, чтобы прогуляться по моему Невскому проспекту в поисках смутных улыбок и сближений в городе, которого, как я подозревал, на тротуарах не существует вовсе. Именно эту пленку мне теперь никак не снять со множества книг, которые я тогда прочитал, эта пленка время от времени трепещет, из-за нее Рим остается моим, хотя я давно его утратил. Может, именно эту пленку я выискиваю всякий раз, когда возвращаюсь в Рим – не Рим. Нам редко доводится увидеть, прочитать, полюбить вещи в их истинном виде, да, собственно, нам и вовсе неведомо, какое впечатление мы получим от них, истинных. Важно знать: то, что мы видим, когда видим, отличается от того, что находится перед нами. Мы видим пленку, пленка вдыхает сущность в безжизненные предметы, и этой пленкой нас тянет делиться друг с другом. Мы ищем и ценим именно то сияние, которое отбросили на каждую вещь, а не саму вещь – конверт, не письмо, обертку, не подарок.
Лукреций утверждал, что от поверхности всех тел отделяется тонкая плева. Эта пленка удаляется от окружающих нас существ и объектов и в конце концов проникает в наши органы чувств. Но верно и обратное: мы источаем пленки того, что находится у нас внутри, проецируем их на все, что видим, – и таким образом познаем мир, а в конечном итоге научаемся его любить. Без этих пленок, вымыслов, являющихся одновременно и нашими алиби, и архивами самых потаенных наших жизней, мы ни с чем не можем ни сопрягаться, ни соприкасаться.
Читать и любить книги я научился примерно так же, как научился постигать и любить Рим: не только чутьем угадывая повсюду неведомые проходы, но и усматривая в книгах больше от своего «я», чем там, скорее всего, было на самом деле, потому что мне казалось: то, что я читаю, находится не столько на странице, сколько у меня внутри. Я знал, что мой подход к чтению, скорее всего, аберрация, как вот знал, что мой подход к блужданию ощупью по Риму, скорее всего, шокировал бы даже самых придирчивых туристов.
Искал я нечто сокровенное – и научился отыскивать его в первом же переулке, в первой строфе стихотворения, в первом взгляде незнакомца. Великие книги, как и великие города, позволяют нам отыскать вещи, которые, по нашему мнению, существуют только внутри нас и не имеют иного пристанища, – а потом выясняется, что отсвет их уже лег на все, на что мы смотрим. Великие художники, по сути, даруют нам то, что мы уже считаем своим. Неважно, что мы никогда не видели, не ощущали, не переживали ничего даже отдаленно подобного. Художник нас преобразует, он крадет и переиначивает наше прошлое и, подобно песням нашей юности, выдает нам картину прожитой молодости в том виде, в котором нам хотелось бы видеть ее в те дни, – но никогда не в истинном. Мы получаем от него пленку, где отсняты наши тайные желания.
И внезапно оказывается, что озарения, взлелеянные чужаками, принадлежат – вопреки всему – и нам тоже. Мы знаем, чего добивается автор и где у него притворство; знаем даже почему. Чем лучше писатель, тем ловчее он заметает следы, – и все же чем лучше писатель, тем сильнее он хочет, чтобы мы нащупали и вернули на место те фрагменты, которые сам он решил скрыть. В верном ракурсе можно увидеть флексию души писателя в единственной запятой, в единственной фразе – и из этой фразы извлечь целую книгу, труд всей его жизни.
В верном ракурсе. Паскаль: «Il faut deviner, mais bien deviner». Необходимо догадываться, но догадываться верно.
У писателей, которые мне полюбились, я нашел именно это – право считать, что ничего у них я не понял превратно, не выдумал то, что вижу, что я улавливаю очевидный смысл наряду с тем, который они не очень-то хотели прояснять и, вероятно, отрекутся от него под нажимом, – возможно, потому, что и сами видят его не столь ясно, как следовало бы, или прикидываются, что не видят. Я нащупал нечто не имеющее доказательства, но я ощущал его сущностную важность, потому что без этой единственной недооцененной вещи труд их обесценен.
Мне никогда не приходило в голову, что умение вникать и нащупывать – а в этом сущность, гений любой критики – рождается именно из этого сокровенного слияния твоего «я» с чем-то или кем-то еще. Во все – в книги, места, в людей – я приносил желание пробраться внутрь и нащупать нечто нераскрытое, возможно, потому, что не доверял внешнему, или потому, что от извечной неприкаянности мне хотелось верить: другие такие же неприкаянные притворщики, каким, боюсь, являюсь и я. Возможно, мне нравилось подглядывать. Возможно, вникать было все равно что прикасаться – но без спроса, без риска. Возможно, именно через соглядатайство я и соприкасался с кипевшей вокруг жизнью Рима. Говоря словами Эмануэле Тезауро, «любо нам, когда наши мысли расцветают в чужом мозгу, и не менее отрадно порой доглядывать за тем, что украдкой прячет наш разум». Я был шифром. Однако и все остальные тоже были шифрами. В конечном итоге заглядывать в книги, дома и людей меня заставляло то, что, куда бы я ни обратил взгляд, везде я высматривал себя, следы себя, а еще лучше – мир, населенный людьми и персонажами, которых можно сделать похожими на меня, потому что быть как я, быть мной, любить то, что я люблю, – это такой их окольный способ стать столь же близкими, столь же внятными и столь же привязанными ко мне, сколь я хотел быть и к ним. Мир в образе моем. Меня интересовало одно – улицы, названные моим именем, следы моих шагов на них; меня интересовало одно – романы, в которых все души обнажались и анатомировались, потому что сильнее всего меня влекло к потаенным, нераскрытым составляющим человеческой души, к тому, что идентично моему собственному. Они понимали меня, я понимал их, мы более не были чужаками. Я притворялся, они притворялись. Чем сильнее они на меня походили, тем сильнее я учился принимать и, пожалуй, даже любить себя самого. Мои ракурсы, мои проникновения были всего лишь способами преодолеть украдкой непреодолимое расстояние между мною и миром.
В конечном итоге одиночество, безысходность, стыд, пережитые на виа Клелия, равно как и желание укрыться в воображаемом пузыре XIX столетия, не были побочными сюжетами книг, которые я читал. Безысходность была составляющей того, что я видел в этих книгах, она была неотъемлемой частью чтения, как вот то, что я читал у Овидия, обретало связь с моей трепетной тягой к смуглым коленям той юной цыганки. Однако неотъемлемость эта проявлялась очень странным, неочевидным образом. Я отождествлял себя с персонажами Достоевского не потому, что был беден и неприкаян, как вот не отождествлял себя с похотью Библиды или Салмакиды, потому что отдал бы все, чтобы раздеть ту юную цыганку у себя в спальне. Любимые авторы просили, чтобы я не упустил их сокровенные мысли, – то было не приглашение считывать собственный пульс из чужого текста, а считывать пульс автора так, будто это мой собственный; то была крайняя самонадеянность, которая предполагает, что, доверившись своим самым глубинным и сокровенным мыслям касательно некой книги, я как бы присасывался, а точнее, приобщался к мыслям автора. То было приглашение не только считывать то, что меня научили считывать другие, но и видеть то, что я видел через те пленки, которые набрасывал на все вокруг, но при этом видеть вещи так, чтобы те немногие, кто услышит рассказ об увиденном мною, сошлись на том, что и они всегда все видели аккурат тем же самым образом. Чем больше солипсизма и идиосинкразии скапливалось в этом моем прощупывании, тем больше людей утверждали, что и они нащупали то же самое.
Видимо, именно поэтому мне нравились все французские психологические романы. В них постоянно заходила речь о сокровенном, но при этом все притворялись и знали, что другие притворяются тоже. Поверх всех придуманных авторами сюжетов, всех могучих идей, которыми они трясли перед читателями, в этих романах неизменно наступал самый захватывающий миг, когда автор, пробуравив аморфную толщу предрассудков, называемую «психологией», писал нечто в таком духе: «Возлюбленный ее понимал, поскольку она предъявила ему все мыслимые доказательства своей любви, что она твердо решила ему отказать». Или: «Будущий муж ее видел по тому, как она краснела всякий раз, как они оставались наедине, что она не испытывает к нему ни любви, ни тяги, ни влечения; краснела она от избытка скромности, каковую с девической неискушенностью радостно принимала за любовь. Те самые средства, которыми она пыталась скрыть румянец на щеках, и выставляли его напоказ. По тому, как она обрадовалась, узнав, что их общий друг не поедет с ними в Испанию, муж догадался, что именно с ним она бы точно ему изменила, если бы собралась с духом». Или: «То, как она нахмурилась, как бы отвергая человека, которого любила против собственной воли, поведало ему все, что он стремился узнать. И даже резкость и грубость ее ответа, едва они остались наедине, стали доброй приметой: она любит его сильнее, чем он мог надеяться».
А потом однажды летним вечером вдруг является фраза, которой, похоже, суждено было определить весь ход моей жизни.
Je crus que si quelque chose pouvait rallumer les sentiments que vous aviez eus pour moi, c’était de vous faire voir que les miens étaient changés; mais de vous le faire voir en feignant de vous le cacher, et comme si je n’eusse pas eu la force de vous l’avouer.
[Думается мне, что вновь воспламенить те чувства, которые вы ранее ко мне испытывали, возможно лишь одним способом: показать вам, что мои переменились, при этом явить их вам, прикидываясь, что я пытаюсь их от вас скрыть, то есть мне не хватает смелости вам в них признаться.]
В этой фразе был весь я. Этот пассаж из «Принцессы Клевской» я перечитывал снова и снова. В письме женщины, которая вновь завоевывает сердце отвергнувшего ее мужчины, сквозили те же сокровенность и притворство, которыми полнились мои дни и ночи. Если она сумеет вновь воспламенить его любовь, то достигнуто это будет не через деланое безразличие – эту уловку он разгадает без труда: она сделает вид, что пытается утаить от него зарождающееся равнодушие, которое охватывает ее едва ли не против воли. В этом письме было столько хитроумия и проницательности, что я впервые в жизни понял: чтобы проплыть через все бесчисленные протоки прозы мадам де Лафайет, мне всего-то и нужно набраться смелости и решить, что я прожил эту фразу, что я являюсь этой фразой в большей степени, чем фраза является творением Лафайет.
По совпадению – а если это не совпадение, то что же? – вечер, когда я открыл для себя эту фразу, выпал на среду и на поездку в восемьдесят пятом автобусе. Шагая домой с «Принцессой Клевской» в руке, я увидел, что барышня из продуктового магазинчика подметает пол рядом с тротуаром и на ней обычная голубая блуза. Она заметила, что я прохожу мимо, и бросила на меня знакомый неприязненный взгляд. Я отвернулся. Когда через пятнадцать минут я пришел сдавать бутылки, она опорожнила сумку, выставила бутылки на прилавок, как и всегда, а потом, кинув монетки на тарелку для мелочи, подалась вперед и, вытянув правую руку, прикасаясь локтем к локтю, провела указательным пальцем по всему моему нагому предплечью, спокойно, мягко, медленно. Я почувствовал стеснение в легких и подавил желание отдернуть руку; нечто одновременно и заклятое, и беззаконное мелькнуло в груди. Это прикосновение могло быть сестрински-сострадательной лаской, да и чем угодно, от «не забудь взять деньги» до «поглядим, боишься ли ты щекотки», или «а ты славный, нравишься мне, не дрейфь!», или просто «счастья тебе и удачи». А потом впервые и, возможно, потому, что работы у нее было меньше обычного, она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ, застенчиво, едва разбирая, что она говорит. Обменялись мы едва ли четырьмя фразами.
Я давно хотел улыбок и сближения. Я свои улыбки и сближения получил. Незнакомый человек прочитал мои самые потаенные мысли – все мои уловки, чаяния, колебания. Она знала, что я знаю, что она знает. Неужели я говорил на том же языке, что и все остальные?
Много недель я набирался смелости, чтобы снова пройти мимо этого магазинчика. Стараясь скрывать нервозность, стараясь делать вид несколько отвлеченный, стараясь показать, что я запросто выдам шутку-другую по первой же просьбе, стараясь продумать безопасные пути отступления на случай, если она глянет на меня с прежней суровостью, – обуреваемый всеми этими чувствами, я услышал, что она помнит, как меня зовут, тогда как я ее имя, почитай, позабыл.
Я попытался скрыть свой недосмотр. Покраснел, задохнулся, покраснел сильнее. Вот ведь парадокс – я, самый невинный мальчишка на виа Клелия, показал себя ничем не лучше мерзавца, который и имен-то не помнит, – и теперь терзаться мне и тем, что я так безнадежно влюблен, и тем, что на вид получается строго противоположное. Я решил уцепиться за собственное новообретенное плутовство, рассыпавшись в преувеличенных, подчеркнуто преувеличенных извинениях, в надежде, что она им не поверит.
– Надо как-нибудь на днях сходить в кино, – сказала она.
Я кивнул – бездыханно, глуповато. Целую вечность осознавал, что «на днях» означает сегодня вечером – последний ряд, темный пустой кинотеатр в будни.
– Не могу, – сказал я, стараясь говорить отрешенно, имея в виду – никогда.
Ее это, похоже, не смутило.
– Ну как надумаешь.
На той же неделе, в субботу вечером, возвращаясь из книжных магазинов в центре, я увидел, что она стоит со своим ухажером на автобусной остановке напротив. Они направлялись в центр. Не касались друг друга, но было сразу видно, что они вместе. Он был старше. Еще бы. Она вымыла голову, оделась крикливо, по-праздничному. Почему я не удивился? Почувствовал, как ярость разливается по телу, обволакивает виски. Ненавидел все: улицу, ее, себя.
Стал откладывать походы в продуктовый магазинчик. Вот-вот должны были прийти визы, и часть моей души покинула этот магазинчик задолго до того, как я перестал в нем появляться. Я скоро буду в Нью-Йорке, и там другой я, который пока еще и не родился, наверное, ничего этого даже не вспомнит. Следующей зимой, когда здесь выпадет снег, я и думать забуду про этот угол.
Мне тогда и в голову не пришло, что этот другой я потом согласится отдать что угодно за встречу с тем вот теневым я, заточенным под виа Клелия.
И вот, вернувшись сюда с семьей, я стал высматривать продуктовый магазинчик в надежде не отыскать его вовсе, а если точнее – откладывая его напоследок. Когда мы добрались до конца виа Клелия, я осознал, что его больше нет. Или, может, я забыл, где он находился. Впрочем, повторный взгляд, потом еще один, через улицу – как будто магазину по силам перебраться на другую сторону или, допустим, он был там всегда – сказал однозначно: сомнений быть не может. Он исчез. А мне всего-то и нужно было, что еще раз пережить азарт, страх, гул в груди всякий раз, как я перехватывал ее взгляд в те давние времена, когда шел сдавать бутылки. Наверное, мне мучительно хотелось снова войти в тот магазин и все увидеть своими глазами – таков мой способ замкнуть круг, оплатить счет, оставить за собой последнее слово. Я бы вошел туда, прислонился к прилавку и просто подождал бы немного, просто бы подождал, посмотрел, что приключится, кто появится, посмотрел бы, остались ли ритуалы прежними, остался ли я тем же самым человеком, выполняющим то же поручение на той же улице.
Чтобы не выказать разочарования и посмешить сыновей, я рассказал им, что случилось в этом магазинчике: женщина проводит пальцем по папиному предплечью, плоть соприкасается с плотью – можно ли заигрывать откровеннее? Папа дает деру к бабушке под передник, а потом, как всегда, делает ноги к своим книжкам, даже оглянуться не решается, а после блуждает и рыщет по этим улицам много дней и недель – правильнее было бы сказать, много лет, – много десятилетий, целую жизнь.
– А ты был в нее влюблен? – спросил наконец один из сыновей.
Вряд ли; любовь тут совершенно ни при чем.
– И больше вы никогда не разговаривали, – заметил другой.
Да, именно так.
И все же я не раскрыл им истину – полную истину. Получилось, что вроде как солгал. Догадаются ли они? Будут ли смахивать пыль, выискивая следы, которые я стер в надежде, что они зададут мне правильный вопрос, зная, что если они зададут правильный вопрос, то правильный ответ они уже угадали, а если они его угадали, значит, пульс мой они считывают так же, как и свой собственный.
В процессе письма – а в конце дня я все это записал – всплывают тектонические сдвиги, в которых истина и притворство меняются местами. Или в результате они лишь погружаются глубже?
Прежде чем уйти, я бросил последний взгляд на виа Клелия. Все эти автобусные поездки, прогулки по Риму, книги, лица, ожидание виз и мои надежды, что их не дадут вовсе, ведь я постепенно полюбил это место, уколы витаминов, разговоры за кухонным столом, Пина, которая иногда выскакивала за дверь едва ли не в слезах, миф, родившийся из отчаянного призыва в зимнюю ночь, когда я дочитал «Мертвых» и подумал про себя: нужно мне двигаться на запад, покинуть этот город, отыскать мир, в котором снег «ложится» «на темные мятежные волны Шаннона», – все, все это только пленка, аура моей любви к Риму, которая, возможно, есть всего лишь любовь к несостоявшейся жизни, родившейся из истории, написанной Джойсом по ходу бесчастного его пребывания в Риме, где он все думал про свой полуреальный полупамятный Дублин. Сидение у окна холодными ночами, когда косые струи дождя летят в свете фонаря; вечер, когда я оказался так близко с чужим телом, что понял – больше я по-старому жить не смогу; ощущение, что жизнь могла то ли начаться, то ли включиться на этом маловероятном отрезке в три квартала, – все это пленка, это, возможно, лучшая и самая долговечная часть моей души, и тем не менее пленка. Встречались мне здесь лишь одни полуправды. Рим – полуправда, виа Клелия – полуправда, подросток, бегавший по поручениям после уроков, его книги, молодая цыганка, барышня из продуктового магазинчика – тоже полуправды, и даже мое возвращение – мешанина полуправд, скрывающая под собой вызывающую онемение мысль, что если мне никогда по-настоящему не хотелось сюда вернуться, если я столько лет это себе твердил, то дело отчасти в том, что, каким бы ненавистным я ни считал это место, я, видимо, жалел, что вообще его когда-то покинул.
Осознал ли я суть этого онемения? Я приписывал его своим вымыслам, своим пленкам, своим стремлениям отстраниться от здесь и сейчас, измышляя другости и инакости. Но, возможно, была у этого онемения и более тревожная сторона. И когда я уже подходил к станции метро Фурио-Камильо, а виа Клелия уже скрылась из глаз, что-то все-таки начало до меня доходить, сперва издалека, а потом – мы уже стояли у входа на станцию – нахлынув с неожиданной свирепостью: виа Клелия оказалась не только усыпана множеством книг, которые я там прочитал, но она все эти сорок лет хранила нетронутыми, неприкосновенными леденящие предчувствия города на другом берегу Атлантики, ради которого – я это знал – в недалеком будущем мне предстоит оставить Рим; города, который меня ужасал, которого я еще не видел, но уже боялся, что никогда не научусь его себе представлять, а тем более любить. Именно этот город и терзал меня все три года жизни в Риме. Придется осваивать науку любви к другому городу – ведь так? Придется помещать новые книги на лик еще одного места, придется разлюбить этот город, забыть, не оглядываться назад, освоить новые привычки, выучить новую идиому, освоить науку быть новым собой. Я в точности помнил то место, где это открытие наполнило меня тревожными предчувствиями: в книжной комиссионке на виа Камилья, где я совершенно случайно откопал затрепанный экземпляр «Подруги скорбящих», и мне эта книга встала поперек горла, как поперек горла стояла мысль о переезде в страну, где люди любят и читают такие книги. Именно на этом месте до меня наконец-то дошло, что, пусть я никогда и не хотел жить в Риме, я бы все равно отдал что угодно за то, чтобы остаться здесь, на этой улице, с этими людьми, их языком, их громогласностью, их пошловатыми кинематографами, барышней из продуктового магазинчика, – и в итоге я и сам бы стал таким же смурным и добродушным, какими они все мне казались.
Я вышел из книжной лавки, и тут же забурлили непрошеные вопросы – прихлопнуть их не удалось: каким будет Рим без меня? Что случится с Римом после того, как я перестану в нем обитать? Будет ли он и дальше существовать, без меня, Бодлера, Лоуренса, Лампедузы и Джойса? С тем же успехом можно спросить, что случается с жизнью после того, как мы из нее уходим.
Я напоминал человека, вернувшегося в жизнь из смерти и повсюду обнаруживающего следы наивности своих прежних представлений о небытии. На миг мне показалось, что я так никогда и не побывал в Америке, что всех этих лет вдали от Рима попросту не было. Но одновременно я чувствовал себя человеком, вернувшимся в жизнь и ничего не помнящим о смерти. Я не понимал, где я, здесь или там. Не понимал вообще ничего. Непроглядно-черная сердцевина ада – это облако непонимания, где слова косноязычны, а процесс письма, которым я занялся в тот вечер, лишен смысла. Я решительно ни с чем не разобрался, работа, которую предстояло завершить, еще даже и не началась, может, никогда и не начнется, вовсе никому не нужна.
Я долго готовился к этому возвращению, приступив еще до отъезда из Рима. В те дни представлялось, что я вернусь насовсем. «С этой Америкой, – воображал я собственные слова, – ничего не сложилось». Вернувшись, я не испытал бы ни боли, ни удивления. Репетируя провал американской затеи, я как бы делал возвращение в Рим проще, неотвратимее, неизбежнее – а из-за этого отъезд в Америку, в свою очередь, начинал казаться выдумкой, своего рода ненужной прихотью, чем-то, что, может, никогда и не случится, не суждено ему случиться, еще предстоит случиться в нереально далеком будущем, которое внезапно предстало не таким страшным, потому что я заранее открыл для себя массу способов отказать ему в праве на существование.
И вот я вернулся туда, откуда, по сути, не уезжал.
Поправка: я вернулся туда, куда не собирался возвращаться. А если бы вернуться мне было суждено, я вернулся бы на восемьдесят пятом автобусе – один. Не забудьте: помимо прочего, вернулся я с семьей. Я сказал жене и сыновьям, как мне приятно, что они со мной. Сказал им, как хорошо, что я вернулся, хорошо, что ненадолго, хорошо, что они не позволили мне вернуться одному. Но слова эти я произносил без уверенности и сам бы решил, что ничего такого не думаю, если бы не привык к тому, что в моем случае сказанное без уверенности обычно оказывается истинным. Какие, однако же, окольные пути я изобрел для чувств, которые другим даются без всякого труда. Окольная любовь, окольная сокровенность, окольные истины. По крайней мере в этом я себе не изменил.
Мой миг с Моне
Для меня эта романтическая история начинается с дома на картине Клода Моне – иллюстрации в настенном календаре. Дом виден разве что наполовину, крыша обрезана полностью. В раму вместился только арочный балкон и фрагмент другого балкона этажом выше. Снаружи повсюду – буйная растительность, ажурные листья, несколько тонких стволов – в основном пальмы, но есть и одна агава, а за ними четыре солидные виллы у широкой немощеной дороги и пятнистое небо. Еще дальше горная цепь, на вершинах, похоже, снег. Чутье мне подсказывает, что неподалеку есть пляж.
Мне нравится, что я ничего не знаю ни о доме, ни о картине. Нравится гадать, что это за место, воображать себе, что это запросто может быть Франция, Италия, что-то еще. Нравится думать, что я не ошибаюсь касательно бескрайнего морского простора за домом. Я рассматриваю картину и воображаю себе оцепенение старинных пляжных городков в начале июля, когда площади и дороги пустеют – никто не хочет выходить на солнце.
Название – когда я наконец сжульничал и отыскал его в нижней части календарного листка – гласило: «Виллы Бордигеры». Никогда раньше не слышал про Бордигеру. Где она? Неподалеку от озера Комо? В Марокко? На Корфу? Где-то в Малой Азии? Мне нравилось этого не знать. Узнаешь что-то про эту картину – и чары развеются. Однако я все-таки не удержался, полез разбираться, и – да, все так и есть, оказалось, что Бордигера расположена у моря, на Ривьера-ди-Поненте в Италии, ее видно из Монако. Дальнейшие изыскания сообщили мне имя архитектора виллы: Шарль Гарнье, прославившийся строительством здания парижской Оперы. И наконец, год создания картины: 1884 год. Я сообразил, что пройдет еще несколько лет, прежде чем Моне напишет свои тридцать с лишним видов Руанского собора.
Я знаю, что занимаюсь постепенной демистификацией этого здания. Как оказалось, в интернете есть и другие картины с изображением садов и пальм Бордигеры, на одной даже тот же самый дом. Это копия картины из моего настенного календаря, написанная Моне уже не в Бордигере, но ближе к концу того же года в Живерни, – он хотел подарить его своей приятельнице, художнице Берте Моризо. На второй картине, «Страда-Романа», изображен вид на ту же немощеную дорогу, расстояние до вилл больше, причем есть важное исключение: большое здание, построенное Гарнье, отсутствует вовсе. Моне, видимо, решил поиграть в исчезновение дома, однако он всплывет на другой картине: художник пробует, как оно «с домом» и «без дома». Возможно, Моне и вовсе не интересуют ни дом, ни дорога. Его занимает затишье, которое накрывает Средиземноморье в полдень, причем он не уверен, не сам ли это затишье изобрел. Именно поэтому и возникла потребность его написать. Если оно существует – он сумел его воплотить; если нет – ну вот, а теперь существует. Моне, судя по всему, хочется ухватить форму, сочетание цветов, узор, ритм, перспективу или просто движение света – он часто жаловался, что свет вечно меняется, как только он решит его написать, а именно в свете заключена разница между впечатлениями от утра и полудня.
Моне поехал в Бордигеру ради света. Собирался пробыть там недели две, а кончилось дело тремя насыщенными работой месяцами зимы 1884 года. Годом раньше он ненадолго заглянул туда вместе с художником Ренуаром. На сей раз решил приехать один, запечатлеть морские пейзажи Бордигеры и ее буйную растительность. В письмах постоянно рассказывается о том, как трудно писать Бордигеру. А еще в них постоянно звучат упоминания о колонии англичан, которые слетаются сюда каждый год, гнездятся с осени до ранней весны и превращают рыбацко-сельскохозяйственный городок, известный своими лимонами и прессами для оливкового масла, в зачарованный приют для беспечных баловней судьбы. Англичане выстроили здесь частную библиотеку, англиканскую церковь, первые в Италии теннисные корты, не говоря уж о величественных роскошных отелях – предшественниках тех, которые позднее появятся на венецианском Лидо. Моне чувствовал себя в Бордигере неприкаянным. Скучал по дому в Живерни, по своей любовнице и будущей жене Алисе Ошеде, по их детям.
Лично ему в Бордигере были интересны три вещи: поместье Франческо Морено с одним из самых экзотических ботанических садов в Европе; изумительные морские виды и неизбежная колокольня с луковичным куполом в ямочках, который одиноко возвышался надо всем остальным. Моне не мог взяться за одно из трех, разом не припомнив и два других. Буйная растительность, морские пейзажи, возвышающаяся колокольня – он возвращался к ним снова и снова, писал вместе или по отдельности, передвигал с места на место – так фотограф передвигает членов семьи, которым никак не устроиться для группового портрета.