Читать онлайн Таинственный Шекспир бесплатно
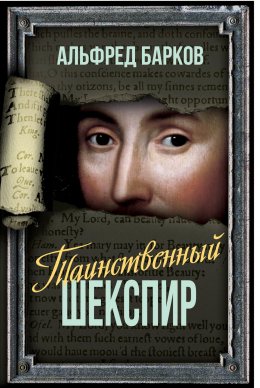
Художник Е.В. Максименкова
© Барков А. Н., 2023
© ООО «Издательство Родина», 2023
«Гамлет»: трагедия ошибок или трагическая судьба автора?
«Гамлет»: в фабуле показан автор как сын королевы, с элементами биографии Кристофера Марло.
Теория литературы доказывает, что «Шекспир»– псевдоним Марло.
Вниманию читателей предлагается аналитический этюд, посвященный вскрытию внутренней структуры «Гамлета» и авторского замысла того, кто подписывал свои произведения псевдонимом «Шекспир». Как и в других случаях мениппей «крупных форм» (А. С. Пушкин, М.А. Булгаков – см., например, работы с анализом структуры романов «Евгений Онегин» и «Мастер и Маргарита»), оказалось, что «Гамлет» содержит скрытую фабулу с автобиографическими отсылками, в соответствии с которыми «Шекспир» не только имеет университетскую подготовку, но и считается покойным с 1593 года. Именно в 1593 году трагически погиб Кристофер Марло, создатель английской версии безрифменного пятистопного ямба (который использован в подавляющей части произведений, подписанных псевдонимом «Шекспир»). Сторонники версии его авторства считают, что смерть Марло была сымитирована, и что он продолжал творить под псевдонимом «Шекспир» (каковой явился миру через две недели после даты гибели Марло).
Поскольку такие отсылки являются частью структуры, то исследование пришлось несколько расширить. Оказалось, что сложнейшая внутренняя многофабульная и многосюжетная структура «Гамлета» Шекспира до мельчайших деталей идентична структуре произведений Марло «Доктор Фауст» и «Мальтийский еврей», что это – мениппеи, как и другие произведения, автором которых считается Шекспир. Из этого следует вывод, что у этих произведений один автор, что Кристофер Марло и «Шекспир» – одно и то же лицо.
Единственное известное достоверное изображение Шекспира – гравюра из посмертного «Первого фолио» (1623) работы Мартина Друшаута
Портрет неизвестного. По мнению части исследователей, здесь изображён Кристофер Марло
Но это еще не все. Имеются основания считать, что имитирована была не только смерть Марло: похоже, он был рожден не в Кентербери и не 26 февраля 1564 года, и уж тем более не в семье сапожника, а… Впрочем, перед вами весь текст моей работы. Она опубликована вместе с работой П.Б. Маслака «Образ рассказчика в «Белой гвардии» как основное композиционное средство романа» – в нашей совместной книге «У. Шекспир и М. Булгаков: невостребованная гениальность» (издана в июле 2000 года в издательстве «Радуга» (Киев)).
При подготовке этой работы, имея некоторый «задел» в виде основанной на философских разработках М.М. Бахтина, я стремился продемонстрировать методику исследования – с чего следует начинать структурный анализ и как его вести.
Итак, ближе к тексту работы о творчестве Шекспира:
Вступление к изданию 2000 года1
Уважаемый читатель!
Уже не один век продолжаются споры в отношении содержания знаменитых произведений, созданных авторами, которых человечество небезосновательно причисляет к гениям. Причем во многих из этих произведений содержится такое количество противоречий и логических нестыковок, что впору ставить вопрос о способности их создателей правильно построить план произведения.
При подготовке предлагаемых читателям двух аналитических этюдов авторы исходили из презумпции, что из-под пера гениальных писателей в принципе не может выйти ничего такого, что не имело бы композиционного значения. То есть, что противоречия и нестыковки – вовсе не следствие авторской небрежности, а свидетельство наличия в произведении более высокого уровня композиции. Поэтому мы подходим к противоречиям как к преднамеренно вводимым в текст композиционным элементам, несущим решающую информационную нагрузку.
Как оказалось, неудачи в интерпретации содержания объясняются тем, что такие произведения принято воспринимать как чисто эпические структуры, в которых повествование ведется беспристрастно и отстраненно. При этом такая литературная категория, как рассказчик, практически отождествляется с титульным автором произведения; не учитывается и то обстоятельство, что не только в художественной литературе, но даже при общении на бытовом уровне нередко используется совершенно иной способ подачи материала – через посредника-рассказчика, который выступает в роли самостоятельного персонажа. При создании сатирических мениппей титульный автор как бы «делегирует» ему свои права по ведению сказа и формированию композиции. В наиболее «ярких» случаях – как раз тех, когда содержание произведения знаменитого автора остается неразгаданным – такой персонаж занимает позицию, не совпадающую с позицией автора; то есть, автор как бы «позволяет» этому персонажу врать все, что тот захочет, «считая», что он все равно в чем-то проговорится, невольно допустит противоречия, а читатель, сопоставив эти противоречия, восстановит истинный ход событий.
Постижение смысла таких произведений затруднено тем, что, получив возможность перевирать суть событий и характеристики персонажей, рассказчик нередко скрывает от читателя не только свою предвзятую позицию, но и сам факт своего присутствия в романном поле, внушая ложное впечатление о том, что повествование ведется титульным автором. Все знают, что «Белую гвардию» создал Булгаков, а «Гамлета» – Шекспир; многие видят противоречия в фабулах этих произведений, но не у всех хватает духу признать их наличие, а если и признают, то «огрехи» великодушно списываются либо на небрежность автора, либо на «специфику эпохи».
Хотя авторы таких произведений обязательно включают в текст элементы, сигнализирующие читателю о наличии в корпусе произведения рассказчика, являющегося как бы «истинным автором», эти элементы до сих пор интерпретируются неверно или вообще игнорируются, что не дает возможности постичь авторский замысел. К сожалению, существующие версии теории литературы не вооружили исследователей не только методикой анализа таких произведений, но даже стройным понятийным аппаратом; до сих пор нет четкого мнения относительно того, что считать фабулой, а что – сюжетом, каково место композиции в структуре произведения. Для чисто эпических структур это не играет особой роли – ведь при чтении произведений в диапазоне от «Муму» до «Войны и мира» проблем с интерпретацией содержания не возникает. Здесь же речь идет о произведениях совершенно иного класса, которые невозможно отнести ни к эпосу, ни к лирике, ни тем более к драме, в то время как теория литературы числит только эти три фундаментальных рода литературы («эпос» – отстраненная позиция рассказчика предельно объективирована; «лирика» – позиция предельно субъективна, повествование ведется «изнутри» образа лирического героя; «драма» – внешний рассказчик отсутствует вообще, в тексте остается только прямая речь персонажей). При такой классификации не находится места для рассказчика мениппеи, которую нельзя отнести ни к эпосу (поскольку повествование сильно окрашено его собственной интенцией), ни к лирике (поскольку этот персонаж стремится выдать свой сказ за эпический, объективный), ни к драме. Более того, основным содержанием любой мениппеи является показ не того, о чем повествует рассказчик, а его действий по ведению повествования, психологических особенностей, предвзятой позиции, в силу чего характеристики описываемых им событий и персонажей подвергаются серьезной деформации. При этом наиболее важным является то, что «восстановление истины» с учетом предвзятой позиции рассказчика оказывается не завершающим этапом постижения смысла произведения, а очередным композиционным этапом; путем сопоставления истины с тем, как она изображена рассказчиком, формируется объемное содержание образа рассказчика как главного героя любой мениппеи. Иными словами, не Турбин является главным героем романа Булгакова, а тот персонаж, который изображает его в виде «тряпки». И вот то, почему анонимный «автор» показывает своего героя в таком виде, и является одним из основных элементов, формирующих его образ, который оказывается гораздо более емким и глубоким, чем образ самого Турбина.
Изучение вопроса о позиции рассказчиков в произведениях такого класса показало, что их особая интенция представляет собой композиционный элемент более высокого, чем в эпосе и лирике, уровня. Это резко усложняет внутреннюю структуру произведения, приводит к появлению на общем текстовом материале нескольких автономных фабул и сюжетов, представляющих собой образы всего произведения, спроектированные с разных позиций (точек зрения). Такие структуры – мениппеи, широко распространенные даже в бытовых жанрах, имеют целый ряд преимуществ перед чисто эпическими структурами. Во-первых, с точки зрения семиотики, в силу того, что формирование завершающей эстетической формы такого произведения происходит на более высоком композиционном уровне, а также того, что в этом процессе участвуют не первичные образы, а укрупненные знаки – образы всего произведения, информационная емкость такой системы намного превосходит емкость чисто эпических произведений (при одинаковом объеме текстового материала). Во-вторых, с точки зрения эстетики, по сравнению с сатирическими эпическими произведениями, в которых дидактика вынужденно занимает место в единственном сюжете, резко снижая художественные достоинства, структура мениппеи позволяет устранить этот недостаток за счет вывода дидактики за рамки первичных сюжетов, на самый верхний уровень композиции (в завершающую эстетическую форму – метасюжет).
Впрочем, для постижения на читательском уровне сатирического замысла авторов, прибегающих к использованию таких сложных структур, теория вовсе не нужна – ведь понимает же подросток содержание миниатюр Хазанова, а их структура не намного проще, чем у мениппеи «большой формы». Просто читателю нужно подсказать, что противоречия и нестыковки в мениппеях объясняются психологическими характеристиками рассказчиков, у которых (как сатирических персонажей) всегда имеются серьезные мотивы для того, чтобы исказить содержание описываемых событий. Представляется, что выявление этих моментов – основная задача структурного анализа. Разумеется, в каждом из таких произведений рассказчики разные, мотивация их действий различна. Но зато, когда эти элементы выявлены, то оказывается, что образ такого персонажа (а вместе с ним и все произведение) обретает колоссальную глубину. «Гамлет» вначале раскрывается как сатира, направленная против самого принца Датского, однако углубленный анализ показывает, что это сам Гамлет пишет «вставную новеллу» с позиции объекта своей сатиры, который стремится показать его, Гамлета, с негативной стороны. Хотя образ Алексея Турбина насыщен автобиографическими чертами самого Булгакова, это персонаж показан с сатирических позиций, как «человек-тряпка»; как оказалось, такой парадокс объясняется тем, что повествование ведется анонимным «автором».
Во избежание излишнего углубления в вопросы теории, предлагаемые работы построены таким образом, чтобы наглядно продемонстрировать только методику анализа, доступную для использования любым читателем, который пожелает самостоятельно вскрыть структуры других мениппей. Те, кто заинтересуются теорией мениппеи, могут ознакомиться с нею более подробно в книге А. Баркова «Прогулки с Евгением Онегиным».
Хотелось бы, чтобы читатели этой книги проявили максимум недоверия к авторам, сделали все возможное, чтобы опровергнуть сделанные выводы. Поэтому убедительная просьба: не приступайте к чтению, пока не освежите в памяти тексты «Гамлета» и «Белой гвардии» (умышленно избегаем употребления здесь понятия «содержание»); держите эти тексты в процессе работы перед собой и как можно чаще к ним обращайтесь. Со своей стороны, мы сделали все возможное, чтобы переложить часть работы на Вас, читатель. Работайте вместе с нами (лучше – против нас); не принимайте на веру ни единого нашего слова; сопротивляйтесь, перепроверяйте и опровергайте… Другие читатели нам не нужны: четыреста лет ошибочного толкования содержания «Гамлета», извращенное толкование гражданской позиции Булгакова – слишком высокая цена, чтобы мы могли позволить себе и сейчас, на пороге третьего тысячелетия, подходить к творениям истинных гениев с примитивными мерками. Конечно, гений вызывает преклонение, а оно парализует мысль; и все же мы должны попытаться хоть чуточку преодолеть свою косность – затем, хотя бы, чтобы убедиться, насколько мы неправы, принимая за гениальность вовсе не то, что есть на самом деле. К тому же, гении от нас ничего не скрывают, в текстах есть все необходимое для постижения смысла; наоборот, доверяя нашему интеллекту, они, гении, не слишком подробно расписывают, где «наши», а где «ихние», кто из персонажей «хороший», а кто – «плохой». К тому же, как у Шекспира, так и у Булгакова были чисто политические мотивы, чтобы поглубже скрыть истинное содержание своей сатиры; за такую сатиру их могли просто казнить…
Если же Ваше сопротивление окажется сломленным, не чувствуйте себя побежденными; считайте, что Вам удалось преодолеть в себе раковую опухоль интеллекта – стереотип мышления, который не позволяет понять содержание поистине гениальных произведений и побуждает нас восторгаться тем, что едко высмеивается… Будем счастливы, если в результате чтения у кого-то возникнет потребность самому попробовать свои силы и вскрыть содержание знаменитых, но не понятых пока произведений этих и других гениев, среди которых и Рабле, и Сервантес, и Гоголь, и Джойс, и…
Глава I
Сколько отцов у принца Датского?
В разные фабулы «Гамлета» Шекспир ввел разных персонажей по имени Гамлет. Поэтому Гамлет воспринимается как противоречивый и низкохудожественный образ (Т.С. Элиот).
О противоречиях в этой драме Шекспира написано немало. Характеризуя их, поэт, драматург, эссеист и будущий Нобелевский лауреат Т.С. Элиот в 1920 году в сборнике критических статей The Sacred Wood даже употребил такое понятие как «отсутствие объективного соответствия» (у нас это называют «нарушением внутренней логики образа»). Элиот констатировал тот факт, что наличие в «Гамлете» вопиющих противоречий резко снижает его художественные достоинства. Действительно, нелепости в прорисовке образов основных героев разительны. Но востребованность этого произведения – результат интуитивного восприятия художественности – свидетельствует о наличии невыявленного композиционного средства. Такому феномену может быть только одно объяснение: «драма» фактически является романом-мениппеей со скрытым смыслом; противоречия – не следствие «ошибок» автора, а художественное средство.
Располагавший обширными материалами по данной тематике А.А. Аникст, по книгам которого изучает работы Шекспира уже не одно поколение студентов филфаков в странах бывшего СССР, обозначил несколько основных несоответствий в фабуле пьесы:
1. Из содержания первого акта следует, что Гамлету двадцать лет, а в пятом четко указано, что ему тридцать.
2. Из текста не ясно, знала ли королева о том, что Клавдий готовится убить ее мужа.
3. Непонятно, почему Гамлет встречает Горацио так, как будто они давно не виделись, тогда как за два месяца до этого, то есть, в момент убийства короля, Гамлет находился в Виттенберге, где должен был быть и Горацио.
4. Странно, что Горацио, прибывший на похороны короля и находившийся все время в Эльсиноре, за два месяца ни разу не встретился с Гамлетом.
Последнее наблюдение А.А. Аникста можно дополнить: еще более странно, что они не виделись на похоронах. Прибыв в Эльсинор по случаю такого печального события, уж у гроба короля они никак не могли разминуться. Странно и то, что они не встретились еще в Виттенберге – ведь Горацио должен был сразу выразить другу свои соболезнования, да и ехать из Германии они должны были вместе…
Если мы действительно верим Шекспиру как гениальному художнику, то из этого противоречия следует, что мы неправильно воспринимаем фабулу произведения в том виде, как она была задумана автором. То есть, в «действительности» либо Гамлет и Горацио не были вместе в Виттенберге, либо не имело места событие самих похорон (детали которых, кстати, в тексте отсутствуют). Понимаю, последнее заявление может вызвать недоумение со стороны шекспироведов; но мы должны исходить исключительно из содержащихся в тексте реалий. И, если подходить к анализу с привлечением единственного известного человечеству достоверного метода – дедукции, то следует включать в круг рассмотрения все версии и, последовательно отвергая не согласующиеся с реалиями, оставлять единственно возможную. Ведь в тексте нет ни единой детали, характеризующей отношения принца с отцом. Более того – Гамлет попадает на церковное кладбище при Эльсиноре, где хоронят знать. Другого места, где мог быть захоронен недавно погибший король, нет. Казалось бы, попав на место погребения отца, скорбящий принц просто не может не проявить своих сыновьих чувств; однако этого не происходит – даже тогда, когда могильщик своим рассказом о поединке короля Гамлета с Фортинбрасом должен был бы возбудить такие эмоции.
Специфика жанра? Недосмотр Шекспира? Вряд ли. Череп шута Йорика благодаря художникам и поэтам пост-шекспировской эпохи приобрел всемирную славу, причем исключительно в «философском» контексте. Но давайте спустимся на грешную землю и вспомним, какую гамму чувств вызвал вид этого черепа у принца Датского – вплоть до растроганных воспоминаний о том, как за двадцать три года до этого он целовал губы этого самого шута… А вот недавние похороны родного отца на этом же кладбище никаких воспоминаний у принца почему-то не вызвали… После всех его монологов, тем более с учетом его нежелания снимать с себя траурное одеяние, такое поведение выглядит более чем странным…
Удивительно, но ни в одной из посвященных разбору «Гамлета» работ не пришлось встретить упоминания об этом обстоятельстве, хотя в нем скрыто очень глубокое противоречие; причем оно касается не прорисовки образа какого-то персонажа, а противоречий в существенных деталях фабулы. Получается, что у принца как бы два отца: один похоронен за два месяца до начала описываемых событий, а о другом он даже не вспоминает. Конечно, такие наблюдения можно расценивать как ересь – если только не учитывать того обстоятельства, что в пьесе все-таки два принца Гамлета: двадцати и тридцати лет от роду…
И, наоборот, исходя из совокупности реалий текста, два короля – Гамлет и «Клавдий» – постепенно сливаются в образ одного персонажа с общей биографией. В тексте нет никаких данных, подтверждающих, что последний муж Гертруды появился в Эльсиноре за каких-нибудь два месяца до начала описываемых событий; зато многое говорит о том, что этот персонаж стал мужем Гертруды, когда принц Гамлет был еще ребенком…
Через 2 месяца после похорон пушечный салют в честь осушения Королем каждого бокала рейнского выглядит более чем неуместным. Странно, что, рассказывая Горацио об этом обычае, носящий траур принц не выражает возмущения таким проявлением кощунства по отношению к памяти своего отца, который, по его же характеристике, не был пристрастен к чувственным удовольствиям (I-2, 139,140). Понятно, что этот обычай, по причине которого другие народы презирают датчан, был введен с воцарением отчима принца. Но репутации такого рода не формируются за два месяца, на это уходят десятилетия; да и сам принц говорит, что обычай существует с тех еще времен, с которых он себя помнит. Еще штрих: последний муж Гертруды осушает рейнское в честь ее сына «сейчас»; в пятом акте оказывается, что такое же вино пили в замке более чем за двадцать лет до этого, когда еще был жив шут Йорик. И когда принц Гамлет был совсем ребенком…
Прибывшим в Эльсинор Розенкранцу и Гильденстерну Король говорит, что давно хотел их видеть (II-2). Но в контексте двухмесячного промежутка времени понятие «давно» звучало бы просто нелепо, тем более если в этот период происходит целый ряд судьбоносных для державы событий, среди которых смерть короля, замужество его вдовы и инагурация ее нового мужа… Вот, обращаясь к Лаэрту, Король упоминает, что Полоний давно ему служит; в другой сцене (II-2, 42), обращаясь уже к Полонию, он заявляет: «Как всегда, ты приносишь хорошие вести»… Здесь понятия «давно» и «как всегда» никак не могут употребляться в контексте периода, ограниченного двумя месяцами… Да и из ответа Полония (стр. 45) можно заключить, что этому монарху он служит уже давно; это же подтверждается и в стр. 153–155. Далее (стр. 350) Гамлет заявляет, что при жизни его отца с его братом никто не считался; когда же этот брат стал королем, за миниатюру с его портретом дают большие деньги. Опять-таки, за два месяца такого произойти не могло.
Еще одно указание на то, что «нынешний» король правит Данией давно, содержится в реплике могильщика (V-1,167): «This same skull, sir, was Yorick’s skull, the King’s jester» («Этот череп, сэр, был черепом Йорика, шута Короля»). Здесь определенный артикль может относиться только к «Королю», но ни в коем случае не к «шуту»: Йорик умер, его сменил другой шут. В такой грамматической конструкции артикль может означать только одно: что семантика понятия, которое этот артикль определяет, не изменилась с «тех еще пор» до «настоящего времени»; то есть, тот самый Король, которому служил Йорик, жив до «настоящего времени».
Кстати, хотя над этим местом автор работал уже после издания Второго кварто (Q2, 1604), этот момент без изменения был внесен и в окончательный текст (Большое Фолио, F1, 1623).
Совокупность этих и подобных им фактов свидетельствует, что отчим принца занимает место его отца не каких-то два месяца, а более двух десятков лет.
В шекспироведческих работах приходится встречать замечания о том, что сцена с могильщиком излишне растянута, что она ничего не добавляет в развитие действия фабулы, что она как бы вообще лишняя… С такой точкой зрения категорически не согласен – не только потому, что, включенная в текст Первого кварто (Q1, 1603), в переработанных текстах Q2 и F1 эта сцена не претерпела значительных изменений; а потому, в первую очередь, что по крайней мере в одном вопросе (о «двух принцах Гамлетах») эта сцена является ключевой. Если следовать выявленным реалиям и принять во внимание наличие в тексте принца в двух ипостасях, причем с двумя отцами, то логическое объяснение этому феномену может быть только структурного плана: в «Гамлете» две фабулы, одна из которых – вставная («роман в романе»).
В некоторых работах отмечается, что по ходу действия пьесы ее персонажи как бы играют самих себя. Хотя такое тонкое наблюдение не детализируется, оно многое объясняет: противоречащие друг другу моменты относятся к разным персонажам, действующим в разных фабулах – основного корпуса произведения и вставной пьесы, где у них несколько изменены биографии. И вот именно детализация феномена «двойной фабулы» и должна стать предметом структурного анализа.
Таким образом, задача исследования обретает конкретную формулировку:
– при наличии «вставной пьесы», в корпусе мениппеи должен действовать рассказчик – особый персонаж, который, «выдавая» себя за Шекспира, ведет повествование, включив в него вставное произведение. Задача заключается в выявлении этого персонажа (который в мениппеях – всегда главный герой) и в определении его психологических доминант, которые и являются в произведениях такого класса тем композиционным средством, которое сводит воедино все «противоречия»;
– необходимо определить «автора» вставной пьесы; возможно, это – тот же рассказчик, хотя не исключено, что он может использовать готовый материал, «созданный» другим «драматургом» – персонажем сказа;
– требуется выявить и четко определить границы двух произведений, созданных на едином текстовом материале; если Шекспир действительно упрятал под обложкой «Гамлета» сатирическую мениппею, то он должен был какими-то художественными приемами однозначно демаркировать эти границы.
Логика исследования подсказывает, что приступать к решению задачи следует с последнего, третьего пункта. Решить ее можно двумя путями:
– анализом строфики произведения (текст вставной пьесы должен стилистически отличаться от основного);
– выявлением как можно большего количества противоречивых моментов, на основании которых реконструировать «истинные» биографии героев, отграничив их от биографий соответствующих им персонажей вставной пьесы. Поэтому возвратимся к противоречиям, которых оказалось гораздо больше, чем о них упоминается в шекспироведческих работах.
Одно из них обозначил А.А. Аникст, не включив, правда, в свой перечень: «Почему же Гамлет, которому известна ограниченность Фортинбраса (и который с ним не знаком!), тем не менее отдает ему свой голос на владение Данией? В честолюбии Фортинбраса нет злонамеренности и коварства. Он действует честно, с открытым забралом. Этим он решительно отличается от Клавдия. Не будучи идеальным рыцарем, он является, можно сказать, наименьшим злом».
С этим мнением можно согласиться лишь отчасти. Действительно, в фабуле нет прямых указаний на то, что Гамлет лично знаком с принцем Фортинбрасом. Однако это вовсе не значит, что они никогда не встречались. Вообще, этот момент следует отнести к разряду досадных упущений шекспироведения: ведь из реалий текста непосредственно следует, что принцы Гамлет и Фотинбрас – довольно близкие родственники. Нам известно, что «ныне живущий» муж Гертруды – родной дядя принца Гамлета. Этот же персонаж называет престарелого короля Норвегии своим братом. Отсюда: Норвежец – брат и короля Гамлета. Но он же – брат покойного короля Фортинбраса: сын последнего – его племянник. Следовательно, принцы Гамлет и Фортинбрас – по крайней мере двоюродные братья.
Однако из этого сопоставления фактов следует еще более неожиданный вывод: короли Гамлет и Фортинбрас – родные братья; получается, что первый завоевал Данию, обагрив руку кровью своего брата. И вот этот лежащий практически на самой поверхности биографический аспект вносит весьма ощутимые коррективы в общее восприятие этических моментов, поднятых в романе. Оказывается, на самом короле Гамлете, которого принято воспринимать как несчастную жертву подлого брата, лежит каинова печать, и что принц, видимо, не совсем прав, так убиваясь в отношении коварства отчима: получается, что его папаша сам создал прецедент?..
Внимательный читатель уже наверное обнаружил, как рассыпалась привычно воспринимаемая фабула и резко сместились этические акценты знаменитого шекспировского творения (в общепринятом его восприятии). Здесь уже можно сделать первый вывод в отношении характеристики рассказчика драмы: он настолько изобретателен в вопросах мистификации, что, несмотря на включение в свой труд всех необходимых для постижения подлинного смысла фактов, ему удалось исключительно композиционными средствами на 400 лет отвлечь от них наше внимание и внушить нам искаженное восприятие «истинных» событий.
Но это еще далеко не все: логика исследования диктует еще более сенсационные выводы, перед ознакомлением с которыми убедительно прошу читателей возвратиться к началу логического построения и путем сверки с текстом «Гамлета» убедиться, что оно основано на его реалиях. А заодно отдохнуть от обилия «новых» фактов (которые, впрочем, от нас не очень-то скрывали – просто играли на особенностях нашей психологии восприятия).
Итак, король Гамлет завоевал престол, убив своего брата. Теперь самое время выяснить, на каком этапе своей жизни он вступил в брак с Гертрудой. И вот здесь на помощь снова приходит первая сцена пятого акта – все тот же шутник-клоун, могильщик с университетским образованием (вон ведь как свободно оперирует латинскими выражениями и юридическими терминами!), вещающий из «своей» могилы. Когда принц Гамлет спрашивает его о дате поединка с Фортинбрасом, он поясняет, что это событие произошло в тот самый день когда родился… принц Гамлет!
Оказывается, при посещении кладбища Гамлет забыл не только о своем невинно убиенном папаше; он не знает даже, когда состоялся тот самый исторический поединок, в результате которого он, собственно, и получил статус наследника датского престола. Такая необычная для тридцатилетнего инфанта с университетским образованием неосведомленность о едва ли не главном для него историческом событии представляет собой потрясающее по своей нелепости противоречие.
Впрочем, логическое объяснение этому противоречию содержится тут же. Благодаря эрудиции и превосходной памяти могильщика мы узнаем, что Гамлет родился в тот самый день, когда в поединке решалась судьба престола; ясно, событий этого дня он помнить не может. Хотя странно, почему ему, кронпринцу, не привили эти знания еще с пеленок; ведь, будучи человеком образованным, эрудированным и любознательным, он не должен был забыть такую важную деталь собственной биографии.
На это тоже есть совершенно четкий ответ, который содержится в продолжении этой же логической цепи. В первом акте принц упоминает, что рожден в замке Эльсинор; родила его королева Гертруда – в тот самый день, когда в результате поединка владение замком перешло от короля Фортинбраса к его брату Гамлету. Следовательно, в тот день рожая принца, Гертруда не могла быть женой будущего короля Гамлета: ведь она могла рожать только в своем замке, а на момент этого события он был еще во владении короля Фортинбраса. Следовательно, Гертруда – вдова короля Фортинбраса, только от которого и мог быть зачат принц Гамлет (допустить, что, еще не выиграв поединка, король Гамлет мог загодя привезти свою жену на сносях в чужой пока замок, рискуя при этом жизнью роженицы и наследника, было бы абсурдом). Значит, новорожденный – родной сын короля Фортинбраса и единоутробный брат принца Фортинбраса; вот поэтому-то в вопросе наследства датского престола он и отдает свой голос в его пользу.
Прежде чем перейти к очередным очевидным «сенсационным» деталям биографии персонажей романа-мениппеи Шекспира, передохнем на достаточно тривиальном аспекте: почему принц Датский, являясь сыном короля Фортинбраса, носит имя своего дяди Гамлета. Принцип, в соответствии с которым старшему сыну, наследнику, дается имя отца, в других случая выдерживается. Принц Фортинбрас носит имя своего отца – ясно, что в семье он старший сын; в одной из двух фабул принц Гамлет является сыном короля Гамлета и носит его имя – тоже логично. В другой же фабуле он оказывается сыном короля Фортинбраса, и требуется объяснение, почему его нарекли именем дяди.
Выиграв поединок, король Гамлет не стал собственником земель, это право осталось за Гертрудой (jointress), о чем упоминает Король в своем обращении к придворным. Отсюда следует, что Гамлет стал не совсем королем, а консортом при вдове короля Фортинбраса. В таком случае право наследования должно передаваться через рожденных ею детей; в день поединка у нее как раз родился второй сын – в тот же день, правда, осиротевший. Имя отца было «занято» старшим братом, но выигравший поединок Гамлет получил право стать мужем Гертруды и отчимом новорожденного законного наследника; ни роженице, ни ее новому супругу ничего другого не оставалось делать, как дать новорожденному имя отчима – тем более, что он ему приходился родным дядей.
А теперь перейдем к установлению еще одного биографического аспекта: «истинной» даты гибели короля Гамлета от руки того брата, который влил ему яд в ухо. Это тем более необходимо, что пока не решена едва ли не главная задача анализа художественной структуры текста: в какой из двух фабул – «истинной» или вымышленной, «вставной» – принц Датский является сыном Фортинбраса.
Вспомним: в одной из фабул «хороший» король Гамлет становится жертвой своего брата, а в другой происходит все наоборот – он сам убивает своего брата. Какое из этих событий имело место в «реальной» жизни, а какое – во вставной пьесе?
Представляется, что наиболее простой (и, следовательно, более надежный) силлогизм может быть построен с привлечением данных биографии королевы Гертруды. Ведь если исходить из нагромождения всех содержащихся в тексте фактов, то получается, что Клавдий – уже третий по счету муж Гертруды! Считаем: Фортинбрас был первым, погиб от меча своего брата Гамлета; Гамлет стал вторым, но тоже погиб, и тоже от руки своего брата Клавдия, который стал уже третьим мужем Гертруды. Такую нелепость можно объяснить только одним: феномен трех браков королевы являются следствием совмещения двух различных фабул, сосуществующих в едином текстовом поле романа. То есть, «в жизни» Гертруда была замужем все-таки дважды; убит братом был только один из двух ее мужей; следовательно, одного из трех ее мужей в «реальной» жизни не было, он – персонаж только вставной пьесы. Кто это? Действуем методом дедукции.
Итак, четыре брата – Гамлет, Фортинбрас, Норвежец и Клавдий. Норвежец исключается – он не был мужем Гертруды. Также исключается и Фортинбрас: противоречий в данных о его смерти нет. Остается двое – Гамлет и Клавдий, и вот один из них и должен быть персонажем только вставной новеллы. То есть, не существовать в «реальной» жизни.
Поскольку Фортинбрас – «реальная» личность, и поскольку победа над ним Гамлета, как и его брак с Гертрудой – не вызывающие сомнений факты, то получается, что «третьим лишним» (не существующим в «реальной жизни») является «ныне живущий», третий по счету муж – тот, кто известен как «Клавдий» – хотя в романе он проходит просто как «Король». То есть, второй муж Гертруды и есть тот самый король Гамлет, который за тридцать лет до этого, убив своего брата Фортинбраса, женился на ней. Получается, что яд в ухо ему никто не вливал; этот спившийся братоубийца жив на протяжении всего действия, до самой последней сцены, когда его, наконец, настигает смерть – но не от руки брата, а племянника – принца Гамлета.
Из этого следует, что в «реальной жизни» не было события тех похорон, на которых должны были встретиться принц Гамлет и Горацио. Следовательно, траурное одеяние по убиенному отцу принц Датский носит только как персонах вставной пьесы.
Если принять во внимание характеристику образа короля Гамлета в общепринятой трактовке, то теперь уже можно понять, что в «действительности» все имело место «с точностью до наоборот». Как раз именно Гамлет-Клавдий совершил свой главный поступок в жизни в «честном» (по крайней мере – открытом) поединке со своим братом. Да, он запил, пытается молитвами искупить, а вином заглушить грызущую душу совесть. Муки совести стали особенно нестерпимы, когда он, убивший брата мечом «тридцать раз по двенадцать лун» тому назад, узнал себя в прологе к «Мышеловке». Вон ведь – не досмотрев постановку, пошел в молельню… Да и в своем обращении к Богу Король кается не в том, что «обагрил руки», а в том, что именно «руку» – ту самую, которая нанесла брату смертельный удар мечом…
«В честолюбии Фортинбраса нет злонамеренности и коварства…» Не скажите… Ведь он готовил поход на Данию, чтобы отомстить за отца и возвратить свое наследство. Но Норвежец обязал племянника словом никогда не поднимать оружия против короля Гамлета. Принц Фортинбрас сдержал слово – формально; то есть, оружия не поднял. Он решил свою задачу хитростью, которой простодушный король Гамлет даже не заметил, хотя все с самого начала было шито белыми нитками. Вон ведь – получив грамоту со смиренной просьбой провести войска через Данию, даже не стал ее читать – был занят пьянкой. Фортинбрас провел войска, но на обратном пути почему-то оказался с ними как раз в Эльсиноре, причем еще на подъезде к замку уже чувствовал себя его хозяином. Ведь только так можно расценить его совершенно беспрецедентный салют на чужой территории в честь прибытия иностранного посольства.
Уже на данном этапе становится очевидным, что рассказчик почему-то стремится показать принца Датского в негативном свете – то ли как сумасшедшего, то ли просто как нерешительного интеллигентствующего неврастеника. Весьма вероятно, что сам рассказчик является активным участником описываемых событий и одним из персонажей собственного сказа. Но то, что он пытается скрыть от читателя свои данные как рассказчика и придать своему тенденциозному повествованию видимость объективности, уже ясно.