Читать онлайн Тайна голландских изразцов бесплатно
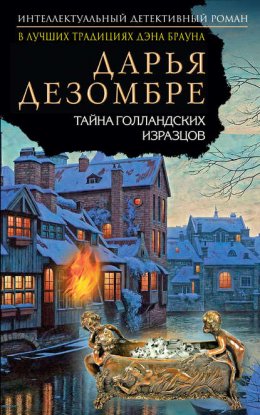
© Фоминых Д. В., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
à mon mari et pêre de mes enfants.
Моему мужу и отцу моих детей
Но чем больше я размышлял о дерзком, блистательном и тонком хитроумии Д., тем больше я убеждался, что, желая спрятать письмо, министр прибег к наиболее логичной и мудрой уловке и вовсе не стал его прятать.
Эдгар Аллан По.Похищенное письмо
Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени: как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом!
Фридрих Ницше.Так говорил Заратустра
Пролог
«С чего все началось?» – спрашивал он себя без конца, осторожно пробираясь узкими улочками во влажных тревожных сумерках.
В Тренте – в семьдесят пятом? С убийства того мальчика, Симона? Или все-таки в девяностые – в Испании, Португалии, на Сицилии?
А возможно, уже позже – в Нюрнберге и Берлине – в десятом?
Откуда, из какой зловонной темной дыры, поднялась на поверхность та ненависть, что теперь, казалось, носилась не видимая никем, кроме него, над этими сверкающими под ласковым солнцем лазоревыми водами? А вдруг он просто старый испуганный дурак, который видит страшные знаки там, где их нет? И замечает тайную угрозу даже в этом волшебном городе, так непохожем на сухую раскаленную твердь его родины? «Родина? – усмехнулся он. – Какая родина?» У таких, как он, ее не было уже тысячу с лишним лет. Думать, что она у тебя есть просто по праву рождения, – горькое и унизительное заблуждение. И вылечат от него быстрым и жестоким способом, выгнав, как вшивую собаку, за ворота дома, который ты считал отчим.
И вот теперь, зайдя за угол покрытого сероватой плесенью палаццо и, как всегда, в восторженном ошеломлении замерев перед прекраснейшей в мире лагуной, он твердил себе: «Не мягчеть душой, не расплываться мыслью, не пытаться слиться с этим великолепием. Помнить – опасность близко».
Но, Господь Всемогущий, как хотелось слиться и – укрыться в этой сияющей красоте! О Серениссима, дивная раковина, вынесенная прозрачной бирюзовой волной на Адриатический берег! Слияние в едином месте творения Божеского и человеческого. Воды – от Бога. И камня – возведенного человеческой рукой.
Он вздохнул и вновь свернул на узкую полоску набережной, тянувшейся вдоль канала, уходящего в глубь города. Ветер стих, и, как всегда в отсутствие движения воздуха с моря, от застоявшейся воды внизу стал подниматься тяжелый запах испарений. Он поскользнулся на гнилых отбросах, едва успел ухватиться за влажную стену дома. И вдруг… Вдруг где-то высоко, над почти смыкающимися над его головой стенами домов, раздался первый удар колокола. Он вздрогнул и на секунду замер, а там, в далеком лиловеющем небе, на этот первый раскат откликнулась вторая, а потом и третья звонница. Колокольный гул плыл над городом, словно опутывая его невидимой сетью, и он внезапно почувствовал, что стал ее заложником. Мелкой мушкой, попавшей в широко расставленную паутину. Зачем, зачем он так задержался в порту? До дома было еще далеко, а темнело здесь осенью мгновенно.
Можно, – размышлял он, – взять частную лодку на Гранд-канале, но кто мог бы поручиться, что его, с мешочком голкондских камней, только что с таким трудом выторгованных прямо в порту на вернувшихся на рассвете судах, не выкинут, обобранного, в зловонный канал? – Он скривил тонкий рот. – Так же, как никто не может дать гарантию, что его не подкараулят на одной из этих тесных улочек и не выбросят, опять же, в ту же черную маслянистую воду. Он решился – и сделал знак рукой. Тотчас от темной стены отделилась темная же тень и беззвучно, как призрак, подплыла к маленькой пристани у горбатого мостика, на котором он стоял.
– Куда нужно синьору? – негромко произнес хриплый голос.
Он назвал адрес, сердце испуганно дрогнуло: что-то скажет? Но лодочник в ответ лишь кивнул и, схватившись длинной жилистой рукой за столбик у пристани, дал ему возможность осторожно шагнуть в качающуюся лодку.
Всю дорогу они молчали: лодочник ровными мерными движениями резал веслом кажущуюся плотной ночную воду, изредка сотрясаясь в приступе кашля, как вспугнутая птица – в крике. А пассажир кутался в плащ, задумчиво вслушиваясь в всплеск отходящей от лодки волну, в которой нервно дрожала выкатившаяся на иссиня-черное небо полная луна. «Надо уезжать, – думал он. – Пора, как бы ни хотелось остаться». Жил бы один, легко отмахнулся бы от тайных токов интуиции – мол, бабьи страхи! Но у него еще была семья. Точнее, то, что от нее осталось. И пусть его интуиция кажется иным колдовской, он-то знал: это не дар предвидения, а настоянный, как хорошее вино, в мехах страха и крови опыт. «Но куда бежать? – спрашивал он себя горько. И отвечал себе же: – Мир большой. Есть Левант, Константинополь и Польша. Выбирай – север или юг. Главное, чтобы можно было заниматься своим делом, которое кормит меня и детей».
– Приехали, – сказал баркайоло, пришвартовавшись к низкому берегу и с явной опаской глядя на то место, которое его пассажир уже пять лет считал своим домом. Мужчина в длинном плаще встал, кинул монету лодочнику и, зная, что руку ему тут не подадут, сам шагнул с качающейся лодки на скользкую, омываемую водой в лунных бликах лестницу, ведущую на набережную.
Здесь было еще тише, чем в оставшемся справа по борту ночном городе. После дневного портового многоголосья эта тишина показалась мертвой, зловещей. И, нарушая ее, он поднял руку и постучался в высокие ворота.
Шел 1548 год.
Маша
– Машенция, подъем! Завтрак готов! – услышала сквозь сон Маша и приоткрыла глаза: на высоком потолке плескались солнечные зайчики – отражение воды канала. Солнце. Сегодня светило редкое в этом городе солнце. Когда Маша была маленькая, Любочка говорила внучке, что это она, Маша, его привезла. И Маша в глубине души до сих пор в это верила: она дарила городу солнце, а он ей – ощущение счастья. Неразмытого, концентрированного воспоминания о детском беззаботном каникулярном времени. Проведенном здесь, в этой нелепой комнате с высоченными потолками, где овальная розетка лепнины почему-то уходила к правой стенке и обрывалась ровно на трети.
– Что ты хочешь? – говорила ей бабка, закуривая. – Нетипичный жилой фонд. Бог весть чьи тут были хоромы. Ясно одно: твоя комната и соседняя составляли единую, видимо, гостиную. А после, как выгнали бывших хозяев, квартиру, как старое пальто, перекраивали то так, то эдак…
Чтобы в результате получился такой нелепый расклад: посередке огромная, по советским понятиям, кухня. Слева – бабкина комната, более-менее пристойных пропорций, а справа – гостевая, она же – Машина. Длинная, как пенал, но освещенная высоким окном во всю узкую стену. Кровать стояла к окну впритык – и освещение, и настроение обитателей этой комнаты зависело от небес за окном. Выходило тройное отражение: неба в комнате, неба и солнца в зеркале воды внизу, в канале, и оттуда уже – отблеском на потолок. Это движение светотени сопровождало Машины пробуждения в Питере многие годы, убаюкивало и становилось фоном для детских бесконечных мечтаний.
Маша спустила ноги с кровати, зевнула и забрала волосы в хвост на затылке. Пора было вставать – вот уже неделя, как она приехала к бабке на Грибоедова, и неделю же не могла проснуться самостоятельно. Каждое утро Любочка будила ее из-за стенки призывом к столу. И это было чертовски приятное пробуждение. Маша принюхалась: запах бекона разлетался по родной питерской квартире – Любочка не признавала «легких» завтраков. Завтрак был ее основным приемом пищи, запивался литром кофе из большого ультрамаринового, закопченного по днищу от старости кофейника и сопровождался, плюс к яичнице, тостами. Из древнего же, советских еще времен, тостера, который бабка упрямо не выбрасывала, а раз за разом относила чинить. Новые времена коснулись лишь сыра – финского, сменившего пошехонский. И заместившего вологодское финского же масла («Чухонские молочные продукты – самые лучшие», – наставительно говорила бабка).
Маша зашла на кухню и зажмурилась от солнца, бившего в широкое трехстворчатое окно. Подле окна стоял большой круглый стол, накрытый скатертью с мережкой. Слева по стенке располагались плита и длинный разделочный стол, справа – массивный буфет с посудой и диванчик, покрытый старым пледом. То, что самая большая комната в квартире была отдана под кухню, удивляло всех гостей, измученных убогим советским метражом, и казалось бессмысленным пространственным расточительством… Но на самом деле таковым не являлось. Кухонная комната была самой радостной, в любое время года, несмотря на погоду, светлой. Там царил уют, и можно было делать кучу разных дел, и все – приятные: готовить и поедать приготовленную еду, пить вино или чай с друзьями, читать книжку на продавленном диванчике, изредка поднимаясь, чтобы достать себе песочного печенья из буфета. В этой квартире, так же как во всем петербургском бытии, наблюдалась некая демонстративная отстраненность от московского приземленного прагматизма. Здесь легче дышалось, и именно сюда, к бабке, Маша всегда приезжала зализывать раны и оглядеться, чтобы решить, что делать со своей жизнью.
Впрочем, на этот раз официальной версией был грядущий Любочкин день рождения – ей перевалило за восемьдесят, и каждый «праздник детства» она встречала в глубокой печали, сетуя на неумолимость времени и мрачно попивая из наперсточных рюмочек «Таллинский бальзам». Обострялись артроз с артритом – все эта питерская сырость! – начинало шалить сердце.
– Не обращай внимания. Твоя бабка как-то мне призналась, что переживает из-за своего возраста лет с тринадцати, – однажды заметила мать. – Сначала она сетовала, что уходит детство, потом юность, зрелость… А теперь вот – боязнь глубокой старости, хотя, поверь, нам бы с тобой такую старость!
И Маша не могла не согласиться. Любочка жила вполне себе светской жизнью. Под боком были залы филармонии, Большой и Малый, и выставочный зал в корпусе Бенуа при Русском музее. Чуть подальше – Мариинка, которую бабка по старой памяти называла Кировским, и Эрмитаж, куда она ходила со служебного входа как к себе домой. Жизнь Любочки была комфортной и простой в использовании, потому что у нее имелись ученики. Точнее – УЧЕНИКИ. Любочка, она же Любовь Алексеевна, преподавала лет сорок подряд языкознание в Герцена, он же – Педагогический университет. Языкознание учили и сдавали инязовцы, которые при выпуске распределялись кроме как в школы в самые разнообразные структуры, ибо иностранный без словаря в то уже далекое, не избалованное специалистами «с языком» время был достаточен для начала недурной карьеры. Бывшие студенты шли в переводчики, экскурсоводы, в служащие отелей, принимающих иностранные делегации, и на предприятия, имеющие отношения с западными партнерами… А поскольку большинству Любочкиных учеников сейчас уже стукнуло пятьдесят, они успели весьма высоко подняться по карьерной лестнице и потому без труда могли доставить удовольствие любимой преподавательнице. Чего бы той ни хотелось: билетов ли на премьеру в Мариинке или круассанов на завтрак из «Европейской», где бывший студент занимал пост управляющего. Именно оттуда через день в квартиру на Грибоедова являлся посыльный в ливрее и с картонной коробкой с вензелями «Гранд-отеля».
Сдобное великолепие из коробки вкупе с яичницей украшало сейчас стол, залитый мартовским прохладным солнцем. Форточка была приоткрыта, и кремовая штора чуть колыхалась от осторожно впущенного в кухню весеннего ветра. За столом в махровом бордовом халате сидела Любочка и разливала кофий по серьезным, большим кружкам: начиналось время завтрака, прекрасное время, определяющее весь предстоящий день. Завтрак, по мнению Любочки, не мог быть скомканным – утренней обязаловкой, банальным перекусоном перед уходом на работу. Завтрак давал запас прочности перед выходом в этот жестокий мир. После правильного завтрака проще было выдержать любые испытания, посылаемые злодейкой-судьбой.
– Выспалась? – Бабка положила кусочек сыра на тост с расплавленным маслом, запила все это большим глотком кофе и подмигнула Маше веселым, несмотря на возраст, ничуть не выцветшим ярко-голубым глазом.
– Еще как! – Маша подмигнула в ответ, соскребая со старой сковородки яичницу-глазунью и стараясь не расплескать желток. – Чем сегодня займемся? У вас есть план, мистер Фикс?
Вопрос был праздный: у Любочки всегда имелся план и даже иногда несколько. И если по официальной версии Маша приехала к бабке с целью ободрить и развлечь ее в канун дня рождения, то истина располагалась, как водится, где-то между Любочкиной напускной тоской и Машиной профессиональной потерянностью. Это Маше нужно было уехать из Москвы «прополоскать мозги балтийским ветерком», как называла это бабка. И именно Любочка развлекала Машу, а вовсе не наоборот.
– Заедем к Сонечке? Помнишь ее? – спросила бабка, щедро выкладывая в прозрачную розетку клубничное варенье.
– Эта та, у которой муж полковник?
Любочка кивнула:
– Покойный. Она еще в Меншиковском гегемонит.
«Гегемонить» на поверку означало быть хранителем дворца-музея Меншикова на Васильевском. Маша усмехнулась: как не помнить? Она вообще наизусть знала всех бабкиных подруг, много лучше, чем материнских. Сонечка, Раечка, Ирочка, Тонечка. С истинно ленинградским интонированием в речи и по-петербуржски прямыми спинками. Большинство из них пережили блокаду, но это никогда не было темой бесед. Беседы велись вокруг временных выставок в Русском: «Привезли фарфор советской эпохи, помнишь, из того, с серпами, которым бы мы и стол накрыть постеснялись!» Смены экспозиции в Эрмитаже: «Зашла по привычке во французскую секцию на третьем, и ты не поверишь, куда они перевесили Матисса!» И гастролей пианистов: «Очень, очень фактуристый мальчик, знаешь, настоящий сибиряк, из Рахманинова выжимает то, чего сам Сергей Васильич, поди, не вкладывал!» Маша, помнится, пару лет назад оказалась с Тонечкой, бывшей профессоршей консерватории, в Мариинском театре. У Тонечки тоже были свои ученики, сидящие в оркестре и организовавшие им билеты – аж в Царскую ложу. Восьмидесятилетняя Тонечка пришла в узком черном платье, с драматически подведенными глазами и сухим ртом в ярко-алой, чуть подтекающей помаде. В потертой театральной сумочке кроме бинокля пожелтевшей слоновой кости лежала плоская фляга с коньяком. Тонечка, ничуть не смущаясь, перед спектаклем протянула ее Маше с бабкой и, получив вежливый отказ, на протяжении всего действа регулярно к ней прикладывалась. На напудренном лице нисколько не отражалось прогрессирующее опьянение. Лишь однажды, во время сольной партии Вишневой в роли Джульетты, она повернулась к подруге и вдруг громко и четко произнесла: «Страна – говно. Но танцуют – гениально!» Маша вряд ли когда-нибудь забудет выражение лиц мелкой и средней чиновничьей публики, соседствующей с ними в Царской ложе.
– Как дела у твоих «девочек»? – поинтересовалась она, разломив круассан и в предвкушении намазывая белую мякоть маслом, а потом вареньем.
– Сонечка подрабатывает консультациями у новых русских. – Любочка хмыкнула. – Рассказывает, бедняжка, чем отличается классицизм от идиотизма.
– С результатом? – искренне посочувствовала Сонечке Маша.
Бабка пожала плечами:
– По крайней мере денежным.
Сама бабка до сих пор подрабатывала частными уроками английского и решительно отказывалась принять материальную помощь от дочери.
– А Антонина?
– Выпивает, не без этого. Но, согласись, в нашем преклонном возрасте алкоголизм уже не так страшен. А вот Раечка… – Глаза бабки загорелись тайным огнем, и Маша улыбнулась: в жизни Раечки явно происходило нечто, достойное сплетни. – Не поверишь! Завела себе любовника!
Маша замерла, а потом расхохоталась: от Раечки, кокетливой, похожей на подвядшую, точнее, подчерствевшую сдобную булочку, можно было ждать всего. Бабкина подружка опробовала на себе все инновации пластической хирургии и подбивала на это же Любочку – пока безрезультатно, но кто знает?
– Почему не поверю? И кто ж тот счастливец?
– Молодой, лет шестидесяти пяти. Своя вроде как обувная лавка.
– То есть мужчина при деле? Отлично! – Маша, как и бабка, откровенно наслаждалась завтраком. – Вдовец?
– Упаси бог! Жена жива и здорова. Ничего не подозревает, бедняжка!
– Напротив. Бедняжкой она станет, когда все узнает.
– Да… – Бабка задумалась. – Но, по крайней мере, он оригинален: не молодуху взял, а… – Бабка тщетно искала подходящий, не обидный для подруги синоним.
– А даже наоборот! – с улыбкой закончила за нее Маша.
– Так что? – Любочка собрала со стола сковородку и грязные тарелки. – Заедем? Погода хорошая, прогуляемся заодно по Петропавловке…
Маша кивнула. Она понимала: кроме естественного желания увидеть приятельницу Любочке хотелось продемонстрировать единственную внучку, по твердому мнению бабки, умницу и красавицу. Маша была не против «смотрин» – в конце концов, мало кто на этом свете ею так неприкрыто гордился.
Маша настояла, чтобы они поймали частника – им оказался суровый мужчина южных кровей на потрепанной «Ниве». Утверждая, что все это – лишнее барство (отлично могли бы добраться и на троллейбусе!), бабка все же упросила мужчину поехать в объезд, через Троицкий мост. Вид в солнечный день на стрелку был, как всегда, прекрасен до перехваченного дыхания. Они прервали разговор на все время проезда по мосту и одновременно повернули головы, не желая упустить ни секунды из открывающейся панорамы.
– Да, – сказала бабка просто, когда они влились в поток машин на противоположной стороне. И в этом «да» было много чего намешано: и восторг перед красотой, от которой нельзя устать и к которой за восемьдесят лет невозможно привыкнуть. И обида на единственных дочку и внучку, которые предпочли Питеру «московские ухабы», как она их называла. Маша знала, что бабка долго не могла простить ее отцу, что тот умыкнул Наталью к себе в столицу. Многие годы Федор Каравай подшучивал над Любочкой и ее городом – болотистым, серым, построенным на костях, где, по его словам, невозможно жить человеку, не склонному к глубочайшей депрессии. Бабка же недобро усмехалась и говорила: «Вот и отлично, сидите сами подальше от нашего болота в своей большой деревне, в купечестве, в позолоте да безвкусице. Одно достойное место на весь город – Кремль, да и того скоро за новостройками будет не видать».
Маша в споры не вступала: было бы о чем спорить! Ей отлично дышалось и дома, и под питерскими небесами. И пусть отцу своему она не признавалась, но бабке этого и говорить было нечего: приезжая, Маша чувствовала, что вписывалась в Питер просто, будто всегда здесь жила. Что-то вроде генетической памяти или внутреннего созвучия: город соответствовал ей своей сдержанностью, отстраненностью, спрятанной от глаз досужего зеваки сокровенной жизнью. Если бы только папа прожил чуть больше, она сумела бы ему объяснить, что…
– Приехали, – прервал ее размышления частник, с визгом шин затормозив у тротуара. Маша вылезла, подала бабке руку, и они хором смерили взглядом желтый с белым фасад Меншиковского дворца.
– Как-то с особенной нежностью отношусь к Питеру восемнадцатого века, – сказала Любочка, направляясь к парадному входу. – Понимаешь почему? – И сама же себе ответила: – Его ведь и осталось-то совсем немного, и он еще не имперский, домашний какой-то, свой. Уютный.
Маша кивнула. Еще более уютным был кабинет Сонечки, Софьи Васильевны, бабкиной подружки со школьных времен. Маленькое помещение, отделанное темными дубовыми панелями, под покатой крышей и с круглым окном, выходящим на Неву. Сонечка, одетая в строгий костюм и белую блузку, встречала их уже накрытым столом: бумаги и папки отодвинуты в сторону, чашки с сине-золотой сеткой стоят в боевой готовности рядом с коробкой конфет. Расцеловавшись с Любочкой и критично оглядев Машу, Софья Васильевна благородно усадила гостей супротив окна (наслаждаться видом), а сама села к Неве спиной, разлила чай, подвинула сладкоежке Любочке конфеты. Старинные подруги слились в едином порыве: обсудили с пристрастием Тонечкину страсть к коньяку, Раечку и ее «обувщика» и мягко перешли к себе, грешным. Любочка между делом вставила, что Марья у нее звезда столичной Петровки и даже фигурировала на фото в какой-то московской газете, статью из которой Наталья ей отослала по старинке письмом, а Любочка так хорошо спрятала (чтобы, не дай бог, не потерять!), что забыла куда. Маша хмыкнула: бабка была в своем репертуаре.
Речь перешла тем временем на Сонечкиных новых клиентов – ни шиша не понимающих в архитектуре приобретенных ими памятников архитектуры, но «очень, очень милых мальчиков». Один из них, поведала Сонечка, попал в страннейшую историю, возможно, Машеньке будет интересно. Маша вежливо улыбнулась.
Итак, «очень милый мальчик» лет сорока решил побаловать себя недвижимостью рядом с царским парком в Царском же Селе. Особнячок небольшой, простенький, но все же – осьмнадцатый век, место жительства светской тусовки екатерининских времен. От времен, понятное дело, ничего уже не осталось, но мальчик решил, что он этого так не оставит – обставит дом как надо, чтоб перед гостями не стыдно. Большим плюсом мальчика можно считать тот факт, что он осознавал собственную ограниченность в вопросах интерьеров эпохи русского барокко. И решил проконсультироваться у специалиста – собственно, Софьи Васильевны. За пару дней до того, как мальчик с шиком докатил старушку на собственном «Лексусе»-кабриолете до императорского пригорода и, растрепав ей и без того негустую прическу, выслушал ее предложения и критику, и случился этот самый казус. А именно – кража. Кражей как таковой сейчас никого не удивишь, но в том-то и дело, что «милый мальчик» в дом пока не въехал и наличности или драгоценностей жены в сейф, врезанный в солидную капитальную стену барочной эпохи, еще не положил.
– Кстати, – добавила Софья Васильевна, подмигнув Любочке, – супруги у молодого человека, похоже, тоже не наблюдается.
Маша многозначительное подмигивание проигнорировала.
– И что же странного в краже? – спросила она.
– Украли только голландские изразцы, которые хозяин заказал для облицовки камина. Изразцы старинные, века XVI, но на рынке антиквариата стоят не бог весть сколько. Много меньше, к примеру, чем люстра муранского стекла, или инкрустированная мебель а-ля восемнадцатый век, или шпалеры льежских мануфактур, которые хозяин приобрел для стены в спальне.
– А сколько было изразцов? – Любочка положила в рот конфетку.
– Штук сто. Но украли только двадцать. Хозяин говорит, они были объединены одной темой, но в принципе ничего особенного. И заплатил он за них не больше, чем за остальные.
– Так в чем же проблема? – улыбнулась Маша. – Пусть закажет еще.
– Как же это, Маша? – Сонечка воззрилась на нее поверх очков с искренним недоумением. – А вор? Останется безнаказанным?
Маша усмехнулась:
– В нашем государстве, Софья Васильевна, остается безнаказанным воровство в куда более крупных масштабах. Вряд ли полиция будет сильно их искать. Мальчик ваш – явно не бедный. Легче забыть и купить новые.
Софья Васильевна покачала головой в редких белых кудельках:
– Маша, вы что, не знаете этих людей? Он ночей не спит, все голову ломает: почему? Почему именно эти и именно у него? Месть ли конкурентов каких или вор с придурью? Одним словом, спрашивал меня, не могу ли я его свести с кем-то, кто мог бы провести расследование, так сказать, частным образом. Я сначала отнекивалась: где я, а где частный сыск? А он мне вдруг как скажет эдак разочарованно: «Вы ж коренная, питерская! Неужто за всю жизнь не приобрели знакомых или знакомых знакомых в любой сфере?» И тут во мне взыграло ретивое: и правда, коренная я или…
– Пристяжная? – усмехнулась Любочка.
– Одним словом, я вспомнила, как Люба мне рассказала о твоем приезде и успехах в этих ваших сыщицких делах. Я ему ничего не обещала, конечно, но… – Софья Васильевна открыла ящик стола и перебрала стопку визиток, чтобы наконец вытащить нужную. – Вот.
Она подала Маше кусочек картона. «Ревенков Алексей», – прочла Маша тисненные золотом имя и фамилию. И протянула визитку обратно:
– Нет, Софья Васильевна. Простите, никак не смогу помочь вашему протеже. Удалилась от дел.
– Ну что ж… – Сонечка с улыбкой кивнула. – Ничего страшного. Пусть ищет кого-нибудь через Интернет. А карточку оставь себе: вдруг передумаешь?
Маша сунула визитку в карман – никому она звонить не собиралась, но обижать старушку не хотелось.
Любочка встала, обозначив конец светского визита. Уже выходя, Маша обернулась и спросила:
– Софья Васильевна, а что за тема?
Бабка подняла вопросительно бровь, но хранительница музея Машу поняла:
– Изразцов-то? Дети. Играющие дети.
Андрей
Андрей решил, что звонить Маше не будет. Все свое, не цицероновское отнюдь, красноречие он уже потратил, пытаясь доказать ей, что она не сможет заниматься ничем другим и работать нигде, кроме как сыщиком – на Петровке. Что нельзя закапывать свой талант: к чему было тратить больше половины своей сознательной жизни на то, чтобы стать уникальным специалистом, а затем похоронить эти знания где-нибудь в адвокатской конторе? Пусть в самом что ни на есть престижном тихом центре! И ладно бы дело было в деньгах! Но Андрей достаточно хорошо знал Машу, чтобы понимать: не нужны ей деньги. Не то чтобы вообще не нужны – «вообще» они нужны всем. Но не до такой степени, чтобы зарабатывать их, предавая любимую профессию. А то, что профессия была любимой, он не сомневался: в нелюбимом деле нельзя достичь таких высот, каких Маша Каравай достигла меньше чем за год работы в убойном отделе на Петровке. Другое дело, что любовь бывает разной, и мучительной в том числе. И Андрей сказал себе, что у Маши просто кризис – кризис взаимоотношений с профессией. Пройдет.
Но шли недели после того, как Маша официально «удалилась от дел» и даже «проставила поляну» отделу; Андрей бросал мрачные взгляды на ту часть стола, которую она занимала последний год, – и там по-прежнему было очень пусто.
– Я не хочу больше на это смотреть, – сказала ему Маша после того, как их энгровский маньяк попал за решетку[1]. Андрей было подумал, что речь идет о несправедливости – о Зле, порождающем Добро, и подобных сложных материях. Он со своей стороны уже давно в такие вопросы не вдавался. В конце концов, он занимается своим делом – ловит преступников. Объяснять, почему тому или иному парню надо скостить срок, поскольку он параллельно совершению преступления был честным отцом, мужем, спасал детей или стариков, – дело его адвоката. В этом прелесть работы в системе: не ты принимаешь решения этического толка. Пусть болит голова у прочих ребят, находящихся на госслужбе: судьи, прокурора, присяжных, наконец.
– Почему, почему нельзя просто хорошо делать свою работу, как в любой другой профессии? – приставал он к Маше, когда в очередной раз вывез ее к себе на дачу. Она молча выслушивала его аргументы, пока он вышагивал туда-сюда по веранде, а сама сидела, сгорбившись, на старой табуретке и все гладила, гладила башку Раневской, обалдевшего от столь долгой ласки. Но в какой-то момент Машина рука замерла, и прикрытый от блаженства глаз Раневской приоткрылся – пес почувствовал неладное.
– Дело не в профессионализме, Андрей! – начала Маша тихо, но за этим полушепотом чувствовалась набиравшая силу внутренняя истерика. – Я начала изучать маньяков, потому что хотела найти убийцу своего отца. Я изучала их в школе, читая вместо нормальных книжек только книжки по теме, потом поступила по этой же причине на юридический и писала по ним диплом. Затем, с грандиозным скандалом с матерью, устроилась на Петровку. И я нашла его… Цель была достигнута, но какой ценой?! У меня погибли… – Она на секунду замолчала, отвернулась к окну, вновь нашла ладонью голову Раневской, сглотнула. – Стало ли мне легче от этой правды? Ни капли! Стал ли мир от этого лучше? Тоже нет. Что ж, подумала я, везде есть исключения. И мы взялись за второе дело, и вот… Мы приехали посмотреть, что случилось со стариками. И что мы увидели?
– Их грузили в автобус, – мрачно сказал Андрей.
– Их грузили в автобус, как скот, который везут на убой, – тускло поправила его Маша. – Понятно, что без тех условий, которые им обеспечивал этот дом престарелых, долго они не протянут…
– Это как раз то, о чем я тебе говорю! – попытался вклиниться Андрей.
– Подожди. Представим себе, что это правда – я отлично умею ловить маньяков…
– Ничего себе, «представим»! Да ты лучшая, ты…
– А если я не хочу их ловить? – подняла на него Маша прозрачные глаза. – Мне это было интересно только из-за папы. А теперь я бы рада заняться чем-то другим. Но, видишь ли, – и тут она мрачно усмехнулась, – ничего другого я не знаю и ни в чем ничего не понимаю, кроме этих самых маньяков, от которых меня теперь тошнит! И еще. Я больше не хочу видеть изуродованные трупы. Никогда. А при нашей профессии это неизбежно. Так что, если позволишь, я все-таки сменю род занятий.
Маша
Маша прошла за изящной секретаршей в кабинет Торчанова, старшего партнера в адвокатском бюро «Торчанов и партнеры». Он с улыбкой встал из-за стола, чтобы ее поприветствовать: глаза его за стеклами модных круглых очков в черепаховой оправе прямо-таки лучились доброжелательством и – плохо скрываемым любопытством. Маша улыбнулась в ответ и протянула руку для рукопожатия. А чего она ожидала? Фамилия Каравай – не Кузнецова и не Иванова. Пусть прошло больше десяти лет, но за это время имя ее отца не забылось, а, напротив, стало классикой в адвокатском мире. Мифом. В этой профессии у ее фамилии было несомненное преимущество перед прочими, в чем таилась и опасность – слишком высока была планка. Нужно с самого начала подтверждать ценность своего имени, отдельно от знаменитой фамилии. «Блатная, – подумала Маша, оглядывая кабинет, пока его хозяин склонился над ее резюме. – Я вечно блатная. Надо было идти в медицину, по материнским стопам».
Секретарь просунула голову в кабинет:
– Может быть, чаю? Кофе?
– Мне зеленый, как обычно, – не отрываясь от резюме, ответил Торчанов.
– Мне ничего, спасибо, – покачала головой Маша. Она все-таки заметно нервничала.
Секретарша кивнула и исчезла. А Торчанов уселся поудобнее, закинув ногу на ногу так, что костюм из тонкой итальянской шерсти натянулся на угловатой коленке.
– Итак, вы решили поменять место работы… – Он мельком улыбнулся. – Что ж, дело молодое, еще не поздно сменить курс. Как вы знаете, наша фирма занимается разрешением международных споров. Мы часто представляем интересы клиентов в международных коммерческих арбитражах. Занимаемся вопросами, связанными с различными формами корпоративного мошенничества и злоупотреблений, недобросовестной конкуренцией, банкротством, розыском активов. Сотрудничаем с юридическими фирмами в Лондоне, Париже, Цюрихе, Женеве, Нью-Йорке…
Маша удивленно на него взглянула: казалось, он делает рекламу своему явно процветающему бизнесу. И хоть особой практики в прохождении собеседований у нее пока не было, ей казалось, что все должно быть с точностью наоборот.
Торчанов поймал ее взгляд и смущенно кашлянул:
– Я вижу, вы свободно говорите на французском и английском. Немецкий?
Маша отрицательно покачала головой, а адвокат продолжил:
– Что ж. Не страшно. Наши партнеры прекрасно владеют английским. По международному праву у вас, как я догадываюсь, пять?
Маша кивнула:
– Но диплом я писала по совсем другой теме, и опыта у меня…
– Да-да, это я понял. Отсутствие опыта могло бы быть проблемой, но не в вашем случае, верно? – Он белозубо улыбнулся. – Я тут, признаюсь, провел некоторые изыскания на ваш счет перед собеседованием… У вас, как все утверждают, блестящий интеллект, который вы проявили на ином поприще, но сила ума именно в маневренности, не так ли? Нам нужен свежий взгляд. Так что буду рад с вами работать. Что касается вознаграждения…
Десятью минутами позже Маша уже вышла из кабинета, пожав руку Торчанову и пообещав ответить как можно скорее. Она прошла по коридору мимо стеклянных стен, за которыми сидел десяток сотрудников: все, как один, в отлично сшитых костюмах, и почувствовала себя Золушкой. Идея пройти собеседование озарила ее внезапно. Во всех учебниках и на сайтах, посвященных проблемам поиска работы, говорилось об обязательном деловом стиле и еще о том, что не стоит ожидать удачи с первого раза: собеседования – как тренинг, чем больше проходишь, тем лучше получается. Вот Маша и решила потренироваться. У нее не было делового стиля – она пришла к «Торчанову и партнерам» одетая как обычно, в тонкий свитер под горло и джинсы (оба предмета туалета черного цвета). И была готова отвечать на серию бессмысленных вопросов вроде «Кем вы видите себя через пять лет?» или «Каковы ваши недостатки?» (о, если б вы только знали…). Но глупых вопросов ей не задавали. Честно говоря, ей вообще не задали никаких вопросов. Никто не обратил внимания на отсутствие у нее «делового стиля». Напротив, ей сразу же предложили работу с оплатой, на которую мало кто из вчерашних выпускников может рассчитывать. Пусть и с красным дипломом престижного вуза. И все же, все же… От одной мысли о том, чтобы пополнить ряды элегантных людей, сидящих за стеклянными стенками перед столами, заваленными папками с делами, ей становилось тоскливо, как при взгляде из окна в ноябрьские сумерки. «Это – или трупы. Выбирай! – строго сказала себе Маша. – Ничего, как-нибудь привыкнешь».
И, чтобы хоть чем-то себя порадовать, решила вернуться домой, прогулявшись по Мойке мимо пушкинской квартиры и французского консульства, и, взглянув на Михайловский замок, свернуть на Грибоедова. Весьма хитроумный план, дабы прийти под бабкины инквизиторские очи порозовевшей от прогулки, пусть и не с радостно блестящими глазами.
– Тебя не взяли, – постановила Любочка, лишь только разрумянившаяся внучка переступила порог.
– Почему же. – Маша устало присела на лавочку в прихожей. Ноги с непривычки гудели. – Взяли. Пообещали высокие гонорары. Все отлично.
– Хм, – Любочка повернулась и деловито прошла на кухню – ставить чайник. – Что-то не похоже на отлично.
Маша села за стол и вытянула ноги. Любочка поставила перед ней чашку, молча подвинула оставшуюся от завтрака булочку из «Европейской». Маша отхлебнула из чашки, подняла глаза на бабку и вдруг выпалила:
– А что, если быть сыщиком – вовсе не мое призвание, а просто… результат обстоятельств?
– Ты имеешь в виду убийство Федора? – Бабка не стала ходить вокруг да около.
Маша кивнула:
– Такое впечатление, что я выполнила миссию и у меня кончился завод. – Она вздохнула. – Пора просто смотреть на прекрасное и заниматься международным арбитражем.
– Глупости! – фыркнула бабка. – Если бы ты хотела заниматься этим самым арбитражем, давно бы уж занялась! А не сидела тут снулой рыбой после удачного собеседования. Или ты действительно решила, что смерть отца – единственная причина, по которой ты оказалась там, где оказалась?
Маша осторожно кивнула. Бабка в возмущении отодвинула от себя чашку.
– Девочка моя, убийство в этом мире – не такое уж редкое происшествие. Родственники всегда чувствуют боль, желание отомстить, тоску… Но очень редко эти чувства преобразуются в жизненную стратегию. Тем более в твоем тогдашнем, очень юном, возрасте!
– Хочешь сказать, я была к маньякам предрасположена? – улыбнулась Маша бабкиной страстной тираде.
– К маньякам – нет! Но к поиску правды, любви к загадке, которой является каждое нераскрытое преступление, конечно!
Маша покачала головой:
– Убийство – это не детектив в стиле Агаты Кристи, Любочка! Это ужасно неприятное для глаза и для души зрелище… Я не готова всю жизнь на это смотреть!
– А никто тебя и не заставляет заниматься убийствами, девочка! Преступления касаются не только лишения жизни! Есть другие возможности для использования твоих способностей… Вот, к примеру, Сонина история. Чем не шанс? Престижный пригород, особняк, интересный холостяк…
– Тебе так нравится эта идея, что ты даже заговорила стихами! – улыбнулась Маша.
– Мне не нравишься ты с тех пор, как сюда приехала! – возмущенно фыркнула бабка. – Любому из нас нужно дело, которое его увлекает! А такому, как ты, тем более! И чем раньше человек определяется с призванием, тем больше у него времени на разгон, тем больше шансов, что он станет настоящим профессионалом!
– Ты знаешь, что говоришь как… папин убийца? – тихо спросила Маша.
Но бабка только махнула рукой:
– Не пытайся меня смутить! Он же был не дурак, верно?
– Верно… – еще тише сказала Маша.
– Вот! – Бабка положила перед ней визитку. – Позвони.
Маша молча отвернулась к окну, крутя в руках уже пустую чайную чашку. А Любочка, погладив ее по плечу, вышла из кухни и прикрыла за собой дверь.
* * *
Ревенков встал ей навстречу, на ходу вытирая ладони бумажной салфеткой: рандеву он назначил в пирожковой в Конюшенном переулке. Маша оценила выбор: недалеко от ее дома, и само место вкусное и не жлобское.
– Берите с капусткой, – посоветовал он, когда она присела за столик и сделала знак официанту. – С капусткой – самые лучшие. Ну и еще с рыбкой красной.
Маша сделала заказ и, отложив меню, взглянула на своего возможного заказчика – крупного светло-рыжего голубоглазого мужчину в розовой рубашке, придававшей ему вид нежнейшего поросенка. Добродушного поросенка. На спинке стула висел коричневый пиджак и коричневый же галстук с геометрическими мотивами: Ревенков явно расслаблялся во время обеда, и встреча с ней не отменяла этой традиции.
– Только давайте сначала покушаем, а? – предложил он, со сладострастием по-настоящему голодного человека откусывая от пирога.
Маша, сдержав усмешку, кивнула и молча ждала, пока перед ней поставят тарелку с капустным и рыбным пирогами плюс широкую чашку с бульоном. Когда в полной тишине они закончили трапезу, Ревенков отодвинул от себя посуду, вытер жирные губы салфеткой и совсем по-новому – много более благосклонно – взглянул на Машу.
– Извиняюсь. – Он развел полными руками, отчего рубашка опасно натянулась под мышками. – Пока голодный, это самое, ни о чем думать и говорить не могу. Злой – ужас! А сейчас вроде отлегло.
– Ясно, – вежливо улыбнулась Маша. – Софья Васильевна сказала, что у вас есть для меня работа.
– Угум, есть. – Ревенков пригладил пальцем широкую белесую бровь. – Меня тут, по ходу, обнесли. Ну и я знать хочу кто. И почему.
– Простите мое любопытство… – Маша помялась. – Но зачем это вам? Изразцы, если я правильно поняла, не очень дорогие, а вы человек состоятельный, можете заказать еще… Это выйдет и быстрее, и, мне кажется, дешевле…
– А че, дорого берете? – сощурился Ревенков. И, заметив Машино замешательство, покровительственно похлопал ее по руке. – Да-да, слыхал. Вы, типа, крутая. Так не сомневайтесь, я к вашим гонорарам готов. – Он втянул носом воздух, посмотрел в окошко, явно собираясь с мыслями. – Вот прям не знаю, как это объяснить-то… Кто-то, по ходу, задумал чего-то за моей спиной. Проник в мой, понимаешь, – он подчеркнул голосом, – мой! – дом. Украл мои вещи. Кто и почему, ваще не ясно. Но, ясен пень, не сюрприз мне хотел сделать к празднику, так?
Он посмотрел Маше в глаза почти умоляюще – так ему хотелось, чтобы она его поняла. И Маша поняла, хоть и принадлежала к совсем другой людской породе. Ревенкову казалось немыслимым отдать без боя что-то свое. Любой, кто покушался на его собственность, становился врагом номер один. «Видно, – подумала Маша, – он долго и сложно шел к тому, что имеет, вот теперь и защищает добытое с упорством и яростью цепного пса». Ревенков улыбнулся – зубы были не слишком ровные, но свои, крепкие, явно не коренного питерского происхождения. Бабка как-то озвучила ей питерскую формулу взаимоисключающих понятий: либо истинный питерец с плохими зубами, либо не питерец, но с хорошими. «Тут уж не до рацио, – улыбнулась в ответ Маша. – Кто-то посмел вторгнуться в его жилище. Ату его, ату!» А вслух сказала:
– Расскажите, как это произошло?
– Да фигня какая-то! – почесал коротко стриженный затылок Ревенков. – Короче. Я был в городе, тут квартиру снимаю. На Таврической, – уточнил он не без гордости факт проживания в одном из самых дорогих кварталов, и Маша уверилась в своем анализе. – В Пушкин катаюсь пару раз в недельку да в выходные – поглядеть, как ремонт, не заснули ль там мои чучмеки. Дом на сигнализации, ясен пень. Ну и вот, позвонили из полиции часов в десять вечера. Сказали, было проникновение, приезжайте, посмотрите, что взяли. Я, значит, давай в Пушкин. Благо пробок не было – за полчаса доехал. В доме – окно на первом этаже, там окна низкие…
– Бельэтаж, – кивнула Маша.
– Что? – нахмурился Ревенков.
– Не обращайте внимания. Вор проник через окно?
– Да. Аккуратненько так стекло вырезал. Быстро вошел, взял изразцы – и вышел.
– В доме есть камеры наблюдения?
– Ага, – кивнул бизнесмен. – Только толку от них, по ходу, чуть. Можете сами посмотреть.
– Обязательно посмотрю. Что дальше?
– Этот гад был явно в курсе, сколько времени нужно охране, чтобы приехать. Когда те подъехали, в доме и рядом с ним уже никого не было.
– Соседей опрашивали?
– А как же! Все свои люди. Дружат – не разлей вода: охраняют как бы вдобавок к официальным структурам соседскую недвижимость. Типа договора: я за твоим особняком пригляжу, пока ты с семьей в отпуске на Таити, а ты – за моим.
– И что же?
– Не-а. Никто ничего не видел. Темно ж, как в… – Он осекся, взглянув на Машу, и поправился: – Типа очень. Дождь шел всю ночь. Как сработала сигнализация, соседи слева высунулись из окон… Ну и увидели только удаляющиеся фары машинки какой-то. Но ни номеров, ни цвета не разглядели.
– Ясно, – кивнула Маша, хотя ей было совсем не ясно. – Давайте посмотрим записи с камер наблюдения. Они у вас дома?
Ревенков самодовольно улыбнулся и достал из стоящего под стулом портфеля айпад:
– Техника! Вот из охранного агентства прислали по мейлу.
Он настроил и передал ей планшетник. Маша, сощурясь, посмотрела на экран: особняк стоял чуть в глубине, перед ним – два дерева, закрывающих обзор. Ближайший фонарь – метрах в ста, чуть дальше по каналу, отделяющему улицу от царскосельского парка. Свет фонаря казался призрачным, далеким.
– Как-то темновато у вас в Пушкине, – повернула она экран к Ревенкову.
Тот усмехнулся, кивнул:
– Темновато, это да. Только, по ходу, дело тут не в экономии электроэнергии. Два фонаря, ближайших к дому, разбили. За пару дней до ограбления.
– Вор, выходит, готовился. – Маша вернулась к происходящему на экране. Внезапно дом осветился.
– Это датчики движения, – пояснил Ревенков. Из сгустившейся еще больше тени дерева появилась черная фигура; вот она замерла перед большим окном, и через несколько минут неизвестный вынул стекло, подтянулся и перекинул ногу внутрь. – Подождите. – Ревенков кликнул следующий файл. – Вот. Данные со второй камеры, той, что внутри.
Второе видео оказалось еще более темным: какая-то тень проскользнула мимо и через пару минут так же быстро вернулась обратно. Третий ролик, опять с наружной камеры, продемонстрировал ту же человеческую тень с белеющим во тьме пакетом, вроде как с логотипом супермаркета, и чуть позже удаляющиеся задние фары автомобиля. Лучше всего машину было видно, когда она проезжала под дальним фонарем.
Маша повернулась к Ревенкову:
– Они смогли увеличить изображение?
Ревенков пожал плечами:
– Ага. А толку? Выяснили, что пакет из супермаркета «Карусель». А машина – черная, навроде «Жигулей». Номера замазаны.
Он поставил Маше последнее видео: осмотр места происшествия. Ревенков в сопровождении охраны обходил дом, пытаясь понять, что пропало. Внутри особняк был почти закончен: стены выровнены и покрашены в пастельные цвета, положен дубовый паркет. На полу еще запакованными, в коробках или обернутые в пластик, лежали ревенковские приобретения: венецианское зеркало в тяжелой раме («Это для холла», – уточнил он); огромная разноцветная мурановская люстра («Антикварная тоже, для столовой, стоила кучу бабла», – пояснил хозяин), ковры, мебель. Маша с удивлением отметила, что у ее «новорусского» клиента все в порядке со вкусом. Хотя – что это она? Не у него, а у его консультантов по интерьеру. Впрочем, защитила Маша бизнесмена от собственной же критики, правильных консультантов тоже выбрать непросто. И – да: и люстра, и старинные ковры явно стоили дороже двадцати плиток из старого фаянса.
Маша подняла на Ревенкова глаза:
– У нас есть два возможных пути развития. Первый – мы отрабатываем преступника. Но у вас в арсенале только я, а исходные данные более чем скудные.
– А второй?
– Мы будем отталкиваться от предмета кражи. Почему они, именно эти изразцы?
Ревенков кивнул и вдруг выдал крайне обаятельную ухмылку:
– Значит, все-таки возьметесь за дело?
* * *
Антикварная лавка, чей хозяин, по словам Ревенкова, «организовал» ему изразцы для камина, находилась на Большой Конюшенной. Просторное светлое торговое помещение эпохи модерна совсем рядом с ДЛТ[2]: большие окна во всю стену позволяли увидеть и оценить предлагаемый товар с улицы. Но Маша сразу зашла внутрь, а зайдя, даже несколько растерялась: никакого запаха «иных времен», а напротив, легкий парфюм, принятый в модных дорогих бутиках. Молодая блондинистая особа – продавец-консультант, на высоких шпильках и в обтягивающем невыразительные манекенные формы коротком платье. Минимум предметов, зато каждый явно представлен в наилучшем свете, будь то красного лака китайский комод, или парочка ампирных ваз севрских мануфактур, или старинные напольные часы с боем в бледно-голубом резном футляре. Сам антиквар, вызванный продавщицей по Машиной просьбе, тоже мало соответствовал стилистически образу: лет шестидесяти, явно молодящийся – бритая голова, а на лице, напротив, ухоженная двухдневная щетина. Дорогие джинсы с легкими потертостями, белая футболка, охватывающая чуть обрюзгший, но некогда весьма мускулистый торс.
Он по-деловому пожал Маше руку:
– Гребнев Иван Николаевич, к вашим услугам. – И, углядев на ее лице некоторое удивление, кивнул: – Да, согласен, мы нетипичный магазин антиквариата. Я, знаете ли, разрабатываю концепцию антикварного бутика. Никакого затхлого запаха – наши люди не любят старья.
– Даже те, кто приходит искать антиквариат? – удивилась Маша.
– Ну, не все же приходят по любви, – легко отмахнулся он пухлой ручкой с золотой печаткой. – Главное – сделать это дело модным трендом. И еще – не налегать на мебель. Многие клиенты брезгливы. Предпочитают покупать новье, подделанное под старину. А вот вазу или гравюру какую – пожалуйста.
– Значит, изразцы вполне входят в ваш… «тренд»?
– Конечно. Мало у кого имеется камин, да еще и давней эпохи. Но часто бывает, дизайнеры выкладывают кантом плитку в кухне, например.
– То есть заказ господина Ревенкова не оригинален?
– О нет. И тут, и в Москве – у меня там тоже есть бутик, на Патриарших, – бывает, заказывают.
Маша кивнула:
– Алексей Сергеевич сказал, что у вас есть копии плитки.
– Обязательно. Я всегда на всякий пожарный все фотографирую – на случай последующих претензий или для страховки… – Гребнев подозвал к себе продавщицу, что-то шепнул ей на ухо, и девица вернулась минутой спустя с картонной папкой. Антиквар протянул ее Маше.
В папке лежало несколько листов с черно-белыми копиями изразцов: на каждом листе помещалось около шести. Детали по углам были мелковаты, но центральный рисунок читался ясно: дети играют на улицах старинного города.
– Я могу забрать копии? – Маша перебрала страницы.
– Конечно, – кивнул Гребнев. – Они для вас и сняты.
– А более… качественного изображения у вас не будет? – Маша спрятала копии обратно в папку.
Антиквар развел руками:
– Алексей Сергеевич, к сожалению, слишком поздно меня предупредил. У меня есть фотографии крупным планом каждой из плиток, но в офисе, в Москве.
– Вы не могли бы попросить ваших сотрудников их выслать вот по этому адресу?.. – Маша вынула из сумки свой «походный» блокнот, записала мейл и вырвала страничку.
– Увы, – мельком взглянув на мейл, антиквар сложил и спрятал листок в задний карман джинсов. – Я никого не допускаю до личного компьютера. Но… – он улыбнулся, увидев разочарование на Машином лице, – я послезавтра лечу обратно в Москву и сам вам все вышлю.
Маша кивнула и пожала на прощание мягкую руку:
– Буду ждать.
Андрей
Пожар увидели сначала посетители забегаловки напротив: лопнули окна, и дым с пламенем вырвался наружу, вовсю заорала противопожарная сигнализация. Пожарные приехали достаточно быстро, чтобы спасти здание: магазину досталось больше, офису меньше. Помещение почти не пострадало. Пожарные, обнаружив труп и поняв, что он криминальный, вызвали полицию. И теперь совсем юный мальчик-пожарный с красным, будто обгоревшим лицом просвещал Андрея.
– Молодец, подготовился! Если б все так! – говорил он с воодушевлением. – А то денег жалеют, а ведь от этого жизнь зависит! Да и смерть – какой не позавидуешь…
– Ну, – закурил Андрей, – конкретно данного товарища его прекрасная пожаротушительная оснащенность не спасла.
– Потому что его задушили! – пылко возразил юный пожарный. – А хотели бы сжечь…
Андрей усмехнулся:
– Ну да. Так что ж тут, по-вашему, произошло?
– Мужика прикончили. Облили бензином. Затем организовали элементарный трюк с проводкой – как только включаешь свет, все тлеет сначала, потом вспыхивает и полыхает к черту по всей комнате. Но здесь убийца просчитался: у антиквара установлены автоматические модули пожаротушения распыленной водой. И еще – автоматические же установки извещения о пожаре: как только появляется очаг возгорания, извещатель – тут он тепловой – включает сирену, и нам идет звонок. Ясно?
– В общих чертах, – кивнул Андрей. На месте уже работали эксперты – толку, впрочем, от экспертизы будет немного. Во-первых, в кабинет к антиквару наверняка кто только не входил. Во-вторых, огонь, не успев окончательно сжечь труп и соседние помещения, улики, если они и были, как пить дать уничтожил.
Андрей вздохнул и пошел разговаривать с секретаршей: дамой уже в возрасте, из тех, кого нанимают мудрые начальники, руководствуясь не длиной ног, но аккуратностью, обстоятельностью и неким наличием мозгов.
Однако и тут пока был провал – дама (Андрей поглядел в записи: Антонина Семеновна) рыдала белугой, размазывая некогда тщательный макияж на уже немолодом лице.
– Господи, горе-то какое! – причитала она. – Такой золотой человек был!
Андрей тактично промолчал: был ли покойный золотым человеком, ему только предстояло узнать.
– Никогда не прикрикнет, всегда шутит, пытается поднять настроение! На праздники подарки дарил, однажды даже на ужин… – Антонина Семеновна выдернула из щели стоящей на столе лаковой коробочки бумажную салфетку и шумно высморкалась. «Была влюблена в шефа, – подумал Андрей. – Это хорошо. Влюбленные секретарши много более наблюдательны, чувствительны к настроению начальства. И в то же время ревнивы и часто навязывают следствию свое резко окрашенное эмоцией мнение».
– Вы не могли бы пройти в кабинет и посмотреть, что пропало? – устало спросил Андрей. Секретарша кивнула и толкнула дверь.
В ужасе взглянула на обугленное кресло и на пол, куда упал ее босс после того, как истлели веревки. Рядом со столом виднелся белый контур – антиквара нашли на ковре в позе эмбриона.
– Посмотрите внимательно вокруг, – строго сказал Андрей, пытаясь отвлечь секретаршу от мрачных мыслей. – Это очень важно. И очень важно, чтобы вы это сделали сейчас, пока память еще не загружена новой информацией.
Антонина Семеновна послушно кивнула и огляделась: на стенах кабинета висело несколько гравюр. В библиотеке на первой и второй полках располагались книги и альбомы по искусству. На третьей и четвертой стояли азиатские статуэтки: Будда, какие-то золотые ободранные (и явно не в связи с недавним пожаром) павлины. И еще темные, пыльные, скорее всего, африканские маски. Андрей пожалел, что рядом нет Маши – вот она бы точно рассказала, что откуда. И какого века. И какой он профан. Но это ничего, Андрей привыкший. Черт! Как же жаль, что рядом нет Маши! Он по ней скучал. Он обижался на нее и на общую несправедливость мироздания. Она должна быть здесь. А ее не было и, возможно, никогда и не будет. С другой стороны – и Андрей бросил рассеянный взгляд на очертания недавнего трупа, – разве не про это она ему пыталась втолковать? Что больше не хочет смотреть на обгорелые тела, про которые пожарные им еще до прибытия судмедэксперта радостно объявили: это не по их пожарной части! Парня удушили, что для антиквара, несомненно, более удачный и безболезненный вариант смерти. «Ты чертов эгоист! – сказал себе Андрей. – Мало она намучилась? Отпусти ее, пусть занимается чем-то менее кровавым, более подходящим для девочки из хорошей семьи и… подальше от тебя», – закончил он и еще больше помрачнел.
– Кондуит! Кондуит пропал! – прервала его размышления секретарша, тыча пальцем с французским маникюром в стол. Андрей пригляделся: на почерневшей столешнице кроме оплавленного компьютера с лопнувшим экраном в обугленной рамке стоял только обгорелый остаток фотографии молодой жены, держащей на коленях миловидного младенца.
– Где? – тупо спросил он, на секунду пожалев молодую женщину, которая скорее могла опасаться ранней вдовьей доли по причине рака простаты, чем удушения с последующим сожжением.
– Он всегда лежал на столе. Рядом с компьютером.
– Кондуит – в смысле журнал?
– Нет. Такая книжка записная. Вроде еженедельника. Он туда записывал всю информацию… Которую компьютеру не доверял.
– Да? – поднял бровь Андрей. – И чего же он не доверял компьютеру?
– Почти ничего не доверял, – сказала Антонина Семеновна. – И правильно делал!
– Ну, например? – Андрей не совсем представлял, что может скрывать от посторонних глаз человек с мирной профессией антиквара.
Антонина Семеновна посмотрела на него с удивлением:
– Ну как же? Информацию о покупках. И о клиентах.
– Ясно. – Андрей сделал пометку в блокноте. – Значит, больше ничего не пропало?
– Нет, – помотала головой Антонина Семеновна, от усердия чуть тараща глаза.
– И ничего особенного ни в поведении, ни в…
Секретарша уже начала отрицательно крутить головой в мелких светлых кудельках, как вдруг замерла и подняла на Андрея испуганный взгляд:
– Тот посетитель… Знаете, такой обычный на вид мужчина. Не очень дорого одетый, но вполне себе приличный.
– И что же? – подтолкнул ее Андрей.
– Иван Николаевич был очень недоволен. – Секретарша посмотрела на Андрея чуть виновато. – Выгнал того молодого человека взашей и мне сказал – больше не пускать ни под каким предлогом, представляете? Так на него не похоже…
Тут Антонина Семеновна вздохнула, предвосхищая Андреев следующий вопрос:
– Только вот имени его я вам не скажу, хоть он и представился, иначе я бы…
В этот момент в коридоре зазвонил телефон, стоящий на рабочем столе Антонины Семеновны, и она по привычке понеслась отвечать. Андрей не торопясь пошел за ней. И застал только конец беседы, когда секретарша поясняла неизвестному, почему господин Гребнев не может подойти к телефону.
Андрей жестом попросил передать ему трубочку:
– Добрый день. Капитан Яковлев. Представьтесь, пожалуйста.
– Андрей?! – услышал он родной Машин голос. И замер.
Маша
Бабушка вошла на кухню и с удивлением воззрилась на красную Машу.
Маша оправдывалась:
– Нет, я еще ни во что не ввязалась. Нет, точно совпадение. Нет, бывают. Вот так – просто кража в Питере, покойный Гребнев обещал выслать фотографии краденого объекта в хорошем разрешении. Да, встречалась. Один раз. Говорили по делу. Не показался. Спокойный, уверенный в себе мужчина. Да, явно московская история. Все, пока. Целую.
Маша положила трубку и вздохнула. А потом подняла виноватые глаза на бабку.
– Целую? – Та пригляделась к порозовевшей внучке. – Кого это?
Маша повернулась к окну: на улице шел скорый мартовский дождь, превращая остатки снега в подобие леденистого супа.
– Мой… – она запнулась, – молодой человек.
– О! – только и сказала бабка, резко приземлившись на стул напротив. Маша скосила на нее глаза – отвертеться не получится.
– Работает оперуполномоченным на Петровке.
– Молод? Хорош собой? – взяла на себя инициативу Любочка.
Маша улыбнулась:
– Молод. И мне нравится. Но – на любителя.
– Ну, Ален Делон нам не нужен, – деловито покивала бабка. – И мы ему тоже не особенно.
Маша не выдержала и рассмеялась:
– Ты еще скажи: главное, чтобы человек был хороший!
– И скажу! А кстати, хороший?
– Очень.
Маша встала и подошла к плите – чаепития, как момента истины, было не избежать.
– Ну и почему же?.. – тихо спросила бабка, и Маша поняла, кивнула.
– Если я хочу изменить свою жизнь, нам нужно какое-то время побыть врозь, – твердо сказала она.
– Это ты так решила? – в голосе бабки звучал скепсис. – Он с твоим решением согласен?
– Нет, не согласен. – Маша задула спичку и поставила на конфорку старый чайник с плохо пригнанной дребезжащей крышкой. – Он считает, что я должна продолжать работать на Петровке. И далее – вполне в твоем ключе: про дарование, которое нельзя засовывать… во всякие темные места.
– Думаю, – Любочка достала из шкафчика вазочку с мармеладом и коробку зефира в шоколаде, – тебе стоит позвонить твоему «новорусскому» клиенту и сообщить грустную весть.
– Да, – очнулась от размышлений об Андрее Маша и вынула трубку из кармана джинсов.
– Ревенков! – отозвался после первого же гудка бодрый голос.
– Добрый день. Это Мария Каравай вас…
– Узнал, сразу узнал! – радостно похохатывая, перебил он. – Ну как? Есть подвижки?
Маша изложила новости, только что полученные из Москвы. Ревенков крякнул, на некоторое время замолчал.
– Вот же, – наконец произнес он, – бедолага. По ходу, в криминал какой вляпался.
– Вы об этом что-нибудь знаете? – встрепенулась Маша. – Тогда вам стоит связаться со следователем, который…
– Да не, вы чего! Предположил просто. Контрабанда, подделки, темное лицо российского антикварного мира типа. Я-то у него, кроме плитки, ничего не покупал, знаком шапочно, так сказать.
– Ясно, – сказала Маша, мгновенно включив мозг в данном направлении и на секунду позабыв о своем собеседнике.
Но Ревенков тактично кашлянул:
– Я это вот о чем подумал-то… Может, вам интересно будет в Бельгию скататься?
– Что? – оторвалась Маша от выстраивания логической цепочки.
– Ну, надо бы выяснить, что в них такого, в изразцах-то. Тут копать уже поздно, по ходу, один Гребнев, может, чего знал. И то – сомневаюсь. Знал бы – насвистел бы уже давно, цену бы попробовал набить, все такое. Получается, все ниточки – на Западе. Я тут его мейл нашел. Один из первых. Там в истории письма – переписка с его коллегой. Из Брюсселя. Который ему, в свою очередь, эти изразцы и продал. Фамилия дер Страат.
– И? – Маша кивнула, пододвинув бабке чашку, и та налила в нее сперва крепчайшей заварки, а потом и кипятка.
– Ну, там, в мейле, под подписью и телефончик есть, и адрес. Может, напишете ему, встретитесь? – Где-то там, на другом конце трубки, Ревенков вышел на шумную улицу, пикнула сигнализация машины.
– И вы готовы оплатить расходы? – недоверчиво нахмурилась Маша.
– Ну, если не будете слишком понтить… – Ревенков явно улыбался, хлопнула дверца автомобиля, в трубке опять стало тихо. – Но вы, по ходу, не из тех, кто чужое бабло проматывает, нет?
– Не из тех, – подтвердила Маша. – Но шансов найти что-то все-таки крайне немного, вы же это понимаете?
– Ну, понимаю, конечно, – устало вздохнул Ревенков. – Я ж не мороженый на всю голову. Но давайте все-таки попробуем, а? Не дает мне покоя эта история.
Маша молчала, и Ревенков добавил с нажимом:
– Съездите, съездите! По-тамошнему вы в отличие от меня шпрехаете. Может, и будет толк. А нет – так это, хоть развеетесь.
– Хорошо, – сдалась Маша. – Я попробую.
– Вот и лады! – явно оживился бизнесмен. – А координаты пацанчика я вам сейчас вышлю смс.
Маша положила трубку – бабка смотрела на нее выжидательно.
– «По ходу», я еду в Брюссель, – сказала она, потянувшись за зефириной.
Андрей
Андрей не представлял себе, что будет так счастлив ее увидеть. Он чувствовал себя Раневской, приготовившимся для прыжка, чтобы броситься в экстазе к вернувшемуся хозяину с радостным лаем, – и все это, стоило только его бывшей стажерке выйти из вагона на Ленинградском вокзале, в бежевом плаще, прикрывающем обычную черную униформу из свитера и джинсов, рядом – черный же чемодан на колесиках. Русые волосы забраны в низкий хвост, широкоскулое лицо, как всегда, без грамма косметики, но все равно для него – самое красивое. Почти прозрачные глаза переходного из зеленого в серый неопределенного оттенка, крупные бледные губы. Солнце скользнуло по ней, на секунду показавшись из-за ватного предгрозового облака, она улыбнулась… И Андрей рванул вперед, никого не замечая, наталкиваясь на чьи-то плечи и углы чемоданов, и обнял ее, прижав к себе со всей силы: как же он давно ее не видел!
– Как же я давно тебя, дуру, не видел! – прошептал он в маленькое непроколотое холодное ухо.
– От дурака слышу! – тихо ответила она.
Андрей вдохнул ее запах на затылке, роднее которого он вот уже полгода не знал, и наконец отпустил.
– Откуда летишь? – спросил уже по-деловому, стесняясь пылкости объятий и забирая чемодан.
– Шереметьево. – Она взяла его под руку, и они пошли по уже опустевшему перрону.
– Ты же понимаешь, – криво усмехнулся Андрей, – что вся твоя история абсолютно бредовая? Чем он вообще на жизнь себе зарабатывает, этот твой… – он скривился в поисках правильного определения, – клиент?
– А, – беззаботно махнула рукой Маша. – Какой-то импорт-экспорт. Или древесина?
– «Или древесина»! – передразнил ее Андрей и вдруг напрягся. – Он себя там как ведет?
– В каком смысле? – удивилась Маша.
– В смысле – не пристает?
Маша расхохоталась.
– А что смешного? Вот что смешного, а? – Андрей потянул ее дальше, несколько смущенный, но не готовый сдавать позиции. – Под предлогом этого вашего древнего кафеля заманит тебя в какой-нибудь шикарный отель, ты приезжаешь, открываешь комнату, а там – ррраз! – обнаженный любитель древесины!
– Это очень вероятно, – серьезно покивала Маша. – Вот я сама как-то не подумала, а ты мне – ррраз! – и подсказал. Опасайся любителей древесины! – но, увидев напряженное лицо Андрея, сжалилась. – Клиент остался в Питере. Он деловой человек, Андрей. Эти люди и нанимают на работу мелких сошек вроде меня, чтобы они побегали по Европам и выяснили, в чем тут подвох. И отель мой будет самый что ни на есть скромный.
Андрей кивнул, сделав вид, что удовлетворен объяснением. И все-таки не выдержал, спросил:
– Но он ведь… не смертельно обаятельный красавец?
– Ну почему же сразу – не красавец? – протянула Маша. – У него такие синие-синие глаза на пол-лица, выдающийся подбородок с ямочкой, прямой греческий нос. Прибавь к этому природный мужской шарм…
Андрей почувствовал, что до боли сжимает челюсти, пока, приглядевшись, не заметил, что Маша тоже с трудом «держит лицо» – чтобы не расхохотаться, и ему захотелось ее задушить. Видно, на его лице отразилась толика терзающих душу эмоций, потому что Маша сжалилась.
– Он похож на рыжего поросенка, – утешила его она. – Носит розовые рубашки и туфли со слегка загнутыми носами – знаешь, такой привет от Маленького Мука.
– Кто ж тебя знает… – угрюмо сказал Андрей, забрасывая ее чемодан в багажник своего старого «Форда». – Может, это у тебя с детства любимый персонаж?
– Мой с детства любимый персонаж – Шерлок Холмс, – улыбнулась Маша, щелкнув его по носу. – А по поводу клиента – не переживай. Он таких, как я, синих чулков не отражает в принципе. Вот если бы у меня была грудь третьего размера и, к примеру, копна белоснежных кудрей и силиконовые губы…
– То я бы никогда не подвозил тебя в своей машине, – продолжил уже явно развеселившийся Андрей, отказываясь представлять Машу в силиконовых грудях и губах.
– Ха! – устроилась она на сиденье рядом и взяла его руку в свою. – Подумаешь! Села бы я тогда со своими грудями и губами в твою консервную банку! Я, раз уж такое дело, передвигалась бы на каком-нибудь кабриолете!
* * *
Они просидели еще час перед вылетом в кафе в Шереметьево и ни о чем, что было для него важно на самом деле, не говорили. Маша рассказывала о своей уникальной бабке и о ее эксцентричных, но безмерно трогательных подружках. О господине Ревенкове и особняке в Царском Селе, куда забрался страннейший вор. Она даже показала ему копии, снятые с изразцов, – ничего такие, повертел их рассеянно в руках Андрей. Снимки были черно-белые, но Маша объяснила, что рисунок на плитке синего цвета.
– На нашу гжель похоже, – заметил он, возвращая ей копии. – Только у нас – цветы и птицы, а у голландцев, вишь, дети.
– Получается, у наших в деревнях все мысли испокон веков – только о райских кущах да райских птицах. Такая, видать, веселая жизнь, – задумавшись, сказала Маша.
– А голландцы что видят, о том поют? – улыбнулся Андрей, перебирая на столе Машины пальцы с коротко остриженными ногтями.
Она пожала плечами, мельком улыбнулась:
– Наверное. Надо будет узнать по приезде в Брюссель. Встретиться со специалистами.
И он уже совсем собрался спросить: а когда обратно? Когда ты вернешься? Сюда, в Москву? Ко мне? Как вдруг яростно и с особенно отвратительным перезвоном залился в кармане мобильный, и старлей Камышов возбужденно прокричал в трубку, что у них опять пожар. И опять труп.
– Где? – сквозь зубы спросил Андрей, уже снимая куртку со спинки стула.
– Гостиница «Метрополь», – со скрытым восторгом объявил рыжий, и Андрей скоро понял почему. – Это тебе не в Южное Бутово кататься. Нам уже тут сервировали от капиталистических щедрот кофе с бутербродами. С красной икрой! В общем, давай приезжай!
Андрей повесил трубку, поглядел на Машу. Она кивнула. Но не стала ничего спрашивать. А он – ничего рассказывать. Пусть летит, выясняет про «играющих человечков», про старую плитку, гуляет по Брюсселю, решил он. Пусть будет подальше от этого. И если это значит быть дальше от него – что ж. Он смирится с ее решением. И Андрей как-то совсем по-товарищески крепко ее обнял, понимая: это объятие – последнее из приятного, что грозит ему на сегодняшний день.
– Счастливого пути, – только и сказал он и вышел из здания аэропорта. И машинально принюхался, садясь в свой «Форд»: ему показалось, что здесь уже стоит сладковатый трупный запах, который не забить даже красной икрой, как ни старайся.
Он
Рыба, табак.
Цветочные луковицы (тюльпаны, конечно же!).
Голландские сыры – огромные головки в восковой оболочке размером с каретное колесо.
Кофий – божественный напиток, лекарство против «надмений и главоболений».
Белила немецкие, умбра, сурик, лазорь, черлень английская – давно окрасившие балтийские воды.
Лионские пламенеющие шелка. Тафта «помпадур» – легкая, на летние платья. Индийский вощеный ситец – не только на туалеты дамам, но и для интерьеров.
Сервиз мейсенского фарфора – весь в цветах и пасторалях. Золотые табакерки – одарять ими достойных. Золоченая же карета.
И много чего другого, но для мальчишеского воображения хватало и этих сокровищ, плывших на борту «Святого Михаила» и похороненных в 1747 году близ Науво, городка в южной Финляндии. А совсем рядом – знаменитая «Фрау Мария» с грузом бесценных полотен, заказанных императрицей для Эрмитажа и Царского Села, каждое запаковано в свинцовую колбу и залито воском. Мастера «золотого века» – Ван Бален, Герард Терборх, Ян ван Гоен, Андриан ван де Вельде, Брейгель и, возможно, Рембрандт и Вермеер – с еще не потемневшими красками, такими, каких уже не увидишь ни в одном музее мира: яркими, как в день творения. Вот что почти три столетия лежало на дне морском в потерпевшем крушение двухмачтовом флейте.
Те корабли были первыми в длинном мальчишеском списке, что не давал ему спать по ночам. Советское детство с его весьма ограниченным спектром развлечений отдавало все дождливые (и какие дождливые!) ленинградские дни на откуп чтению «Библиотеки приключений» и мечтаниям. Он уже не помнил, где прочел впервые про «Марию» и «Михаила», но долгое время эти имена отзывались загадочным эхом в ушах. По случайности ли, но его лучшим другом долгое время был Мишка Постник, а первой любовью – Маша Орехова. Он даже думал так назвать своих детей. Если, конечно, они у него когда-нибудь будут.
Родителей он почти не помнил – они погибли в автомобильной аварии: отец как раз выиграл в лотерею новый «жигуленок» и, несмотря на материны уговоры, не продал, а решил сам стать автомобилистом. Через неделю после того, как папа с приятелями обмыли права, машина вылетела в кювет, оставив мальчика круглым сиротой. Вся эта история, начавшаяся как большая удача и обернувшаяся трагедией, долгое время казалась издевательской ухмылкой судьбы, преследующей его всю жизнь.
Бабка с дедом с материнской стороны забрали мальчика к себе не без боя – отцовские родичи тоже хотели взять заботу о внуке на себя, но жили в Петрозаводске, и дед с легкостью их убедил, что парню следует воспитываться и получать образование в городе на Неве, а не в провинции мошкару собой кормить. Дед был прорабом – застраивал новьем снесенные деревни вокруг Питера и часто приносил домой найденные в земле старинные монетки. Мальчик рассматривал их с любопытством первооткрывателя: медные копейки, серебряные «чешуйки» и советские полтинники 20-х годов с кующим светлое будущее рабочим. Так, ближе к подростковой поре, у деда появился план, как отстрастить его, безотцовщину, от дворовых неприятностей. Парню нужно было хобби, и дед попросту заразил его своей болезнью – кладоискательством. Каждые выходные под бабкино ворчание они пускались на поиски сокровищ: летом – в турне по деревням Ленобласти, в межсезонье и зимой – исследовать старые чердаки.
К каждому мероприятию внук должен был подготовиться: узнать судьбу дома, который они собирались «навестить». Кто жил, когда. Предпочтение отдавалось, понятное дело, состоятельным семьям, бывшим обитателям «старого фонда». И пусть мальчик с дедом пробирались туда далеко не первыми, но находок было не счесть: тусклые самовары, побитая посуда, семейные альбомы с объеденными крысами уголками; пожелтевшие документы с «ятями»; книги с золотым обрезом и картинками, прикрытыми полупрозрачной восковой бумагой… Мальчик обожал такие походы, ждал их, всю неделю читал «по теме» и даже записался в исторический кружок при Дворце пионеров. Набрав «рухляди» – как называла это бабка, – они терпеливо ждали наступления темноты, чтобы вынести свои находки незамеченными. А разбирали, мыли и изучали их уже дома. Зимой – несмотря на бабкины вопли – прямо в комнате мальчика. Летом – в дедовом гараже. По ходу дед рассказывал ему, что вычитал о той или иной эпохе. Бывало, что найти ничего не удавалось, и тогда дед с ухмылкой говорил: что ж, НКВД постарался. Были, говорил он, люди в спецотделе, которые, кроме как поиском кладов, ничем и не занимались. Прежде нас прошлись… И все же, все же – мальчик никогда не забудет найденный им самим золотой портсигар и серебряную пудреницу в мелких камушках. Дед забрал их и отнес знакомому барыге, купив на вырученные деньги пару настоящих «левайсов» и новенький японский кассетник. Впрочем, как ни рад был мальчик подаркам, портсигара с гравировкой Ad vitam aut culpam – «На всю жизнь или до первой вины» («Видно, барышня какая ревнивая подарила», – прокомментировал дед) было все равно жаль.
Вот так и вышло, что к поступлению в вуз жребий был уже брошен и накоплены знания в самых неожиданных исторических закоулках, – и он отправился на факультет истории пединститута. Мальчика, столь редкую птицу в том девическом вузе, приняли безоговорочно. Учился он средне, романов не крутил, хоть выбор был огромен, а все свободное время посвящал тому же – поиску. Только теперь у него был доступ в научные библиотеки и архивы, а у деда, как раз вышедшего на пенсию, – уйма нерастраченной энергии. Квартира их беспрестанно пополнялась красивыми вещами, которые они хранили некоторое время, прежде чем отнести к «барахольщикам», как их называл дед.
Однако с приходом 90-х «работать» в городе становилось все сложней. Чердаки выкупались и преображались в мансарды, подвалы ремонтировались, и в них окапывались мелкие конторы. Внук с дедом частенько отправлялись в «походы» по селам и весям, и все чаще он на деда раздражался: слишком медленно тот шел, слишком быстро уставал. Но все равно у них бывали удачные дни, когда получалось откопать под домом кубышку с монетами (счастливого деда пришлось отпаивать корвалолом… А бабке с находки поставили новую челюсть). Он потихоньку умудрился собрать у себя неплохую коллекцию холодного оружия: кортики, кинжалы, шпаги, палаши… Правда, и ее пришлось распродать «на лекарства», когда дед сначала занедужил, а потом слег, как-то мгновенно усох и еще месяцем позже помер. Сделав на остаток денег, вырученных за оружие, ремонт в их с бабкой квартире, он официально устроился работать на полставки учителем в районной, ничем не примечательной школе. И, тихо ненавидя свою профессию, продолжал посвящать все свободное время истинной страсти – кладоискательству.
Однако со смертью деда удача, казалось, от него отвернулась. Кубышки, найденные в поле, оказывались уже разбитыми, а монеты растасканы мелкими грызунами; во время отпуска, что он решил провести за раскопками украинских курганов, на него наехало местное казачество и, избив, заказало «москалю» путь назад. Случилась и совсем страшная история в старом склепе, куда он сунулся уже с отчаяния и где повстречал настоящее привидение – голую бабу в длинных волосах. А вылезши поседевшим от ужаса, поклялся себе больше по могилам не шастать.
Тем временем Интернет полнился волшебными историями о чудесных находках: «рыбаки» обнаруживали на речном дне, вблизи старых мельниц, кожаные мешочки, полные николаевского золота; «кладбищенские» рассказывали о мумифицированных трупах в золотых браслетах и серьгах с каменьями; «чердачники» откапывали под слоем хлама коллекцию античных монет времен Александра Македонского… Но все это доставалось не ему! Не ему! И он тихо сходил с ума, сидел как приклеенный перед экраном компьютера и, читая хвастливые истории тех счастливчиков, худел и мучился желудком.
И вот тогда бабка решила взять дело в свои руки…
Маша
Аэропорт Завентем был тих и пустынен в это позднее время суток – ничего общего с Шарлем де Голлем или Кеннеди, где в любой час по терминалам бегали толпы туристов. Брюссель так и не стал настоящей столицей, хоть и приютил у себя Европейский парламент. Да и вся Бельгия, небольшой по российским меркам кусок земли, зажатый между Германией, Францией, Голландией и Северным морем, казалось, еще не определилась с гражданством. Половина ее жителей мечтала присоединиться к Франции и отличалась поистине средиземноморским разгильдяйством. А другая половина – Фландрия – ощущала себя частью Голландии и ей же культурно принадлежала: и языком, и старинными городами Брюгге, Антверпеном и Гентом. И, что самое главное, трудолюбием и флегматичным темпераментом. Пометавшись от Габсбургов к Франции времен Французской революции, Бельгия была создана лишь в XIX веке – смешной срок для государства. Очевидно, подумала Маша, стоя в короткой очереди к такси, потому здесь и решил обосноваться Европейский парламент. На этой территории, лишенной сильного национального колорита, иным странам – с древней историей и ярким самосознанием – легче договориться между собой.
Таксист-марокканец, услышав адрес отеля, подмигнул Маше маслянистым карим глазом, мол, знаю, и минут за двадцать домчал до центра города – площади Гранд Саблон. Гостиница, которую Маша зарезервировала через Интернет, находилась в самом начале узенькой улочки, отходящей от площади, и оказалась зажата между баром и галереей современного искусства. Оба заведения ввиду позднего времени были уже закрыты. Свет горел только за стойкой отеля, где сидел и читал седой мужчина средних лет. Заметив такси, он отложил книжку и вышел встречать припозднившуюся постоялицу. Таксист играючи вынул Машин чемоданчик из багажника, вспыхнул на прощание белозубым оскалом и, дав задний ход (на улочке было не развернуться), исчез в прохладной мартовской ночи. А служащий отеля – Седрик, представился он, – забрал Машин багаж и проводил ее на последний, третий этаж по узкой винтовой лестнице («Лифт не работает, мадам, но техник обещал прийти завтра»).
Комната оказалась под скатом крыши, с выступающими из потолка темными от времени балками. Беленые стены, льняные темно-синие занавески… Маша кивнула Седрику, дала чаевые и уже собралась закрыть за ним дверь, когда он вдруг замер на верхней ступеньке и с виноватым лицом обернулся:
– Совсем забыл, мадам. На ваше имя пришел конверт.
– Конверт? – переспросила Маша, не будучи уверенной, что правильно его поняла. – От кого?
– Обратного адреса нет. Но почта срочная. Сейчас принесу.
Маша успела вынуть зубную щетку и разложить по полкам встроенного шкафа пару свитеров и джинсов с футболками (неизменную базу своего гардероба), когда он вернулся и передал ей темно-коричневый конверт размером чуть больше обычного письма. Обратного адреса действительно не было. Но почтовая печать не оставляла сомнений: письмо прилетело из Москвы.
Маша вскрыла пакет и заглянула внутрь: вначале ей показалось, что в конверте с воздушно-пузырчатой пленкой внутри ничего нет. Она перевернула его и потрясла. И тут на прикроватный коврик упал маленький черный предмет – флешка. Маша подняла ее, на всякий случай еще раз пошарила рукой внутри конверта – пусто. Никакой объяснительной записки. Никакой подписи. Нахмурясь, Маша повертела в руках флешку. Надо узнать, что на ней. Причем желательно сейчас же. Иначе она не сможет заснуть остаток ночи. И, вздохнув, Маша вновь спустилась вниз.
Седрик сидел на своем месте все с той же тяжелой книжкой («История Фландрии» – мельком прочла Маша) и с удивлением поднял на нее глаза. Маше стало неудобно.
– Интересная? – кивнула она на книжку.
– Не очень, – признался Седрик. – Один из постояльцев оставил в номере. Я часто читаю оставленные книги. Практикую английский. Вы что-то хотели?
Маша кивнула:
– Мне нужен компьютер.
– И Интернет?
– Еще не знаю, – призналась Маша.
– Хорошо. – Седрик встал. – У нас тут есть бизнес-центр. – Он открыл дверь прямо за ресепшен.
«Бизнес-центр» оказался маленькой комнаткой с тремя допотопными компьютерами и одним принтером.
– С вас пять евро за час. – Он включил компьютер, быстро ввел пароль доступа и вышел, тактично прикрыв за собой дверь.
Маша же дрожащими от нетерпения руками вставила флешку и стала ждать, пока ее содержимое – двадцать файлов – загрузится. Файлы оказались картинками. И тяжелыми. Видимо, высокого разрешения. Она тронула мышью первую из них и кликнула. На экране медленно, сверху вниз, раскрылась первая фотография. Маша сглотнула – она уже видела это изображение. И следующее видела, и то, что за ним…
– Можно я воспользуюсь вашим принтером? – крикнула она на ресепшен Седрику и, не дожидаясь ответа, поставила документы на печать.
«Но как?! – стучала у нее в голове мысль. – Как это возможно?!»
Андрей
Когда он приехал в «Метрополь», бутербродов с икрой уже не осталось. Но труп для него сохранили – черный, страшный, обгоревший до неузнаваемости. Кроме того номера, который послужил «местом преступления», выгорело еще несколько – к счастью, никто больше не пострадал. Андрей кивнул, разрешая унести тело, привычно достал протокол и приготовился записывать. Впрочем, информации оказалось – кот наплакал. Клиент не просто заснул с сигаретой – это был явный поджог, и поджог профессиональный. Все же в отеле такого уровня с пожарной безопасностью было очень неплохо, однако смесь, в большом количестве принесенная убийцей, оказалась крайне горючей, а сигнализацию и распылители вывели из строя мастерской рукой. Пожарные уже обнаружили несколько очагов возгорания, на обугленных стенах лежал слой сажи. Пахло жареным мясом.
По словам администрации, в номере проживал некий Ван дер Пютен, голландский математик и шахматист, приехавший на проходящий в это время в Москве средней руки шахматный турнир. Приехал совсем недавно, всего пару дней назад. Завтракал в отеле, обедал и ужинал в городе. Возвращался навеселе, но еще вполне пристойно держась на ногах. На чаевые, как и все голландцы, был не щедр. Мальчик-портье – чуть раскосый, тщедушного сложения, от чего униформа отеля на нем скорее висела, – сообщил Андрею под большим секретом, что голландец в день приезда имел расширенные зрачки.
– Нос, ну, то есть ноздри, покрасневший, и губы облизывал, – возбужденно расписывал пацан. – Как пить дать кокаинит!
Андрей записал «раздраженные слизистые» и вздохнул: кокаинист. Наркотики. Иностранец. Тьфу! Просто-таки весенний букет приятностей. А самое неприятное, что еще и нет никакой уверенности, Ван ли это дер Пютен или кто другой, трагически сожженный в его номере.
– С родственниками связались? – устало спросил он у Камышова.
Тот довольно кивнул: помогла хорошенькая блондинка-администратор. Голландец был из Гааги. Тамошняя полиция нашла адрес, супругу. Женщину уже попросили найти зубную карту мужа. Должны выслать прямо на Петровку: Камышов дал им мейл Андрея.
– Ишь как! А самому слабо?
– Я по-английски плохо, – насупился Камышов.
– Ничего не знаю, – отрезал Андрей. – Выясни номер жены, дозвонись – в лучшем случае ее муж пропал. В худшем – он и есть труп. В любом из вариантов надо узнавать, каким ветром голландца занесло в Россию, преследовал ли он какие другие цели, кроме как сыграть в шахматишки, не вел ли себя «нетипично» в последнее время…
– Я вызову переводчика, – буркнул Камышов.
Андрей кивнул:
– Вызывай. И к вечеру подготовь отчет.
– А сам куда?
– Съезжу на турнир – может, оттуда ноги растут? – Он повернулся к выходу и кинул уже на ходу: – Кстати, мог бы оставить мне парочку бутербродов, эгоистичная ты свинья!
И вышел из гостиницы, не слушая жалких камышовских оправданий.
На турнир он, впрочем, так и не попал: стоял за закрытыми дверьми и смотрел в конференц-зал «Кемпински», где за многочисленными столами сидели парами, склонившись над шахматными досками, игроки. В основном лысеющие мужчины. Впрочем, имелось и несколько дам. Сбоку на стульях, напротив каждого из поперечных рядов с шахматистами, располагались, как понял Андрей, независимые наблюдатели. Одного из них он, усмехнувшись, засек за задумчивым ковырянием в носу.
Пользуясь временем, оставшимся до конца партии, Андрей прошел к администратору турнира – мужчине, похожему на мелкого грызуна, в круглых очочках, с зачесанными назад прилизанными волосами. Представившись и показав ксиву (администратор нервно вскинулся и часто закивал: окажем, мол, всевозможное содействие), попросил список участников. В «Метрополь» Ван дер Пютен заселился один, но, возможно, у него были знакомцы среди играющих. После они с Камышовым пройдут по ним частым гребнем, но сейчас Андрей искал возможного приятеля, способного пролить свет на всю эту историю со внезапным сожжением представителя столь мирной профессии.
«Алоис Вейерен, Амстердам», – прочел он и удовлетворенно кивнул. А вот, похоже, и его человек.
– Вы не могли бы оказать следствию посильную помощь? – вкрадчиво спросил он парня с зачесом. – Перевести пару вопросов?
Администратор вновь испуганно кивнул. Через десять минут шахматисты группками и по одному начали выходить из зала. Андрей внимательно присматривался к бейджикам с именами. И наконец увидел Алоиса – высокого нескладного блондина в коротковатом для него костюме. Андрей представился, и Алоис, близоруко сощурившись на капитана, осторожно протянул ему длиннопалую сухую ладонь.
– Вы, случайно, не знакомы с вашим соотечественником, господином Ван дер Пютеном? – рванул с места в карьер Андрей, и администратор залопотал, переводя с ярко выраженным американским акцентом, явно заимствованным из штатовских сериалов.
Вейерен молча кивнул и настороженно уставился на Андрея.
– Когда вы видели господина дер Пютена в последний раз?
– Вчера. На турнире. А что случилось?
– Мы еще не знаем, – уклончиво ответил Андрей. – Но ищем. Не в курсе, у него имелись друзья или, может, знакомые в Москве?
Алоис пожал плечами:
– Насколько я знаю, нет. Мы с ним вместе состоим в шахматном и историческом клубах. Общаемся на турнирах и в Сети. Но близко я с ним не знаком. Вам лучше спросить у жены.
– Спросим, – кивнул Андрей. – А в Москве вы общались?
– Да. Как приехали. Я снял более скромный отель, подальше от центра, – смущенно пояснил Вейерен. – Мы встретились тем же вечером и пошли есть щи и пельмени в русский ресторан. (Вейерен произнес это как «счи» и «пильмэни».)
– Выпили? – сощурился Андрей.
– Да, – признался голландец и чуть покраснел. – Я – больше. Петер много пить не мог – он простудился, подхватил вирус в самолете, принял лекарства.
«Значит, вирус, а не кокаин, – усмехнулся про себя Андрей. – Уже хорошо. А мальчик посыльный, похоже, начитался дешевых боевиков в мягких обложках. Там сейчас кокаин – главный спутник разнообразных пороков».
– Вы, случайно, не в курсе, у господина Ван дер Пютена были какие-то связи с Россией? Может быть, профессиональные?
Голландец выслушал перевод и на несколько секунд задумался.
– Нет, – сказал он наконец. – Мы говорили в самолете: Петер первый раз летел в Москву, даже не знал, что в Россию нужны визы, чуть не опоздал с оформлением. Рисковал не приехать.
– Ясно. – Андрей кивнул, порылся в кармане и достал помятую визитку. – Вот. Если что-то вспомните, позвоните.
Голландец, сощурившись, растерянно уставился на кириллицу. Андрей вздохнул, вынул из кармашка администратора ручку и размашисто приписал: Andrey Yakovlev. Голландец облегченно улыбнулся, показав редкие, длинноватые, как у кролика, зубы, и аккуратно спрятал карточку в еженедельник, который держал в руках. Они вновь пожали друг другу руки, кратко, как после шахматного спарринга, и – разошлись. После чего Андрей решил чуть-чуть пройтись и чуть-чуть подумать.
Погода стояла для марта отличная, просто волшебная стояла погода. И думать не хотелось. А хотелось сесть в сквере на лавочку, бессмысленно потаращиться в высокое голубое небо и покурить. Он вздохнул и почувствовал вибрацию мобильника в кармане куртки. Взглянул на экран – Камышов. Лейтенант подтвердил, что копии зубных карт Ван дер Пютена пришли и были прямиком отправлены патологоанатому Паше, а сам он через переводчика не меньше получаса терзал по телефону потерянную молодую жену шахматиста на тему возможных связей последнего в России, в том числе любовных. Жена дрожащим голосом уверяла, что никаких отношений, ни деловых, ни дружественных, ни, боже упаси, интимных с Российской Федерацией у голландца не было. Но даже лучшей из жен свойственно ошибаться, мало ли? На этой вопросительной ноте они завершили беседу, и Андрей решил, что все-таки посидит, как собирался, в скверике: что он, обеда не заслужил? И, купив себе в забегаловке на Тверской пару сэндвичей, он дошел до Патриарших и сделал как собирался: сел на лавочку, вытянул ноги и даже покидал крошек уткам – лебеди его игнорировали. «Что же, – думал он, пытаясь бросить угощение в самую птичью гущу, – мог такого наделать вполне невинный на первый взгляд голландский шахматист (если это, конечно, был именно он, а не какой-нибудь еще не известный следствию труп), чтобы заслужить такую мучительную смерть?» Он вытащил из внутреннего кармана копию паспорта иностранца – даже в мини-формате паспортного фото лицо казалось скучным до зевоты: вытянутое, высоколобое, нос крупной дулей. «Что ты мог натворить, а? – вопрошал его Андрей, запивая колой сэндвич. – Не было у тебя русской любовницы – иначе вряд ли бы ты пошел ужинать с приятелем в первый же вечер. Да и, судя по твоей честной физии, у тебя даже интернетной какой связи и то не имелось. У тебя были шахматы и какой-то исторический кружок». В кармане вновь ожил мобильный – звонили из лаборатории.
– Андрюха, с-с-слышь, – начал, не здороваясь, криминалист Юра Попов. Он заикался, но говорил хоть и с дефектом, зато всегда по делу и кратко. – Тут результаты анализа есть. По поводу шахматиста твоего. Сказали, надо с-с-срочно – иностранец.
– О! Отлично! – порадовался Андрей внезапной оперативности коллег.
– П-п-получилось быстрее, чем ожидали. И з-з-знаешь, п-почему?
– Нет… – насторожился Андрей.
– А у нас есть уже аналогичное заключение. П-п-помнишь антиквара?
– Ну. – Андрей замер, занеся руку с последними крошками.
– В-в-вот. Состав запала для п-п-поджога и горючая субстанция одна и т-т-та же. Так что, м-м-может, это – один чувак, п-п-понимаешь?
– Ага, – только и смог сказать Андрей.
– Н-н-ну, давай, пока. Не г-г-грузись! – ободрил его, прощаясь, Юра. – У т-т-тебя, выходит, один п-п-плохиш вместо двух. Хорошо, н-н-нет?
Маша
Маша проснулась рано, за окном стоял предрассветный сумрак, но в нем уже проступали слой за слоем хребты покатых черепичных крыш, а чуть дальше, на фоне светлеющего неба, выглядывал темный шпиль какой-то церкви. Она скосила глаза на беленую стену, которую украсила вчера распечатанными страницами. Рисунок на них казался серым, но Маша помнила: он синий, кобальтовый. На прежде белой, а теперь чуть потемневшей от времени, в мелких трещинках фаянсовой основе. Дети. Катящие серсо, бегущие с удочками, стреляющие из лука, пускающие юлу…
Маша, по-девчачьи сложив ладони под щеку, переводила глаза с одной картинки на другую. Занятно, как мало изменений произошло в детских играх за четыреста лет. Вот, к примеру, двое мальчишек кладут палочку на доску, лежащую на камне. Сейчас один из них с силой ударит по своему концу доски, а второй убежит поднимать палочку… О чем-то подобном ей рассказывала бабка, ностальгируя по детским довоенным дворовым играм, – эта забава среди ребятишек, живших в коммуналках на Лиговке, на месте бывших доходных домов, называлась «Двенадцать палочек». Еще были лапта и чижик. И ножички. В них, бывало, даже Маша играла с дачной компанией. Вчера, обнаружив фотографии на флешке из анонимного конверта, она долго не могла заснуть. «Откуда?!» – мучила ее мысль. Ведь ей достались только совсем мелкие картинки, где едва ли возможно было разглядеть детали. Антиквар обещал помочь, но погиб. Тогда – кто?! Кто еще мог достать эти фото?! Тот, кто украл изразцы? Или тот, кто убил Гребнева? И наконец, кому, кроме разве что Андрея и ее работодателя, было известно, в какой отель она направится?! Впрочем, подумала Маша, взломать ее электронную почту не составило бы никакого труда. Пароли она выбирала всегда самые элементарные и не подозревала, что кому-то может быть интересно прочесть ее мейлы. Положим, фотографии сделал тот, кто украл изразцы, размышляла Маша. Но зачем посылать их ей? Что это, издевка? Очередная загадка? Вчера в ночи она позвонила в московскую службу почтового перевозчика, что доставил ей крафтовый конверт. Ей удалось узнать, что отправка была сделана непосредственно в одном из центральных отделений, оплата произведена наличными… Концов не сыскать.
Маша обняла руками подушку и попыталась закрыть глаза, чтобы через минуту снова поймать себя на том, что вглядывается во все более прибывающем утреннем свете в подробности сюжета. Вокруг центральной темы – играющих детишек – поднимался городской пейзаж той поры: дома, кусочек церкви, улочки. Маша вздохнула: нет, спать не получится! Рывком выдернула себя из теплой постели и отправилась в душ. Выйдя из ванной, она быстро натянула невыразительные джинсы с футболкой и – не выдержала, нашла смс от клиента, которое тот сподобился ей выслать только вчера, по прибытии в Брюссель, набрала прямо из номера телефон дер Страата – антиквара, продавшего изразцы Гребневу. «Добрый день! Я на выставке в Намюре. Галерея будет закрыта до двадцатого марта. Будьте добры оставить сообщение». Маше пришлось прослушать сообщение на всех трех языках – английском, французском и даже на незнакомом ей фламандском, чтобы понять: ни сегодня, ни завтра увидеть антиквара не удастся. Она взглянула на число на экране мобильника – до двадцатого еще четыре дня. Настроение испортилось. Даже если она отыщет дер Страата на выставке, поговорить по-человечески у них не получится. Выставка для профессионала – момент стахановского труда. Нарабатывание контактов и активных продаж. Придется подождать до двадцатого. И подумать, чем занять себя до возвращения антиквара. Она вздохнула и, засунув мобильник в карман джинсов, спустилась к завтраку.
Завтрак в отеле сервировался на террасе, в застекленном садике, примыкавшем к зданию с заднего двора. Обслуживали немногочисленных постояльцев (французскую пару и английского, судя по выговору, бизнесмена) вчерашний Седрик и незнакомый молодой официант. Маша сдуру попросила капучино и сейчас с грустью смотрела на кофе со взбитыми сливками, который ей принесли вместо божественного италийского нектара. «А нечего было выпендриваться, – сказала себе Маша. – Чай, не в Италии». Молодой официант тем временем выпытал у Маши, откуда она будет, и поделился прогнозом погоды на ближайшие дни – здесь, в Бельгийском королевстве, как и в королевстве английском, хорошая погода была редкостью и потому подробно обсуждалась за завтраком. Маша узнала, что ей повезло – сегодня не будет дождя, поэтому он советует ей прогуляться по городу. А завтра… Завтра все будет как обычно. И завтра мадемуазель лучше оказаться под крышей музея Магритта, к примеру, это здесь, за углом. Маша согласно кивнула – Магритт так Магритт. И спросила, что он ей порекомендует для туристической прогулки. Официант улыбнулся еще шире.
– Есть «нижний город», – пояснил он. – Место официального выгула туристических табунов и дешевых едален. Там же – неясно, чем столь привлекательный для приезжих «Писающий мальчик» (тут он скривился) и Гран-плас – одна из самых красивых площадей в Европе. Но он лично любит именно этот квартал – Саблон. Здесь жил Брейгель, здесь стоит прекраснейшая из церквей пламенеющей готики – брюссельский Нотр-Дам. Раньше на площади был конный рынок, а теперь по субботам – сборище мелких антикваров и букинистов. Пытаясь привлечь жителей столицы и туристов, они раскладывают свой товар утром, а вечером прячут нераспроданное добро и тенты в багажник машины и идут выпить пива с коллегами в один из многочисленных баров по соседству. Настоящие же «профи» в антикварном мире владеют магазинами на улочках, ведущих к площади. Для любителя старины этот квартал – непременный источник вдохновения: достаточно прогуляться мимо витрин, чтобы увидеть выставленные вещи, часто достойные лучших музеев мира. Но в отличие от музеев их можно потрогать и прицениться. Маша кивнула: она слышала о Саблоне и о сокровищах, которые здесь может найти охочий до старины турист. Не в последнюю очередь потому, что сюда со всей Европы стекались ценности, официально считающиеся утерянными или украденными. Антиквары продают их из-под полы, а затем сокровища оседают в закрытых частных коллекциях… Впрочем, беседа была Машей аккуратно срежиссирована, чтобы подойти к главному вопросу. Маша улыбнулась как можно обаятельней: все это ужасно интересно! А не знаком ли он с кем-нибудь из антикваров, специализирующихся на изразцах? Официант пожал плечами: специалистов надо бы искать в Дельфте, изразцы – это их «конек», но он знает одного и в Саблоне. Сейчас…
Юноша вышел и вернулся с туристической картой и карандашом.
– Это совсем рядом. Как выйдете из отеля, первая улочка направо. Третий дом по той же стороне. – Он поставил карандашом на карте жирный крест. Маша поблагодарила и быстро допила остывший кофе. Ей уже не терпелось взяться за дело.
«Лоертс Гэллери» – Маша сверилась по карте – занимала два узеньких, в одно окно шириной, типичных для исторического центра дома. Витрин было также две, и выбор предметов весьма эклектичен. Мебель, потемневшие картины и прямо на бюро эпохи Регентства выложенные изразцы – пейзажи. Мельницы и холмы, море и кораблики. Маша решительно толкнула выкрашенную черной краской дверь, тихо звякнул в глубине колокольчик. Внутри магазина пахло табаком и пылью. Навстречу ей из подсобного помещения вышел пожилой полный мужчина в сопровождении неясной породы лохматой собачки с седеющей мордой.
– Чем могу быть полезен? – Он стряхнул с несвежей рубашки сигаретный пепел.
– Ваши изразцы… – начала Маша. – На витрине. Можно на них взглянуть?
Мужчина кивнул, не без труда пролез в витрину, собрал изразцы и разложил их перед Машей уже на прилавке. Она аккуратно взяла один из них в руку – он был сантиметра два в толщину, с неровными отбитыми краями. Глазурь немного потрескалась, но в формат плитки – идеальный квадрат – идеально же вписывался пейзаж. Ничего особенного: деревце рядом с домиком с покатой крышей, вездесущая мельница, водная гладь, обозначенная одним широким мазком кисти, и два парусника на горизонте. На каждом из углов – орнамент. Что-то вроде простейшего цветка с четырьмя лепестками. Маша перевернула плитку – на оборотной стороне, серой и шершавой на ощупь, был приклеен ценник в сто евро и обозначен год – 1680. Маша достала кошелек, вынула кредитку, но пожилой антиквар покачал головой. Он предпочел бы наличные. И готов снизить цену до девяноста. Маша улыбнулась, вынула две купюры по пятьдесят – ей не нужна скидка. Антиквар непонимающе нахмурился: не нужна скидка? Но никак не прокомментировал ее странный поступок. Аккуратно завернул изразец в несколько слоев газетной бумаги и передал Маше.
– Можно еще один вопрос? – Она бережно убрала изразец во внутренний карман сумки.
Лицо антиквара разгладилось, он понял: за десять евро клиентка хотела попросить совета. Что ж…
– Мне необходимо ваше мнение по поводу нескольких дельфтских изразцов XVI века… – сказала Маша.
– Хотите их продать? – поднял седую бровь антиквар.
– Нет, я хотела бы узнать, есть ли в них что-нибудь особенное… – Она смущенно улыбнулась, сама понимая, как нелепо звучит ее вопрос.
Мужчина усмехнулся в ответ, кивнул:
– Покажите ваши изразцы. Может, что и скажу.
– У меня с собой только фотографии, – стала оправдываться Маша, вновь залезая в сумку, куда сложила распечатанные листы.
Антиквар взял их, разложил на прилавке, с любопытством переводя взгляд с одного на другой, а потом поднял глаза на Машу и пожал плечами.
– Типичный сюжет. Я много таких нахожу, когда сносят старые дома или просто ломают камин. Ничего особенного. Подобные им можно найти евро за сто – сто пятьдесят за штуку. Век действительно XVI. Единственное… – Он помолчал, а Маша затаила дыхание. – С точки зрения эстетики той поры тут слишком много сюжетов.
– Что вы имеете в виду? – нахмурилась Маша.
– Сейчас объясню. – Он наклонился, чтобы выдвинуть ящик, и достал еще два изразца. На одном по центру гарцевал некто, по Машиным понятиям, похожий на мушкетера. На другом пускала фонтан в небо рыба-кит.
– Видите? – спросил антиквар Машу, но она только пожала плечами: нет. Он вздохнул: – Голландские изразцы имеют множество более или менее канонических тем, некоторые типичны для своей эпохи. Животные, морские и земные, птицы, цветы, корабли… Пейзажи, оживленные или нет человеческим присутствием, обычно пастухом или рыбаком. Персонажи крупным планом: пехотинцы и всадники, водовозы, пьяницы и горбуны. Наконец, играющие дети. Но всегда центральная тема одна. А здесь у вас – посмотрите!
Маша вновь вгляделась в изразцы. Она поняла, что имеет в виду антиквар: пейзаж вокруг детей казался столь же существенным, как и дети. По сравнению с плиткой, выложенной на прилавке, изображение казалось избыточным.
– Слишком много деталей, – будто прочел ее мысли антиквар. – Глаз разбегается.
Маша кивнула.
– И еще. – Антиквар приблизил к глазам один из листков. – В углу виньетка. Так называемый угловой мотив, видите? Есть несколько самых распространенных его вариаций: «голова быка» с двумя будто бы рогами. – И он ткнул пальцем в изразец с мушкетером. – Или вот. – Он показал на плитку с китом, – «головка паука» с тонкими усиками, или цветок лилии. Но в случае ваших изразцов…
– Похоже скорее на герб, нет?
Андрей
Копия зубной карты, присланная по мейлу, подтвердила, что в комнате «Метрополя» погиб-таки шахматист. Еще пару часов назад Андрей вышел из морга, где Паша обрадовал его другой новостью, касаемой Гребнева Ивана Николаевича, антиквара. Ивана Николаевича пытали. Ногти были выдернуты, и руки – Паша кивнул на кисть руки трупа – обожжены намного больше, чем все остальное тело. Да так прицельно! Неизвестно, что такого знал Гребнев, из-за чего его имело смысл пытать. Неизвестно также, рассказал ли он то, что знал, чем и заслужил свою относительно безболезненную (по сравнению со смертью в огне) кончину. Но подобного рода вопросы были банальностью, как и смерть людей с официально невинными профессиями – антикваров и шахматистов. Любопытно было другое: оба, с перерывом в пару дней, погибли в огне. И что там сказал Юра про один тип горючего вещества?
– П-п-погляди в заключении, – буркнул криминалист, когда Андрей до него дозвонился уже из кабинета на Петровке.
– В заключении я уже смотрел, – парировал Андрей. – Но ты говорил про почерк. Ты что имел в виду?
– Твое ГВ, г-горючее вещество, весьма з-з-заковыристо и сделано явно специалистом. Шансов, что два человека сподобились на одинаковый рецепт, немного. Вот у меня тут под боком коллега говорит: готовил спец. П-п-профи.
– Ясно, – сказал Андрей, хотя ему было ничего не ясно. На том конце трубки он услышал чью-то неразборчивую речь.
Юра «перевел»:
– Вот Олежка г-г-говорит, что это человек, п-п-привыкший обращаться с огнем. Может быть, химик. Или п-п-пироман со стажем.
– Этот твой Олежка, он что, спец по пироманам?
– Он-то? Да нет. Но если хочешь, свяжу тебя с одним. Из завязавших, – усмехнулся Юра. – Инженер-электрик. Г-г-гоша такой. Консультирует нас при необходимости.
– Было б неплохо. Поделишься телефончиком?
– Сейчас, – в трубке что-то зашуршало, и Юра продиктовал номер мобильника.
Андрей поблагодарил и, не откладывая дело в долгий ящик, перезвонил неизвестному Гоше. И услышал тихий, крайне интеллигентный голос:
– Я слушаю.
Поздоровавшись и представившись, Андрей не стал ходить вокруг да около.
– Гоша, вы пиво пьете? Например, сегодня?
Они встретились в полуподвальной пивной недалеко от Пушкинской площади. Андрей сразу его узнал по описанию – до вечера они успели обменяться парой мейлов (Андрей выслал инженеру все уже имеющиеся данные по анонимному поджигателю). Гоша, в растянутом темном свитере, тщедушный, лысеющий, тяжелые очки на крупном носу картошкой, сидел в самом дальнем углу и потягивал пиво. Блюдечко с орешками, стоящее перед ним, было уже пустым. Андрей опустился рядом, пожал протянутую безвольную ладонь и заказал девушке в баварском костюмчике пиво и гуляш.
– Может, поужинаешь? – предложил он Гоше.
Но тот покачал головой:
– Меня дома мама ждет.
Андрей кивнул, присмотрелся: да, парень вполне тянул на маменькиного сынка. Сколько ему лет? Тридцать? Тридцать пять? Впрочем, какая разница?
– Спасибо, что согласился со мной так быстро встретиться… – начал Андрей.
Гоша неопределенно мотнул головой – мол, не за что.
– Юра мне сказал, что ты – спец по пироманам? Консультируешь наших криминалистов?
Тот осторожно кивнул:
– Так получилось.
– Сам баловался по молодости лет? – подмигнул Андрей.
Гоша посмотрел в сторону, ничего не ответил.
– Извини. – Андрей почувствовал себя неуютно.
Инженер-электрик снова перевел на него глаза, попытался улыбнуться:
– Да ничего. Развлекался, когда был подростком. Мама и отец у меня учителя. Строгие. Когда я что-то делал неправильно, не ругали – считали непедагогичным, а объясняли, почему я поступил именно так, то есть плохо. – Он усмехнулся, отпил из кружки. Тут как раз подоспела официантка с Андреевым пивом. Андрей чокнулся со странным Гошей, глотнул – тяжелый день начал отпускать его.
– И что?
– А то, что сложно жить в мире, где все расставлено по полочкам. Я потом читал одну статью на эту тему. – Гоша спрятал глаза, и Андрей понял, что статья была вовсе не одна. – Там говорилось, что детям и подросткам надо выплескивать свои эмоции. И если этого не делать нормальным способом, то…
– То они начинают поджигать?
– Да, – кивнул Гоша. – Огонь – это сила. И притом малоуправляемая. Огня все боятся. В детстве кажется, что часть этой силы переходит в тебя, понимаете?
– Понимаю, – медленно сказал Андрей, вглядываясь в своего собеседника. Лицо Гоши оживилось, глаза заблестели. И дело тут было явно не в пиве. Он просто говорил на свою любимую тему. Андрей догадался, почему Гоша так быстро согласился с ним встретиться.
– И не только в детстве… – продолжал возбужденно его собеседник. – Ведь что получается? Поджог – это самый простой способ продемонстрировать свою мощь, внушить страх. Уволили с работы? Подожги предприятие, чтобы отомстить начальству. Но тут не только месть.
– Нет?
Гоша покачал головой:
– Ученые говорят, что пиромания – это лишь часть диагноза, вроде шизофрении. Что пироманы испытывают кайф, когда смотрят на огонь. Или облегчение, как после сексуального акта. Но я думаю, дело тут совсем в другом. – И он впервые с вызовом поднял на собеседника глаза, едва различимые за стеклами с сильными диоптриями.
Андрей с удовлетворением заметил, что инженер почти прикончил свое пиво и сделал знак официантке повторить. Парень, очевидно, не был записным выпивохой, а раз так, сейчас разговорится еще пуще.
– И в чем же? – задал он ожидаемый вопрос.
– Вот скажите, а вы сами никогда не играли со спичками? – ответил Гоша вопросом на вопрос.
– Было дело, – согласился Андрей.
– И костер разжигали, и обожали смотреть на огонь свечи, когда дома отключали электричество, верно?
– Верно. – Андрей улыбнулся и ненавязчиво пододвинул собеседнику вторую литровую кружку с пивом.
– Никогда не задумывались почему?
– Да как-то не приходилось.
– А мне приходилось, – с нажимом заявил Гоша. – И я уверен, это в нас еще с доисторических времен. Когда огонь был равен жизни и смерти, приносил тепло, обрабатывал еду, но и убивал в пожарах. Огонь – это волшебство. Одно из немногих, которые мы можем наблюдать в каждодневной жизни. Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого, и малого? – Гоша вынул из кармана зажигалку, щелкнул и оставил гореть язычок пламени. Андрей поймал себя на том, что с трудом может отвести от него взгляд.
А инженер продолжил:
– Огонь – это вечное движение. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая, в течение всей нашей жизни. И все же что такое огонь? Тайна. Загадка! Ученые что-то лепечут о трении и молекулах, но, в сущности, они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной, в печку ее!
Гоша потушил огонек зажигалки, улыбнулся одними губами, и Андрей будто очнулся:
– Красиво сказано!
– Увы, не мной! Это из Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту». Но я добавлю: огонь красив. Это единственная форма энергии, которую мы можем видеть. И до некоторого предела – управлять ею.
– Значит, пиромания замешена на власти?
– Ну, либо ее отсутствии, когда хочется кому-то что-то доказать. Как Герострату, сжегшему одно из семи чудес света – храм в Эфесе. Сартр писал, что никто не знает имени его архитектора, но все помнят пиромана Герострата.
– Сартр? – Андрей иронично поднял бровь, но «Остапа уже понесло».
– Нерон, по словам Тацита, поджег вечный город, Рим. Доказательств нет, но…
– Ну, так мы до того договоримся, что и Москва, «спаленная пожаром» в 1812 году, была подожжена пироманами… – недоверчиво ухмыльнулся Андрей.
Гоша в ответ спокойно пожал плечами:
– Конечно. Графом Ростопчиным. Нет и не могло быть иных причин, кроме как легкое безумие, чтобы поджечь целый город… А вы знаете, к какому году относится первое официальное упоминание о пиромании как болезни? К 1895-му.
– Что, судили потомков Ростопчина? – попытался неудачно пошутить Андрей, но инженер его шутку не поддержал.
– Да нет. Судили крестьянина, некоего Ботова, и его зятя. Дело слушалось в Самаре. Парочка попалась на поджоге шестого по счету дома. При этом четвертым они сожгли свой собственный. Представляете, как повезло Ботову! Сам пироман, и дочка выбрала такого же безумца… Но, честно говоря, к этому времени французы уже полстолетия как определили пироманию как болезнь и…
Тут Андрей тактично кашлянул, и Гоша резко замолчал, снял очки и надавил пальцами на глазницы.
– Простите. – Он снова надел очки. – Как-то я увлекся. Что конкретно вас интересует?
– Честно говоря, я думал, вы сможете помочь мне в поиске убийцы…
– Да. Понимаю. Я прочитал ваш мейл и досье на предполагаемого преступника. Видите ли, вы, наверное, уже в курсе: у каждого опытного пиромана есть свои предпочтения в горючих смесях. Свои «фишки», рецепты, понимаете? Скипидар, положим, с ацетоном. Или бензин с тем же скипидаром и мазут. Или варианты с маслом, бензином и растворителем. Люди творческие.
Андрей мрачно кивнул:
– Ясно.
Только творческих людей ему и не хватало.
А Гоша задумчиво провел тонкими чуткими пальцами по столешнице и продолжил:
– Я бы посоветовал посмотреть в имеющихся у вас архивах. Вдруг будет совпадение? Это, знаете, почти как отпечатки пальцев. В суде с этой информацией засмеют, но на человека выйти поможет. Редко, но бывает, что пироманы используют свою страсть в корыстных целях – чтобы замести следы после совершенного убийства или кражи. – Он помолчал. – И мне кажется, ваш пироман из таких – не мечтателей-идеалистов, заглядевшихся на красоту огня, а именно использующих его силу. Опять же, наверняка он делает это не в первый раз.
– Может быть, есть какие-то «пироманские» характеристики исходя из специфики преступлений? – Андрей достал блокнот: он уже понял, что ему повезло напасть на настоящего специалиста.
Гоша махнул рукой:
– Они есть, но у нас в полиции так глубоко обычно не копают.
– Ну а все же?
– Вседозволенность в детстве или, напротив, как в моем случае, очень строгие родители. Иногда – насилие в семье. Проблемы с потенцией. Сексуальное насилие. Энурез.
Андрей старательно записывал, хоть и понимал: инженер, к сожалению, прав, такие досье у нас составляются мало на кого.
– Жестокость к животным… – продолжил Гоша.
– Стоп. – Андрей замер, подчеркнул энурез и жестокость к животным. Поднял глаза на Гошу.
– Да, – кивнул тот. – Вместе с пироманией эти три пункта составляют «триаду Макдональда», свойственную серийникам. Ну, так это и логично. Более того, если вынести за скобки тех, кто просто любит смотреть, и тех, кто поджигает из чистой агрессии, остаются только пироманы-извращенцы. И они более чем кто-либо близки по профилю к серийным убийцам. Добавьте к этому страсть к известности, желание прочесть о своих успехах в газетах и услышать по радио и телевидению – а подобного внимания удостаиваются в основном преступления с жертвами… И вы получите не просто серийного, а массового серийного убийцу.
– Отлично, – сглотнул Андрей и отодвинул от себя недоеденный гуляш. – Просто замечательно.
Гоша пожал плечами – мол, все так, извини, что испортил аппетит. Взглянул на часы.
– Прости. Мне пора.
Он встал, достал было кошелек, но Андрей остановил его жестом, протянул руку:
– Спасибо. Ты мне очень помог.
– Пожалуйста. Рад был оказаться полезным. Хоть какой-то плюс от ошибок молодости. – Гоша пожал Андрею руку. Ладонь, вялая и прохладная в начале их встречи, стала сухой, горячей. Рукопожатие – крепким. Андрей еще раз пригляделся к инженеру. И не выдержал, задал вопрос:
– Тебя же больше не тянет?..
Тот криво усмехнулся:
– Мы, пироманы, как наркоши. Говорить о таком не принято… Но… Можно завязать. На год, на два. А потом сорваться. Просто поругавшись с кем-то. Или увидев красивый пожар по телевизору.
– Тебе в пожарные надо было пойти! Вот и удовлетворил бы свою страсть «посмотреть», – пошутил Андрей.
– А я и хотел, – кивнул грустно Гоша. – Только тест не прошел. Таких, как мы, они сразу вычисляют. И – отказывают.
Он
Бабка ходила в какой-то хор при ДК. Прибежище одиноких душ. В основном женского пола. Там она и выловила фрау Мюллер, как он ее называл. И в один из субботних вечеров, не спросив его, пригласила к чаю. Фрау Мюллер – на самом деле ее звали Фишер – была немкой. Вся семья обрусела и осела в Питере еще в XIX веке. Первую мировую они еще как-то пережили, несмотря на антинемецкие настроения в Петрограде, но во время Великой Отечественной их выслали. В Казахстан. В Ленинград сумела вернуться только одна девочка из многодетной семьи – поступать в Торговый институт. В момент, когда ее «выловила» бабка, Людмила (а именно так звали фрау Мюллер) уже почти поставила крест на своей женской судьбе – ей было тридцать два. Работала Люда товароведом в «Московском» универмаге – должность хлебная, позволяющая носить дефицитный финский ширпотреб. Но даже он не спасал, больно уж бульдожья челюсть была у фрау и приплюснутый, как у мопса, нос. Да и щиколотки – полные и широкие. Но бабка увидала и вычислила в Миле главное: основательность, серьезность, общую «положительность» облика. На первое чаепитие Мила принесла с собой собственноручно испеченный пирог, который торжественно водрузила на стол рядом с покупным тортом в розочках. Пирог символизировал новую жизнь, которую они смогут начать, если пустят к себе в двухкомнатную сталинскую квартиру Людочку. Бабка была на распутье: и опасалась, но и желала прихода хваткой барышни. Она устала убирать и пытаться малыми силами придать квартире пристойный вид. Устала от вечно то витающего в облаках, то депрессивного внука. Хотела сидеть в чистом и смотреть в окно, как другие старушки. В крайнем случае вязать. Для возможных внуков. Людочка тоже приглядывалась к этому семейству с интересом: внук был странноват, но не подпорчен ни бывшими браками, ни довеском в виде детей. «Не алкоголик, скорее безобидный ботаник», – решила она для себя. Что ж. Хваткости в ней достало бы на двоих. А ребенка пора уже было заводить. Единственным, кто оказался совершенно не заинтересован в далекоидущих планах обеих дам, был сам внук. О чем он без экивоков и заявил бабке после ухода Милы и ее осторожных заходов: «Неплохая девушка, присмотрелся бы…» Он также отклонил пару Милиных приглашений в кино и в Театр комедии… Однако, как известно, как бы ни были сильны мужские желания, миром правят женщины. И, воссоединившись, Люда с бабкой рано или поздно сломили бы его решимость. Но все случилось еще и лучше для Людочки. Бабка померла. И, узнав о ее смерти, Людочка явилась скорбным ангелом – заниматься и организацией самих похорон, и последующими поминками. Именно тогда, после ухода всех гостей, пьяненький внук, как спелое яблочко, упал в ее цепкую наманикюренную розовую ручку. Они тихонько расписались и начали активно пытаться делать детей – с подачи Людочки (ему, честно говоря, на детей было абсолютно наплевать – навидался в школе). Где-то в это время Людочка поняла, что кладоискательство было не невинным хобби, как представляла дело бабка, а болезненной страстью, заменяющей страсть супружескую. И решила справиться с напастью, заодно реализовав следующую свою мечту. А именно – эмиграцию в Германию. Возвращение, так сказать, на землю предков. Она учила немецкий и заставляла учить язык и мужа. Обиднее всего было то, что Мила, с приложением много больших усилий, говорила, даже по приезде, коряво. А он «левой ногой», по ее словам, приобрел за первые несколько месяцев в Кельне прекрасный хох дойч акцент. И этот-то отличный немецкий был ему оправданием: пока Милочка честно ходила искать работу – любую, какая б ни подвернулась, – супруг лежал на диване, читал исторические тома и ждал предложения, достойного его талантов и уровня владения языком. Стоит заметить, что на родине Гейне его подстерегал серьезнейший удар: втайне от жены мечталось, как древняя земля Германии приоткроет для него свои секреты и тут сможется то, что не удавалось там. Найти наконец свой клад. Однако с сокровищами не задалось и тут: богатая на историю земля, которую кто только не бороздил столетье за столетием, была очень четко поделена на свое-чужое. Сплошной частный сектор, да и в госсекторе с металлоискателем особенно не побродишь – сразу задают интеллигентный вопрос: «Вы каких будете?» На поиск кладов полагалось разрешение, разрешение стоило денег. А лишних денег в семье не было – жили они на одно пособие. Милочке стыдно было сидеть «на шее у государства», да и ужасно хотелось «интегрироваться», как она это называла, то есть не затеряться среди российских эмигрантов-нищебродов, а влиться в немецкое житье-бытье и стать там своей. И однажды ей повезло – она нашла место секретарши в компании, занимающейся продажей сельхозтехники на российский рынок.
– Конечно, – говорила она лежащему на диване мужу, – это не то, о чем мечталось ведущему товароведу одного из лучших универмагов города на Неве, но с чего-то надо начинать.
Он не спорил – секретаршей так секретаршей. Только пусть уходит из дома и даст ему пожить спокойно. Но дальше у судьбы был заготовлен на его счет новый финт ушами. Не прошло и пары месяцев, как жена наконец забеременела. Чем ввергла его в нервозное беспокойство: «Ну вот зачем это сейчас-то?» Но Люда быстро супруга утешила: ребенок был не от него, а от оптимистичного бюргера, чьей секретаршей она служила. Бюргер был парень разведенный, не слишком горел желанием жениться снова, но раз уж так вышло… В общем, повел себя как честный человек. Даже, по словам Милы, хотел приехать к ним домой и извиниться. Все новости: у меня будет ребенок – ребенок не от тебя – я ухожу и развожусь – ты можешь пока остаться в этой квартире – посыпались на него, как яблоки на Ньютоново темечко: шмяк, шмяк, шмяк. И вот он один на диване, а Милочка, чужая, счастливая, с намечающимся животом – уже полностью, так сказать, интегрированная, – приходит забрать последние вещи. Нельзя сказать, что он был сильно расстроен ее уходом – ужас от намечающегося отцовства перевешивал остальные эмоции. Поэтому первые пару месяцев он чувствовал некое облегчение, а потом призадумался: пособия ему, никогда не сражавшемуся с бытом, едва хватало. Готовить он не умел. Да и вообще жить не умел (не зря все ж таки бабка нашла ему в свое время Милочку!). Ему нужна была женщина. И не в сексуальном плане (тут как раз он был достаточно спокоен), а в плане организации вокруг него хоть какого-то витального пространства. Идея родилась из навязчиво мигающей рекламы в углу экрана: русский сайт знакомств «Татьяна» предлагал свои услуги. Серьезные знакомства. В Германии и Северной Европе. Он кликнул на фотографию брюнетки в неглиже и попал в чудесную страну, где с помощью нескольких простейших операций вышел напрямую на женщин, живущих одиноко и, главное, недалеко.
Леся жила в самом центре Брюсселя, в муниципальном жилье, полном, как и она, эмигрантов из Восточной Европы, из Северной Африки и бывших азиатских республик. Сама она была из Белоруссии, из многодетной семьи. Нищета, из которой она вырвалась, оказалась неплохим подспорьем в ее нынешней жизни: тяжелее, чем ТАМ, ТУТ быть не могло. Леся служила домработницей, и каждый ее час был расписан. Хозяйки, у которых она убирала, нарадоваться на нее не могли: плохой французский язык компенсировался быстротой и качеством, с которым Леся надраивала чужие полы. Получая за это по «тикету» в час девять евро, а еще оплаченную дорогу и подарки на Рождество. Правда, католическое. Православным ее своеобразием здесь никто не интересовался. Лесю затащила на сайт «Татьяна» подружка, нашедшая себе там бойфренда из Ташкента. На его фоне наш герой казался чудо как хорош: питерский, интеллигент, непьющий опять же. Ну не работает, так у нее у самой пока руки есть и здоровье позволяет – что ж! Так он переселился от Люды к Лесе и из Кельна в Брюссель. Стал изучать французский. Район был не «ах!», но сама Леся на фоне Милы очень даже выигрывала: лучше готовила и относилась к лежащему на диване супругу с придыханием. Да, жизнь откровенно налаживалась, когда однажды Леся спросила, может ли у них пожить ее младшая сестра. Она проездом: устроилась было сидеть с детьми к паре нидерландских профессоров-славянофилов, желающих сызмальства приобщать детей к русской культуре, но не срослось. Младшая сестра, конечно, сама доберется от вокзала, да и спать будет на кухне – там у них есть мягкий «уголок» – и никого не затруднит… Он не помнил, что тогда проворчал. Но, слава богу, согласился. Однако, зачитавшись в тот день очередным учебником Арзакяна («История Франции»), не сразу понял, кто в столь неподходящее время и столь бесцеремонным образом трезвонит в дверь. На всякий случай пригладил волосы и заправил футболку в отвисшие на коленях джинсята. Не спросив кто, распахнул дверь. И пропал.
Маша
Маша теребила в руках бумажку с телефоном – цифры, написанные четким почерком немолодого человека, еще не испорченного общением с клавиатурой компьютера. И имя: Константэн д’Урсель. Еще и с титулом: граф. Ей пришлось купить парочку дополнительных изразцов, уже без предложенной скидки, чтобы антиквар расщедрился на этот номер. Оно и понятно: д’Урсель был его «золотым запасом»: старая аристократия и постепенно убывающая в количестве – спасибо драконовым налогам на недвижимость, подкосившим владельцев родовых вотчин. Кому, как вы думаете, звонят в первую очередь, когда хотят продать очередной дом или, еще лучше, замок, полный сокровищ в виде мебели, громоздких картин и огромных люстр, предназначенных для одиннадцатиметровых потолков, люстр, которые не влезут ни в одно помещение, построенное по современным стандартам? Не знаете? Лучшему другу семьи – антиквару. Он прохаживается по пыльным помещениям, стреляя острым взглядом вправо-влево, обсуждая возможную цену, по которой можно пристроить тот или иной предмет – «если для Ее и Его Светлости он не представляет сентиментальной ценности, конечно!». Поэтому телефон продавец изразцов дал Маше с оглядкой и, как поняла Маша по последней сказанной им фразе, не только по причине его сомнительной щедрости.
– Развлечете старика. И не забудьте повосхищаться его парком…
Маша честно пообещала повосхищаться, а теперь вдруг оробела с бумажкой в руках. Немолодой человек. К тому же граф… Но потом вновь взглянула на распечатанные листы с фотографиями изразцов и – решительно набрала номер.
– Д’Урсель, – ответил почти сразу сухой голос на другом конце.
– Добрый вечер. – Маша представилась. – Ваш телефон мне дал месье Лоертс. Он сказал, что, возможно, вы сможете мне помочь с определением семьи, которой принадлежит герб…
– Приезжайте, – прервал ее д’Урсель. – Как добраться, знаете?
– Я найду.
– Вот и отлично. Тогда жду вас около пяти. Если не отвечу на звонок в дверь, ищите меня на задней аллее, договорились?
Маша хотела было спросить, что за аллея, но голос продолжил:
– До встречи, мадемуазель.
Раздались короткие гудки. Сглотнув, Маша повесила трубку. Уф! Теперь осталось выяснить у Седрика дорогу в Осткампф – маленький городишко под Брюгге, где обитал мужчина с четким голосом и графским титулом.
* * *
Пригородная электричка довезла ее до Осткампфа часа за полтора, муторно останавливаясь на каждом бельгийском полустанке. Маша вышла из поезда и глубоко вздохнула: небо, безнадежно испорченное ватой плотных серых туч в Брюсселе, здесь казалось чуть выше и даже с голубым проблеском в некоторых местах. Зато ветер дул сильнее, будто подталкивая ее холодной влажной лапой в спину. Маша сама себе кивнула: ничего удивительного, Северное море было уже совсем близко, максимум в получасе езды на машине. Она спустилась с перрона и потихоньку двинулась вперед, сверяясь с картой, вдоль по улочке, уставленной на удивление уродливыми современными домишками из традиционного в этих местах коричневого кирпича. Перед каждым домиком был разбит садик, зеленел с прошлого года газон. Кое-где проклевывались крокусы, белые и фиолетовые. Людей видно не было. Совсем.
Через некоторое время она дошла до перекрестка, за которым углом расходились из потемневшего же кирпича, но явно совсем другого качества и эпохи старые стены метра в четыре высотой. Различить, что за стеной, не представлялось никакой возможности, но чуть подальше виднелись подъездные ворота. И когда Маша добралась до них, то удивилась: арка с двумя островерхими готическими башенками сохранилась, а самих ворот не было вовсе – выходит, любой при желании мог без труда проникнуть за кажущиеся такими неприступными стены.
Маша прошла по мощеному въезду внутрь – справа стоял домик привратника, в котором тоже никого не наблюдалось, а прямо перед ней громадой дыбился сам замок, который в «Желтых страницах» городка значился под таким же демократическим номером, как и прочие домики на этой улице. Замок стоял торцом к воротам, туда же выходило крыльцо с дубовой дверью и прислоненным к ней ржавым велосипедом с плетеной корзиной у руля. Осторожно по скрипящему под туфлями гравию Маша обогнула замок слева. И вышла к «зеркалу» – пруду, в котором отражался замок: вся трехэтажная махина в неоготическом стиле с высокой покатой крышей. Как раз посередке фасада высилось другое, высокое крыльцо, уже явно парадное. Большая арочная дверь в обрамлении тяжеловатого орнамента из серого камня. Из того же серого камня были выполнены и высокие ступени, ведущие к двери, и тритон, взмывающий со своей витой трубой-раковиной по центру «зеркала». Маша воззрилась на парадную дверь в некотором замешательстве: стоит ли ей постучаться сюда или позвонить в колокольчик в дверь более скромную, похоже, для прислуги? Но, приглядевшись к парадному входу и не заметив ни колокольчика, ни даже какого-нибудь архаичного дверного молотка, она вернулась назад, к более скромному входу, и с облегчением обнаружила сбоку вполне современную кнопку звонка.
В глубине дома раздалась яростная, совсем не мелодичная трель. Маша испуганно отпрянула от звонка, но потом себе же кивнула: очевидно, трель более нежного толка вряд ли достигла бы слуха обитателей верхних этажей. Послышались тяжелые шаги, и дверь открыла женщина в сером рабочем халате с квадратным и очень румяным лицом.
– Годен даг, – сказала женщина басом, и Маша вспомнила: она во фламандской зоне. Где терпеть не могут франкоязычных валлонцев – жителей юга страны, граничащего с Францией. До такой степени, что Седрик посоветовал ей по возможности объясняться по-английски, поскольку даже те, кто знал французский, отказывались на нем разговаривать. Но мгновенно перестроиться на английский она не сумела.
– Я бы хотела видеть графа д’Урселя… – начала она, и женщина сухо кивнула, вышла на крыльцо и показала рубленым жестом ладони куда-то за замок («Задняя аллея!» – вспомнила Маша), откуда доносился шум тарахтящего мотора. После чего развернулась и захлопнула дверь прямо перед самым Машиным носом.
– Спа… сибо, – только и успела сказать Маша почему-то по-русски в широкую спину.
И пошла на звук мимо парадного крыльца к воздушной, держащейся на кружевных деревянных балясинах террасе, пристроенной к противоположному торцу замка.
Дальше начинался парк. С одной стороны – открытое пространство газона с беседкой, построенной в круг старого мощного дуба, с другой – аллея из ровно подстриженных тисов. Газон перед замком естественно переходил в луг, а за лугом деревья создавали что-то вроде широкого многослойного коридора: взгляд терялся между зелеными кущами, как театральным занавесом, то приоткрывающим, то прячущим дальнее поле.
– Летом там пасутся лошади, – услышала Маша над ухом мужской голос и, вздрогнув, обернулась.
За ее спиной стоял высокий старик в зеленой драповой куртке. На носу у него сидели прозрачные очки без оправы, а под носом распускались совершенно дивные усы – огромные, белоснежные, лихо закрученные кверху. Маша ахнула про себя: такие усы ей встречались только на черно-белых дагерротипах позапрошлого века, изображающих старых вояк. Лысина неизвестного, по-детски розовая, блестела на прорвавшемся через облака солнце, а вокруг нее вздымались седым пухом волосы. Старик протянул Маше обвитую синими венами костистую руку, всю усыпанную коричневыми пигментными пятнами.