Читать онлайн Вот пришел великан… бесплатно
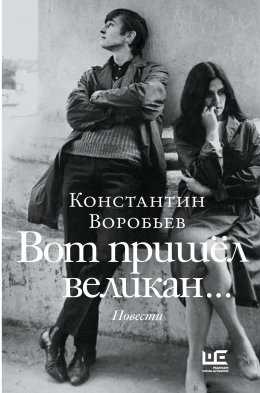
© Воробьев К.Д.
© ООО «Издательство АСТ»
Вот пришел великан…
Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно всё это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом.
Жан-Жак Руссо
Я позвонил ей по телефону минуты за три до обеденного перерыва, и мы встретились на лестничной клетке своего этажа. Тогда я впервые взял ее под руку при всех сотрудниках – они шли в буфет на третий этаж – и повел по коридору к окну, где стояли два стула. «Ты сошел с ума! Что случилось? Ты сошел с ума!» – под колючий костяной цокот своих каблуков безгласно кричала она мне, глядя перед собой, и вид у нее был почти полуобморочный и в то же время тайно-радостный. На подоконнике и стульях лежал и метельно шевелился слой тополиного пуха, и там я сказал ей, что распиналка над нами назначена на восемнадцать часов. Я был тогда в той степени отвращения к ближним своим, когда ты приходишь к решению, что жить можно лишь в том случае, если помнить о головокружительной бесконечности Вселенной, перед которой человеческая возня смешна и бессмысленна, – в этом случае ты не только обретаешь спокойствие безразличия, но становишься способным на отпор и дерзость. Я сказал ей, чтобы она не являлась на этот суд над нами и шла домой сейчас же.
– А ты сам? А ты сам куда?
Ей немного не хватало до обморока, и я вдруг будто со стороны увидел, как некрасива, мелка и тщедушна фигурка этой полуживой от страха женщины с седеющей головой на нервной тонкой шее, похожей на ручку контрабаса, и как смешно и бессмысленно всё то, что готовится нынче к шести часам вечера ей и мне.
– Вот пришел великан. Большой, большой великан. Такой смешной, смешной. Вот пришел он и упал, – сказал я ей. Всю нашу жизнь – нашу жизнь! – я говорил ей эти слова, когда ничего другого нельзя было придумать.
Я нарочно подождал, пока в коридоре раздались чьи-то шаги, и поцеловал ее в открытую шею, в самую ямку «контрабаса». Там успела приютиться мохнатая тополиная пушинка, приставшая к моим губам, и она сняла ее с меня щепоткой холодных пальцев и пошла по коридору на выход. Я умышленно загляделся в окно, придав себе застигнутый вид. Я стоял и слушал шаги двоих – удаляющиеся перебойно-дробные ее, будто она готовилась и не решалась бежать, и размеренно-пристойную мужскую кладку каблуков того, кто нас «застукал». Когда я оглянулся – мне пора было помочь ей там, – она уже разминулась с бедой, но шла впритирку к глухой коридорной стене и руки держала по бокам врастопырку.
– Я позвоню тебе домой сразу же после этого! – сказал я ненужно громко вдогон ей, и она в самом деле тогда побежала, а я достал сигареты и закурил. Вениамин Григорьевич стоял у дверей своего кабинета, заложив руки назад, тесно составив курносые чистенькие ботинки, и как-то радостно-обретенно смотрел в конец коридора. Я стоял и ждал, когда он оглянется в мою сторону. Он хозяйски-благополучно кашлянул и, минуя меня взглядом, повернулся к двери. Тогда я окликнул его сам. Я спросил, не помнит ли он со времен сороковых годов папиросы под названием «Для знатоков». Длинные такие, душистые. «Для знатоков», – опять сказал я с этим ударением. Он подумал и ответил, что не увлекался.
– Это вы совершенно зря делали, товарищ Владыкин, – сказал я без всякого ожесточения. – Ведь только увлечение приводило людей к великим открытиям, украсившим нашу землю!
Он ничего не сказал и скрылся за дверью.
С Вениамином Григорьевичем мы впервые встретились год тому назад. До этого, после окончания Литинститута, я долго плавал в Атлантике матросом на рыболовном траулере, – нужно было заработать деньги, чтоб сесть и написать книгу. Я всё сделал так, как хотел, – купил комнату и потрепанный «Москвич» первого выпуска, новую резиновую лодку и одинарную палатку с голубым марлевым окном. Свое первое вольное лето я жил и писал близ озер, – в наших местах их больше чем нужно. Осенью, чтобы помнить об озерах, я нарочно оставил лодку дома, возле секретера, где стояли удочки и спиннинг, и за зиму резина пересохла и расклеилась. Я обнаружил это весной, когда повесть была закончена и жить стало нечем. На озере, если оно находилось где-нибудь у чертей на куличках, ощущение мира обновлялось, и возникало снова – в который раз! – пресловутое «а вдруг?».
Лодку я заклеивал во дворе, утром, пока стол-самоделка пустовал без козлятников. Уже истомно пахли почки городских лип, верещали скворцы, и теплый ветер подувал с разных направлений, кружа подушечный пух, обрывки газет, пыль и сор – прах нашего большого кооперативного дома. Я клеил и видел, как из подъезда вышла женщина с курицей и ножом в руках. Следом за ней шел ее муж. Это были симпатичные люди – пожилые, молчаливые и опрятные: в свое время они вернулись с Севера, и в доме и во дворе не было их видно и слышно. Супруги оглядели двор, о чем-то пошептались, и я всё понял и переместился, чтобы оказаться спиной к ним. Удивительное это дело: тот, кто вернулся оттуда, не в состоянии потом зарезать курицу. «Сейчас они подойдут и попросят, – подумал я. – Но, может, постесняются?»
– Вы не могли бы вот ее, а? – сипло спросила женщина, и я подумал, что курицу они покупали вдвоем и, пока плелись с базара, успели привыкнуть к ней и полюбить.
Когда всё было кончено и золотистые курицыны глаза померкли, а кровь иссякла, впитавшись в пыль, женщина, не взглянув на меня, пошла прочь той напряженной непреклонной походкой, какой уходят люди от темных и злых мест. Я принялся за прерванную работу, но лодка не клеилась; хотелось скорей очутиться на каком-нибудь озере, и в то же время я думал над тайной крови: почему ее нельзя отворять, особенно при солнце… Не знаю, как это связалось тогда с моим настроением, но я тихонько засвистел мелодию старинной песни про чайку, убитую безвестным охотником. Когда-то, давно, эту песню пела моя мать. Она выводила ее почти на крике, исступленно и тоскующе.
– Хорошая песня! – убежденно и задумчиво проговорили у меня за плечом. Это сказал муж женщины, унесшей зарезанную курицу. Я понимал, что ему некуда деваться, пока курицу не распотрошат, и подвинулся, освобождая место на скамейке. Он присел, отказался от папироски и сказал снова:
– Хорошая была песня…
– Конечно, – сказал я, невольно раздражаясь на что-то. – Хотя русский человек редко пел от добра, но в этом случае он бывал истинным творцом. Вы не находите?
– Какое там добро! – с какой-то смиренной кротостью сказал муж, а я надеялся, что он не согласится.
– Я слышал эту песню раза два или три. В детстве, – сказал я неизвестно зачем.
– А я однажды, – не сразу сказал муж. Он глядел куда-то в поднебесье. Глаза у него были жидко-голубые, как вода, и по левой щеке от ноздри к заушью пролегал хорошо пробритый шрам. Под столом и у нас под ногами бродили разжиревшие голуби, потерявшие обличье вольных птиц. Я шугнул их, а муж неодобрительно взглянул на меня и хмыкнул, – голубей ведь положено любить, раз мы боремся за мир во всём мире. Ему, как видно, хотелось потолковать про убитую чайку, потому что через минуту он сказал опять:
– Да, русская была та песня!
Голуби снова слетелись к нашим ногам, и я опять шугнул на них, а муж, глядя в поднебесье, сказал:
– Я тогда стоял часовым, а на заре перед самым расстрелом он, значит, подозвал меня и попросил дозволения спеть.
– А кто он был? – спросил я.
– Белобандит наш, поручик, – тоном охотника, когда тот рассказывает о набежавшем на него зайце, сказал муж.
– Вы дозволили?
– Нет, сам я не имел прав… Тогда он, между прочим, дал мне портсигар и попросил покликать комиссара.
– Вы позвали? – спросил я.
– Другие это сделали. Сам я не мог. Он же в неприспособленном помещении содержался. В амбаре.
– Удрать мог? – предположил я.
– Смело! – сказал муж.
– Что ж комиссар?
– Не разрешил сразу.
– А как поручик просил его?
– По-хорошему. Дозволь, дескать, перед смертью спеть мою любимую…
– И чем кончилось? – спросил я.
– Спе-ел, – охотничьим тоном сказал муж. – Отрядные наши потребовали у комиссара, чтоб спел… Он, помню, пошел навстречу и согласился, но чтоб в амбаре, значит, а поручик хотел на воле. Ну мы уговорили комиссара, пускай, мол, на месте, в степи… И там он спел. Ох и спел же! Встал, понимаете, к восходу, обратил глаза на солнце и – до конца!..
Я свернул лодку, вогнал ее в мешок и сказал, что эти поручики умели, черт их возьми, красиво умирать.
– А что им оставалось? – усмехнулся муж.
– Конечно, – сказал я. – Но странно, что вы до сих пор помните это… Песня мешает?
Он вприщур посмотрел на меня и поднялся со скамьи.
– Песня, дорогой товарищ, никогда не мешала жизни. Вот если наоборот – дело другое! Поняли?
Сказал и ушел.
А неделю спустя я понес в местное издательство свою повесть. Она была отпечатана на старой канцелярской машинке и на плохой серой бумаге, и чтобы скрасить этот внешний недостаток рукописи, я переплел ее за трояк в отличные дерматиновые корки, а название «Куда летят альбатросы» и свое имя «Антон Кержун» наклеил заглавными буквами, подобранными и вырезанными из «Огонька». Когда я в свое время нанимался в матросы, а затем долго был им, то меня всё время не покидало тайное сознание своей маленькой исключительности, – как-никак, за плечами у меня был заочный Литературный институт и та цель, ради которой я добровольно, а не вынужденно оказался среди людей… ну, скажем, не всегда умеющих быть джентльменами. Я постоянно помнил о своей будущей книге, о новых интересных знакомствах и немножко о гонораре. Может, оттого слово «издательство» звучало для меня чуть-чуть возвышенно и оторапливающе, и я робел перед ним.
Издательство размещалось на шестом этаже. В лифте перевозили куда-то железные корзинки с бутылками кефира, и я пошел наверх пешком. То, что каменные ступени лестницы были разбиты, грязны и заплеваны, а стены и проемы окон выкрашены в бездарный свинцово-коричневый колер, внушило мне странным образом уверенность, что повесть свою я написал хорошо. На шестом этаже это чувство во мне окрепло еще больше, – коридор тут был удручающе узок, сумрачен и бесконечен, и по левой его стороне густо темнели низенькие одностворные двери с табличками о времени приема авторов, и возле притолок дверей стояли жестяные урны-пепельницы, как в любой порядочной конторе. Я немного побродил по коридору, а потом постучал в дверь комнаты, что была рядом с туалетной, – это соседство кабинетов тоже почему-то ободряло меня. Комната оказалась величиной с могилу, вырытую в негожую осеннюю пору, и в ней каким-то чудом умещались три стола – два вдоль стены, а третий барьером между ними. На нем лежал какой-то выгоревший бумажный хлам, а за пристенными столами сидели две женщины: ближняя ко мне – толстенькая и беленькая пышка, с бесстрастными фиолетовыми губами, собранными в трубочку, – сосала, наверное, конфету, а дальняя – цыганово-смуглая, стриженная под пацана. Я направился к ней потому, что она выжидательно смотрела мне под ноги, и потому, что над ее головой к стене была пришпилена фотография Хемингуэя. Я еще не успел миновать барьерный стол, когда она спросила, что у меня, и я издали протянул ей рукопись и совершенно глупо и неожиданно для себя поклонился. Тогда выдалась затяжная пауза, – она удивленно покачала на руках повесть, потом поцарапала на ней ногтем заглавную букву моей фамилии.
– Намерены переиздать? Вера, обрати внимание, какой роскошный переплет!
На меня она не смотрела. Я не видел повода для такого вопроса и сказал, что повесть оригинальная.
– Вот как?
Она опять как-то недоуменно и капризно, как школьница кляксу в своей тетради, поцарапала букву «К», затем сказала, придерживая над ртом большой цветной карандаш:
– Понятно. И куда они у вас летят?
Если бы у меня спросили это на траулере, а женщин у нас там не было, я б, наверно, с ходу и всего лишь двумя словами ответил, куда летят мои альбатросы, но тут был не траулер, и я вежливо сказал, что альбатросы обычно летят за кораблем.
– Неужели? – не отрывая глаз от чьей-то несчастной, как мне подумалось, рукописи, шепеляво сказала пышка. – Что их приманивает?
– В своей повести я объясняю это достаточно ясно, – сказал я. Пышка вскинула на меня круглые печальные глаза и сказала лениво, но заинтересованно:
– Даже объясняете? Это потрясно!
Она засмеялась, приглашающе взглянув на ту, вторую, и я увидел на ее малиновом языке льдистый обсосок дешевого леденца. Тут был не траулер, и я молчал. Я стоял в тесном закутке возле барьерного стола, и острый угол его крышки упирался мне в брюки так, что я все время помнил о возможной оплошности с пуговицами, и от этого у меня давно намокла рубашка под мышками.
– Видите ли, на ближайшие два года у нас уже сверстан план издания оригинальной литературы, поэтому…
Это сказала поклонница Хемингуэя, возвращая мне рукопись, и я принял ее зачем-то обеими руками и опять неожиданно для себя поклонился. Я пошел к дверям раскачной корабельной походкой, чтоб казаться независимей, и там на пороге столкнулся с хозяином курицы, которую я зарезал пару недель тому назад, когда клеил лодку. Он узнал меня и отступил в коридор, потому что дверь открыл я первый, и там мы поздоровались, и я закурил. «Муж», как я мысленно называл его, отказался от сигареты и ради приличия спросил, что у меня хорошего. На нем был старомодный плечистый пиджак с черными молескиновыми нарукавниками, и я решил, что он служит в бухгалтерии. Я сказал ему – в шутку, понятно, – что пытался ограбить издательскую кассу, да вот не вышло.
– Как то есть ограбить?
Он спросил это вполне серьезно и немного растерянно, и мне понадобилось объяснить ему, что я имел в виду.
– Это неправильно, – сказал он, но я не понял что. – Дайте-ка…
Он взял у меня рукопись и уважительно оглядел и погладил переплет. Наверное, ему понравился и заголовок повести, – он дважды прочел его шепотом, и «альбатросы» получались у него «альбатросами». Мы стояли у двери, в которой столкнулись, и я всё время ждал, что за нею вот-вот раздастся пышкин смех.
– Тема современная? – спросил «муж».
Я молча подтвердил.
– Адрес свой и всё такое указали?
– Да-да, – сказал я, – всё указано… Вы хотите передать кому-нибудь?
– Да нет, зачем… Посмотрим тут сами, – веско сказал он, – зайдите через месяц ко мне прямо…
Простился я с ним не в меру почтительно. В нем тогда всё: и шрам на лице, и детски наивная голубизна глаз, и даже нелепые нарукавники – приобрело для меня какое-то – хоть и не до конца постигнутое – обещающее значение, и я вышел из издательства своей нормальной, а не матросской походкой, которой проходил мимо пышки.
Несколько дней я жил неуютно и тревожно, – мне почему-то не хотелось неурочно встретиться с «мужем» во дворе или на улице, и надо было уехать на дальнее озеро. Тогда в спортивном магазине давали шведские кованые крючки и немецкую радужную леску на поводки. Я купил то и другое, и когда выходил из магазина, то возле своей машины увидел «хемингуэйку», – она неловко, перехилясь, держала на руках новый красно-голубой матрац: наверно, ей не удалось втиснуться с ним в автобус, потому что в капиллярах матраца оставался воздух. Она увидела меня издали и отвернулась, но с места не двинулась, – ждала хозяина моего драндулета. Я подошел к нему, открыл заднюю дверцу, а ей сказал: «Кладите, пожалуйста». Я сказал это без всякой иронии и помог ей впихнуть матрац на заднее сиденье.
– Я не знала, что это ваша… А такси нет…
У нее пунцово горели щеки. Я придурковато сказал, что как-нибудь доедем, и это ее подбодрило. Наверно, для того чтобы полностью обрести себя, редактрису, она знакомым мне царапным жестом школьницы дотронулась до вмятины на крыле машины и спросила, где это ее так изувечили. Я сказал, что это не «она», а «он».
– Он?
– Он, «Росинант», – объяснил я, и она с каким-то новым вниманием посмотрела на меня и не очень смело села в машину. Ей, видно, всё же хотелось как-нибудь умалить степень моей непрошеной услуги, потому что, как только я включил скорость, она подчеркнуто спросила, почему мой автомобиль подпрыгивает на ровном месте. Я напомнил, что «Росинанту» почти четыреста лет, устал, мол, и похлопал рукой по рулю.
– Теперь понятно, – светски сказала она. – Кстати, вы неосновательно жаловались на меня Владыкину.
– Разве? А кто это? – спросил я.
– Вениамин Григорьевич! – едко сказала она.
– Тот товарищ, что носит нарукавники? – догадался я, и поздно сообразил, что сказал это зря. Она высокомерно взглянула на меня и пожала одним плечом, приподняв его к уху, как это делают не по годам серьезные дети. Я понимал, что она хотела выразить этим своим движением, и невольно засмеялся.
– Вы не могли бы побыстрей ехать? – сухо сказала она.
– Вам к издательству? – спросил я.
– Почему? Мне надо домой. На улицу Софьи Перовской, дом десять. Пожалуйста!
– Благодарю вас, – галантно сказал я, и она откинулась на сиденье и вдруг подалась вперед и затаилась: со мной давно ездили два снимка Хемингуэя – лакированно-красочных и грустных, наклеенных к ветровому стеклу в правой нижней стороне. На одном он был снят рядом с убитым леопардом, а на втором – в лодке. Она смотрела на них с каким-то страдающим напряжением, и я видел, что ей хочется потрогать их мизинцем.
– Где вы это… достали? – спросила она и показала на снимки не рукой, а глазами. Я немного помедлил с ответом, – впереди был красный свет, – потом сказал, что купил их на Кубе. Она недоверчиво усмехнулась, но на меня не взглянула.
– В Гаване, – уточнил я.
– Скажите пожалуйста!
– Я был там дважды, – безразлично сказал я, потому что это была правда.
– Каким, простите, путем?
– Водным. Мы заходили туда сдавать рыбу… Если вас интересует кубинский Дом-музей Хемингуэя в Финка-Вихия, то должен сказать, что это печальное зрелище, – сообщил я, что было тоже правдой.
– Почему?
– Потому, что дом без хозяина…
– Да, пожалуй… И вы написали об этом в своей повести?
– И об этом, – сказал я.
– А еще о чем?
– Об акулах, о крабах с ногами на спине, о бонитах, медузах.
– Вы разве ихтиолог?
– Нет, – сказал я.
– Ну хорошо. А еще о чем?
– А еще о ностальгии… Об огнях Святого Эльма, – бесстрастно сказал я.
– Понимаете, я хочу спросить, каков сюжет вашей вещи, в чем главный смысл ее? – оторопело сказала она. Матрац топорщился на заднем сиденье, и я протянул к нему руку и сказал, что книга не должна походить на эту штуку.
– Не понимаю, – настороженно сказала она.
– Отлично понимаете, – сказал я. – Вы спрашивали о конечной заданности произведения, а я полагаю, что это не двуспальный матрац, смысл и назначение которого предельно выражены для каждого и формой его, и содержанием.
– Очень нелепое сравнение! – сказала она и отвернулась. Дальше мы ехали молча, и я знал, что у своего дома она непременно захочет заплатить мне за проезд. «Наверно, даст серебряный рубль, если он есть у нее, его удобно кинуть на сиденье, эффекта больше», – подумал я, и это так и случилось. Я подбросил рубль на ладони, потом попробовал его на зуб. Она брезгливо и в то же время обеспокоенно спросила, что я делаю, и я объяснил: проверяю, мол, не фальшивый ли.
– Могу заменить на бумажный! – раздраженно сказала она, но я предположил, что фальшивые бумажные рубли изготовлять ей еще проще, чем металлические, поскольку она работает в издательстве и имеет доступ в типографию. Я сказал это ровно и убежденно, и она посмотрела на меня с тем недоуменно-мученическим вниманием, с каким разглядывала снимки Хемингуэя.
В тот же день я уехал из города. До моего прошлогоднего озера было километров сорок по песчано-лесистому проселку, пустынному и диковатому. Стояла неважная для рыбалки погода – тихая, яркая и засушливая, но проселок был еще по-весеннему плотным и легким, и на опушках сосновых подлесков то и дело попадались колонии анемонов. Я остановился на своем прежнем месте. Тут сохранилось всё в целости – обмелевший ровик и колышки для палатки, обуглившиеся рогульки для подвески котелка, голубая развеянная зола кострища, пологий травянистый спуск к озеру, заросший молодой «куриной слепотой», само озеро, кипящее по осокистым закрайкам, – наверно, нерестилась плотва. Я привез с собой для прикорма два целлофановых мешка с пареным горохом и пшеницей, а за наживкой пошел на тот конец озера, – там я знал бабку Звукариху, одиноко жившую в километре от деревни Звукарёвки. Изба ее сидела на самом берегу озера под нависью старых ракит, и на ее крылечном конике алели три большие звезды из фанеры, приколоченные одна над другой, – неукорный знак живым о том, что Звукариха не дождалась с войны трех сыновей. Бабка кормила кур возле крыльца. Она успела загореть и обветриться с лица, – огород, где я обычно добывал червей, был вскопан и разделен на грядки, и там уже выметывал третий лист огуречник и щетинился лук. Я стал спиной к фанерным звездам и поцеловал ее трижды – в щеки и в лоб, и она заплакала, а я достал из сумки и положил ей в фартук килограмм дрожжей: сколько раз просила привезти еще в прошлом году.
– В следующий раз опять привезу, – сказал я. – Всё слава богу?
– А гоню кой-када, – призналась она, поняв меня правильно. Самогон выходил у ней слабый и кислый, и сбывала она его только хорошим людям по рублю за пол-литра. За прошлое лето я стал для нее этим хорошим человеком. Звукариха спросила, долго ли я тут заживу, сходила в избу и вынесла сизую бутылку с тряпичным кляпом вместо пробки. Пока что мне это не требовалось, но ей, возможно, нужен был рубль, и я с удовольствием достал из кармана тот металлический, что «заработал» утром при перевозке матраца.
– Не карай, не карай! – замахала она руками. – То ж я за дрожди.
– Этот рубль принесет тебе счастье, – сказал я и сам поверил в это. – Ты его спрячь и не трогай, а на Новый год он принесет тебе большое светлое счастье!
Она беспомощно взяла рубль и суеверно поглядела на коник крыльца. Я во второй раз поцеловал ее в лоб и щёки, и она снова заплакала…
А рыба почти не брала. Ни в первую, ни во вторую неделю. Я не брился, и моя борода начала завиваться в колечки. Я мало ел и плохо спал: тут, в одиночестве, во мне еще больше укрепился какой-то смутный страх перед неизбежным приходом в издательство. Я высчитал, когда это должно случиться, и число дня выпало нечетным, невезучим для меня, и было тревожно, что «муж» оказался не просто «мужем» и, как мне тогда подумалось, бухгалтером издательства, а кем-то другим. Погода стояла по-прежнему солнечная и спокойная. В деревне за озером ни днем ни ночью не смолкали петухи, и над моей палаткой в дупле старой осины с рассвета и до темна не затихала дятлиха. Она, наверно, сидела там на яичках и с рассвета и до темна не прерывала почти слитный царапный звук «кти-кти-кти». В нем была какая-то машинная неумолимость, бесстрастность и самозабвение, и он стучал мне в темя, как поклев. По кустам и деревьям, не отлучаясь далеко от осины, всё время сновал дятел, – искал корм. Когда он подлетал к дуплу, в звуке «кти-кти-кти» возникал мгновенный перебой, тут же возобновлявшийся и сгонявший дятла с осины. Безгласный, остервенелый и яркий, он целыми днями метался тут как огненный осколок, и я возненавидел дятлиху и не мог постичь, как дятел выносил эту свою каторжную жизнь. Я попробовал подвешивать на сучья ольхи толстых малиновых выползков, – такого вполне хватало, чтобы она заткнулась там в дупле хотя бы на полчаса, но выползки не привлекали дятла. Однажды он пропал. Его не было минуту, две, три и четыре, а «кти-кти-кти» к тому времени превратилось в пульсирующий болью незримый буравчик, проникавший сквозь темя в сердце, и я пошел на розыски дятла. Он сидел рядом с осиной на теневой стороне сосны, загородившись ею и прижавшись к коре. У него был разинут клюв и распластаны крылья – отдыхал. Я тогда решил, что смогу написать еще вторую повесть, что жизнь – это черт знает что такое, хорошее, конечно, и что мне надо много работать и лишь изредка прятаться от нее, чтобы набираться сил к встрече с неизбежным…
На следующий день перепал ласковый тучевой дождь под радугу – и начался настоящий клев. Брали перестарки подлещики, уже тронутые медной окалиной, и большие горбатые окуни с малиновым опереньем, не хуже чем у дятла. К вечеру я набил ими садок, снял палатку и отнес Звукарихе пустую бутылку с тряпичным кляпом вместо пробки, пять подлещиков и пять окуней. Она насильно – тоже на счастье – дала мне десяток яиц, крупных и золотисто-смуглых, будто окрашенных луковой кожурой. В город я въехал в ранние сумерки, когда еще не зажигают фонари, когда даль улицы тонет в исчадно-легкой пелене и люди там кажутся маленькими и светятся как моль. В такое время на память почему-то приходят блоковские стихи и старинная светло-печальная музыка, и о себе думается с уважением и надеждой. Я ехал медленно. «Росинант» вел себя молодцом, он не фыркал и не подсигивал, и на нас мало кто обращал внимание. От всего этого мне было хорошо, и я не то что безразлично, а просто философски готовно отнесся к тому, что не увидел на месте свой гараж. Я возвел его мгновенно, за одну ночь, по соседству с домовой помойкой, где уже стояли три таких гаража, тоже спешно сделанных в темноте из обломков досок, старого кровельного железа и фанерных ящиков. Нас, «владельцев», несколько раз вызывали в домоуправление, но мы не спешили туда являться и не снимали с гаражных дверей предписаний о добровольном сносе своих незаконных сооружений – предписания печатались на папиросной бумаге и больше двух дней не продерживались. Конечно, вид у наших гаражей был вполне трущобный, не настраивавший общественность дома на умиление, зато с улицы за ними не был виден помойно-мусорный ларь – огромный, мерзостно пахучий и всегда переполненный. Теперь ларь открывался со всех сторон, а площадки, где стояли гаражи, были расчищены и посыпаны песком. Я заехал на свой прибранный пятачок и попытался предположить, как разорялись гаражи – вручную или бульдозером. Если вручную, то был смысл спросить у кого-нибудь, куда делись моя канистра с маслом, воронка, паяльная лампа и лыжи, а если бульдозером, то об этом не стоило беспокоиться. Я сидел в «Росинанте» и поглядывал на окна своего дома, – кое-где там зажигались огни, и мне были видны силуэты жильцов, прильнувших к подоконникам: конечно, им сейчас интересно было понаблюдать за мной издали, да еще сверху! Тут требовалось вести себя достойно, и я запел «Широка страна моя родная», запел, понятно, не во весь голос, но и не шепотом, и переложил в садке рыбу так, чтобы крупная лежала сверху, а мелкая внизу. Яйца я вместил в берет, и они улеглись там ладно и согласно, как в гнезде. За «Росинант» волноваться не следовало, кроме меня его едва ли кто смог бы завести, но я на всякий случай поднял капот и стал вынимать ротор. Я вынимал его, а сам пел, поэтому не видел и не слышал, как подошел и остановился позади меня Вениамин Григорьевич Владыкин. Когда я оглянулся, он сидел на корточках возле моего садка с рыбой и берета с яйцами и разглядывал не рыбу, а яички, и рядом с ним стояло пустое мусорное ведро. Я прервал песню и поздоровался, а он опустил в берет яйцо и спросил, чьи это.
– Яички? Цаплиные, – сказал я. Мне до сих пор непонятно, что толкнуло тогда меня на эту вздорную мальчишескую ложь. Прозаичность правды, что яйца куриные? Смущение оттого, что мне посулила за них бабка Звукариха? Возможно. Но не исключена и другая причина. Когда Вениамин Григорьевич положил в берет изученное им яйцо и спросил «чьи это», я понял, что он не признал их за куриные, и мне просто оказалось не по силам разуверить его в ошибке.
– Цаплиные? – переспросил он и поднялся с корточек. Я подтвердил и тут же захотел подарить их ему как свой приозерный трофей: цаплиные яйца не часто попадаются в жизни. – Н-да, – сказал он, забирая свое ведро. – Это вы зря. Зачем же… Выводок весь загубили. Нехорошо.
– Может, это и не цаплиные, там ничего не было видно, – сказал я.
– Чего не было видно? – хмуро спросил он.
– Не видно самих цапель, только гнёзда, – пояснил я. – Мне показалось, что они оставлены…
Он с сомнением произнес «гм» и пошел прочь, а я подумал, что рукопись моя уже прочитана и что она ему не понравилась, иначе он воздержался бы от выговора мне за цаплиные яйца. Я окликнул его по имени-отчеству и независимым тоном удачливого рыбака предложил окуней и подлещиков.
– Возьмите и сочините себе, пожалуйста, уху, – сказал я, – мне всё равно некуда это деть.
Он полуобернулся, помедлил и отказался.
– Это ведь всего-навсего рыба, – уточнил я.
– Да нет, зачем же, – неуверенно сказал он. Садок с рыбой я понес к дому в правой руке, удерживая его на отлете, чтоб заметней был, а берет с яйцами – на ладони левой, чтоб тоже как следует виднелся людям. Я шел метрах в пяти сзади Вениамина Григорьевича, и на середине двора, где нам надо было разойтись по своим подъездам, он замедлил шаг, оглянулся и сказал, что повесть мою прочитал давно.
– Она, знаете, не подойдет нам… Так что вы можете забрать… завтра или когда там.
Его, наверно, раздражало то, как я держал берет с яйцами, потому что глядел он на него, а не на меня. Я молчал и не изменял положения левой руки. Вениамин Григорьевич кашлянул и двинулся к своему подъезду, а я к своему. Соседка по лестничной клетке, которой я отдал рыбу, сообщила мне по собственной охоте, что гаражи ломали бульдозером аж в прошлую субботу. Я умышленно безразлично сказал «ай-яй-яй», и она растерянно улыбнулась.
В моей комнатенке было уныло и бесприютно. Я вспомнил про дятла, вымыл пол, потом принял душ и до полночи думал, как жить с завтрашнего дня: денег оставалось месяца на полтора, если тратить по трояку в день. Мне представилось, что в сущности я большой горемыка и неудачник, не наживший к тридцати годам ни кола ни двора. Ну что я умею делать? Рыбу ловить? И на кой черт было обещать себе то, что не в состоянии исполнить? Я хотел побыть перед собой несчастным и никчемным человеком, и это мне вполне удалось, – я даже мысленно увидел свои собственные похороны, «без жены и друга» за гробом…
Утром всё это у меня прошло. При солнце и радостном визге ласточек оказалось, что мне всего-навсего двадцать девять лет, что у меня, как-никак, есть «Росинант», отличная заграничная обувь, свитеры и рубашки, а что касается специальности, то я могу работать директором, например, кинотеатра, учителем, шофером, слесарем-водопроводчиком, грузчиком или рыбаком на траулере. Я тщательно побрился, сделал из пяти яиц глазунью и съел ее неторопливо и серьезно, потому что верил в пожелание бабки Звукарихи. Потом я оделся и сбежал во двор. У «Росинанта» был какой-то справный и даже внушительный вид, – под ним празднично сиял аккуратный песчаный квадрат, издали смахивающий на ковровую подстилку, и завелся он с полуоборота, и двинулся с места без подсигов. Я опустил боковое стекло и вслух поприветствовал солнце, ласточек, людей на тротуарах и в автобусах, а затем уважительно поздоровался сам с собой и поехал в издательство за рукописью. Я поехал кружным путем, чтобы не обминуть набережную и мост. На нем плечом к плечу стояли рыбаки с удочками вдопуск, и я подумал, что в такой тесноте неизбежны помехи друг другу, и тут обязательно надо было пожелать людям мира и удачи, – хотя бы издали. В тот день кто-то делал всё так, чтобы потом, позже, нам нельзя было решить, выдался ли он таким к худу или к добру. До того как мне встретиться у подъезда издательства с «хемингуэйкой» и пышкой, я увидел на тротуаре девочку-цыганку, продававшую цветы, – всего два пучка. То, что она была в длиннющем ветхом платьишке, босая и непокрытая, грозило разорением всему утру, и я купил у нее оба пучка, составленные из поблекших уже фиалок, нерасцветшего чебреца и нескольких стеблей ландыша.
– Купи, купи, пожалуйста! Богатый будешь, счастливый будешь, только не скупись!
Цыганке, наверно, было лет четырнадцать. Я дал ей два рубля, и она засмеялась, показав два больших сахарно-белых передних зуба. Чебрец чуть-чуть розовел, и глазки его были слепые, но от них уже летуче пахло степной зарей и медом. Девочка называла ландыши колокольцами, а чебрец – мятухой. Она не прятала свои нелепые и трогательные зубы, и нельзя было не смеяться с ней вместе.
Редактрис – пышку и вторую – я настиг недалеко от подъезда издательства. Они, видать, не торопились на свой шестой этаж в конуру рядом с туалетной, потому что шли так, как ходят вечерами по набережной. Я остановился впереди них, вышел из машины и поклонился издали. Пышка первой сказала «здравствуйте» и спросила, куда так рано летят альбатросы. Она смотрела на меня уважительней, чем в тот раз, и в слове «альбатросы» умышленно, как мне показалось, сделала ударение на втором «а». Ее подруга невесело усмехнулась, глядя в сторону «Росинанта», и вдруг спросила, виделся ли я с Владыкиным. Теперь трудно предположить, что́ толкнуло меня тогда взять и рассказать им о своей встрече с Вениамином Григорьевичем возле помойки, о «цаплиных» яичках и рыбе, – наверно, сознание своей независимости, поскольку с повестью тут всё было уже решено. Пышка сказала: «Потрясно» – и засмеялась, а ее подруга наставительно заметила, что мне не следовало отдавать рукопись сразу главному редактору, да еще жаловаться на них, младших.
– Господи, у вас же там какие-то грифы-индейки похожи на русских княгинь в вечерних туалетах! – сказала пышка. – Вы видели их когда-нибудь?
– Индеек? – спросил я.
– Княгинь, несносный вы Кержун! – капризно сказала она. Пышке было весело, как и мне, и то, что она назвала меня несносным Кержуном, хорошо и нужно легло на мое сердце – ведь стояло ликующее утро, еще крепко свежее, молодое и чистое, когда добровольно безработному мужчине совершенно необходима дорогая прочная одежда под стойким запахом одеколона «Шипр» или в крайнем случае «Кремль». В тот раз всё это было на мне и со мной, о чем я не мог не знать, и обе женщины были одеты по-весеннему изысканно, о чем они, как я видел, тоже не могли не знать и не помнить. Им, конечно же, не хотелось торопиться в свою конуру на шестом этаже, и я не без галантной рисовки извлек из машины цыганкины цветы и вручил по пучку каждой. «Хемингуэйка» тогда почему-то смутилась, а пышка шутливо и неумело сделала книксен и сказала: «Благодарим-с».
– Вы не находите, что нам следует в таком случае познакомиться? – спросила она. Я назвал свое имя и отчество и шаркнул ботинком, – им вполне уместно было шаркать, потому что он выглядел новым, прочным и аспидно сверкавшим, как лоб малайца. Пышка первой подала мне руку, – она просто вложила в мою ладонь щепоть теплых безвольных пальцев и сказала невнятно и слитно:
– Вераванна.
Ее подруга назвала только фамилию – Лозинская. Она назвала ее чересчур уж нажимно и четко. Рука у нее была породистая – сухая, крепкая и узкая, и меня подмывало брякнуть: «Ах, какие мы аристократки, мадам!».
В своей конуре на шестом этаже они вернули мне рукопись, – оказывается, Владыкин держал ее у себя всего лишь семь дней. У меня не прошел приступ галантности – и, прощаясь, я поцеловал им руки. Тогда выдалась какая-то неприютная пауза, – женщины почему-то построжели, будто я их обидел, во мне же ничего не пропало, что вселилось утром, и поэтому уйти от них виноватым в чем-то не хотелось. Я подошел к двери, загородил ее своей спиной и сказал, что километрах в пятнадцати от города мне известен лесной ручей в зарослях поздней черемухи. Там, сказал я, прорва соловьев, свежести и свободы, и бог сегодня послал меня, Антона Павловича Кержуна, в эту дыру затем, чтобы я показал ее обитателям всё это.
– Сейчас прямо? Мы же на работе, Антон Павлович! – беспомощно сказала Вераванна. – Вот после пяти, наверно, смогли бы…
Лозинская пристально взглянула на нее и недоуменно пожала плечом.
– Лично я не смогу ни днем, ни вечером, товарищ Кержун. Весьма признательна вам за внимание, – сказала она. Я подумал, что в конце концов можно показать весну и одной пышке, и не стал настаивать, хотя и пообещал Лозинской любой из тех двух снимков Хемингуэя, что ездили со мной в машине. Это получилось у меня немного неуклюже, как ребячий посул капризе, но исправлять тут что-нибудь было уже поздно…
В «Росинанте» я просмотрел рукопись. На полях страниц то и дело попадались вопросительные и восклицательные знаки. Они были аккуратные, цветные и сочные, то синие, то красные, и сама старательность их начертания понуждала к какой-то немой робости перед ними и в то же время рождала недоверие к самому себе. Мне надо было сохранить – хотя бы до вечера – ощущение моего радостного утра, и я поехал за город и занялся «Росинантом». Я почистил его внутри и снаружи, потом нарвал одуванов и гирляндой из них окантовал кромки сидений.
В городе было почти знойно. Дома я принял душ, сделал из пяти яиц глазунью, и она оказалась такой же, как и утром. У меня оставалась еще уйма времени, и по дороге к издательству я купил две бутылки румынского шампанского, коробку марокканских сардин, халу и килограммовую банку маринованных слив. Покупки я сложил на заднее сиденье. Мне было хорошо, что они есть и лежат там, и я поехал с недозволенной скоростью, и у подъезда издательства увидел Лозинскую. Одну. Она оглянулась по сторонам и сухо сказала мне издали, что Вера Ивановна выйдет позже.
– Вы не могли бы проехать немного вперед? За угол?
Я сказал «Ради бога» и поехал вперед, за угол, а она пошла вслед за мной по тротуару. У нее был какой-то надменно-брезгливый вид, и я подумал, что она, наверно, горда и глупа, как цесарка. Мне стало жаль обещанного ей снимка Хемингуэя – любого, но тут уже ничего нельзя было поделать, и оставалось только гадать, какой из них она выберет.
За углом я остановился и стал ждать, загодя приоткрыв переднюю дверцу, но она подошла к «Росинанту» с моей левой стороны, и вид у нее был по-прежнему надменный.
– Понимаете, товарищ Кержун, я не посчитала нужным сказать в свое время Вере Ивановне, что вы… помогли мне однажды, – сказала она смущенно и насильно.
– Подвезти матрац? – догадался я и не стал выходить из машины.
– Ну да, – недовольно сказала она. – Поэтому ваше обещание подарить мне снимки Хемингуэя, которые я будто бы уже видела, прозвучало для нее… немного странно.
– Я просто обмолвился, – сказал я. – Вы их заметили только теперь. Это вас устраивает?
– Но ведь вы сказали, что я видела снимки раньше… Их нельзя повернуть обратной стороной? Чтобы они просматривались через стекло?
– Пожалуйста, – сказал я. – Но каким образом я узнал, что они вам понравились? Вы, значит, сказали мне об этом?
– Да. Это было, допустим, три дня тому назад. Я вас случайно встретила в городе…
– Не получается, – сказал я сочувственно. – Я ведь только вчера вечером вернулся с озера, и мы встретились с вашим Владыкиным на помойке. Забыли?
– Ах да!.. Какой всё же общительный у вас характер! – досадливо сказала она.
– Разве нельзя объяснить вашей подруге, почему иногда об одном скажешь, а о другом умолчишь? – спросил я. Она искоса и как-то пытливо посмотрела на меня, но сказать ничего не успела, потому что к машине подходила Вераванна. Я вышел на тротуар и распахнул обе дверцы машины – переднюю и заднюю, кому, дескать, где нравится, и, может, из-за того, что позади неприкрыто и откровенно лежали бутылки, обеим женщинам понравилось первое сиденье. Тогда у них произошла короткая заминка – они мягко столкнулись и молча отступились от дверцы, ожидая одна другую, но вторичного столкновения не последовало: Вераванна порывисто села сзади, а я немного повозился у радиатора, чтобы скрыть лицо.
– Нам обязательно ехать через центр?
Это спросила меня Лозинская, обыскивающе оглядев улицу. Она до такой степени съежилась на сиденье, прижавшись к дверце, что на нее было жалко смотреть, и я подумал, что ей лучше бы не ехать, или пересесть к Вереванне и спрятаться там за гирляндой одуванов. Центр я миновал окольными переулками, и ехал как при погоне, заглядывая в зеркало, – мне передавалась тревога соседки по сиденью.
– Что вы там видите? – беспокойно спросила она, как только мы выбрались за город. Я сообщил, что сзади нас на дороге никого нет.
– А кто там может быть? – неискренне, как мне показалось, удивилась Вераванна.
– Не знаю, – сказал я. – Просто мне не нравится, когда тебя настигает какая-то машина…
– Почему?
– Тогда у меня пропадает ощущение независимости, а от этого порывается связь с миром, – сказал я.
– Господи, Антон Павлович, вы думаете, что с нами обязательно разговаривать так вумно? – засмеялась Вераванна – ей там было, видать, хорошо среди одуванов и бутылок. Лозинская выпрямилась на сиденье и, взглянув на меня черными, озорно косящими глазами, спросила почти с вызовом:
– Так какую же фотографию Хемингуэя вы мне пожертвуете, товарищ Кержун?
– Любую, товарищ Лозинская, – сказал я. – Даже обе.
– Отлично! Я не откажусь… А зовут меня, между прочим, Иреной Михайловной!
Я убрал с педали правую ногу и шаркнул ботинком по полу машины. «Росинант» неуклюже подпрыгнул и завилял, но я тут же перевел его на прежнюю скорость.
В лесу над ручьем и в самом деле запоздало цвела черемуха, и предвечерне, грустно ныли горлинки, и перебойно яростно били соловьи. Сам ручей был с гулькин нос, но вода в нем светилась опалово и настойно, как июльский мед, и у песчаного дна то и дело вспыхивали сизые молнии не то форелек, не то пескарей. Тут всё понуждало к молчанью – хотя бы к недолгому, и я боялся, что женщины сразу же начнут ломать черемуху и восторгаться землей и небом, но этого не случилось. Они притихше постояли возле машины, потом как-то крадучись и тесно пошли в глубь леса.
Я разостлал на траве палатку и разложил на ней угощение и оба спасательных круга от лодки, чтоб сидеть женщинам. Круги были заляпаны подсохшей чешуей подлещиков, и я припорошил их головками одуванов от той своей гирлянды и против каждого положил по букету черемухи. Со стороны, из сумеречных кустов, где я собирал валежник для костра, стол выглядел изысканным и пышным, потому что круги казались как золотые венки или чаши. Стол был хорош, только ему не хватало для законченной асимметрии третьей бутылки.
Я разжег костер и пошел искать женщин. Они, притихшие, порознь, стояли на берегу ручья под купой черемухи, вверху над ними гремели соловьи, и я остановился меж двух ракит, и оттуда сказал, как из дверей старинной гостиной, что кушать подано. К столу мы подступили молча. Вераванна рассеянно оглядела его и присела на круг, томная и отсутствующая, прикрыв ноги черемушным букетом, – наверно, опасалась комаров. Круг запел под ней внезапно – нежно, чисто и переливчато, как утренний жаворонок, – из него выпала резиновая затычка. Он пел и постепенно обмякал под Вераванной, а она, парализованная и беспомощная, мученически взглядывала то на Лозинскую, то на меня, – и вскрикивала тонко и погибельно:
– О боже мой! Что там такое? О боже!..
Я не успел ни помочь ей встать, ни объяснить причину звучания круга, – на Лозинскую тогда обрушился приступ безудержного изнурительного смеха: она ничком упала на палатку, обняв голову руками, – наверно, не хотела ничего слышать и видеть, и я захохотал вслед за ней. Было невозможно ни удержаться, ни подумать о неуместности такого своего поведения, потому что тогда возникал облик Верыванны, сидящей на круге, и становилось еще хуже. Смех двоих над третьим обиден – тут создается своеобразная цепная реакция, и я так же, как и Лозинская, не мог стоять на ногах и не хотел ничего слышать и видеть. Когда нам полегчало, Верыванны за столом не было. Мы обнаружили это одновременно – и разом поглядели в сторону шоссе.
– Очень глупо, – сморенно сказала Лозинская. – Вы совершенно, извините, невоспитанный человек. Совершенно!
В ее куцей вороной челке застрял одуван – прямо над лбом, а на ресницах висели большие зеленые слёзы, – она вот-вот готова была прыснуть. Я согласился насчет своей невоспитанности, но предположил, что Вереванне не следовало так суетиться.
– Суетиться? Ха-ха-ха…
– Она зря обиделась, – сказал я. – Это больше не повторилось бы.
– С кем?
– С кругом, – сказал я. – Всё дело в прочности затычки.
– Всё дело в непрочности вашего воспитания, сударь. Взять и разразиться над дамой таким пошлым хохотом… Веру Ивановну нужно сейчас же догнать и уговорить сесть в машину, слышите? И ведите себя, пожалуйста, при этом серьезно.
– Конечно, – сказал я, – но вам тогда надо будет сесть сзади, чтобы я вас не видел. Вы вся набита смехом. Снимки заберите сейчас.
– Оба? А вам не жаль будет?
– Потом – возможно. А сейчас – нет. И уберите, пожалуйста, со своей головы одуван, а то Вера Ивановна решит, что это я вас украсил, – сказал я. Она осторожно и опасливо, как пчелу, высвободила из волос одуван и оставила его на ладони – узкой и маленькой, отсвечивающей какой-то хрупкой голубизной. Я принялся разорять стол, а она взяла свой букет черемухи и пошла к ручью. Там по-прежнему курлыкали горлинки и били соловьи, и она притулилась на корточки возле ручья, по-детски выстрочив колени и плечи, и, былинку за былинкой, стала опускать на воду черемуху, уплывавшую от нее белым рассеянным косяком. Я всё это проследил, и стал ждать ее в машине, положив снимки на заднее сиденье, а когда она пришла и села там, спросил, о чем было гаданье над ручьем. В зеркале мне было видно, как она поочередно подносила к лицу снимки, дольше всего задерживая взгляд на том из них, где Хемингуэй был в лодке, и глаза ее при этом косились к переносью, и мне казалось, что она готова заплакать.
– Так о чем же вы гадали над ручьем? – повторил я настойчиво.
– Гадала? Я? У меня, Антон Павлович, давно всё предрешено… без гаданья.
Она проговорила это как ребенок, когда его заступнически утешают, а ему трудно забыть обиду. Я хотел посоветовать ей спрятать снимки, но вместо того – совсем неожиданно для себя – спросил, сколько ей лет.
– Мне? Уже тридцать один, – сказала она.
Я завел мотор и поехал к шоссе на первой скорости, стараясь миновать ухабы и корни сосен.
Веруванну мы увидели, как только выбрались на шоссе. Она шла к городу – далеко уже, крепкая и ладная, как ступка, клонясь вперед и неколеблемо глядя перед собой. Перед тем как настичь ее, я спросил у Лозинской, как мне поступить: извиниться за одного себя – или за нас обоих, и она сказала: «Наверно, за обоих».
– А за круг тоже?
– Нет-нет! Она тогда совсем обидится… Мы лучше подойдем к ней вместе. Господи, я ведь не хотела ехать, но она настояла, а теперь вот…
– Круг запел бы и без вас, – сказал я. – Вы представляете, как это было бы дико – смеяться мне одному?
– Вы бы не смеялись… Виновата ведь я.
– Много вы знаете обо мне, – сказал я. – В детприемниках ведь не учили этике поведения!
– В детприемниках? – удивленно спросила она.
Мы в это время догнали Веруванну. По тому, как чинно ступала она по асфальту шоссе, можно было заключить, что легкое примирение между нами невозможно. У Лозинской был растерянный и беспомощный вид. Я сказал ей, чтобы она оставалась в машине; тогда, возможно, всё обойдется благополучно. На меня Вераванна не взглянула и не сбилась с походки. Я покаянно извинился за свой дурацкий смех, затем заступил ей дорогу и встал на колени, раскинув руки.
– Вы что, успели напиться? Перестаньте паясничать! – сказала она. У меня, по-моему, был чересчур серьезный вид, потому что я не мог не подумать тогда о том, как будут выглядеть мои брюки, когда я поднимусь с размякшего от дневного солнца асфальта.
– Садитесь в машину. Сейчас же! – сказал я не очень учтиво, решив, что ее интеллектуальная меблировка не шибко богата, раз ей чуждо всяческое чувство юмора.
– Интересно, а что будет, если я не сяду? – не без опаски спросила она, но я в это время поднялся с коленей. На брюки и в самом деле налип клейкий пыльный гудрон, и его рваные круглые пятна были похожи на ветошные заплаты. Я попытался было сковырнуть их щепкой, но Вераванна решительно оттолкнула мою руку: по ее мнению, это надо смыть сперва теплым раствором лимонной кислоты, а после отпарить под утюгом густым раствором чая.
– Китайского или цейлонского? – спросил я. Она считала, что лучше всего такие пятна отпаривать грузинским чаем через холстину, но ни в коем случае не пользоваться вафельным полотенцем. Что, у меня не найдется дома куска холстины? Я сказал, что, может, и найдется, взял ее под локоть и повлек к машине. Локоть у нее был горячий, потный и пухлый, и мне подумалось, что румынское шампанское ей пришлось бы сейчас очень кстати.
– Ты только глянь, Ириш, что он с собой сделал! – сказала Вераванна Лозинской о моих брюках. – Я думаю, что чаем отпарится, правда?
Не то мне, не то ей Лозинская благодарно сказала, что, конечно же, отпарится, и они сели вместе на заднем сиденье. Было еще сравнительно рано, – солнце только что свалилось к горизонту, и мы вполне смогли бы успеть выпить шампанское, но меня слаженным дуэтом попросили ехать в город. Я поехал медленно, и мне всё время хотелось заглянуть в смотровое зеркало на Лозинскую, – мол, я же говорил вам, что всё обойдется. Она, наверно, догадалась об этом и, боясь, что я вот-вот как-нибудь нанесу ущерб самолюбию Верыванны и делу мира, неожиданно и деловито спросила меня, что я намерен делать со своей рукописью. Я пропустил обгонявший нас грузовик и сказал, что съем ее с марокканскими сардинами под румынское шампанское.
– А вы не паясничайте, я ведь спрашиваю серьезно, – с чуть заметным нажимом на слове «не паясничайте» сказала Лозинская. – Почему бы вам не послать ее в журнал?
– В «Октябрь»? – спросил я.
– Н-нет. Для этого издания ваша вещь не подойдет. Она ведь бессюжетна, сентиментальна и в то же время… как бы это сказать? Местно незаземлена, что ли? Понимаете?
– А кроме того, у вас там сквозит какая-то тайная неприязнь к цветным, – заметила Вераванна. – Можно сказать «цветной»? – спросила она у Лозинской, но та не знала сама. Я сказал, что никакой неприязни к темнокожим в моей повести нет. Просто, сказал я, они показались мне ленивыми и попрошайными, но в этом ведь виноваты колонизаторы, не так ли?
– Конечно, они! – живо сказала Лозинская, а я тогда глянул в зеркало и встретился там с ее острыми черными глазами.
– Повесть надо послать в какой-нибудь молодежный журнал, – проговорила она мне в зеркало. – Только без этих… красочных обложек. И «огоньковских» букв. Понимаете?
Я кивнул и до предела сбавил скорость у «Росинанта».
На въезде в город они решили выйти. Я хотел им сказать, что страх – это наследие рабов и груз виноватых, но слова эти показались мне слишком книжными, и пришлось промолчать. Мы расстались дружески, но не очень весело, и я пообещал им сохранить шампанское до другого раза, а Вереванне сказал, что проделаю с брюками всё, что она советовала.
Дома, как и вчера, на меня напала тоска, и прошедший день предстал передо мной, убогий событиями, прожитый бесцельно и нелепо, – в памяти от него ничего не осталось, кроме разве потешного пения круга под этой глупой Вераванной. Я не мог ответить себе, зачем мне понадобилось приглашать этих женщин в лес, тратиться на вино, распускать павлином хвост перед ними. И снимки подарил… И брюки испортил… А Лозинская, конечно, замужем. Иначе на кой черт ей понадобился бы двуспальный матрац…
Я опять вымыл пол, опять подсчитал остатки денег и долго пытался вернуться в сегодняшнее утро, но из этого ничего не получилось. Дом уже спал, – в нем не светилось ни одного окна, когда я спустился со своего четвертого этажа. Прямо над двором отшибно-костерным огнем мерцала какая-то большая лохматая звезда, и фары «Росинанта» лучились больным красноватым отсветом. Я открыл багажник и достал оттуда обе бутылки и снедь. Я не знал до этого, что замок у багажника издает такой отвратительный ржаво-скрежещущий звук, если крышку опускать тихо, а не хлопком. Звук этот сразу заставил меня оглянуться на окна дома, и к подъезду я пошел на носках ботинок, как вор, – я боялся почему-то Владыкина…
В шампанском чувствовался привкус горелых слив, и пахло оно болотом.
Работу я стал искать на второй день. За неделю я побывал в двух редакциях газет, в областном управлении культуры, в радиокомитете и еще в трех просветительно-деловых облконторах. Может, оттого, что мне не хватало уверенности в себе, а возможно, и по другой причине, – «ну какое им собачье дело до меня!» – я держался с кадровиками напряженно и неестественно, не мог сесть на предлагаемый стул, на вопросы отвечал отрывочно и почему-то хрипло, и руки зачем-то держал за спиной. Самой трудной минутой был уход, преодоление тех самых трех или четырех шагов от стола до дверей, когда ты знаешь, каким взглядом провожают тебя, неудачливого просителя, в спину, когда ноги плохо слушаются, а руки пора убирать не то в карманы, не то опускать по швам. В этих случаях меня выручал «Росинант», стоявший у подъезда, – я нырял в него и некоторое время сидел расслабленно и тихо, проникаясь к нему, как к живому существу, чувством благодарной признательности за его безопасность, преданность и верность… В те дни я жил неприкаянно и отчужденно, – рядом с занятыми людьми мне становилось беспокойно, почти стыдно за себя, неполноценного и праздного, и в магазин я ходил раз в день, рано утром, когда там бывали одни домохозяйки да пенсионеры. В промежутки между поисками службы я придумывал себе различные дела по квартире – мыл и мыл пол, протирал стёкла окон, потом уходил к «Росинанту» и возился с ним. Ему полагалось еще пройти километров шестьсот до очередной смазки, но я всё же решил съездить на профилактическую станцию, – в конце концов он же безъязыкий, он же не скажет, когда и что ему хочется!
Был ранний, низенький и хмурый субботний день. На набережной светло и чисто цвели каштаны, и под ними гуртились подростки с рюкзаками и с большими новыми гитарами. Рюкзаки они держали в руках, а гитары за спинами, для этого к ним были приспособлены шпагатные лямки-помочи. Ребят следовало бы подбросить за город или куда они там собирались, но для «Росинанта» их было слишком много.
На профилактической станции я оказался третьим: у запертых железных ворот стоял задрипанный «Запорожец», а за ним – «Волга». Владелец ее приплюснуто ник за рулем, и мне виднелась лишь его свечно-желтая бритая голова на короткой шее, сдавленной стоячим воротником кителя военного времени. «Волга» была далеко не первой свежести, но без единой царапины, с пронзительно-колючим блеском бампера и благополучно-уверенной осадкой, насплошь застланная внутри дорогим ворсистым ковром. Всё в ней: сыто-кастрюльная голубизна, свободный от какой-либо поклажи простор углубления за задним сиденьем, сквозной малиновый жар хорошо вылизанных стекол задних фонарей, глубокий и резкий протекторный рисунок на колесах, – всё говорило о том, что эта машина сама ездит на хозяине, а не он на ней, и это почему-то раздражало и звало к отпору. У меня было сильное желание взять и плюнуть на лунно сияющий колпак этого чужого колеса, в котором я, проходя мимо, отразился далеким уродливым карликом.
Обладатель «Запорожца» был маленький рыжий паренек с ярко-голубыми глазами под белыми ресницами. Он сидел на корточках перед носом своей машины и перочинным ножом соскребал с фары известковую блямбу, похожую на восклицательный знак.
– Грач, наверно, обделал, – свойски сказал он мне, – и так, понимаешь, прилипло, ну прямо силикатный клей. А я не видел… Не знаешь, кто нынче на смазке? Мишка или Володька?
Я не знал.
– Хорошо, если б Володька, а не тот курвец. Понимаешь, принимает, гад, в лапу помимо квитанции, а в масленки обязательно набьет какого-нибудь дерьма заместо солидола. А она же не пожалится, она же небось молчит? – показал он на моего «Росинанта». Я сказал, что еще как, мол, молчит.
– В том и дело! Такой зловредный халтурщик, прямо злость берет… В прошлом году он мне отработанное масло засобачил в мотор. По рублю литр. Его тогда ни на колонках, ни тут не было… А машина ведь не скажет, она же немая, правда?
– Конечно, немая, – сказал я.
– Тогда какого же хрена он так делает?
Я подумал о своем недавнем желании плюнуть на чужое благополучное колесо и предположил, что Мишка-смазчик, возможно, поступает так из чувства святой пролетарской мести имущим.
– Ну, тоже мне нашел имущего! – не то о себе, не то обо мне сказал рыжий брезгливо. – Вот кто имеет машину, понял? – жестко, но вполголоса проговорил он, кивнув на «Волгу».
– Ни черта он не имеет! Это она его имеет! – нарочно громко сказал я. Собеседник мой засмеялся и погладил своего «Запорожца», как гладят послушного и веселого щенка.
Касса станции открылась в половине девятого. На смазке стоял Володька. Он тоже принимал в лапу, но машину обрабатывал старательно, и к одиннадцати часам я был свободен. День так и не разгулялся, – небо было серым и низким, и на нем ярко выделялась зелень городских деревьев. Как всегда перед окладным дождем, над газонами остервенело и молча сновали стрижи, и я подумал о ребятах с гитарами: уехали они или нет? Если у них есть пара палаток, то бояться дождя нечего, только костер надо разводить под густой елкой, но об этом надо знать. Как и обо всём, что ты собираешься делать… Их как будто было человек семь или восемь с четырьмя рюкзаками и тремя гитарами. Рюкзаки и гитары, пожалуй, влезут в багажник, а их самих я смогу вывезти за два раза… Мне только не надо спешить, и день закончится вполне занято и хорошо. Вполне!..
Но парней на набережной не было. Тогда пошел спорый, отвесно-тихий дождь, – Звукариха такой называет «огуречным». Он подряжается не на день и не на два, и огурцы под ним будто бы вырастают за одну ночь. Хорошо бы знать, израсходовала она те мои дрожжи или нет? Наверно, еще нет, но привезти ей всё равно что-нибудь надо. Хотя бы ту вчерашнюю банку маринованных слив. И вторую бутылку шампанского. Она когда-нибудь пробовала шампанское? Наверно, нет… Ну вот и пусть попробует. А я напьюсь самогонки и вернусь только в понедельник. К вечеру… Я бы всё проделал так, как решил, если бы не встретил Лозинскую: она, как мне показалось, бесцельно и неприкаянно шла куда-то вдоль набережной. На ней был не по росту длинный странно серебристый плащ с островерхим капюшоном, и за мглистой сеткой дождя плащ этот делал ее похожей на монашка или попика в ряске. Когда мы поравнялись, она вскользь и невидяще посмотрела на «Росинанта» и прошла вперед. Я тоже поехал дальше, но в зеркало видел, как она внезапно остановилась и оглянулась, откинув с головы капюшон. Может, ей не следовало это делать – откидывать капюшон и стоять непокрытой под дождем, – я бы тогда поехал и поехал своей дорогой, и мы, возможно, никогда бы больше не встретились, но она стояла и стояла, глядя в мою сторону, а дождь лил и лил, и я затормозил и дал задний ход. Всё дело было в дожде, – я только поэтому ударом руки поторопился открыть правую переднюю дверку, а Лозинской крикнуть: «Садитесь скорей!». Потом, позже, она говорила, что испугалась тогда этого моего окрика, решив, что мне срочно нужна какая-то ее помощь. Она почему-то обежала машину не спереди, а сзади, и на сиденье опустилась как при толчке, и плащ ее гремел, как железный.
– Он не из фольги? – спросил я после того, как мы поздоровались.
– Из фольги? Нет, конечно, – сказала она. – У вас что-нибудь случилось?
– Когда? – не понял я.
– Ну сегодня. У вас всё в порядке?
Мокрые волосы ее спускались витыми косичками к заушью, отчего лицо казалось продолговатым и совсем детски-девчоночьим. Я подумал, что речь идет о моем несуразном костюме: в тот день я нарочно – наполовину в пику, а наполовину в утешение себе – надел старую вылинявшую тельняшку, заскорузлую морскую брезентовую куртку, такие же брюки и кирзовые сапоги. Ими, понятно, не шаркнешь, да мне и не хотелось этого. Не трогаясь с места, я с непонятным для себя злорадным удовольствием объяснил, что значит эта моя одежа. У Лозинской было какое-то полуироническое выражение лица.
– И кому же вы мстите? Всем нам, маленьким? Или только себе, большому?
Это было неожиданно и обидно, и я ничего не ответил, а она вдруг предположила, как гадалка:
– У вас, очевидно, нет друзей. Я права?
Я сказал, что права. Друг, сказал я, это тот, с кем тебе свободно и безопасно.
– Что имеется в виду?
– Бескорыстие в отношениях, – сказал я.
– Да, но вот эта ваша… неестественность, что ль, непростота, куражность… Я, например, никак не пойму, что заставило вас, извините, нести мне какую-то чепуху о фальшивых рублях, помните? Зачем это вы? От недоверия к людям? Или от обиды на них?
– Вы считаете, что поступили «доверчиво», кинув мне тогда рубль? – спросил я.
– Нет, это было плохо. Но я ведь не знала…
– Я тоже, – сказал я.
– Значит, это у вас своеобразное защитное свойство?
– Возможно. Я ведь безработный неудачник, – сказал я неизвестно зачем и с таким затаенно-взыскующим и горьким чувством, будто во всём этом была виновата она, Ирена Михайловна Лозинская, и больше никто. Она с каким-то веселым блеском в глазах выслушала, как я искал службу, и мне было непонятно, что ее забавляло.
– И ни разу не присели, когда вам предлагали?
У нее косили глаза и трепетали крылья ноздрей.
– А вы бы присели? – спросил я.
– Не знаю. Наверно, тоже нет… Ну, и вы решили, что ни в одном ларьке вам уже не продадут коробку спичек? У вас большая семья?
– Я один, – сказал я.
– Совсем?
– Отца с матерью у меня…
– Не надо, – перебила она, – я уже знаю.
– О чем? – спросил я.
– О детприемнике… А живете вы как? То есть я хотела сказать: где?
Я объяснил и заодно рассказал, как впервые повстречал Владыкина, когда клеил лодку.
– Ну вот и хорошо! И отлично, – сказала она с внезапной гневной неприязнью неизвестно к кому. – Вы в самом деле были на Кубе?
– Не только там, – сказал я.
– Ну вот видите! И хорошо! И отлично! Чего же вы… потерялись? Возлагали розовые надежды на повесть, да?
Я промолчал и закурил.
– Понятно, – сказала она себе. – А почему мы стоим здесь?
Дождь лил, и не было надежды, что он когда-нибудь прекратится. Тротуары были пустынны. Мне не хотелось сразу, теперь же, ехать на улицу Софьи Перовской, – мне непременно нужно было еще что-нибудь рассказать о себе этой чужой маленькой женщине в большом нелепом плаще. Я тихонько двинулся вдоль набережной, и когда включил дворники, то заметил, что Лозинской не нужно, чтобы смотровое стекло было прозрачным.
– Вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь увидел? – спросил тогда я совершенно зря и, конечно же, невоспитанно. Она сухо ответила, что это ни для кого не важно, и я извинился.
– Только, ради бога, не переходите на свой прежний бравадный тон, – серьезно сказала она. – Он вам совсем не идет.
– Как вам этот серебряный плащ, – сказал я тоже серьезно.
– Правда, я в нем как поп? – обрадовалась она чему-то.
– Вылитый, – сказал я, а она засмеялась, но без доброты и веселости. Сквозь смутное потечное стекло мне было плохо видно, поэтому я ехал медленно, прижимаясь к тротуару и никуда не сворачивая, – набережная в конце концов выводила за город, где я мог, наверно, включить дворники.
– Кто были… ваши родители? – за два приема и почему-то полушепотом спросила вдруг Лозинская, не глядя на меня.
– Мать врач, а отец военный, – ответил я. «Росинант» тогда подпрыгнул: я нечаянно выжал до конца педаль газа, и Лозинская, охнув, откинулась на спинку сиденья.
– Их… уже нет?
– Конечно, черт возьми! – сказал я. Ей не нужно было в ту минуту спрашивать меня об этом, да еще таким участливым голосом. Мы уже выбрались за город, и я включил дворники и сбавил скорость. Лозинская сидела в прежней позе, и глаза ее были крепко зажмурены, и в их уголках я различил разбег наметившихся морщинок. Я попросил прощения за нечаянную резкость своего ответа, и попытал, знает ли она, как поступают взрослые сироты, когда их неожиданно приветит посторонний человек. Она сказала, что знает.
– Как же?
– Они тогда… почему-то плачут, – прошептала она и заплакала: сразу же, следом за сказанным, заплакала некрасиво, напряженно, с затяжными и задушенными рыданиями.
Я подрулил к обочине дороги и заглушил мотор. Мне еще не приводилось утешать рыдающих женщин, и я не знал, что́ в таких случаях полагается говорить и делать. По ее лицу на плащ веско скатывались большие, голубого свечения слёзы, и несколько штук я снял щепоткой пальцев прямо с ресниц, а потом взял и поцеловал ее в лоб – тоже издали и молча. Это помогло ей неожиданно и мгновенно: она отшатнулась к дверце и взглянула на меня изумленно и гневно, и глаза у нее были настойно-темные и тревожные.
– Почему вы остановились?
Я завел машину и поехал вперед. Дождь по-прежнему лил отвесно, и теплый асфальт дороги курился белым курчавым паром. Наверно, это привлекало на дорогу жаб, и приходилось следить за ними и ехать зигзагами. Я понимал, что мне надо сказать что-нибудь в свое оправдание – но ничего не приходило на ум. С этим моим утешным поцелуем получилось, конечно, дико, но и она тоже хороша, – разревелась ни с того ни с сего как девчонка, которую укусила оса. Наверно, немного истеричка… Это я подумал о Лозинской под летучее чувство неосознанного сожаления о самом себе, и в ту же минуту она издали и смущенно извинилась за свою блажь. Она так и сказала – «блажь».
– Вам не надо было спрашивать у меня… про взрослых сирот. Только и всего. Понимаете?
– Господи! Да черт с ними! – сказал я с надеждой неизвестно на что. – Мы больше никогда не будем говорить о них, хорошо?
Она насильственно улыбнулась и напомнила, что пора возвращаться. Я развернулся и больше не стал объезжать встречавшихся на дороге жаб. Дождь всё лил и лил, и мы ехали молча. При въезде в город я незаметно выключил дворники, а она быстро взглянула на меня и сказала:
– Нет-нет. Вот здесь, пожалуйста, остановитесь и слушайте сюда.
«Сюда» она произнесла подчеркнуто, как учительница перваков. Я остановился и закурил.
– Что вы кончали?
Я сказал.
– В Литинститут принимают ведь с готовыми и самостоятельными работами?
– Я писал и даже печатал стишки, – признался я, и после этого выяснилось, что в издательстве есть свободная должность младшего редактора. Оклад около сотни. Принять меня обязаны, потому что я молодой специалист. Да-да, важен диплом! Его надо принести вместе с заявлением в понедельник. Хотя нет, это нехороший день. Лучше во вторник, часам к двенадцати. Когда предложат стул, надо будет сесть. Обязательно. Понимаю ли я? И хорошо, что «Куда летят альбатросы» не отосланы еще в журнал: в повести надо кое-что почистить, там встречаются сопли-вопли… Между прочим, это в Литинституте рекомендуют переплетать рукописи и наклеивать на них буквы из «Огонька»?..
Ей захотелось выйти из машины тут же, почти за городом.
– Вы же промокнете, – предостерег я, но она потеребила полу своего плаща и сказала, что он ведь из фольги.
– Ну до свиданья, – сказал я, – большое вам спасибо!
– За что?
– За меня, – сказал я. Она накинула капюшон на голову, и в глубине его глаза ее стали еще настойнее.
К Звукарихе я не поехал…
Моим рабочим местом в издательстве оказался тот самый третий барьерный стол в комнатенке рядом с туалетной. На нем грудился вылинявший бумажный хлам, пахнущий сухим древесным тленом, и я высвободил там небольшое квадратное пространство, куда положил свою металлическую шариковую ручку и сигареты. Мне никто не сказал, что́ я должен делать, а Вераванна и Лозинская почему-то были хмуро настороженны и молчаливы. Они сразу же вникли в рукописи, а я присел за свой стол и выкурил сперва одну сигарету, потом вторую, затем третью. Я сидел, вертел свою многоцветную японскую ручку, курил и думал, что мне тут в этой комнате не прижиться. Да и вообще… Ну какой из меня, к черту, редактор? Зря я послушался эту женщину… И чего это она ожесточилась? Сидит, как…
Я закурил новую сигарету, и в это время Вераванна встала из-за стола и вышла из комнаты, крепко прихлопнув дверь.
– Не обращайте внимания, – тихо и сдержанно сказала Лозинская, не отрывая глаз от рукописи. – Это только сначала, а потом у вас всё наладится.
– У нас? – спросил я.
– Да, с Верой Ивановной… Ей не верится, что вы поступили сюда помимо меня, понимаете? И не сидите такой букой. Возьмите и расскажите ей что-нибудь занятное.
– Ей? – опять спросил я.
– Ну не мне же, господи! – сказала она. – А кроме того… кроме того, позвольте вам заметить, что в присутствии женщин курят только с их разрешения. Верины авторы, между прочим, знают это хорошо.
– А ваши? – глупо спросил я.
– Я ведь сама курю, – сказала она.
Я спрятал в карман сигареты и уложил на прежнее место стола выгоревшие бумаги. За окном был смиренный серый день. В такую погоду в Атлантике жируют поверху акулы, а сельдь и сайра, которых мы ловили, уходят в глубину… Как выдуманный собой же многодневный радостный праздник, как какая-то складная и захватывающая дух сказка из детства представилась мне моя матросская работа на траулере, и я удивился, что никогда до этого дня не вспомнил о ней с такой острой тоской и благодарностью. Я решил не объясняться с директором издательства и просто уйти, будто и не появлялся тут, тем более что никаких документов в подлиннике я ему не сдавал. Всё это пришло ко мне в одну какую-то дикую секунду, и я еще раз оправил на столе чужие бумаги и поднялся на ноги.
– Не будьте мальчишкой, Кержун! Это ведь в конце концов просто недостойно!
Меня тогда радостно и как-то обнадеживающе поразили эти слова Лозинской, – как она могла разгадать мой замысел с уходом! Она сидела, глядя в рукопись, и крепкий выпуклый лоб ее пересекала прядь темных глянцевитых волос. Потом – месяца через три – она уверяла, что будто бы отгадала то мое намерение, с которым я «сумасшедше» пошел к ней из-за стола, – «ты хотел насильно поцеловать меня на прощанье и, конечно же, получил бы пощечину», – но я не уверен, что действительно намеревался поцеловать ее тогда, да еще насильно. Нет, я только хотел проститься, а как – только ли на словах или за руку – осталось неизвестным, потому что этому помешал Владыкин. Он вошел в комнату, когда я был уже у стола Лозинской, отшатнувшейся к окну вместе со стулом. Мне подумалось, что вошла Вераванна, и, не оглядываясь, я протянул Лозинской свою японскую ручку.
– Пожалуйста, в ней полный спектр, – сказал я, – и пишет замечательно!
Она поблагодарила и рывком взяла у меня ручку. Владыкин в это время поздоровался с нами, и я обернулся и поспешно подал ему руку. Он слабо и коротко пожал ее – и поглядел на меня с опасливым недоумением.
– Вот это, товарищ Кержун, надо отредактировать и вернуть, – сказал он, передав мне жиденькую рукопись, напечатанную на плотных листах меловой бумаги. – Устроились?
– Да-да, благодарю вас, – с полупоклоном сказал я.
Он кивнул, оправил нарукавники и пошел к дверям, а я опять невольно и машинально поклонился ему в спину. Мне надо было немного посидеть и отдохнуть, – сердце у меня билось тревожно.
– Что он вам дал? – не сразу и тоже устало, как мне показалось, спросила Лозинская.
– Рассказ какого-то Аркадия Хохолкова, – сказал я.
– «Полет на Луну»? Не трогайте в нем ничего, он уже иллюстрирован, набран и сверстан… Прочтите это дня за два, а на третий верните Вениамину Григорьевичу. Скажите ему, что рассказ вам очень понравился, понимаете? И заберите скорей свою дурацкую ручку!..
Тогда как раз пришла Вераванна с кульком леденцов и молча уселась за свой стол…
Рассказ «Полет на Луну» начинался с того, как отец дошкольницы Наташи-украинки космонавт Гнатюк полетел на Луну и в назначенный срок не вернулся на Землю.
К спасательному полету на Луну готовился старый летчик-космонавт профессор Бобров.
Друзья девочки – русский мальчик Петя и негритенок Том – решили отправить с ним щенка Тобика на розыски Наташиного отца, но потом передумали, – будет лучше, если полетит Петя.
Они притащили на ракетодром большой ящик, вежливо поздоровались со стариком сторожем, который сидел в своей проходной будке и пил чай, и сказали ему, что этот их ящик надо срочно отправить на Луну.
Сторож согласился, но полюбопытствовал, что́ в нем такое.
Ребята сказали «продовольствие», и сторож распорядился заносить груз.
Едва они успели запихнуть в ракету тяжелый ящик, как раздалась команда к старту.
Яркая огненная вспышка озарила небо.
Стоя в толпе, ребята видели, как ракета с ревом взметнулась вверх.
Через секунду она исчезла в звездном небе.
Ребята облегченно вздохнули:
– Порядок! Теперь Наташин папа будет спасен!
Ракета была далеко от Земли, когда сидевший в ней профессор беспокойно оглянулся по сторонам.
– В кабине посторонний шум, – озабоченно сказал он. – И, кажется, из этого ящика! Надо проверить.
Профессор обомлел: в ящике сидел Петя.
– Позвольте! Как вы сюда попали?
Мальчик смущенно оправдывался:
– Извините, профессор, что вот так… Я обещал ребятам разыскать Наташиного папу… Ой, ой! Держите меня, – закричал Петя, кувыркаясь в воздухе и перелетая из одного угла кабины в другой.
– Не волнуйтесь, – профессор засмеялся. – Всё идет как надо. Скоро будем на Луне.
– Но я же не могу ходить по полу! Ой, ой!
– Это невесомость, мой дорогой космонавт. Вам надо бы знать.
Ракета плавно опустилась на дно лунного кратера. И в тот же миг во все стороны полетели радиосигналы:
– Р-1! Р-1!.. Я – Р-2… Прибыл на ваши розыски! Отвечайте! Перехожу на прием!
Ракета Р-1 молчала. И космонавты вышли на поиски.
Профессор едва поспевал за Петей.
– Осторожно, молодой человек! Вы слишком увлеклись спортом. Мы еще не нашли пропавшей ракеты.
– Тут хорошо прыгается, – восхищался Петя, одним махом взлетая на высокую скалу.
– Еще бы! Здесь, на Луне, всё весит в шесть раз меньше! – заметил профессор.
Вдруг дальние скалы покрылись огненными вспышками.
– Метеориты! Скорей под скалу! – закричал профессор, увлекая Петю за собой.
Каменный дождь обрушился на лунную поверхность. Неожиданно профессор споткнулся и упал.
– Профессор! Что с вами? – испугался Петя.
– Нога. Кажется, я повредил ногу, – простонал ученый.
– Я понесу вас! – предложил Петя. – Держитесь крепче! Вот так! Ведь на Луне всё весит в шесть раз меньше!
– Спасибо, мальчик! Только мы не успеем. Уже темнеет.
– Я вижу огонек нашей ракеты! – бодро воскликнул мальчик и быстро побежал по скалам с профессором на закорках.
Но Петя ошибся. Это была вовсе не их ракета.
Петя постучал по стальной обшивке ракеты, и из люка выглянул незнакомый человек.
Петя сначала удивился, но потом узнал отца Наташи.
– Как хорошо, что я вас нашел! – обрадовался мальчик. – Помогите, пожалуйста. Профессор ранен.
– Нет-нет! – замахал руками профессор. – Мне уже лучше!
– Товарищ Бобров! – по всем правилам доложил космонавт. – Наша ракета ликвидировала повреждения и готова к полету.
– Отлично. Все возвращаемся на Землю.
Сколько людей собралось на Красной площади! Героев засыпали цветами. Наташа, сияя от счастья, кинулась к отцу.
– Папа! Папа! Я знала, что Петя тебя найдет. Обещал – и нашел!
На этом рассказ кончался. Я прочел его четырежды, – а вдруг чего-нибудь не понял, – и, наверно, от той пристальности, с которой вглядывался в строчки, у меня заболел затылок. Мне было впору закурить и поделиться с Лозинской впечатлением о рассказе, и я украдкой взглянул на нее, отгородившись от Верыванны локтем. Лозинская сидела в косой неудобной позе, почти полуотвернувшись ко мне спиной, и сосредоточенно отчеркивала что-то в рукописи толстым цветным карандашом. Я подождал и посмотрел на нее снова. Потом еще и еще. Тогда она выронила карандаш, прикрыла лицо ладонями и пожаловалась Вереванне на головную боль.
– Просто нет спасения, – сказала она. – Я, наверно, пойду домой.
Она отняла ладони от глаз, и я увидел в них откровенный, насильно задушенный смех. Я для нее пожал плечом, а для Верыванны щелкнул по рассказу пальцем, – так ведь можно, например, сгонять и муху, поскольку им теперь везде раздолье. Когда Лозинская ушла, у нас в комнате наступила глухая емкая тишина, какая бывает только в потемках какого-нибудь нежилого чулана. Внезапное ощущение пустоты неизменно связано с неподвластной человеку летучей грустью о какой-то безотчетной утрате, – сердце тогда начинает тосковать и сожалеть о чем-то без вашего спроса и чувствовать себя сиротой. По крайней мере именно это испытал тогда я. Вераванна с обиженным видом вкусно сосала леденцы, не отрываясь от рукописи и не переворачивая страниц. Мне было непонятно, почему ей не следует знать, что я «устроился» в издательство по совету Ирены Михайловны, и с какой это стати я должен развлекать ее какими-то занятными историями? Пошла она ко всем чертям! Курить же можно в конце концов и в коридоре.
Я решил еще раз прочесть рассказ, – а вдруг все-таки недоглядел там чего-нибудь, – но пустая стылая тишина комнаты, нечаянно издаваемый Вераванной сладко-сосущий звук, похожий на чмок линя, когда он пойман и лежит в лодке, сознание того, что я веду себя в высшей степени недостойно, сидя истуканом с женщиной, которой недавно лишь дарил цветы и приглашал в лес на шампанское, – всё это цепеняще обезволило и приплюснуло меня к столу, мешало сосредоточиться, и со стороны я, конечно же, представлял собой вполне законченное жалкое зрелище. Первой не вынесла подвальной немоты нашей комнаты Вераванна. Она за три приема обернулась ко мне вместе со стулом и в упор, заинтересованно, обидчиво и не совсем внятно, потому что рот был несвободен, попросила, чтобы я сказал, пожалуйста, кто меня протежировал.
– Ирена Михайловна, да?
От нее на меня крепко попахло теплой пудрой и сырой мятой. Я подумал и решил, что не понял ее.
– Ну на работу к нам!
– Нет, – солгал я с непонятным самому себе удовольствием. – Мы ведь с Вениамином Григорьевичем живем в одном доме.
– А-а, – сказала она. – Хотите леденцов?
Я предпочел закурить с ее разрешения, и мы опять замолчали.
Остаток того дня я просидел в комнате один, – Вераванна не вернулась с обеденного перерыва. Сидеть было не то что трудно, но просто мучительно, потому что приходилось то и дело принимать деловито-напряженную позу над рассказом, если в коридоре за дверью раздавались мужские шаги, и тут же возвращаться к нормальному состоянию, когда шаги удалялись. У меня болел затылок, ныла спина, а челюсти сводила затяжная нервная зевота: рассказ я заучил наизусть как полуночную уличную частушку, и было какое-то мстительное желание повидать его автора. В коридоре всё ходили и ходили походкой Вениамина Григорьевича, и со мной случилось то, что случается с новичками в океане во время качки: им тогда требуется лимонный сок. В туалетной я привел себя в порядок, сполоснул рот и умылся. До конца работы оставалось еще минут двадцать. Я вернулся в свою комнату и сел за стол Лозинской, – тут было дальше от дверей и ближе к окну. Мне подумалось, что за таким столом можно читать любое, – это же небось в подспорье себе в работе над чужими рукописями она заселила его сработанным кем-то щедрым и искусным, вот-вот готовым крикнуть черным маленьким деревянным грачонком, раскрывшим большой розовый зев; крошечным белым плюшевым щенком, хитро скосившим морду, с пронзительно-карими глазами-монистами; бронзовым пацаном, невинно орошающим спросонья утро нового дня; коричневой обезьянкой, зацепившейся хвостом за ветку зеленой жаркой пальмы… Это всё было расставлено по конечному закрайку толстого полированного стекла, а под ним, в левом верхнем углу, чтоб оставаться на виду, темнел дешевый книжный снимок матери Есенина. Она была по-деревенски низко покрыта темным широким платком в белую горошину, и под его поветью светились чистые, печально-прощающие кого-то глаза, полные горькой мудрости и усталости. Они излучали какое-то гипнотизирующее успокоение, какое-то бессловесно-затаенное не то благословение, не то увещевание, и смотреть на них хотелось долго и покаянно. Под этим же стеклом, но только в правом нижнем углу, лежали оба снимка Хемингуэя, подаренные мной, три открытки, кусок какой-то муаровой ленты и адресный список сотрудников издательства, отпечатанный типографским способом. В списке этом фамилия Ирены Михайловны значилась двойной – Лозинская-Волобуй, и я прикрыл стекло чьей-то тяжкой, как кирпич, рукописью и пересел за свой стол. Я сидел и думал о вечерних зеленых сумерках Гаваны, о платанах, заполненных крикливыми ярко-желтыми птицами. Мне очень захотелось попасть туда снова. Гавана – веселый город, красивый, пахуче-знойный и вкусный, как тамалес – кубинское национальное блюдо из кукурузы. Его завертывают в листья банановой пальмы… Кубинские девушки и женщины похожи друг на друга, потому что носят голубые юбки колоколом и белые платки. Они все там полуиспанки-полунегритянки… Наверно, Лозинская могла бы сойти за кубинку, смело могла, и в ливень ей пригодился бы там ее нелепый плащ… Но что за обрубочный довесок к ее фамилии – Волобуй! Мужнина фамилия? Она могла быть и неблагозвучней, срамней, лично мне это – до лампочки!..
…Перед уходом я достал из-под стекла список и предельным нажимом вымарал слово «Волобуй» своей радужной ручкой. Я решился на это потому, что оно лохматилось бумажными ворсинками и, значит, его уже царапали до меня ногтем…
Номер домашнего телефона у Лозинской был запоминающе легкий, как есенинская строка, – два двенадцать шестнадцать.
На второй день утром была большая гроза, и, когда я подъехал к издательству, сыпанул град. Он сыпанул как из мешка в тот самый момент, когда я остановился под издательским балконом, нависавшим над тротуаром с выносом на мостовую, – тут оказался сухой квадрат пространства, как раз хватавший для «Росинанта». Тогда у меня что-то случилось с замком зажигания: ключ плотно засел в гнезде, мотор не глушился, и я не заметил, как сзади подошла «Волга». Она подошла ко мне вплотную, впритык, потому что ее неприятный, клекотно-распевный сигнал раздался у меня прямо под задним сиденьем. По его тембру и настойчивой требовательности, с которой он повторился, я решил, что прибыло начальство и шофер хочет стать на мое место, под балконом. Я кое-что сказал себе о начальстве и его шофере и проехал вперед, под град. Ключ прочно застрял, не вращался ни влево, ни вправо, и мне нельзя было заглушить мотор. Из «Волги» почему-то долго никто не выходил, потом там ладно и гулко, как крышка у старинного сундука, хлопнула дверца, и на тротуаре показалась Лозинская. Следом за ней, но шагах в двух сзади, семенил маленький плотный человек, распяленно неся в руках знакомый мне серебряный плащ. Человек сердито говорил что-то Лозинской, но она, не оглядываясь, скрылась за дверью издательства, а человек аккуратно свернул плащ и пошел к машине. Это был пожилой кряжок. Он был из тех долголетних крепышей, что не чувствуют своего сердца и спят на левом боку. На нем был китель в обтяжку тугого крутого зада и коротковатые брюки с облинявшими голубыми кантами. Стоячий воротник кителя врезался ему в затылок, и я узнал его и его «Волгу»: это на ее колесо мне так непреодолимо хотелось плюнуть в тот раз на профилактической станции… Я, наверно, не рассчитал силу рывка и обломал кончик ключа, после чего мотор заглох сразу. А туча, казалось, навсегда повисла над нашим городом. Она была аспидно-сизая, с тревожными белесыми космами, и гром лупил то сдвоенно, то строенно, как в тропиках. Я сунул руку в окно «Росинанта» и стал собирать в ладонь больно-летучие градины – льдисто-каленые, пропахшие грозой. Мне было стыдно за свою трусливую угодливость, с какой я уступил Волобую – «конечно же, это был он, а кто же еще!» – свое место под балконом. Я сидел и убеждал себя в том, что если б у меня был цел ключ зажигания, я непременно и немедленно вытеснил бы волобуйскую кастрюлю под град, – я двинулся бы на нее задним ходом, без сигнала, готовый к столкновению, потому что никакая новая царапина или вмятина «Росинанту» не страшна. Но ключа у меня не было, и сердце мое всё набухало и набухало безотчетной яростной обидой на Лозинскую и каким-то непокойным и враждебным удовлетворением оттого, что фамилии ее супруга так великолепно соответствовали его рост, поросячий затылок, китель военного времени, бабий зад и штаны с облинявшими кантами…
В издательство заходить мне не хотелось, но рассказ всё же следовало вернуть Владыкину, и я решил сделать это завтра. Как только прошла гроза, я отправился в слесарную мастерскую и, пока там вытачивали мне ключ, рассчитал, что в Мурманск смогу двинуться не раньше как через неделю: «Росинанта», лодку, палатку и еще кое-что нужно будет продать на месте, а комнату я смогу забурить и находясь в море. День после утренней грозы получился яркий и свежий, но с каштанов град обил свечи, и они валялись на набережной растерзанные и неряшливые: прохожие черт знает почему норовили наступить на них, будто не хватало пространства, куда можно было шмякнуть своим идиотским сапогом или ботинком. Я колесил по городу без цели и при разминках с «Волгами», окрашенными в голубой цвет, стремился прижаться к ним как можно поближе. В тот раз мне чересчур часто попадались отставные кряжистые военные, – по крайней мере я встретил человек двенадцать в кургузых кителях без погон. Своими боевито-крепкими походками и благо нажитыми, а не унаследованными, сановитыми выражениями лиц эти отставные люди возбуждали во мне сложное чувство недоброжелательства, убежденности в их никчемности и приверженности к различным человеческим слабостям и порокам – скупости, мелочности, подозрительности, эгоистичности и вообще ко всему низкому и недальнему, – иначе их, наверно, не отставили бы! Я колесил и колесил по городу, и в конце концов пришел к выводу, что на земле непозволительно много накопилось всякого ничтожного, вздорного и ненужного хлама, засоряющего жизнь человека. Вот хотя бы взять эти дурацкие полуторные там и двойные надувные матрацы, придуманные, конечно, с благой целью окомфортить семейные кущи – эти пресловутые ячейки государства. Но ведь придет время, когда семьи не будет. Не будет – и всё, хоть ты тут лопни, любой домостроевец!..
Как сказала бы бабка Звукариха, день этот оказался для меня измордованным: я ни на секунду не смог заставить себя забыть случившееся утром под издательским балконом, не мог то с тоской, то с ненавистью, то с какой-то сумасшедшей призывной надеждой не видеть перед собой маленькую женскую фигурку под распяленным над ней серебряным плащом. Уже вечером я водворил на место «Росинанта», пару раз поднял и опустил на нем крышку багажника, после чего оглядел окна дома и пошел в кафе. Там я просидел до двух часов ночи, но помочь себе не смог, потому что ни коньяка, ни водки не было, и пришлось пить сухое вино, очень схожее с марганцовкой. Лозинской я позвонил в половине третьего. Трубку сняла она, а не он. Я поприветствовал ее с наступающим рассветом и сказал, что во всём мире нынче не спит только один человек – я. Она ничего не ответила и продолжала слушать, – в трубке я чувствовал ухом ее тихое детское дыхание. Я немного подождал и сказал, что в телевизионную вышку только что сел месяц. Из моей телефонной будки он похож, сказал я, на разрезанный арбуз в авоське, и не знает ли она: кому досталась его вторая половинка?
– Нет-нет, вы не туда попали, – сказала она, но трубку не положила.
– Это вы не туда попали, – сказал я шепотом.
– Но это квартира. Наберите, пожалуйста, нужный вам номер.
– Это вы наберите, пожалуйста, нужный вам номер, – сказал я, но она уже положила трубку. Телефонная будка, откуда я звонил, стояла шагах в десяти от парапета моста под каштаном, и оттуда мне в самом деле виделся далекий кувшинообразный верх телевизионной вышки. Он был прозрачный и медноцветный на фоне мерклого месяца, совсем не похожего на арбуз в авоське, но я был недостаточно пьян, чтобы решиться позвонить Лозинской вторично и сказать о своей ошибке. И всё же мне очень хотелось сообщить ей что-нибудь еще, – например, о светофоре, мигавшем на меня через дорогу желтым циклопическим глазом: в тишине и безлюдье ночного города такое око не предостерегает, а грозит напоминанием о какой-то извечной пустынной опасности для одинокого человека, вот такого, как я. Я чуть не заплакал от неожиданной умиленной жалости к самому себе, но звонить было нельзя, и я попятился из будки. Она была узка и низка, как поставленный на попа гроб для несовершеннолетнего, и мне снова захотелось позвонить Лозинской и сказать, на что похожи телефонные будки в ночное время.
Но звонить было нельзя.
Я вытиснулся из будки и стал закуривать. От реки на мост и сюда, к каштану, доползали рваные клочья теплого росистого тумана, и каштан ронял веские теплые капли. Я стоял к нему спиной. Его нижние ветки приходились почти в уровень моего плеча, поэтому я не сразу обернулся, когда почувствовал лопаткой короткое скользящее касание.
– Эй!
Им, этим четверым, не нужно было ни стоять так рассредоточенно-готовно, ни окликать меня таким притушенно-напряженным голосом, раз уж пришла идея работать под дружинников. Стой они спокойно да еще произнеси что-нибудь вроде «извините», я бы поверил их красным лоскутам на рукавах черных спецовок и предъявил свое любительское шоферское удостоверение, поскольку никаких других документов со мной не было. А так я не поверил. Тому, что стоял ко мне ближе всех и потребовал «документ», я сказал, что не понял юмора. Он был самый рослый из всех своих, и всё же голова его, стянутая темным беретом, едва ли достала бы до моего подбородка, – во мне с семнадцати лет было метр восемьдесят три. Он, наверно, тоже не понял моего юмора, и призывно поглядел на своих. У меня тогда мелькнула мысль сказать им что-нибудь дружелюбно-матерное – всем четверым, что-нибудь такое международно-притонное, в котором было бы всего понемногу – и моей вроде бы блатной матросской удали («не на того, мол, нарвались, салажата»), и достаточной дозы панибратства («все мы немного подонки и поэтому равны»), и готовности добродушно расстаться тут же («всего, мол, хорошего»). Но мне ничего не удалось сказать им, – они тихо пошли на окружение меня, неслышно ступая и высоко, как в болоте, поднимая ноги. Под каштаном была пепельная сутемень. При вспышках светофора я успел окинуть взглядом остальных троих, тоже в беретах на головах, и под грудной холод страха мне подумалось тогда, как мало значил каждый из них сам для себя, а все вместе друг для друга…
Ударил первым я – того высокого, лидера. Я метил ему в подскулье, но попал в переносицу, – всё же он был мал для меня, и, когда он упал, я перепрыгнул через него и побежал на мост, и мост тогда озарился навстречу мне малиновым огнем…
Когда пожилая, чистая и вся круглая нянюшка сказала, что мне тут у них пошел пятый денек, было утро. В раскрытое окно, под которым лежал я, просовывались ветки какого-то густо-широкого дерева, и как только я разглядел, что это липа, в палате запахло медом, потому что липа цвела. Я помнил решительно всё, что со мной когда-нибудь было, – от самого раннего детства до малинового огня на мосту, когда упал тот ублюдок, и поэтому казалось странным и страшным, что пять громадных дней могли пройти мимо моей памяти и жизни.
– Они меня в спину? Ножом? – спросил я у нянюшки.
Она испуганно сказала: «Да не-е, по головке чем-то», и я поверил, что это лучше, чем в спину. После этого я поинтересовался, в какое время привезли меня в больницу, и она ответила: «Утречком».
– Очень мило! – сказал я ей и отвернулся к стене.
– А то как же… Ну подреми, подреми…
Без нее я ощупал свою голову – громадную, в твердой марлевой чалме, и потрогал нос – заострившийся, холодный и раздвоенный по хрящу. Под правым заушьем у меня всё время стрекотали часы – как дешевый будильник, то скрежуще, то звонисто, и я решил, что это какой-нибудь регистрирующий аппарат, прибинтованный к моему затылку. В палату то и дело залетали пчёлы, подолгу кружились под потолком и, обессилев, садились на тумбочку и на мою кровать, и брюшки у них пульсировали как под болью собственного жала. Я вытащил из-под графина накрахмаленную салфетку и попробовал катапультировать пчел в окно, но при взмахе руки будильник под ухом ускорил ход и зазвучал как колокол…
В полдень ко мне в палату зашли трое в белых врачебных халатах – две женщины и немолодой высокий мужчина с черными грустными глазами. Я первый сказал «здравствуйте», и мужчина тогда коротко усмехнулся чему-то и мгновенно принял обиженно-изнуренный вид человека, не рассчитывающего ни на признание, ни на благодарность окружающих. Я понял, что он мой лечащий врач, что ему пришлось со мной трудно и что его спутницы не верили ему в чем-то. Я поднял правую руку, чтобы поприветствовать его – только его одного! – но он бросился ко мне, схватил на лету мою руку и медленно, как тяжесть, уложил ее на одеяло, а затем погрозил мне кулаком…
Тетя Маня – та чистая и круглая нянюшка – сказала мне, что Борис Рафаилович пять дней и ночей жил тут со мной в палате после операции.
– Жи-ил, а то как же… А ты что же, заезжий, видать? Ну небось через неделькю, – она так и сказала: «неделькю», – можно будет отбить телеграмму своим, пущай приедут…
Снова было утро в раскрытом окне, и были пчёлы на липе и на моей койке, и тикали и тикали часы в моем затылке. Я лежал и изо всех сил ждал Бориса Рафаиловича, и когда ему где-то там стало, наверно, невмочь, он тычком распахнул двери моей одиночной палаты, а я спросил, можно ли мне теперь его поприветствовать. Он ворчливо, от дверей сказал, что можно, и я поднял над головой правую руку, собрал пальцы в кулак и поработал им то вниз, то вверх, то вправо, то влево, а этот резака серьезно и, как мне показалось, подозрительно следил то за моей рукой, то за глазами, и тогда я заплакал.
– Ну что такое? – возмутился он.
– Ничего, – сказал я. – Сейчас пройдет.
– Что пройдет?
– Всё, – сказал я. – Только вот часы… Они долго будут тикать?
– В каком ухе? – насторожился он.
– В левом, – соврал я.
– Не может быть!
– В правом, – признался я.
– Это прекратится… Через неделю! – прокричал он, и я видел, что он верит себе, и сам я тоже поверил, что часы в моем затылке прекратятся.
– А я потом не… это самое? – спросил я и покрутил пальцами над своим лбом.
– Глупости! – буркнул он, но глаза увел в окно, на липу и пчел. Я не очень отчетливо улавливал их гуд, мешали часы и, может быть, слёзы, которые набухали помимо моей воли.
– Слышите? Я не это самое? – опять спросил я.
К этому времени доктор справился с чем-то в себе и на крике сказал мне, что история мировой хирургии знает случаи благотворного действия пролома черепа на пострадавших. Я сделал вид, что не понял, иначе мне следовало обидеться, а он подтвердил с непонятным ожесточением:
– Да-да! Пострадавшие в этом случае обретали ясность собственного мышления!
Я поблагодарил его, а он засмеялся и подмигнул мне с каким-то всесветно-обобщающим намеком.
Дня три спустя ко мне в палату явился следователь из уголовного розыска – осанистый, лет под сорок, с сырым женоподобным лицом, одетый в форменный китель под несвежим посетительским халатом. Он издали спросил, могу ли я дать показания, и я кивнул.
– А разговаривать вы можете?
– Как слышите, – сказал я. Он сел возле тумбочки и с вожделением поглядел на графин с водой. Мы начали с самого начала – с даты рождения, а когда подошли к кафе, следователь умышленно небрежно спросил, что я пил и сколько.
– Две бутылки тракии, – сказал я, решив, что три бутылки, которые я выпил, для него покажется много.
– Тракии?
– Это сухое вино, – объяснил я. Он с сомнением взглянул на мою голову и спросил, в какое время я покинул общественное заведение.
– Это вполне приличное кафе на проспекте Мира, – сказал я, поняв, что напавшие на меня парни в беретиках не задержаны. – Оно закрывается в два часа ночи.
– Понятно, – кивнул следователь, косясь на графин. – И куда отправились?
– Домой, – сказал я. Следователю хотелось, видно, пить, но он почему-то не решался проделать это, – опасался, наверно, сбиться с тона допроса, а может, брезговал больничной водой.
– Значит, отправились домой, – сказал он и опять взглянул на мою чалму. – И что дальше?
– У Зеленого моста мне понадобилось позвонить, и когда я вышел из телефонной будки, то…
– Минуточку. Куда вам понадобилось позвонить?
У нас тогда выдалась затяжная пауза. Следователю было душно. Он то и дело отирал с лица пот серым и, видать, мокрым платком, зажатым в кулаке, и это было неприятно. Его пухлая полевая сумка свиной кожи стояла на полу между тумбочкой и моей койкой, и от нее противно пахло. Мне хотелось вызвать в себе хоть немного симпатии к следователю, – в конце концов человек пришел сюда ради меня, и я сказал, что воду в графине меняют тут, между прочим, каждый день. Он не расслышал меня и вторично спросил, куда я звонил. Ему было жарко в своем кителе под бязевым халатом, и когда он снова украдкой от меня отер пот со лба и подбородка, я сказал, что в Москве уже этой весной введена для работников милиции новая форма.
– Да-да, – подтвердил он. – Так кому вы звонили?
Я поправил подушку, улегся на спину и прикрыл веки. Следователь ждал; тогда я вслух предположил, что новая милицейская форма будет элегантнее прежней, и что зимой в ней, надо думать, будет тепло, а летом прохладно. Он молчал и ждал. Я наблюдал за ним сквозь ресницы, и он виделся мне размыто и дрожаще, как за отдаленным полевым маревом. Я до сих пор не могу постичь, почему бы мне не ответить тогда на его вопрос неправдой – ну, скажем, звонил в справочное бюро вокзала, чтобы узнать, когда идет поезд на Мурманск. Номер телефона справочного бюро? Пожалуйста, я знал его: 6-11-44. Но из-за какой-то запретной преграды в себе я не мог сказать неправду – и молчал, и следователь молчал тоже.
– Почему вы не отвечаете на вопрос? – изнуренно спросил он, и налил в стакан воды из графина – полный, с краями. Я подождал, пока он напился, и сказал, что звонил одной замужней женщине. На этом месте мы застряли окончательно, потому что следователю обязательно нужно было знать, кто эта женщина и «по какому вопросу» я ей звонил.
– По любовному, что ли? – на каком-то гарантийном для меня полушепоте раздраженно подсказал он вечность сгодя, и я кивнул. – Ну так бы и показывал, а то уперся, как… Это ведь к делу не относится, понятно?
Он, наверно, засиделся в уголовном розыске и привык не доверять ни правому, ни виноватому, но после такого моего признания дело с допросом у нас почему-то пошло быстрее. Я «по возможности точно показал» количество напавших на меня бандитов, их рост и одежду, – но не мог понять, какая разница в том, на правых или левых рукавах у них были красные повязки.
– Большая, – сказал следователь. – Теперь точно показывай, во что был одет сам.
Я показал, но расцветку носков забыл. Не запомнил я и купюры тех четырнадцати рублей, что дала мне официантка кафе в сдачу с двадцатипятирублевки. Под конец допроса следователь извлек из своей полевой сумки длинный, в каких-то бурых потеках дамский чулок с засунутым в него свинцовым яйцом.
– Это твое или нет?
– А что это? – спросил я.
– Обнаружено под тобой, – сказал он. От чулка несло мерзкой падальной вонью, и меня стошнило.
Оказывается, далеко не всё равно, чем вам проламывают голову. Я, например, безразлично отнесся бы к известию о том, что меня ударили булыжником, скажем. Или шкворнем. Или там другим каким-либо «тупым предметом», поскольку тут всё равно уже ничего нельзя поделать. Но это гнусное свинцовое яйцо, заправленное в пакостный бабий чулок сорокового, видать, размера, вызывало во мне отвращение, бессильную ярость и стыд…
Как и говорил Борис Рафаилович, часы в моем затылке перестали тикать через неделю, и тетя Маня собралась переселять меня в общую палату. Она напомнила о своей готовности «отбить телеграмму моим родным», и тогда я попросил ее позвонить Лозинской.
– Часов в шесть вечера, – сказал я. – Зовут Иреной Михайловной, запомнили? Если к телефону подойдет мужчина, то ничего не говорите. Положите трубку, и всё. Ладно?
– Ну-ну, – угасше сказала она. – И что ей передать?
– Что, мол, Антон Павлович Кержун лежит в больнице… В такой-то палате, на таком-то этаже.
– Ну-ну… А чтоб, значит, пришла, не намекать?
– Нет, – сказал я. – Большое вам спасибо!
– Поругамши, что ль?
Тетя Маня спросила это уходя уже, с гневом не ко мне, – и я поверил, что Лозинская непременно придет, потому что мало ли что ей там скажут, и пусть скажут!.. Что я, не сын родины? Сволочи! Бросили тут одного…
Она пришла в начале седьмого, – я увидел ее еще в коридоре через открывшуюся дверь, притворенную за ней тетей Маней. Ирена Михайловна как-то косо и полубоком пошла по палате к окну, подальше минуя стул и тумбочку, смятенно глядя на мою голову. Я привстал на койке и сказал, что ни в чем не виноват.
– Мне всё известно, не надо разговаривать, – перебила она, уйдя в противоположный угол, за тумбочку.
– Я не ввязывался, а только позвонил вам, чтобы проститься, понимаете? – сказал я.
Она молча наклонила голову, избегая моих глаз своими.
– За весь тот вечер я выпил всего лишь три бутылки тракии. Это красное сухое вино почти без градусов, – объяснил я.
– Я знаю, это очень хорошее вино, только, пожалуйста, не разговаривайте! – сказала она.
– Но я в самом деле не ввязывался, – сказал я.
Она веряще кивнула, и мы впервые встретились глазами.
– Они меня каким-то свинцовым кругляшом… в женском грязном чулке, вы представляете? – сказал я.
– Господи! Я не хочу! Не надо об этом говорить!
Она держала сцепленные руки у подбородка, и глаза у нее были какие-то провальные, немигающие и косящие к переносью.
– Очень больно?
– Нет, – сказал я. – Вам нельзя… подойти поближе?
Если бы она не взглянула тогда с опасением на дверь, я бы не решился назвать ее по имени, без отчества, но она трижды, пока медленно шла ко мне по палате, взглядывала на дверь, – и я трижды назвал ее имя.
– Почему же вы… – сказала она и запнулась, потому что опять оглянулась на дверь.
– Что? – спросил я.
– Почему не попросили сообщить мне давно, сразу?
– Разве ты пришла бы? – сказал я и зажмурился.
Она остановилась у моего изголовья и молчала, и я ее не видел.
– Пришла бы или нет?
– Не знаю… не с этим. У меня этого нет к вам… Не должно быть! Разве вы сами не понимаете?
Я открыл глаза и сказал, чтобы она ушла.
– Но вам, может быть, что-нибудь надо? Вам дают тут есть и… всё?
– Дают есть и всё-всё. До свиданья, – сказал я ей и натянул на лицо простыню. Она тогда осторожно и невесомо присела на край моей койки и своим прежним, редактрисским тоном спросила, сколько мне лет. Я сказал «тлидцать тли», и она засмеялась и отогнула край простыни с моих глаз.
– Слушайте сюда. В ваши «тлидцать тли» надо соображать, что замужней женщине, у которой дочери пошел одиннадцатый год, нельзя звонить по ночам и…
– Если б ты знала, что я хотел тебе сказать! – перебил я и стал зажмуриваться.
– Что вы мне хотели сказать? Вы с ума сошли? Вы же видели моего мужа… Да и не в этом дело!
– Ты меня совсем-совсем не…
– Замолчи! Замолчи! – истерично, шепотом крикнула она, а я схватил ее руку и прижал к своей щеке, и она до самого ухода не отняла ее, и сидела как в столбняке – прямо, напряженно, дыша раскрытым ртом, как птица в жару…
Когда она ушла, тетя Маня заглянула в дверь и спросила строже, чем следователь:
– Ну?
– Большое вам спасибо, – сказал я.
– Помирились?
Тогда был какой-то библейский свет вечера в мире за окном и в моей палате, – он был густо-голубой, чуть прореянный ранним лунным током, и в этом свете мягко увязали и глушились шумы города, и непроходяще стоял чистый и радостный запах мёда. Я лежал и благодарно думал, как по выходе отсюда куплю что-нибудь тете Мане в подарок, потому что я любил ее, и что-нибудь Борису Рафаиловичу, потому что его я тоже любил, и тем двум врачихам, которые вошли тогда с ним в мою палату, и надо обязательно купить что-то – кофту, может? – бабке Звукарихе, потом еще – что-нибудь хозяйственное – той своей соседке, которой я отдал тогда рыбу, и хорошо бы еще раз повстречать того рыжего владельца «Запорожца» – у него, возможно, нет гидравлического домкрата, а у меня их два, и почему бы не отдать ребятишкам из нашего дома стартовый пистолет, зря ведь валяется только… Мне подумалось: а что было бы, если бы в ту ночь со мной оказался этот пистолет? У него форма и звук выстрела «браунинга». Стрелять нужно было бы трижды, в ветки каштана, и тогда эти четверо в беретиках пошли бы в трех шагах впереди меня, заложив руки назад. Да, конечно, пошли бы… И я сейчас был бы не здесь, а в Мурманске, – конечно, был бы уже, и поэтому нельзя знать, хорошо или плохо, что со мной тогда не было стартового пистолета…
На утреннем обходе Борис Рафаилович, как никогда до этого, остался доволен состоянием моего затылка и собой, но я заметил, что ему немного беспокойно: он как бы торопился в словах и жестах, не желая, наверно, оставлять мне паузы для какого-нибудь вопроса сродни тому, когда я ворожил пальцами над своим лбом. Это его опасение – как бы я не стал рефлектировать или как это там у них называется – было совершенно напрасным: я чувствовал себя отлично, даже лучше, чем прежде, хотя причина этому была совсем не та, что приводил он из истории мировой хирургии.
Этот день был очень длинным, и под конец его я потерял веру в человечество. Крушение моего вечернего и утреннего мира началось с семи часов вечера, и к восьми его обломки полностью заволок прах лютой тоски и обиды. А в половине девятого Лозинская наконец постучалась в дверь, – я сразу догадался, что это она: стук был тревожный и ноготной, как побег застигнутого кролика. Мы даже не поздоровались, и нам почему-то нельзя было остановить глаза друг на друге, – наши глаза просто прятались сами от себя. Ей совсем не надо было приносить этот громадный нелепый пакет в серой оберточной бумаге. Он оттягивал ей согнутую руку, и она не знала, что с ним делать, я не мог ни принять его у ней, ни указать ему место. Она сама догадалась примоститься на стул возле тумбочки, оставив пакет у себя на коленях. Я сидел на койке и тщательно расправлял кромку простыни.
– Ну как… лучше? – спросила она, избегая обращения «вам» и «тебе», и растерянный вид ее раздирал мне сердце нежной жалостью и восхищением, что она есть на свете.
– Положи это рядом с графином, – сказал я грубо, мстя всему, что загнало нас в этот тупик неразрешенности, и она как под ударом поднялась со стула и почти выронила пакет на тумбочку. Я бы даже под палкой не решился сойти при ней с койки в той умопомрачительной пижаме, что была на мне, – штанины брюк сантиметров на двадцать не доставали до щиколоток, но когда из пакета посыпались апельсины и какие-то веские стеклянные банки, а она, смертно побелев, оглянулась на дверь и кинулась убирать пол, я забыл о пижаме. Мы подобрали всё молча и спешно, а ее лицо по-прежнему оставалось белым, как бумага, и я не знал, что́ ее потрясло, – то ли стыд перед собой за эту свою тайную и «беззаконную» больничную передачу мне, то ли детский страх за нечаянно учиненный тут грохот.
– Ну что случилось? – опять сказал я умышленно грубо: мне было известно, что на такие нервные натуры, как она, крик действует иногда как лекарство.
– Я боюсь, – призналась она, помешанно глядя мне в зрачки. – Я боялась весь день… А он был такой огромный!
– Кого? Чего ты боялась? – втайне ликуя, спросил я.
– Всего… Себя. Тебя. Их…
Я усадил ее на стул и, всё еще не вспомнив о пижаме, стал перед ней на колени.
– Слушай, – сказал я и почувствовал, как озноб преданности, решимости и восторга ледяным обручем стянул мою голову под бинтом, – пусть весь мир будет наполнен одними чертьми, я всё равно никогда тебя…
– Да не чертьми, а чертями, – всхлипывающе перебила она, и своей детской и почему-то ледяной ладонью уперлась в мой лоб, чтобы отстранить от себя мою голову…
Третье наше свидание в моей одиночной палате было нелепым и кратким. Она и в этот раз принесла апельсины и две банки маринованных слив, – как потом мы выяснили, идти без передачи она не могла, потому что в таком случае у нее не было бы перед собой «оправдательного мотива». По тому, как она уверенно и спокойно постучала в дверь и вошла в палату, как любезно-приветливо и издали поздоровалась со мной, будто пришла по долгу навестить знакомого, как сосредоточенно и внимательно уложила на тумбочку свое подаяние мне, как осознанно-достойно села на стул в своем, впервые увиденном мной на ней, простеньком темном домашнем платье, делавшем ее совсем подростком, как открыто и посторонне-внимательно, хотя и с заметно подавляемой независимостью взглядывала на меня, я понял, что в ней произошло какое-то решительное освобождение от себя вчерашней. И я живо и с каким-то злорадно-мучительным чувством самосокрушения вообразил сцену с распяленным плащом у подъезда издательства. Я знал, какие у меня при этом глаза, рисунок губ и подбородка, и как металлически скребуще и серо прозвучит мой голос, если я заговорю. И когда я спросил: «Вас можно поздравить?» – голос мой был таким, каким я хотел его слышать. Она, как мне показалось, с радостным облегчением встретила мой призыв к враждебной отчужденности, но спросила без притворного удивления:
– С чем?
– С миром в душе, – сказал я неожиданно пискляво.
Она длинно посмотрела на меня, а затем устало сказала:
– Вы ведь, кажется, собирались уезжать, Антон Павлович.
Я кивнул.
– Ну вот и хорошо.
– Вы хотите, чтобы я обязательно уехал? Теперь? – спросил я.
– Да. Между прочим, вас уволили из издательства за невыход на работу. Там ведь никто не знает, что с вами.
– Черт с ними, – сказал я с беспечностью погибающего, которому никто уже не поможет. – Как поживает ваша подруга?
– Спасибо, по-прежнему, – догадалась она, о ком я спрашивал. Я не вкладывал в свой вопрос никакого подспудного смысла, но она усмотрела в нем какую-то обидную для Верыванны иронию, потому что назидательно добавила: – Вера Ивановна, между прочим, большой друг моего мужа… Вообще нашей семьи.
Я сказал, что рад это слышать. Она тогда как-то подчеркнуто превосходяще надо мной усмехнулась, взглянув на свои ручные часы, но я опередил ее и сказал, что расходы ее на компоты мне я возмещу по почте перед отъездом. Уже на середине фразы я знал, что это мелко, несправедливо и хамски дурно, но ничего не мог с собой поделать. Она стремительно поднялась и пошла из палаты, и каблуки ее туфель издавали какой-то разломно-костяной цокот, и мне хотелось, чтобы в эту минуту какой-нибудь американский полковник из тех, что носят на шее серебряные ключи от красных пусковых кнопок, сошел с ума…
В тот же вечер я перешел в общую палату. Там было пять коек, но только одна из них – у окна – оказалась занятой: на ней лежал унылый сухой старик со стеариновым лицом и желтым голым черепом.
– Доигрался? – коростельным голосом сказал он мне, когда вышла нянюшка. Я решил, что у него язва желудка, и не стал противоречить.
– Хозяина не стало на вас, вот вы и рассобачились.
У него, наверно, сильно болело, и я ничем не мог ему помочь. Полночи он нудно кряхтел, стонал и возился на своей койке, а утром я увидел ее пустой, без матраца, и мне стало стыдно за свои тайные ночные пожелания старику. Я лежал и старался не смотреть на опустевшую койку, и мне было тревожно и страшно от сознания хрупкости человеческой жизни, ее незащищенности и скоротечности. Людям не следует забывать об этом, подумал я, и тогда они станут добрее друг к другу и жить будет легче. Вот и я сам. Разве я нынче вел бы себя тут так непозволительно безобразно с Иреной Михайловной? Вел бы?…
В тот же день под вечер в палату внедрились трое больных, – опять смертообразные старики, и я снова, как утром, стал тихим в сердце, и тогда же понял, что не хочу никуда уезжать и не хочу, чтобы меня увольняли с работы.
С Борисом Рафаиловичем у нас установились превосходные отношения, – при его обходах мы нашли какой-то сдержанно-дружеский тон вопросов и ответов с доверительным и немного ироническим подтекстом, который полностью исключал мое неравенство перед ним. Я спросил у него, не находит ли он как лечащий врач, что мое начальство по работе обязано проявить ко мне хотя бы казенную чуткость, поскольку я пострадал не по своей личной вине.
– Конечно, – сказал он, – но ваше начальство едва ли захочет принять эту вину на себя.
Я сказал, что размышлял об этом пункте и нашел выход для начальства: оно располагает полной моральной возможностью переложить вину за случившееся со мной на общество и не увольнять меня с работы. Доктор подумал и категорически заявил, что я имею право на чуткость. Мне не известно, что́ он говорил директору издательства по телефону, но случилось то, чего я ждал и хотел: в больницу пришли Лозинская и Вераванна. Был воскресный день. У коек стариков томились навестившие их родственники. Я лежал и ел маринованные сливы, пристроив банку на грудь. Первой в палату вступила Лозинская, следом за ней впучилась Вераванна, и когда я увидел ее, мои руки самостоятельно, без приказа мозга, спрятали банку под одеяло. Они метнулись с ней к коленям и сами тут же, под напряженным взглядом Лозинской, выпростались наружу и прикрыли косточки, которые я складывал на газету возле подушки. Я тогда же подумал, что «друг семьи» никак не мог догадаться о том, чьи сливы я ел, и всё же я был благодарен рукам за их проворство. Вераванна была в состоянии какой-то ленивой меланхолии с примесью брезгливого сострадания ко мне, поэтому ничего не заметила. Она остановилась в шаге от моей койки и оттуда поздоровалась, назвав меня товарищем Кержуном.
– Нам поручено навестить вас, – сказала она. – Что с вами случилось?
– Да пустяки. Спасибо вам за чуткость, – сказал я и взглянул на Лозинскую. У нее тревожно ширились глаза, но всё было в порядке: косточки от слив я успел прикрыть газетой, а банку крепко зажимал в коленях. Я мог держать ее там хоть целые сутки, но Вераванна, оглядев мою чалму, тронулась, наверно, сердобольем и протянула мне руку, и мне тогда понадобилось привстать. Ее рука была набрякло-веска и безответна, как тюленья ласта. Я немного передержал ее в своей ладони, потому что вникал в то, как липуче-вязко подплывал под меня маринад из опрокинувшейся банки. Горячие сухие пальцы руки Лозинской лишь на короткую секунду коснулись моих. Мы украдкой столкнулись глазами, и в ее широких черных зрачках я прочел вопрос: «Пролилось?» – «Всё до капли», – ответил я ресницами. «Что же теперь делать?» – «Не надо волноваться, – внушил я. – Тут есть чудесная нянюшка – тетя Маня, она всё уладит с простынями». – «Не поняла», – сказали зрачки Ирены. «Ты только не волнуйся, пожалуйста, – попросил я, – это всё подо мной, в низине».
– Так как же это вас угораздило? – настойчиво спросила Вераванна. Мне показалось, что она примеривается глазами к койке, чтобы присесть, так как все стулья разобрали родственники стариков, но я не мог сосредоточиться и ответить ей, потому что стерег ее намерение: вдруг она в самом деле присядет? Тогда маринад неминуче хлынет под нее!
– Вы что же, в драку ввязались?
– Совершенно верно, я очень люблю, когда мне проламывают голову свинцовым котяшом, – сказал я.
Вераванна беспомощно помигала на меня ресницами и сложила губы в трубочку – обиделась.
– Ну хорошо, а в дальнейшем… Вы намерены вернуться в издательство? – спросила она меня, взглянув на Ирену. У той трепетали крылья ноздрей, и смотрела она в пол. Я сторожил ее глаза, чтобы после встречи с ними ответить что-нибудь Вереванне.
К нам вежливо прислушивались истомившиеся родственники стариков. Маринад подо мной становился теплым и щекотным. Я подождал еще немного и сказал – не Вереванне, – что мне некуда деваться. Тон голоса у меня получился ненужно скорбным и просительным, и тогда Ирена, по-прежнему глядя в пол, бесстрастно и сухо сказала:
– Видите ли, Антон Павлович, вас уволили за невыход на работу, но поскольку вы находитесь в больнице, то это решение должно быть отменено. Понимаете?
Наши глаза скрестились, и я кивнул.
– Значит, дирекции можно передать, что вы выходите на работу, так?
– Да-да! Мне было радостно повидать вас! – вырвалось у меня. Вераванна сказала: «Нам тоже», – и мы простились издали, без пожатия рук.
– Спасибо вам за чуткость, – сказал я вслед Вереванне. Она шепеляво и серьезно ответила «пожалуйста», а Ирена стремительно оглянулась на меня и горестно покачала головой…
Мы потом и сами не могли объяснить себе, почему этот нелепый случай с маринованными сливами как нечаянной волной прибил ко мне Ирену. В чем тут было дело? В сострадании ко мне, воровато спрятавшему ее «незаконное» приношение? В благодарности за мой ребячий страх перед Вераванной? В этой нашей вымученной тайне? Всё может быть. Она пришла ко мне в общую палату в тот же воскресный день, вечером. Пакет из серой толстой бумаги опять, как в тот раз, косил ее набок, и я сел на койке и счастливо засмеялся ей навстречу.
– Ну чего ты? Сидит как… дурачок! – сказала она как старшая сестра моя или мать, сама открыла тумбочку и, присев перед нею, стала опрастывать пакет. – Сырок хочешь?
Я ничего не мог поделать с собой, – меня бил какой-то глубинный, счастливый и беззвучный нервный смех, граничащий с затаенным рыданием, и я знал, что, если она скажет еще что-нибудь про еду или о том, как я сижу, я глупо и блаженно зареву при всех, никого тут не таясь и не стесняясь.
– С халой. Совсем свежая, – сказала она. – Ты же ее любишь.
– А ты… откуда знаешь это? – с трудом спросил я.
– Видела в твоем «Росинанте», когда ты пытался угостить нас шампанским… Ты ее, наверно, не режешь, а ломаешь, правда?
Я шепотом крикнул, чтобы она замолчала, и она захлопнула тумбочку. Ей тоже откуда-то было известно, что в какую-то слабую его минуту человеку очень нужно строгое слово. Она села на стул у моего изголовья и сердито спросила, где мои «Альбатросы».
– Надеюсь, ты их не съел, как обещал?
Со мной всё уже было в порядке, и я сказал, что рукопись лежит в «Росинанте», а ключи от него и от квартиры остались в брюках, снятых с меня молодцами с красными повязками.
– Между прочим, водительские права тоже там, – сообщил я.
– Где?
– В заднем кармане, – сказал я.
– Очень мило! Почему же ты молчал об этом раньше? Ты соображаешь что-нибудь или нет?
Глаза у нее трогательно косили к переносью, а лоб пересекала гневная вертикальная хмуринка. Я наклонился к ее уху и благодарно прошептал, чтобы она не устраивала мне тут скандала.
– Разве я устраиваю? – отшатнулась она. – Ты уверен, что они не угнали машину и не обчистили комнату?
Это не приходило мне в голову. Да и как они смогут узнать мой адрес? Разве только через справочное бюро… Нет, для такого гангстерского завершения дела они слишком ничтожны и трусливы.
– Недаром же они ударили меня оловяшкой в бабьем чулке, – напомнил я.
– Господи, да не шпагой же они должны были бить тебя! – возмущенно сказала она. – У каждого негодяя свое оружие! Как же ты попадешь домой? Ты же… без одежды здесь? Совсем без всего?
– Как Адам, – сказал я.
– Ну?
– Всё.
– Что всё? Чему ты радуешься?
Тогда я объяснил, что у меня нет никого на свете, кто бы заказал ключи в слесарной мастерской, что против рынка, а после поехал на улицу Гагарина и в доме номер семь дробь девять, подъезд первый, квартира восемнадцать нашел всё, что мне нужно из одежды.
– Стенной шкаф, – сказал я, – расположен в коридоре возле кухни. Там в целлофановом футляре висит костюм, а рубашки, майки, носки и плавки лежат в нижнем ящике секретера. Ящик туго открывается, и его надо пнуть кулаком в левый край. А ботинки, – сказал я, – стоят под раскладушкой. Она, наверно, не прибрана, поэтому на нее не обязательно смотреть…
Я не до конца понял, почему Ирена, порывисто и молча простясь тогда со мной, вдруг тихо заплакала.
Нет, «Росинанта» не угнали и не обчистили комнату, но, к моему сведению, в целлофановом мешке оказалось пальто, а костюм висел под плащом в коридоре на вешалке, и его нелегко было найти. Я прошу прощения? Пожалуйста. Боялась ли? Ну, конечно! Соседей, понятно. Назваться сестрой из больницы? А почему не коллегой по работе? Правда ведь всегда безопасней. Кстати, неужели трудно – господи, да в любом хозяйственном ларьке! – купить пачки три нафталина и положить их под эти свои заграничные пижонские свитеры! Что? Обыкновенная моль. Тучами! Сам сделаю? Когда? Нет, это надо немедленно, завтра. Между прочим, «Альбатросов» придется читать и править дома. Так будет лучше. Что? Я с ума сошел? Руку тоже поцеловать нельзя. Посмотрел бы я лучше на свою рыжую щетину!..
По выходе из больницы я несколько дней жил на какой-то поднебесной парящей высоте, и всё, что делал – брился, ел, убирал комнату, хлопотал о восстановлении водительских прав, ходил или сидел, разговаривал или молчал, – всё для меня полнилось громадным смыслом первозданной новизны и значения: я тайно радовался жизни и тому, что я в ней не одинок. У меня пропала суетность и нетерпимость, я был очень внимательным и вежливым с миром, и только одно разоряло этот мой несрочный праздник – не поддающийся рассудку страх на улице, когда я слышал позади себя шаги. Мне тогда хотелось прикрыть голову руками, и я оглядывался на прохожих и норовил пропустить их вперед, если то были мужчины втроем или вчетвером. И всё равно жить было хорошо, даже с этим подлым страхом. Я легко примирился с тем, что на затылке у меня навсегда останется лысая метина величиной с куриное яйцо, и, чтобы скрыть ее, мне придется отращивать волосы под стилягу. На это потребуется месяца два или три, а до той поры я буду носить соломенную шляпу, чуть-чуть сдвинутую на правое ухо. Чем это плохо? Мой больничный лист позволял мне не выходить на работу еще девять дней, и, может, поэтому меня пока не тревожил предстоящий разговор с начальством о моей драке.
Ирене я позвонил на третий день после выхода из больницы. Я позвонил ей вечером, домой, потому что в издательстве телефон помещался на столе Верыванны. Трубку взял Волобуй. Он боевито сказал «слушаю», а я вежливо поздоровался с ним и попросил, чтобы он был любезен и пригласил к аппарату Ирену Михайловну. Это получилось у меня ладно и церемонно, особенно к «аппарату». Волобуй поинтересовался, кто ее спрашивает, и я назвался автором повести «Куда летят альбатросы». Ждать пришлось минуты полторы, там что-то не спешили, и я успел мысленно увидеть трогательную и совсем безобидную для себя картину – Ирена в том своем темном детском платьишке стоит на кухне у плиты и что-то жарит. Скорее всего котлеты. Две маленькие – себе и дочери, и одну большую – ему. Сковородка там, конечно, добротная, чугунная, а ухватик раскалился, и поднять ее трудно. «Не торопись, я подожду, – сказал я ей молча. – Переверни еще раз вон ту, большую… Пускай лопает на здоровье».
– Очень хорошо, что вы позвонили, товарищ Кержун, – сказала она посторонне в трубку, – дело в том, что нам надо согласовать некоторые купюры…
Я молчал.
– Совершенно верно, – сказала она. – Но прежде чем приходить в издательство, позвоните мне завтра… скажем, ровно в час дня вот по этому телефону… Всего хорошего!
Я звонил из той своей будки у парапета моста. Я проторчал там минут пятнадцать, потом послонялся под каштаном, но было еще рано, и я никого не встретил, и во мне не было никакого страха. Ни перед кем.
На второй день была пятница – базарный день в нашем городе, и я с утра пошел на колхозный рынок и купил два пучка редиски, два больших свежих огурца и две пол-литровые кружки полуспелой вишни. Это из овощей и фруктов. А в магазине я купил халу, две банки сметаны и две шоколадные плитки «Аленка». Дома у меня было еще тридцать четыре рубля. Они лежали в словаре Павленкова, и я сходил домой, взял пятерку и купил три бутылки тракии. Всё это я разложил и расставил на откидной крышке секретера, и получился скромный светлый стол, и нельзя было догадаться, что застлан он не скатертью, а обыкновенной новой простыней. Телефон-автомат помещался у нас в первом подъезде. Я нарочно спустился к нему задолго до условленного времени, – мне казалось, что там будет легче найти те два или три тихих, доверчивых слова, которые я мог бы сказать Ирене, чтоб пригласить ее к себе в гости. Такие слова в мире были, должны быть, но я их так и не нашел и возле телефона почувствовал что-то сродное стыду и страху за эту свою затею…
Ровно в час я опустил в щель автомата гривенник – так мне хотелось – и набрал номер ее телефона. Где-то на краю белого света рывком сняли трубку, и она сказала:
– Лозинская.
– Это я, – осторожно сказал я ей.
– Здесь никого нет, – сказала она, – но дело вот в чем: в воскресенье я уезжаю в Кисловодск, поэтому…
– Зачем? – спросил я.
– Что? – не поняла она.
– Зачем в Кисловодск? – сказал я.
– Ну в отпуск, боже мой… Алло!
Я отозвался. Она сказала, что ей надо передать мне рукопись, но не в издательстве, поэтому не мог бы я часов в пять подъехать, например, к тому месту на набережной, где мы когда-то встретились в дождь?
– Подъехать на «Росинанте»? – спросил я.
– Ну, наверно, – сказала она. Тогда я, как о счастливой своей находке, напомнил ей, что у меня нет водительских прав. Она помедлила и не совсем охотно сказала, что у нее с собой ее права. Я бы не мог в таком случае самостоятельно съехать хотя бы со двора? В рукописи много ее помарок и замечаний, и об этом следовало бы поговорить в машине, а не на улице.
– Конечно, – сказал я.
– Значит, условились. Ты что, неважно себя чувствуешь?
– Нет, очень хорошо, – сказал я и сообщил, что дома у меня есть свежие огурцы, редиска и вишни. Она серьезно заметила, что мне полезны сейчас витамины, и мы попрощались.
В пять часов я благополучно съехал со двора и остановился в конце своей Гагаринской улицы. Отсюда мне чуть-чуть виделась автобусная остановка, и каждую девочку-подростка, чинно выходившую из очередного автобуса, я принимал за Ирену, но она подошла к «Росинанту» сзади – добиралась, оказывается, на такси. Я не вышел из машины, потому что не узнал ее, – у нее была новая, волнисто взбитая прическа, сильно изменившая форму лба и всего лица, и одета она была в не виданное еще мной платье. И прическа, и это сиренево-стальное клетчатое платье делали ее старше и строже, и я сразу вспомнил о Кисловодске, Волобуе и об их совместной голубой «Волге». Конечно, они поедут туда на машине, всей семьей. Тем более что у нее есть права…
– Ты неважно себя чувствуешь? – сказала она вместо «здравствуй». Я забрал у нее папку со своей рукописью и освободил место за рулем. – Разве мы не здесь будем?
– Я думал, что ты сама не хочешь, – сказал я.
– Какой он маленький, бедненький, – ласково, как на ребенка, сказала она о «Росинанте» и погладила руль. Узкие выпуклые ногти на ее пальцах розовели лаком, – полностью собралась в Кисловодск, и я сказал:
– Да. Это, конечно, не «Волга».
Она коротко, вприщур взглянула на меня и включила зажигание. «Росинант» с подскоком сорвался с места. Вела она трудно. Ее чрезмерная пристальность и напряженность давили на меня, как ноша, и перед светофорами я тоже жал на воображаемый тормоз и переключал скорости. За городом ей немного полегчало.
– Ты и свою «Волгу» так водишь? – спросил я.
– Как?
Голос ее прозвучал жестко и упрямо.
– Старательно. Как и твой муж, – сказал я.
– Ну еще бы!.. Какие дополнительно будут вопросы?
– Больше ничего, – ответил я.
– Весьма признательна, – по слогам сказала она и в нарушение всех правил, не сбавляя скорость и не заглянув в зеркало, пересекла шоссе, – там, слева от нас, в сизом овсяном поле пробивался первый встреченный нами проселок, заросший ромашками и синелью. Тут, по цветам, она ехала тихо и неощутимо, и за пригорком, скрывшим от нас шоссе, заглушила мотор. Тогда у нас выдалось несколько летучих секунд совершенно свободного и какого-то грозного времени, заполненного нашим обоюдным ожиданием чего-то громадного, опасного и неотвратимого, и когда ничего не случилось, и мы молча и настороженно остались сидеть поодаль друг от друга, Ирена усталым и доверчивым движением взяла у меня рукопись.
– Так вот, вернемся к нашим баранам, – сказала она. – Помнишь, товарищ Кержун, какой сентенцией заканчивается у тебя повесть?
– Да, – сказал я. – «Окруженная грозовыми тучами, огромная и темная, неслась в мировом пространстве Земля».
– Верно. Но это не годится, – сожалеюще сказала она, и я подумал, что мог бы теперь поцеловать ее. – Ты ведь сам редактор – и обязан понимать, почему это не годится.
– Не понимаю, – сказал я.
– Фраза очень уязвима. Что значит «огромная и темная»? Земля наша не вся темная. На ней есть и вечно светлое пятно, различимое с любого расстояния, – одна шестая ее часть, понимаешь?
– Ты это насчет «темной» серьезно? – спросил я.
– Вполне, – сказала она. – Я хочу, чтобы повесть твою напечатали. Очень хочу. И все мои правки преследуют эту цель, как говорит твой друг Владыкин. Между прочим, его вопросительные и восклицательные знаки, что он наставил на полях страниц, были мне очень полезны: он дотошный и осторожный редактор… Ну, пойдем дальше.
– Не нужно, пусть всё остается так, как ты исправила, – сказал я и хотел взять у нее «Альбатросов». Она отшатнулась от моей руки за руль и оттуда подала мне рукопись растерянно и повинно. – Что ты делала вчера вечером, когда я позвонил? – спросил я.
– Я была на кухне, – сказала она.
– Котлеты жарила? Две маленьких и одну большую, да? Ты была в том своем черном платье, правда?
Она суеверно посмотрела на меня.
– Не надо, Антон… Дай мне спокойно уехать. Как же ты не понимаешь!
– Я нарву тебе цветов, ладно? – попросил я.
– Нет-нет, я не смогу… Мне придется их выбросить… Поедем скорей домой. К себе, – поправилась она. Ей не удалось самостоятельно развернуться на узком проселке, и мы поменялись местами. На шоссе, при виде встречных голубых «Волг», она медленно и натяжно вжималась в сиденье и отклоняла голову к дверце, чтобы быть подальше от меня. Я ехал как по краю пропасти, и руль почему-то давил мне на мышцы так, будто я нес машину на себе.
– Он что, всякий раз разыскивает тебя после пяти часов? – спросил я и, вспомнив волобуевский затылок, выругался отвратительно, как пьяный портовик. Ирена зажмурилась и приказала остановиться. Я подрулил к кювету, и она спустилась прямо в него и пошла там по запыленной траве в город – маленькая, жалкая, прибито перекосив плечи. У меня тогда разломно заболел затылок, поэтому, может, я и окликнул ее таким непутевым, испугавшим меня самого голосом. Она обернулась и побежала назад, ко мне.
– Что случилось?
– Когда ты вернешься? – спросил я.
– Господи! Это же не я еду… Ну через двадцать четыре дня, двадцатого. Не выходи, не выходи! Подожди тут, пока я сяду в автобус…
На нашем проселке, куда я возвратился немного погодя, плавал теплый сладкий дух травы, смятой шинами «Росинанта», гудуче сновали шмели, и в поле радостно били и били перепела, будто мир только что сотворился – несколько мгновений тому назад.
Вернулся я в полночь. Дом воспаленно светился всеми окнами, кроме моего, – во дворе, за столом козлятников, тесно сидели несколько мужчин в брезентовых спецовках штукатуров и не очень весело пели «Шумел камыш» на мотив «Когда б имел златые горы». От этой их мужской заброшенной спаянности и пьяно взыскующих голосов на меня нахлынуло горькое чувство бездомности и одиночества, и я поднялся к себе с мыслью, что мне тоже надо напиться. Одному. Мой стол белел в полутьме комнаты как саркофаг, – низко свисал край простыни с крышки секретера, и я решил не включать свет, чтобы не лишаться сумрачной жалости к себе и к тем, что пели во дворе.
Я ничего не тронул на тарелке Ирены, – туда я еще утром положил самую крупную и твердую редиску, самые спелые вишни и лучший огурец.
– Ты не бойся, – вслух сказал я пустому стулу, на котором она должна была сидеть. – Я тебя никогда и ничем не обижу, и пусть мир будет наполнен одними чертьми… нет, чертями, я всё равно не отступлюсь от тебя!
«А как ты это представляешь себе?» – спросила меня невидимая Ирена.
– Не знаю. Этого я не знаю… – сказал я. – Давай лучше выпьем еще. Ты же сама говорила, что тракия хорошее вино. Я всё время буду сидеть поодаль от тебя, ты ничего не бойся.
«Конечно. Ты никогда не посмеешь испугать меня или обидеть».
– Никогда! Я очень боялся пригласить тебя к себе.
«Почему?»
– Я подумал, что ты поймешь это неправильно. Просто дело, наверно, в том пенсионерском поверье, что будто жизнь таких вот перерослых одиночек, как я, заполнена различной сексуальной пошлостью.
«Этого я в тебе не боюсь. Но есть ведь и другое – моя собственная для тебя высота, на которой я хочу оставаться. Разве ты не потерял бы какую-то долю уважения ко мне, если бы я на самом деле сидела сейчас здесь?»
– Да, потерял бы. Впрочем, нет. Я бы тогда просто насторожился… Нет, опять не то. Это трудно объяснить словами.
«Но потеря, значит, была бы?»
– Да. Ты всегда должна оставаться на своей высоте. И хорошо, что я не решился пригласить тебя. Это значит, что у меня тоже есть своя высота, ты не находишь?
«Я ведь тебя еще не знаю».
– Но я же постеснялся пригласить тебя?
«Ну для этого достаточно элементарного чувства такта: я ведь замужняя женщина».
– Как же мне быть?
«Не знаю. Мне пора домой».
– Ты всегда будешь торопиться уйти от меня?
«Всегда».
– Возьми своей дочери шоколадку. Как ее зовут? Иренкой?
«Нет, Аленкой».
– Ну, прощай. Счастливой тебе дороги, – сказал я.
В ту ночь мне снились белые горы, а над ними, в небе, громадный черный шар с пронзительно сияющим на нем пятном…
До выхода на работу я восстановил водительские права, успел перепечатать и отослать в молодежный журнал повесть, безрезультатно наведался в милицию к своему следователю, закрыл бюллетень и отрепетировал предстоящий разговор с директором издательства о своей драке. Я даже составил конспект его предполагаемых вопросов и своих ответов, и моя ночная история приобрела на бумаге какую-то книжную убедительность, потому что в своих ответах директору я вынужден был отступать от правды. Я утаил, например, свой телефонный разговор с Иреной и не сказал, что первым ударил одного из нападавших. Поразмыслив, я решил удовольствоваться тут не двумя бутылками тракии, как сообщал следователю, а всего лишь одной, – не может того быть, чтобы самому директору не приводилось выпивать бутылку сухого вина! Взамен всего скрытого мне очень хотелось увеличить число бандитов и вооружить их не бабьим чулком с оловяшкой, а чем-нибудь посолиднее и потипичнее, ну хотя бы финками, но это я не стал изменять.
Понедельник правильно считают несчастливым днем – ведь никому не известно, хорошо или плохо провел воскресенье тот, от кого зависит твое благополучие. Спускаясь во двор, я загадал на количестве лестничных ступенек, и вышел нечет. Спидометр «Росинанта» показывал сто семнадцать тысяч девятьсот одиннадцать километров, и на мусорном ларе сидели и вещующе мяукали три черных приблудных кота.
Уже тускнела и по-июльски жухло коробилась листва городских деревьев, и небо было пропыленно-седым и томительным, не сулившим добра.
Ни на мосту, ни на берегах реки не было удильщиков, и вода чудилась густой и вязкой, как расплавленный гудрон.
«Росинанта» – давно не мытого и оттого, казалось, еще больше мизерного и сгорбленного, – я оставил прямо у подъезда издательства, чтобы на обратном пути всё время видеть его с площадок лестницы, – крепость свою и защиту. В кабинет директора я прошел корабельной походкой. Он собирался звонить и уже снял трубку, поэтому, может, и не ответил на мое приветствие. Мы виделись с ним во второй раз, но он смотрел на меня неузнавающе, и тогда я сказал, что я Кержун.
– Ну и что? – занято спросил он. – Вы думаете, этого достаточно, чтобы разговаривать со мной от дверей и в шляпе?
Я решил, что дело мое тут дохлое, но всё же объяснил со своего места, почему не могу снять шляпу.
– У меня там была рана, – сказал я.
– Какая рана? Где? – возвысил он голос.
– На затылке, – сказал я тоже неестественно громко.
– Да вы, собственно, по какому вопросу ко мне?
Он меня не узнавал, просто не запомнил, и я плохо соображал, зачем пошел к нему от дверей не по середине ковра, а по его обочине, кружным путем по паркету, трещавшему под моими ногами, как крещенский снег. Директор кинул на рычаг телефонную трубку, и по его тревожному торканью руки над столом было ясно, что он ищет кнопку звонка.
– Я Кержун, ваш новый сотрудник, – выкрикнул я и остановился в шаге от кресла для посетителей. Стало так тихо, что я слышал стрекот директорских ручных часов. Он что-то сказал, чего я не расслышал, а переспросить не осмелился.
– Садитесь, – предложил он. У него были трудные ореховые глаза с кавказской обезволивающей поволокой, и смотрел он на меня заинтересованно и насмешливо. – Так что с вами случилось, дорогой товарищ Кержун? Бюллетень у вас есть?
Я сказал, что есть.
– Сдайте его в бухгалтерию, приступайте к работе и запомните, пожалуйста, мой совет: если не умеете пить водку, потребляйте квас. В любом количестве!
В туалетной я выкурил две сигареты, потом пошел приступать к работе.
На Вереванне было какое-то диковинное платье, отливавшее роскошной купоросной зеленью. В комнате сладко пахло сырой пудрой и леденцами. Вераванна встретила меня рассеянно-недоуменным взглядом, будто хотела спросить, что мне угодно.
– Велено приступить к работе, – сказал я ей сочувственно, после того как поздоровался. – Вы не находите возможным подать мне руку?
– Кажется, первым протягивает руку мужчина, – заметила она, покосившись на мою шляпу. Я сказал, что, значит, я ошибался, думая на этот счет иначе, и мы, что называется, поручкались ни горячо ни холодно. Мой стол был завален разным бумажным хламьем, и я прибрал его, сложив бумаги стопками по краям. Вераванна, огородив лицо белыми колоннами рук, чутко прислушивалась к тому, что я делал. По-моему, она читала всё ту же рукопись.