Читать онлайн Петр Первый. Том 1 бесплатно
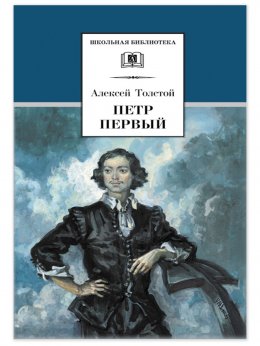
1883–1945
Текст печатается по изданию:
Толстой А. Н. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1982–1986. Т. 7.
Вступительная статья и комментарии
С. И. Кормилова
Художник Ю. Иванов
© Кормилов С. И., вступительная статья и комментарии, 2003
© Иванов Ю. В., наследники, иллюстрации, 2003 © Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2003
Алексей Николаевич Толстой и его роман «Петр Первый»
Алексей Николаевич Толстой – один из самых плодовитых и разносторонних писателей XX века. «Полное собрание сочинений» в 15 томах, выходившее с 1946 по 1953 год, включает лишь часть написанного им.
В молодости он писал стихи; некоторое время испытывал влияние модернизма, затем занял «антидекадентскую» позицию.
Получил известность благодаря произведениям о провинциальной поместной жизни, прекрасно знал русский национальный быт и нравы, особенно в их стихийных, зачастую чудаческих проявлениях. Но в других произведениях показывал и иностранцев, жизнь на Западе. Считал необходимым откликаться на вопросы настоящего времени, доходя до откровенной конъюнктурности, и вместе с тем стяжал славу мастера художественно-исторической литературы. Работал с подлинными фактами, признавал только реалистическую манеру. И при этом написал популярнейшие фантастические произведения, обрабатывал народные сказки и другие жанры фольклора, создал замечательную детскую сказочную повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1935).
Принципиально не писал повествовательных произведений по плану, не стремился к созданию последовательных сюжетов со стройной композицией, не умел выдумывать выразительных, удачных финалов, однако был при этом одним из самых занимательных и увлекательных повествователей, охотно вводил даже в самые серьезные произведения элементы авантюрности. Перепробовал едва ли не все прозаические жанры – от миниатюры до романа-эпопеи, написал более сорока пьес, был киносценаристом, активнейшим публицистом, высказывался по вопросам теории и истории литературы и фольклора от армянского эпоса до проблем современного русского литературного языка, не желая знать ни одного из иностранных языков во имя лучшего ощущения своего национального языка (ощущения действительно очень живого и органичного).
Считался безыдейным писателем, «чистым» художником, побывал в эмиграции, а в последние годы гордился званием депутата Верховного Совета СССР и для многих был образцовым выразителем новой социалистической действительности, «переделывающей» людей: бывший граф, выходец из помещичьей семьи, он стал советским писателем, чьи основные произведения считались идеологически и художественно безупречными.
Блестящий мастер импровизации, Толстой отрицал вдохновение и каждый день напряженно трудился, многократно переделывая свои произведения, написанные в разное время, вплоть до превращения их в совершенно новые – с коренной переработкой сюжета, со сменой заглавий, героев и их имен, жанра и рода (пьесы по мотивам повестей и романов), часто с изменением основных идей, даже до полной противоположности первоначальным.
Душа любого общества, притягивающий к себе самых разных людей, он вызывал далеко не всегда безосновательные подозрения в беспринципности. Автор многих страниц замечательной прозы, написанных на уровне высокой классики, беспощадно уничтожавший свои рукописи, если в процессе работы вдруг ощущал недовольство сделанным, он опубликовал немало однодневок и произведений более чем слабых, при этом высоко ценил свою самую конъюнктурную повесть «Хлеб» и выше всего – драматическую дилогию «Иван Грозный», работая над которой советовался относительно ее концепции лично со Сталиным.
Все эти сложности и противоречия делают фигуру А. Н. Толстого особенно интересной.
Первая книга прозы А. Н. Толстого «Повести и рассказы», вышедшая в 1910 году, включала произведения: «Заволжье» («Мишука Налымов»), «Неделя в Туреневе» («Петушок»), «Аггей Коровин» («Мечтатель»), «Два друга» («Актриса») и «Сватовство». В них Толстой вывел жителей своей родной Самарской губернии, преимущественно помещиков, разоряющихся дворянских «последышей», далеко не интеллектуалов, без больших культурных запросов, зачастую – чудаков и самодуров, но больше забавных, нелепых и смешных, чем страшных и по-настоящему опасных, хотя читатели и критика сначала восприняли эти повести и рассказы, на фоне тогдашней и предшествовавшей прозы, в традиционном социально-критическом, даже сатирическом ключе.
«Заволжский» материал нашел воплощение и в первых небольших романах Толстого: «Чудаки» (первоначально «Две жизни», потом «Земные сокровища») и «Хромой барин», появившихся в 1911–1912 годах.
С 1912 года его увлекла драматургия, но пьесы удавались ему меньше, чем повести и рассказы. Во время Первой мировой войны Толстой в качестве военного корреспондента побывал на разных фронтах, где он, по собственному выражению, «увидел русский народ». В своих многочисленных статьях и очерках он подчеркивал повсеместный патриотический подъем и массовый героизм, порицал в связи с этим высшие слои общества, особенно провинциального. Написал немало рассказов, связанных с военной тематикой. В 1915 году – не без влияния увиденного на войне – создает ряд рассказов, направленных против декадентства, а также автобиографический роман «Егор Абозов», оставшийся неоконченным. Продолжает писать пьесы.
Толстой откликнулся статьями и на события Февральской революции, которую встретил с энтузиазмом. От лица Временного правительства проживавший в Москве «гражданин граф А. Н. Толстой» был назначен «комиссаром по регистрации печати», собирал газеты, брошюры, прокламации, воззвания тех дней как имеющие «огромный интерес для культурной истории» (обращение комиссариата). С этого времени Толстой активно занимался общественной деятельностью, даже после октября – ноября 1917 года (участвовал в работе Кинематографического комитета).
Кипучая современность обострила интерес писателя к истории, особенно к ее смутным и переломным периодам. В 1918 году была поставлена переделанная им пьеса немецкого романтика Г. Бюхнера «Смерть Дантона» о событиях Французской революции XVIII века. В том же году создаются рассказы «Наваждение» (в форме устных воспоминаний некоего Трефилия о том, как он молодым послушником был сражен чарами Матрены, дочери Кочубея и любовницы гетмана Мазепы) и «День Петра». Первое прямое обращение к петровской теме было отмечено влиянием символистского романа Д. С. Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)», позднее сказавшимся отчасти лишь в сюжетном отношении – немного в романе «Петр Первый», несколько больше в одноименной пьесе и киносценарии. Только «День Петра» сравнительно подробно отразил строительство Петербурга: писатель с его широкой русской натурой недолюбливал северную «европейскую» столицу.
В том же 1918 году Толстой с семьей выехал из голодной Москвы на юг и осел в занятой союзническими войсками Одессе, а в начале апреля 1919 года отправился оттуда в эмиграцию. В Париже он начал роман «Хождение по мукам». Первые главы были напечатаны уже в 1920 году, в следующем году роман – первая часть будущей трилогии («Сестры») – вышел полностью. Эта редакция была весьма далека от последующих. По сути, роман был антибольшевистским. В финале сестры Катя и Даша, Телегин и Рощин находили спасение от наступивших общественных бурь в личном, семейном счастье. Любовь для Толстого в этот период – вечное, войны и революции – преходящее.
В 1920–1922 годах печаталось одно из лучших произведений писателя – автобиографическая повесть «Детство Никиты», в первом отдельном издании красноречиво названная «Повестью о многих превосходных вещах». Счастливое мироощущение девяти-десятилетнего мальчика, непосредственные радости жизни в семье, в поместье, игры и драки с деревенскими детьми, очаровывающая среднерусская природа и другие «превосходные вещи» демонстрировали в повести единственную постоянную позицию писателя-жизнелюба, умеющего получать истинное наслаждение в простом естественном потоке событий и красочно, въяве воссоздавать безо всяких сентиментальных вздохов безвозвратно ушедшее, словно по-прежнему существующее.
Пребывание вдали от России Толстой потом назвал «самым тяжелым периодом» своей жизни. Но у него не опустились руки. Нелегкие переживания он компенсировал напряженным трудом. В 1922–1923 годах написаны совершенно непохожие друг на друга произведения: фантастический роман «Аэлита», историческая «Повесть смутного времени (Из рукописной книги князя Туренева)», рассказ «Рукопись, найденная под кроватью» об опустившихся, спившихся, ставших преступниками эмигрантах, один из которых убивает своего товарища и кончает с собой, и другие.
Толстой печатался в лояльных к советской власти изданиях, сотрудничал с писателями, оставшимися в России, уже в апреле 1922 года был исключен из Союза русских писателей в Париже после «Открытого письма Н. В. Чайковскому», в котором откровенно противопоставил себя эмиграции.
Весной 1923 года он вернулся на родину. Корней Чуковский в статье «Алексей Толстой» (1924) связал новый этап жизни и творчества писателя с блистательным образом красноармейца Гусева, до мозга костей русского человека, который, прилетев с инженером Лосем на Марс, устраивает там революцию. «Если революция – Россия, значит, революция прекрасна… – излагал критик свое понимание позиции Толстого. – Выдумывать Гусева ему не пришлось, потому что он и сам такой же Гусев: веселый, счастливый, здоровый, ребячливый, бездумный, в высшей степени русский талант».
Россия, однако, встретила «такого же Гусева» с графским титулом неприветливо. Едва вернувшись, вчерашний эмигрант без ложной скромности поставил задачи молодой советской литературе (статья «Задачи литературы», 1924): «Сознание грандиозности — вот что должно быть в каждом творческом человеке. <…> Вот общая цель литературы: чувственное познание Большого Человека». Толстой не зря выступал против декадентской утонченности. Его привлекали личности яркие, крупные, по возможности цельные и деяния широкие, чем грандиознее, тем лучше. А революция все это обещала. В «Хождении по мукам» благородный патриот Рощин, потомок «лишних людей» русской классики, скажет именно революционному матросу Чугаю: «Потерял в себе большого человека, а маленьким быть не хочу».
Толстой продолжает антиэмигрантскуто тему, в частности, печатает в 1925 году плутовской роман XX века «Похождения Невзорова, или Ибикус», герой которого, удачливый, хотя и терпящий во время революционных событий и в эмиграции целую серию крушений жулик, по воле прихотливого случая многократно выходит сухим из воды, меняя фамилию, облик и поведение, и наконец достигает благополучия с помощью азартного «аттракциона» – тараканьих бегов.
В 1925–1926 годах выходит второй фантастический роман Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В своей фантастике Алексей Николаевич предсказал «парашютный тормоз» космического корабля, улавливание голосов из космоса, лазер, даже деление атомного ядра, якобы уже осуществленное в Берлине (там и было впоследствии сделано это открытие). В «Гиперболоиде…» и рассказе «Союз пяти» (первоначально – «Семь дней, в которые был ограблен мир», 1925) показано стремление маниакальных властолюбцев к мировому господству, которого они хотят добиться с помощью новых, неизвестных большинству технических средств, но естественная, нормальная жизнь оказывается сильнее одаренных злодеев.
В 1928 году была опубликована вторая книга «Хождения по мукам» – «Восемнадцатый год». В декабре того же года завершена историческая пьеса «На дыбе», идейно и сюжетно близкая к раннему «Дню Петра». Практически сразу же после премьеры, в 1929 году, Толстой приступил к созданию романа «Петр Первый», к которому возвращался до конца жизни. В 1935 году пьеса «На дыбе» преобразуется в почти новую – «Петр Первый», тогда же на Ленфильме начинаются съемки кинофильма о Петре; в сценарии были исключены написанные эпизоды самосожжения раскольников, «всешутейшего собора», измены Екатерины Петру, который застал ее с Виллимом Монсом (в романе, не доведенном до этого времени, аналогичную роль играет измена Анхен Монс с посланником Кенигсеком), и т. д. В третьей редакции пьесы (1938) из десяти картин от первоначального варианта осталось три, сильно переделанные, и кончается она, как и сценарий, не наводнением в Петербурге, грозящим уничтожить построенное, а торжественной речью Петра после победоносного завершения Северной войны и дарования Петру Сенатом звания отца отечества. По сути, единственная отрицательная характеристика первого российского императора в пьесе 1938 года – слова царевича Алексея: «Он пьет много».
От замысла «Хождения по мукам» ответвились два произведения. В 1931 году роман «Черное золото» – об эмигрантах и европейских политиках, организующих террористическую группу. В книге много подлинных лиц, подлинна и сюжетная основа, но персонажи окарикатурены или представлены черными злодеями (хотя материал давал для этого основания), а действие приобрело характер авантюрности. В 1940 году почти заново переписанный роман вышел под названием «Эмигранты».
К другому произведению, повести 1937 года «Хлеб (Оборона Царицына)», Толстого подтолкнуло высшее политическое руководство. В официальной сталинской мифологии решающую роль в Гражданской войне сыграла оборона Царицына (будущего Сталинграда), которой якобы руководил Сталин при помощи Ворошилова. Толстой в «Восемнадцатом годе» будто бы по незнанию фактов царицынской «эпопее» не придал значения. «Хлеб» должен был поправить дело. Толстого «консультировали» лично К. Ворошилов и один из работников Генерального штаба, его обеспечила «материалами» редакция официозной «Истории гражданской войны в СССР». Он решил сделать «Хлеб» связующим звеном между второй и третьей книгами трилогии и переработать ради этой связки «Восемнадцатый год», но все же не превратил трилогию в тетралогию. Написанная на заказ повесть осталась лишь примыкающей к «Хождению по мукам». Однако свою роль в утверждении сталинской мифологии она сыграла. Как бы непосредственным ее продолжением стала официозная пьеса 1939 года о Ленине «Путь к победе» (первоначально – «Поход четырнадцати держав»), среди действующих лиц которой – Сталин и Буденный.
В 1939 году Толстой колебался, какую из двух трилогий ему заканчивать первой, и, решив, что после ожидаемой войны с фашистами (о наступлении фашизма в Европе он написал пьесу «Чертов мост») заканчивать роман-эпопею, посвященную в основном Гражданской войне, будет трудно, стал писать о 1919 годе – «Хмурое утро». «Хождение по мукам» было закончено в ночь на 25 июня 1941 года, но Толстой утверждал, что на 22-е – точно перед началом Великой Отечественной войны.
Во время войны Толстой проявил себя одним из самых активных, страстных и читаемых публицистов, написал от лица опытного воина «Рассказы Ивана Сударева». И вместе с тем создал апологию любимого исторического героя Сталина – драматургическую дилогию «Иван Грозный». Две части пьесы, «Орел и Орлица» и «Трудные годы», были напечатаны в конце 1943 года, потом дорабатывались. Третью часть, о мрачном, бесславном конце царствования Грозного, Толстой не написал. В дилогии прогрессивного царя поддерживает народ, в том числе Василий Буслаев, которого былины поселяют в гораздо более ранние времена, и лермонтовский купец Калашников, отнюдь не отправляемый здесь на плаху, а также благородные опричники – Малюта Скуратов, Василий Грязной и т. д. Им противостоят бояре – изменники, заговорщики и отравители, защитники косной старины, которых, естественно, надо казнить. Хилые иноземцы в латах – ничто перед могучими русскими воинами. Польский пан падает в обморок, когда Малюта грозит ему пальцем. Злыми и жадными показаны крымские татары. Вместе с тем дилогию отличают яркие характеры, выразительный исторический колорит, тонко стилизованная, емкая разговорная речь.
Бывшему графу, бывшему эмигранту, постоянному объекту нападок со стороны Российской ассоциации пролетарских писателей потребовалась немалая смелость, чтобы в 1929 году приступить к роману о царе. Даже суровая к Петру пьеса «На дыбе» в 1930 году вызвала резкую рапповскую критику. Однако сказалось исключительное политическое чутье А. Толстого. Как раз в 1929 году началась первая пятилетка, призванная ускоренным путем привести к огромным общественным преобразованиям. Актуальным стал вопрос об исторических аналогах: возможно ли вообще столь стремительное развитие? А. Толстой если не понял, то почувствовал, что в 1930-е годы главным станет установка на объединяющую всех советских людей «народность» и государственное величие, символом которого выступит самый Большой Человек, объявленный великим верховный правитель, облеченный большей властью, чем император. Для него же мужик или граф – разница незначительная, он претендует на то, чтобы в своем лице полнее всех воплощать якобы общенародные устремления, хотя народу во имя светлого будущего придется и потрудиться через силу и, конечно, пострадать. Перемена в отношении А. Толстого к царю-реформатору произошла почти мгновенно.
Разумеется, царь для него оставался царем, а не генеральным секретарем, прямых параллелей с современностью, как потом в «Иване Грозном», он не проводил и народу петровских времен от души сочувствовал, однако современность идеи своего исторического произведения не только не скрывал, но и открыто декларировал. «Петр Первый» должен был стать образцовым историческим романом, написанным методом социалистического реализма. Так его и восприняла критика, в 1930-е годы уже более чем доброжелательная к А. Толстому.
В романе, особенно в первых двух книгах (1930, 1934), еще в свете классовых представлений тех лет преувеличена роль купечества, торговых людей. Эпоха Петра неисторично оценивалась тогдашней советской наукой как открывшая путь прогрессивному буржуазному развитию России. На самом деле Петр делал ставку прежде всего на государственную централизацию, на сосредоточение всей власти в одних руках. Это, впрочем, показано Толстым убедительно. Вначале Петр, даже победив свою соперницу Софью, следует принципу феодального права – «царь сказал, а бояре приговорили». «Перемен особенных не случилось, – сказано в конце 4-й главы первой книги. – Только в кремлевском дворце ходил в черных соболях, властно хлопал дверями, щепотно стучал каблуками Лев Кириллович вместо Ивана Милославского…» Но тут же говорится, что купцы, откупщики, ремесленники в Москве и на Кукуе (то есть и русские, и приехавшие в Россию из-за границы), капитаны кораблей, конечно иностранных, «с великим нетерпением ждали новых порядков и новых людей. Про Петра ходили разные слухи, и многие полагали на него всю надежду. Россия – золотое дно – лежала под вековой тиной. Если не новый царь поднимет жизнь, так кто же?» В 5-й главе он уже добивается от Думы всего, чего хочет, лишь «еретика» Кульмана уступает патриарху для сожжения. В начале 7-й главы он еще решительнее. Бояре «видели, – спорь не спорь, у Петра все решено вперед. С трона не говорит, а жестко лает…» «И получилось, что боярская Дума преет здесь только порядка древнего ради, – вот-вот царь уж и без нее обойдется».
Действительно, царским указом, а «не боярским приговором» пятьдесят лучших дворян посылаются на учебу за границу. Съездив туда сам, Петр по возвращении с жестокими шуточками заставляет «двух богопротивных карлов» овечьими ножницами отрезать родовитым боярам бороды. С древних времен борода, волосы ассоциировались с мужеством и силой. «И Самсону власы резали…» – напоминает Петр. Этот библейский богатырь, остриженный во сне, лишился всей своей силы. Петр бреет бояр не только потому, что «в Европе над бородами смеются». Это жест символический, означающий полную потерю силы прежними всевластными правителями России.
«Ишь ты, – взялись дворянство искоренять!» – возмущается про себя Буйносов. Здесь историческая концепция А. Толстого также уязвима. Он, по сути, изначально не делает различия между вотчинниками и дворянами-помещиками, получавшими свои имения временно, за службу, тогда как весьма решительной мерой Петра была именно ликвидация принципиальной разницы между вотчинниками и помещиками. Петр назвал дворянами тех и других и всех заставил служить на государственной службе, военной или статской, открыл доступ в привилегированное сословие неродовитым людям, достигшим определенных чинов (хотя табель о рангах – одно из поздних нововведений Петра, оно за пределами хронологии романа). В соответствии с исторической истиной А. Толстой показывает, что сначала Петра в основном окружают наиболее деятельные люди знатных родов: князь-кесарь Ромодановский, Борис Голицын, Головин, Апраксины, Шереметев и другие. Потом «старые генералы», не справившиеся с новыми задачами, решительно потесняются незнатными людьми, среди которых самая выразительная фигура – Александр Меншиков.
Безусловно, Петр развивал торговлю, для этого и воевал за моря, но о роли купечества, торговых людей в романе говорится слишком часто и назойливо. Они неизменно поддерживают Петра, как морально, так и материально. Петр в романе уважает их, наряду с немецкими ремесленниками, едва ли не больше, чем дворян, а это уже явное преувеличение.
А. Толстой стремился объяснить осуществлявшиеся преобразования не только характером и колоссальной энергией своего героя и его биографией (он натерпелся от старого мира: уже в первой сцене с десятилетним Петром бунтующие стрельцы отбрасывают его, «как котенка», потом идет борьба за власть с Софьей, представленная как опасная для жизни молодого царя), но прежде всего объективно-историческими причинами. Многократно и настойчиво говорится об отсталости и бедности России, об усиливающемся недовольстве всех слоев ее населения – от холопов до бояр. Даже ревнитель старины Буйносов мечтает о том, чтобы у России был выход к Черному морю, желая отправлять по рекам за границу свою пшеничку для продажи, интересуется коммерческими успехами Ивана Артемьича Бровкина.
Противостояние прежней и новой России Толстым резко подчеркнуто и преувеличено. Допетровская Россия не была такой абсолютно бескультурной и нищей страной, какой представлена в «Петре Первом». Строящим несбыточные проекты реформ до Петра показан только одетый в европейское платье безвольный, слабый Василий Голицын, незадачливый полководец в двух походах против крымских татар («новое» дело, на результативность которого надеются и Софья, и бояре). На самом деле склонность к нововведениям обнаружил уже отец Петра Алексей Михайлович, о чем в романе практически не упоминается (кроме постройки первого большого корабля, сгнившего на приколе). Советскому писателю периода «великого перелома», печатавшему исторический роман в журнале «Новый мир», надлежало и в далеком прошлом демонстративно противопоставлять старый и новый мир, разумеется, в пользу последнего. Правда, Толстой, понимавший, что при Петре усилилась бюрократия (это было и при социализме), по крайней мере о начале самовластного правления Петра прямо сказал: «Жилось худо, скучно. При Софье была еще кое-какая узда, теперь сильные и сильненькие душу вытряхивали из серого человека. Было неправое правление от судей и мздоимство и кража государственная. Много народу бежало в леса воровать». Показана и корыстная нечистоплотность ближайшего к царю человека Меншикова. А. Толстой не отрицает и усилившейся эксплуатации народа.
При всем этом реформы, строительство флота и войны за моря предстают как совершенно неизбежные и необходимые. Россия уже наводнена иностранцами. «Немцы всем завладели», все «на корню скупили», перебивают торговлю русским купцам – это постоянный мотив. Изолировавшая себя от Запада Россия просто не может дольше оставаться в том же положении. Приплыв в Архангельск на карбасах, Петр испытал жгучий стыд при виде больших иностранных кораблей и «иноземного двора», контрастирующего с чисто русским правым берегом Двины («колокольни да раскиданные, как от ленивой скуки, избенки, заборы, кучи навозу»), понял, что на Кукуе «были свои, ручные немцы. А здесь непонятно, кто и хозяин». Франц Лефорт наставляет его, лишившегося сна: «Без Черного с Азовским морей тебе не быть, Петер… Давеча Пальтенбург на ухо меня спрашивал, неужто русские все еще дань платят крымскому хану… (Зрачки Петра метнулись, остановились, как булавки, на любезном друге.) И не быть тебе, Петер, без Балтийского моря… Не сам – голландцы заставят… В десять раз, они говорят, против прежнего стали бы вывозить товару, учини ты гавани в Балтийском море…» Умный советник ухватил главное: не сам, так «голландцы», Европа «заставит», хотя вместе с тем и не в интересах европейских правителей усиление Российского государства, чего сначала не понимает не искушенный в европейской «политйк» Петр.
У России есть все данные для превращения в великую державу. Тот же Лефорт, плывя с Петром по Волге, «дивился роскоши и величию реки – без конца и без краю».
Петр хоть и стыдится подвластной ему родной страны («Черт привел родиться царем в такой стране!»), как раз потому и стремится вывести ее из унизительного положения. Желавшие перемен «в молодом царе не ошиблись: он оказывался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал, неудача бешеными удилами взнуздала его. Даже близкие не узнавали – другой человек: зол, упрям, деловит». Потом его многому научит также нарвская конфузия. Нетерпеливый, он еще во время заграничного путешествия ставит задачу: «В два года должны флот построить, из дураков стать умными! Чтоб в государстве белых рук у нас не было».
Не раз в романе встает вопрос об отчаянной нехватке людей – не людей вообще (о московских лентяях говорится и в третьей, последней книге), а людей умных, деловитых, образованных и, главное, честных. Но со временем их появляется все больше. Они и раньше были, только оставались невостребованными, подобно изобретателю и искусному кузнецу Жемову.
Согласно официальной советской фразеологии, «народ – творец истории». Разумеется, А. Толстой не был склонен понимать это буквально: зачем, «творя» историю, народ делал себе хуже? Но писатель прекрасно понимал, что без коллективной воли масс никакие серьезные исторические сдвиги не происходят. Долго остается угрозой для правителей стрелецкая стихия. Походы Василия Голицына, как и первый азовский поход Петра и первый поход на Нарву, приводят к неудачам и поражениям, большим потерям не только из-за плохого снабжения, природных условий и недостатка опыта у военачальников, но и из-за неготовности всего войска к решению современных задач, к организованному ведению боя. В отличие от хорошо выученных бывших «потешных» большинство воинов петровской армии только мечется в ужасе под стенами Азова, не отваживаясь на них подняться. Под Нарвой русская армия уступает значительно меньшей шведской, к тому же уставшей. Насильно забранный в солдаты Федька Умойся Грязью, на свободе вступающий в драку с пятерыми, здесь предпочитает не сражаться со шведами, а придушить ненавистного поручика Мирбаха и потом, бродяжничая, будет получать еду и ночлег за лубочный рассказ о том, как он, якобы раненный в грудь пулей, выделывал ружейный артикул перед Карлом XII. Настоящей силой становится лишь хорошо организованная, тщательно обученная армия.
Исторический процесс в романе показан разными средствами. Прежде всего, это произведение о крупнейшем историческом деятеле, и основные его герои – реально существовавшие люди, а не вымышленные, традиционно романные персонажи. Сюжет протяженный, охватывающий более двух десятилетий, также в основе своей реальный, следующий за историческими событиями, а не за развитием какой-то романной интриги. По мере нарастания исторически важных событий художественное время замедляется и расширяется. Первая книга, отражающая произошедшее с 1682 по 1698 год, насыщена событиями, они мелькают, часто даются в самом кратком изложении. Вторая книга заканчивается начальным периодом строительства Петербурга, основанного в 1703 году. Идут уже серьезные преобразования, к ним требуется внимание более пристальное. Действие третьей книги (то, что Толстой успел написать) измеряется месяцами. Писатель стал как бы внимательнее к людям, теперь преобладают сцены длительные, с обстоятельными разговорами, новая жизнь утверждается, укрепляется, в полном смысле слова осваивается.
Многие события показаны в наглядном изображении. О других просто сообщается, но почти всегда не в чисто информационном стиле, как в «Тихом Доне» Шолохова или в первоначальном варианте «Восемнадцатого года» (потом Толстой резко сократил количество таких сообщений), а в форме несобственно-прямой речи, когда говорит сам автор, но во многом словами тех или иных героев либо целых социальных групп (это более характерно), передавая точку зрения всего народа, или только старообрядцев, или бояр («Падала к царским ножкам древняя красота» – об отрезанных бородах), или даже западноевропейцев, не в меру кичащихся своим превосходством перед русскими: «В Европе посмеялись и скоро забыли о царе варваров, едва было не напугавшем прибалтийские народы, – как призраки, рассеялись его вшивые рати. Карл, отбросивший их после Нарвы назад в дикую Московию, где им и надлежало вечно прозябать в исконном невежестве (ибо известна, со слов знаменитых путешественников, бесчестная и низменная природа русских), – король Карл ненадолго сделался героем европейских столиц».
О некоторых событиях рассказывают персонажи, как, например, Цыган о походе Голицына. Нередко используется форма писем, в том числе подлинных, сокращенных и несколько отредактированных Толстым, то более, то менее близких к современному языку, а также всякого рода записей свидетелей-иностранцев.
Основной конфликт в романе постепенно переносится с внутренней политической арены России на внешнюю. Сначала России противопоставляются в качестве примера практически все европейские страны, в том числе ближайшая соседка-соперница Польша. Потом историческая «молодость» России, свежий, непосредственный взгляд на жизнь Петра и его соратников становятся положительной характеристикой и противопоставляются интригам западных стран друг против друга и против России, разгулу и бесшабашной храбрости Карла XII, для которого военные подвиги самоценны (Петр, как сказано в 6-й главе третьей книги, считал войну «делом тяжелым и трудным, будничной страдой кровавой, нуждой государственной»); светской жизни галантного короля Польши Августа II Саксонского, для защиты которого приходится направлять отряд запорожских казаков (что унизительно более всего для гордого польского панства, погрязшего в пирах и волокитстве), и уж тем более сонной Турции, воздействовать на которую удается не дарами, а появлением посольства на новых боевых кораблях.
Нарастание светлых тонов от одной книги к другой сказалось и в описаниях Москвы в начале каждой из книг (в последней это скучная жизнь и безлюдье по сравнению с тем, что было, для безымянного боярина); и в обретении стариной чисто комических черт (приключения царевен Катьки и Машки, сестер Софьи, в Немецкой слободе); и в перспективе личного морального благополучия для Петра (несколько идеализированный образ Екатерины, которой покровительствует сугубо положительная царевна Наталья); и в совершенно иной трактовке образов иностранцев по сравнению с русскими, и, конечно, в образе Петра. Сначала кукуйские немцы – доброжелательные люди с умными лицами, нежная Анхен – первая любовь Петра, Лефорт – главный его советчик, Гордон – лучший военачальник. Потом ситуация меняется. Толстой все больше подчеркивает талантливость русских людей, их благородство и деловитость.
Петр Алексеевич (теперь именуемый так) в последней книге никого не казнит и не пытает, признает правоту Якова Бровкина, после того как сгоряча поколотил его, обещает послать Андрюшку Голикова в Голландию учиться на живописца (его товарищ Федька Умойся Грязью так и остался во второй книге). В Петербурге выслушивает одного из рядовых строителей города, живущих в невыносимых условиях, и заставляет Меншикова съесть заплесневелый хлеб, которым генерал-губернатор кормит рабочих: «Дерьмом людей кормишь – ешь сам, Нептун!» И уж совсем гуманистически: «Ты здесь за все отвечаешь! За каждую душу человечью…» Вновь осадив Нарву, хотел назначить главным «своего», русского, того же Меншикова, остановился все-таки на европейской знаменитости фельдмаршале Огильви, но имеет основания пожалеть об этом и на слова фельдмаршала, что «русский солдат это пока еще не солдат, но мужик с ружьем», патетически отвечает: «Плохого не вижу… Русский мужик – умен, смышлен, смел… А с ружьем – страшен врагу…» И даже запрещает Огильви (не капралу, не поручику, а фельдмаршалу!) бить солдата, оставляя эту привилегию лишь для себя. Немногим раньше он дает отповедь инженеру Коберту, сказавшему, что болото непроходимо, – «Для русского солдата все проходимо…». Одному такому солдату, бомбардиру Курочкину, он протягивает свою трубку, оговаривая, что не может подарить за неимением в данном случае другой, а отсутствующий табак заимствует для него у фельдмаршала Шереметева.
На последних написанных страницах романа Петр даже заботится о населении неприятельского города, пострадавшего из-за «упрямства» мужественного коменданта Горна, и требует немедленно унять рассердившихся солдат на улицах наконец захваченной Нарвы, причем ему поясняют: «А грабят в городе свои, жители…» «Хватать и вешать для страха!» – повелевает теперь Петр, имея в виду, возможно, тех, о ком беспокоится. Прежде же, штурмуя Азов, Петр и генералы обещали отдать город на три дня казакам, которые просили «хоть на сутки – пограбить», а Шереметев совсем недавно под стенами Мариенбурга призывал «охотников»: «В крепости вино и бабы, – постарайтесь, ребята, дам вам сутки гулять».
Третья книга писалась в период «расцвета» культа личности Сталина, а прогрессивные государственные деятели прошлого осознавались его предшественниками. Однако важнее то, что последние главы создавались во время Великой Отечественной войны, когда утверждение национальной гордости русских стало и государственной политикой, и основой общественного сознания. Не завершенный из-за смерти писателя роман прозвучал торжественным победным аккордом, и не важно, что он оборвался на нарвской победе, не был доведен хотя бы до Полтавской битвы. Все главное уже было сказано, дальше возможно было в основном лишь экстенсивное расширение содержания, а композиция неожиданно обрела концентричность: с нарвской конфузии Северная война началась, нарвская победа логично предвосхищала последующие. В сущности, роман все-таки обрел не сюжетную, но смысловую, содержательную завершенность.
Петр Первый – исключительно живой художественный образ. Именно по роману А. Толстого в первую очередь мы представляем себе Петра. Удачны, хорошо запоминаются и почти все остальные персонажи (а их множество), даже появляющиеся совсем ненадолго, как, например, наделенный прозвищем Вареной Мадамкин. Исторические персонажи в изображении неотличимы от вымышленных, писатель постоянно ставит их рядом друг с другом (так, мятежного князя Хованского схватил вымышленный Михайла Тыртов, персонаж далеко не первого ряда). Характеры героев последовательно выдержаны. Маленький Петр после фокуса Алексашки с иглой и ниткой успешно пробует проделать его сам и тут же бежит показать боярам. Характер раскрывается в самом истоке. То же касается талантливого, смелого и жуликоватого Меншикова и многих, многих других. До третьей книги ни один персонаж ни в коей мере не идеализирован. Скажем, смышленый и деловой, по-человечески симпатичный, не слишком прижимающий бывших односельчан мужичок Иван Бровкин – человек не храброго десятка. При виде наехавшей толпы во главе с царем он «замочил портки», когда ему показали Санькиного жениха, которого он «сейчас мог купить… всего с вотчиной и холопями», Иван Артемьич «обмер»: «Но не умом, – заробел поротой задницей». Подобных снижающих черт немало и в образах других положительных персонажей, начиная с Петра. Лефорт и Головин плохо воюют и завидуют Гордону, фанфарон Меншиков ворует, Волков так и остается случайным человеком в окружении Петра, без особенных способностей и воли, и т. д. Здесь нельзя, однако, не отметить, что некоторые исторические деятели, особенно церковные, были обделены вниманием А. Толстого.
Характеры и изображение исторических событий, переданная атмосфера времени сделали роман исключительно захватывающим чтением, несмотря на то что таких элементов авантюрности, «подстроенных» автором встреч одних и тех же персонажей друг с другом или с их знакомыми, что-то знающими о них, как в «Хождении по мукам», «Ибикусе» или особенно в «Повести смутного времени», мы в «Петре Первом» не находим. Время изображено не слишком утонченное, что позволило А. Толстому обойтись без развернутого психологизма, в котором он не был силен. «Поток сознания» дан единственный раз, когда показывается закопанная по шею женщина-мужеубийца, которую Петр, стыдясь перед иностранцами варварского обычая, велит пристрелить. Но о том, что чувствуют и переживают его персонажи, А. Толстой дает возможность догадаться. Волков после крамольных речей ночующего у него Михайлы Тыртова и вопроса: «Доносить пойдешь на мой разговор?» – отворачивается к стене, «где проступала смола», и «долго спустя» отвечает: «Нет, не донесу». Меншиков рассказывает после измены Анны Монс с Кенигсеком о Екатерине, живущей у него во дворце. «Петр, – не понять, – слушал или нет… Под конец рассказа кашлянул.
Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял, – Петр Алексеевич слушал внимательно».
Иногда показываются физиологические признаки страха при опасности смерти от вражеского оружия. Во время азовского похода, когда можно из тьмы получить татарскую стрелу, «поджимались пальцы на ногах». В конце романа под Нарвой подполковник Карпов радуется, что остался жив после залпа: «И отвалил преодоляемый страх, от которого у него поднимались плечи…» Вообще же А. Толстой не стремится в «Петре» быть художником-баталистом, описания боев у него обычно коротки, лучше всего передается неразбериха и сумятица массовой смертельной драки.
Несомненное достоинство художественной палитры А. Толстого – его язык, в основе которого современная разговорная речь с отдельными архаизирующими элементами, придающими ей колорит конца XVII – начала XVIII века. Причем архаизмы берутся понятные либо тут же поясняются – прямо в тексте или в подстрочных примечаниях автора. Естественно, что в речи персонажей, а тем более в их письмах архаизация обычно сильнее, чем в авторской речи, но и она, становясь несобственно прямой, как бы вступает в живой диалог с людьми давно прошедшей эпохи. Колоритнейшие фразы и речевые образы можно найти почти на любой странице. Эту речевую (и не только речевую) образность Горький в письме к А. Толстому смог определить тоже только образом: «Спасибо за «Петра», получил книгу, читаю по ночам, понемножку, чтоб «на-дольше хватило», читаю, восхищаюсь, – завидую. Как серебряно звучит книга…»
С. И, Кормилов
Петр Первый
Книга первая
Глава первая
1
Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, – вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.
Чада прыгали с ноги на ногу, – все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка*[1].
– Дверь, оглашенные! – закричала мать из избы.
Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного плата исплаканные глаза, – как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:
– Озябли? А то на двор сбегаем, посмотрим, – батя коня запрягает…
На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате, Иване Артемьиче, – так звала его мать, а люди и сам он себя на людях – Ивашкой, по прозвищу Бровкиным, – высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая борода не чесана с самого Покрова… Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось… Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом:
– Балуй, нечистый дух!
Чада справили у крыльца малую надобность и жались на обледенелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артамошка, самый маленький, едва выговорил:
– Ничаво, на печке отогреемся…
Иван Артемьич запряг и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувая косматые бока: «Что ж, кормите впроголодь, уж попью вдоволь…» Батя надел рукавицы, взял из саней, из-под соломы, кнут.
– Бегите в избу, я вас! – крикнул он чадам. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцой поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова.
– Ой, студено, люто, – сказала Санька.
Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-черному. Мать творила тесто. Двор все-таки был зажиточный – конь, корова, четыре курицы. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Падали со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братиков бараний тулуп и под тулупом опять начала шептать про разные страсти: про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подполье…
– Давеча, лопни мои глаза, вот напужалась… У порога – сор, а на сору – веник… Я гляжу с печки, – с нами крестная сила! Из-под веника – лохматый, с кошачьими усами…
– Ой, ой, ой, – боялись под тулупом маленькие.
2
Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые сосны закрывали небо. Бурелом, чащоба – тяжелые места. Землею этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году был поверстан в отвод от отца, московского служилого дворянина. Поместный приказ поверстал Василия четырьмястами пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.
Василий поставил усадьбу, да протратился, половину земли пришлось заложить в монастыре. Монахи дали денег под большой рост – двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалью и вести с собой ратников, троих мужиков, на конях же, в тегилеях, в саблях, в саадаках*… Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому? А дворню прокормить? А рост плати монахам?
Царская казна пощады не знает. Что ни год – новый наказ, новые деньги – кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? И все спрашивают с помещика – почему ленив выколачивать оброк. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощало государство при покойном царе Алексее Михайловиче от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор анафема Стенька Разин, – крестьяне забыли Бога. Чуть прижмешь покрепче, – скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон, – оттуда их ни грамотой, ни саблей не добыть.
Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки, – гибель в лесах была этой белки. Иван Артемьич лежал в санях и думал, – мужику одно только и оставалось: думать…
«Ну, ладно… Того подай, этого подай… Тому заплати, этому заплати… Но – прорва, – эдакое государство! – разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну, ладно… Ты заставь, бери, что тебе надо, не озорничай… А это, ребята, две шкуры драть – озорство. Государевых людей ныне развелось – плюнь, и там дьяк, али подьячий, али целовальник* сидит, пишет… А мужик один… Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство… Так вы долго на нас не прокормитесь…»
Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, Цыган (по прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик. Лет пятнадцать он был в бегах, шатался меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было навострил лапти, – поймали, и ведено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме, – на усадьбе же у Волкова, – а как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу.
– Здорово, – сказал Цыган Ивану и пересел в его сани.
– Здорово.
– Ничего не слышно?
– Хорошего, будто, ничего не слышно…
Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство:
– Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирает.
Иван Артемьич привстал в санях. Жуть взяла… «Тпру»… Стащил колпак, перекрестился:
– Кого же теперь царем-то скажут?
– Окромя, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил…
– Ну, парень! – Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. – Ну, парень… Жди теперь боярского царства. Все распропадем…
– Пропадем, а может, и ничего – так-то. – Цыган подсунулся вплоть. Подмигнул. – Человек этот сказывал – быть смуте… Может, еще поживем, хлеб пожуем, чай – бывалые. – Цыган оскалил лешачьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес.
Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголочек в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы…
3
Ивашка и Цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними под двухскатной крышей – образ Честного Креста Господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы неперелазный тын. Хоть татар встречай… Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал, как положено:
– Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас…
Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, – свои. Проговорил: аминь, – и стал отворять ворота.
Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо, резного дерева, крыша луковицей. Выше крыльца – кровля – шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жилье избы – подклеть – из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков под кладовые для зимних и летних запасов – хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но, – мужики знали, – в кладовых у него одни мыши. А крыльцо – дай Бог иному князю: крыльцо богатое…
– Аверьян, зачем боярин нас вызывал с конями, – повинность, что ли, какая?.. – спросил Ивашка. – За нами, кажется, ничего нет такого…
– В Москву ратных людей повезете…
– Это опять коней ломать?..
– А что слышно, – спросил Цыган, придвигаясь, – война с кем? Смута?
– Не твоего и не моего ума дело. – Седой Аверьян поклонился. – Приказано – повезешь. Сегодня батогов воз привезли для вашего-то брата…
Аверьян, не сгибая ног, пошел в сторожку. В зимних сумерках кое-где светило окошечко. Нагорожено всякого строения на дворе было много – скотные дворы, погреба, избы, кузня. Но все наполовину без пользы. Дворовых холопей у Волкова было всего пятнадцать душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Работали, конечно, – пахали кое-как, сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, – тот денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки… А все-таки основа – мужички. Те – кормят…
Ивашка и Цыган, стоя в сумерках на дворе, думали. Спешить некуда. Хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было: не понравилось, ушел к другому помещику. Ныне это заказано, – где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова, – как хочешь, так и корми. Все стали холопами. И ждать надо: еще труднее будет…
Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела простоволосая девка-дворовая, бесстыдница:
– Боярин велел, – распрягайте. Ночевать велел. Лошадям задавать – избави Боже, боярское сено…
Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девку, – убежала… Не спеша распрягли. Пошли в дворницкую избу ночевать. Дворовые, человек восемь, своровав у боярина сальную свечу, хлестали засаленными картами по столу, – отыгрывали друг у друга копейки… Крик, спор, один норовит сунуть деньги за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри, и ведь – сытые!
В стороне, на лавке сидел мальчик в длинной холщовой рубахе, в разбитых лаптях, – Алешка, сын Ивана Артемьича. Осенью пришлось, с голоду, за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка большеглазый, в мать. По вихрам видно – бьют его здесь. Покосился Иван на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча, низко поклонился отцу.
Он поманил сына, спросил шепотом:
– Ужинали?
– Ужинали.
– Эх, со двора я хлебца не захватил. (Слукавил, – ломоть хлеба был у него за пазухой, в тряпице.) Ты уж расстарайся как-нибудь… Вот что, Алеша… Утром хочу боярину в ноги упасть, – делов у меня много. Чай, смилуется, – съезди заместо меня в Москву.
Алешка степенно кивнул: «Хорошо, батя». Иван стал разуваться, и – бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:
– Это, что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете…
Один, рослый холоп, бросив карты, обернулся:
– А ты кто тут – нам выговаривать…
Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати.
4
У Василия Волкова остался ночевать гость – сосед, Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках поближе к муравленой печи постланы были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном исподнем. Беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот.
– Тебе, – говорил гость степенно и тихо, – тебе, Василий, еще многие завидуют… А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца четырнадцать. Семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого два мужика, у кого трое, – остальные в бегах. Я, восьмой, новик* завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку, болото с лягушками… Как жить? А?
– Ныне всем трудно. – Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен. – Все бьемся… Как жить?..
– Дед мой выше Голицына сидел,* – говорил Тыртов, – у гроба Михаила Федоровича дневал и ночевал.* А мы дома в лаптях ходим… К стыду уж привыкли. Не о чести думать, а как живу быть… Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку – дай, подьячему – дай, младшему подьячему – дай. Да еще не берут – косоротятся… Просили мы о малом деле подьячего, Степку Ремезова, послали ему посулы, десять алтын, – едва эти деньги собрали, – да сухих карасей пуд. Деньги-то он взял, жаждущая рожа и пьяная, а карасей велел на двор выкинуть… Иные, кто половчее, домогаются… Володька Чемоданов с челобитной до царя дошел, два сельца ему в вечное владенье дано. А Володька, – все знают, – в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском три раза бегал с поля… Так чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь, – их селами жалуют… Нет правды…
Помолчали. От печи пыхало жаром. Сухо тыркали сверчки. Тишина, скука. Даже собаки перестали брехать на дворе. Волков проговорил, задумавшись:
– Король бы какой взял нас на службу – в Венецию, или в Рим, или в Вену… Ушел бы я без оглядки… Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать… Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы нищие… Был недавно в Москве, искал оружейника, послали меня на Кукуй-слободу, к немцам… Ну, что ж, они не православные, – их Бог рассудит… А как вошел я за ограду, – улицы подметены, избы чистые, веселые, в огородах – цветы… Иду и робею и – дивно, ну, будто во сне… Люди приветливые и ведь тут же, рядом с нами живут. И – богатство! Один Кукуй богаче всей Москвы с пригородами…
– Торговлишкой заняться? – опять деньги нужны, – Михайла поглядел на босые ноги. – В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься, – горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило Меншиков, рассказывал: казна за два с половиной года жалованье задолжала стрелецким полкам. А поди пошуми, – сажают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают как холопы… А пошли жаловаться, – челобитчиков били кнутом перед съезжей избой. Ох, стрельцы злы… Меншиков говорил: погодите, они еще покажут…
– Слышно, говорят: кто в боярской-то шубе, и не езди за Москву-реку.
– А что ты хочешь? Все обнищали… Такая тягота от даней, оброков, пошлин, – беги без оглядки… Меншиков рассказывал: иноземцы – те торгуют, в Архангельске, в Холмогорах поставлены дворы у них каменные. За границей покупают за рубль, продают у нас за три… А наши купчишки от жадности только товар гноят. Посадские от беспощадного тягла бегут кто в уезды, кто в дикую степь. Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке… А куда идут деньги? Меншиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын палаты воздвиг на реке Неглинной. Снаружи обиты они медными листами, а внутри – золотой кожей…
Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и тоже глядит на Василия. Только что сидел смирный человек – подменили, – усмехнулся, ногой задрожал, лавка под ним заходила…
– Ты чего? – спросил Василий тихо…
– На прошлой неделе под селом Воробьевым опять обоз разбили. Слыхал? (Василий нахмурился, взялся за четки.) Суконной сотни купцы везли красный товар*… Погорячились в Москву к ужину доехать, не доехали… Купчишко-то один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойников, одни следы нашли, да и те замело…
Михайла задрожал плечами, засмеялся:
– Не пужайся, я там не был, от Меншикова слыхал… (Он наклонился к Василию.) Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Одоевскому… Князь Одоевского меньшому сыну… Нам с тобой однолетку…
– Спать надо ложиться, спать пора, – угрюмо сказал Василий.
Михайла опять невесело засмеялся:
– Ну, пошутили, давай спать.
Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь. Налил квасу в деревянную чашку и пил долго, поглядывая из-за края чашки на Василия.
– Двадцать пять человек дворовых снаряжены саблями и огневым боем у Степки-то Одоевского… Народ отчаянный… Он их приучил: больше года не кормил, – только выпускал ночью за ворота искать добычи… Волки…
Михайла лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подсунул под голову, глаза у него блестели:
– Доносить пойдешь на мой разговор?
Василий повесил четки, молча улегся лицом к сосновой стене, где проступала смола. Долго спустя ответил:
– Нет, не донесу.
5
За воротами Земляного вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам, мимо высоких и узких, в два жилья*, бревенчатых изб. Везде – кучи золы, падаль, битые горшки, сношенное тряпье, – все выкидывалось на улицу.
Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое холопов в бумажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто стеганных, несгибающихся войлочных кафтанах с высокими воротниками – тегилеях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуги денег не хватило, одел их в тегилеи, хотя и робел, – как бы на смотру не стали его срамить и ругать: не по верстке-де оружие показываешь, заворовался…
Василий и Михайла сидели в санях у Цыгана. Позади холопы вели коней: Васильева – в богатом чепраке и персидском седле и Михайлова – разбитого мерина, оседланного худо, плохо.
Михайла сидел, насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турских кафтанах* – весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова мерина: «Эй, ты – на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет…» Перегоняя, жгли кнутами, – мерин приседал… Гогот, хохот, свист…
Переехали мост через Яузу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль белооблезлой стены с квадратными башнями и пушками меж зубцов. В Мясницких низеньких воротах – крик, ругань, давка, – каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом.
Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку, – как только жив остался! Выехали на Мясницкую… Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам: ох, ты!
Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки, – зазывали к себе. За высокими заборами – каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей – тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие – на перекрестках – чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусавя, заголяют тело в крови и дряни… Прохожим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то – калач закушу…»* Тучи галок над церквушками…
Едва продрались за Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая – трубой – соболья шапка боярина, меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой, длинный человек с длинной бородищей кричал, махал бумагой. Тогда выезжал дворянин, богато ли, бедно ли вооруженный, один или со своими ратниками, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дьякам. Они осматривали вооружение и коней, прочитывали записи, – много ли земли ему поверстано. Спорили. Дворянин божился, рвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что вконец захудали на землишке и помирают голодной и озябают студеной смертью.
Так, по стародавнему обычаю, каждый год перед весенними походами происходил смотр государевых служилых людей – дворянского ополчения.
Василий и Михайла сели верхами. Цыганову и Алешкину лошадей распрягли, посадили на них без седел двух волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь-де по дороге ногу побила. Сани бросили.
Цыган только за стремя схватился: «Куда коня-то моего угоняете? Боярин! Да милостивый!»… Василий погрозил ногайкой: «Пошуми-ка…» А когда он отъехал, Цыган изругался по-черному и по-матерному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с досады…
Об Алешке забыли. Он прибрал сбрую в сани. Посидел, прозяб без шапки, в худой шубейке. Что ж – дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него, в лотке под ветошью, дымились подовые пироги*. Дьявол! – покосился на Алешку, приоткрыл с угла ветошь, – «румяные, горячие!». Духом поволокло Алешку к пирогам:
– Почем, дяденька?
– Полденьги пара. Язык проглотишь.
У Алешки за щекой находились полденьги – полушка, – когда уходил в холопы, подарила мамка на горькое счастье. И жалко денег, и живот разворачивает.
– Давай, что ли, – грубо сказал Алешка. Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к саням, – ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлеей нет, – унесли. Кинулся к Цыгану, – тот из-под соломы обругал. У Алешки отнялись ноги, в голове – пустой звон. Сел было на отвод саней – плакать. Сорвался, стал кидаться к прохожим: «Вора не видали?..» Смеются. Что делать? Побежал через площадь искать боярина.
Волков сидел на коне, подбоченясь, – в медной шапке, на груди и на брюхе морозом заиндевели железные, пластинами, латы. Василия не узнать – орел. Позади – верхами – два холопа, как бочки, в тегилеях, на плечах – рогатины. Сами понимали: ну и вояки! глупее глупого. Ухмылялись.
Растирая слезы, гнусавя до жалости, Алешка стал сказывать про беду.
– Сам виноват! – крикнул Василий, – отец выпорет. А сбрую отец новую не справит, – я его выпорю. Пошел, не вертись перед конем.
Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошаденок лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола в горлатной шапке* и в двух шубах – бархатной и поверх – нагольной, бараньей, – сидел страшный князь Федор Юрьевич Ромодановский*.
Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи… Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михайла Тыртов, нагнулся с коня.
– Алешка, – сказал, и у самого – слезы, и губы трясутся, – Алешка, для Бога беги к Тверским воротам, – спросишь, где двор Данилы Меншикова, конюха… Войдешь, и Даниле кланяйся три раза в землю… Скажи – Михайла, мол, бьет челом… Конь, мол, у него заплошал… Стыдно, мол… Дал бы он мне на день какого ни на есть коня – показаться. Запомнишь? Скажи – я отслужу… За коня мне хоть человека зарезать… Плачь, проси…
– Просить буду, а он откажет? – спросил Алешка.
– В землю по плечи тебя вобью! – Михайла выкатил глаза, раздул ноздри.
Без памяти Алешка кинулся бежать, куда было сказано.
Михайла промерз в седле, не евши весь день… Солнце клонилось в морозную мглу. Синел снег. Звонче скрипели конские копыта. Находили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем.
6
В низкой, жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем: райских птиц, завитки трав.
Под темными ликами образов на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич*.
Ждали этого давно: у царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять заутрени, присел на стульчик, да и свалился. Кинулись – едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих, – стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять – что? Немец нагнулся к его бескровным устам: Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по-латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия*… На смертном одре – Овидия? Несомненно, царь был без памяти…
Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна, – сквозь туман слез глядела туда, где из груды перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было семнадцать лет, взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных за красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровое глупенькое ее личико распухло от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустела пальцами, – голосить боялась.
В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня – сестры, тетки, дядья и ближние бояре: Иван Максимович Языков – маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий, человек великой ловкости и глубокий проникатель дворцовых обхождений; постный и благостный старец, книжник, первый постельничий – Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын – писаный красавец, – кудрявая бородка с проплешинкой, вздернутые усы, стрижен коротко – по-польски, в польском кунтуше* и в мягких сапожках на крутых каблуках, – князь роста был среднего.
Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный, – надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкиной или сына Милославской? Оба еще несмышленые мальчишки, за обоими сила – в родне. Петр – горяч умом, крепок телесно, Иван – слабоумный, больной, вей из него веревки… Что предпочесть? Кого?
Василий Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался, – в соседней тронной палате гудели бояре. С утра, не пивши, не евши, прели в шубах, – Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата: лаются, поминают обиды, чуют, – сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.
– Гвалт, проше пана, – прошептал Василий Васильевич и, подойдя к Языкову, сказал ему по-польски тихо: – Ты б, Иван Максимович, все ж поспрошал патриарха, – он-то за кого?
Курчавый, сильно заросший русым волосом Языков румяно, сладко улыбнулся, глядя снизу вверх, – от жары запотел, пах розовым маслом:
– И владыка и мы твоего слова ждем, князюшка… А мы-то как будто решили…
Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду:
– Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили: Ивану быть царем трудно, непрочно, – хил. Нам сила нужна.
Василий Васильевич опустил ресницы, усмехнулся уголком красивых губ. Понял, что спорить сейчас опасно.
– Будь так, – сказал, – быть царем Петру.
Поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя, Софью.* Не плавно, лебедем, как подобало бы девице, – она вошла стремительно, распахнулись полы ее пестрого летника*, не застегнутого на полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, – мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла – о чем он только что говорил и что ответил.
Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриарх поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. Пять царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.
Софья схватилась за затылок и закричала пронзительно, дико, – завыла низким голосом. Закричали ее сестры… Царица Марфа Матвеевна упала ничком на лавку. К ней подошел старший брат ее, Федор Матвеевич Апраксин, рослый и тучный, в шубе до пят, – стал гладить царицу по спине. К патриарху подбежал
Языков, припал и потянул за руку. Патриарх, Языков, Лихачев и Голицын быстро вышли в тронную палату. Бояре стадом двинулись к ним, размахивая рукавами, выставляя бороды, без стыда выкатывая глаза: «Что, ну что, владыко?..»
– Царь Федор Алексеевич преставился с миром… Бояре, поплачем…
Его не слушали, – теснясь, пихаясь в дверях, бояре спешили к умершему, падали на колени, ударялись лбом о ковер и, приподнявшись, целовали уже сложенные его восковые руки. От духоты начали трещать и гаснуть лампады. Софью увели. Василий Васильевич скрылся. К Языкову подошли: братья князья Голицыны, Петр и Борис Алексеевичи, черный, бровастый, страшный видом князь Яков Долгорукий и братья его Лука, Борис и Григорий. Яков сказал:
– У нас ножи взяты и панцири под платьем… Что ж, кричать Петра?
– Идите на крыльцо, к народу. Туда патриарх выйдет, там и крикнем… А станут кричать Ивана Алексеевича, – бейте воров ножами…
Через час патриарх вышел на Красное крыльцо и, благословив тысячную толпу – стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил, – кому из царевичей быть на царстве? Горели костры. За Москвой-рекой садился месяц. Его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:
– Хотим Петра Алексеевича…
И еще хриплый голос:
– Хотим царем Ивана…
На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе: «Петра, Петра!..»
7
На Данилином дворе два цепных кобеля рванулись на Алешку, задохнулись от злобы. Девчонка с болячками на губах, в накинутой на голову шубейке, велела ему идти по обмерзлой лестнице наверх, в горницу, сама хихикнула ни к чему, шмыгнула под крыльцо, в подклеть, где в темноте горели дрова в печи.
Алешка, поднимаясь по лестнице, слушал, как кто-то наверху кричит дурным голосом… «Ну, – подумал он, – живым отсюда не уйти…» Ухватился за обстроганную чурочку на веревке, – едва оторвал от косяков забухшую дверь. В нос ударило жаром натопленной избы, редькой, водочным духом. Под образами у накрытого стола сидели двое – поп с косицей, рыжая борода – веником, и низенький, рябой, с вострым носом.
– Вгоняй ему ума в задние ворота! – кричали они, стуча чарками.
Третий, грузный человек, в малиновой рубахе распояской, зажав между колен кого-то, хлестал его ремнем по голому заду. Исполосованный, худощавый зад вихлялся, вывертывался. «Ай-ай, тятька!» – визжал тот, кого пороли. Алешка обмер.
Рябой замигал на Алешку голыми веками. Поп разинул большой рот, крикнул густо:
– Еще чадо, лупи его заодно!
Алешка уперся лаптями, вытянул шею. «Ну, пропал…» Грузный человек обернулся. Из-под ног его, подхватив порточки, выскочил мальчик с бело-голубыми круглыми глазами. Кинулся в дверь, скрылся. Тогда Алешка, как было приказано, повалился в ноги и три раза стукнулся лбом. Грузный человек поднял его за шиворот, приблизил к своему лицу – медному, потному, обдал жарким перегаром:
– Зачем пришел? Воровать? Подглядывать? По дворам шарить?
Алешка, стуча зубами, стал сказывать про Тыртова. У медного человека надувались жилы, – ничего не понимал… «Какой Тыртов? Какого коня? Так ты за конем пришел? Конокрад?..» Алешка заплакал, забожился, закрестился трехперстно… Тогда медный человек бешено схватил его за волосы, поволок, топча сапогами, вышиб ногою дверь и швырнул Алешку с обледенелой лестницы…
– Выбивай вора со двора, – заорал он, шатаясь, – Шарок, Бровка, взы его…
Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меншиков вернулся к столу. Сопя, налил чарки. Щепотью захватил редьки.
– Ты, поп, Писание читал, ты знать должен, – загудел он, – сын у меня от рук отбился… Заворовался вконец, сучий выкидыш. Убить мне, что ли, его? Как по Писанию-то? А?
Поп Филька ответил степенно:
– По Писанию будет так: казни сына от юности его, и покоит тя на старость твою. И не ослабляй, бия младенца; аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здоровее будет; учащай ему раны – бо душу избавлявши от смерти…
– Аминь, – вздохнул востроносый…
– Погоди, – отдышусь, я его опять позову, – сказал Данила. – Ох, плохо, ребята… Что ни год – то хуже… Дети от рук отбиваются, древнего благочестия нет… Царское жалованье по два года не плочено… Жрать нечего стало… Стрельцы грозятся Москву с четырех концов поджечь… Шатание великое в народе… Скоро все пропадем…
Рябой востроносый начетчик Фома Подщипаев сказал:
– Никониане[2] древнюю веру сломали, а ею (поднял палец) земля жила… Новой веры нет… Дети в грехе рождаются, – хоть его до смерти бей, что ж из того: в нем души нет… Дети века сего… Никониане. Стадо без пастыря, пища сатаны… Протопоп Аввакум* писал: «А ты ли, никониан, покушаешься часть Христову соблазнить и в жертву с собою отцу своему, дьяволу, принести»… Дьяволу! (Опять поднял палец.) И далее: «Кто ты, никониан? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный»…
– Псы! – Данила бухнул по столу.
– Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят, от сытости щеки лопаются, псы проклятые! – сказал поп Филька.
Фома Подщипаев, выждав, когда кончат браниться, проговорил опять:
– И о сем сказано у протопопа Аввакума: «Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской! Вспомни, как жил Мелхиседек в чаще леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и вместо пития росу лизал. Прямой был священник, не искал ренских и романеи, и водок, и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской. Видишь ли, как Мелхиседек жил. На вороных в каретах не тешился, ездя. Да еще и был царской породы. А ты кто, попенок?.. В карету садишься, растопыришься, что пузырь на воде, сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да и едешь, выставя рожу, по площади, чтоб черницы-ворухи любили… Ох, ох, бедной… Явно ослепил тебя дьявол… И не видал ты и не знаешь духовного жития»…
Закрыв глаза, поп Филька затряс щеками, засмеялся. Данила еще налил. Выпили.
– Стрельцы уж никонианские книги рвут и прочь мечут, – сказал он. – Дал бы Бог – стрельцы за старину встали…
Он обернулся. Залаяли кобели. Заскрипели ступени крыльца. За дверью произнесли Исусову молитву. «Аминь», – ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец Пыжова полка, Овсей Ржов, шурин Данилы. Перекрестился на угол. Отмахнул волосы.
– Пируете! – сказал спокойно. – А какие дела делаются наверху, вы не знаете?.. Царь помер… Нарышкины с Долгорукими Петра крикнули… Вот это беда, какой не ждали… Все в кабалу пойдем к боярам да к никонианам…
8
Турманом скатился* Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову. Зажмурился… И не разорвали… Вот так чудо, – Бог спас! Рыча, кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову:
– Эй, ты кто?
Алешка выпростал один глаз. Кобели неподалеку опять зарычали. Около Алешки присел на корточки давешний мальчик, – кого только что пороли.
– Как зовут? – спросил он.
– Алешкой.
– Чей?
– Мы – Бровкины, деревенские.
Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему, – то наклонит голову к одному плечу, то к другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. Ох, должно быть, бойкий мальчик…
– Пойдем греться, – сказал он. – А не пойдешь, гляди, я тебя… Драться хочешь?
– Не, – Алешка живо прилег. И опять они смотрели друг на друга.
– Пусти, – протянул голосом Алешка, – не надо. Я тебе ничего не сделал… Я пойду…
– А куда пойдешь-то?
– Сам не знаю куда… Меня обещались в землю вбить по плечи… И дома меня убьют.
– Порет тятька-то?
– Тятька меня продал в вечное, ныне не порет. Дворовые, конечно, бьют. А когда дома жил, – конечно, пороли…
– Ты что же – беглый?
– Нет еще… А тебя как зовут?
– Алексашкой… Мы Меншиковы… Меня тятька когда два раза, а когда три раза на день порет. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.
– Эх ты, паря…
– Пойдем, что ли, греться…
– Ладно.
Мальчики побежали в подклеть, где давеча Алешка видел огонь в печи. Тут было тепло, сухо, пахло горячим хлебом, горела сальная свеча в железном витом подсвечнике. На прокопченных бревенчатых стенах шевелились тараканы. Век бы отсюда не ушел.
– Васёнка, тятьке ничего не говори, – скороговоркой сказал Алексашка низенькой бабе-стряпухе. – Разувайся, Алешка. – Он снял валенки. Алешка разулся. Залезли на печь, занимавшую половину подклети. Там в темноте чьи-то глаза смотрели не мигая. Это была давешняя девочка, отворившая Алешке калитку. Она подалась в самую глубь, за трубу.
– Давайте чего-нибудь говорить, – прошептал Алексашка. – У меня мамка померла. Тятька по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут…
– Они вытрясут, – поддакнул Алешка.
Девочка за трубой шмыгнула.
– То-то и я говорю… Намедни у Серпуховских ворот видел, – цыгане стоят табором, с медведями… На дудках играют… Пляс, песни… Они звали. Уйдем с цыганами бродить?.. А?
– С цыганами голодно будет, – сказал Алешка.
– А то наймемся к купцам чего-нибудь делать… А летом уйдем. В лесу можно медвежонка поймать. Я знаю одного посадского, – он их ловит, он научит… Ты будешь медведя водить, а я – петь, плясать… Я все песни знаю. А плясать злее меня нет на Москве.
Девочка за трубой чаще зашмыгала, Алексашка ткнул ее в бок:
– Замолчи, постылая… Вот что, мы ее с собой тоже возьмем, ладно?
– С бабой хлопот много…
– К лету ее возьмем, грибы собирать, – она дура, дура, а до грибов страсть бойкая… Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут наверх молитвы читать, потом пороть. Потом я вернусь. Лягем спать. А чуть свет побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегаем, обсмотримся. Там есть знакомые. Я бы давно убежал, товарища не находилось…
– Купца бы найти, наняться – пирогами торговать, – сказал Алешка.
На крыльце бухнула дверь, – уходили гости, треща ступенями. Грозный голос Данилы крикнул Алексашку наверх.
9
На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами, – кружало – царев кабак. Над воротами – бараний череп. Ворота широко раскрыты, – входи кто хочет. На дворе на желтых от мочи сугробах, на навозе валяются пьяные, – у кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги, шапку. Много запряженных розвальней и купецких, с расписными задками, саней стоят у ворот и на дворе.
В избе за прилавком – суровый целовальник с черными бровями. На полке – штофы, оловянные кубки.
В углу – лампады перед черными ликами. У стен – лавки, длинный стол. За перегородкой – вторая, чистая палата для купечества. Туда если сунется ярыжка* какой-нибудь или пьяный посадский, – окликнет целовальник, надвинув брови, – не послушаешь честью – возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака.
Там, во второй палате, – степенный разговор, купечество пьет пиво имбирное, горячий сбитень. Торгуются, вершат сделки, бьют по рукам. Толкуют о делах, – дела ныне такие, что в затылке начешешься.
В передней избе у прилавка – крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет – снимай шубу. А весь человек пропился, – целовальник мигнет подьячему, тот сядет с краю стола, – за ухом гусиное перо, на шее чернильница, – и пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом.
– Ныне пить легче стало, – говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку. – Ныне друг за тобой придет, сродственник, или жена прибежит, уведет, покуда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем, за последним не гонимся. Иди с Богом. А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил… Стой… Убыток казне. И этот грош казне нужен… Сейчас кричишь караул. Пристава его, кто пить отговаривает, хватают и – в Разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед… Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки, ноги не рубим…
10
Сегодня у кабака народ лез друг на друга, заглядывал в окошки. На дворе, на крыльце не протолкаться. Много виднелось стрелецких кафтанов – красных, зеленых, клюквенных. Теснота, давка. «Что такое? Кого? За что?..» Там, в кабаке, в чистой избе стояли стрельцы и гостинодворцы. В тесноте надышали, – с окошек лило ручьями. Стрельцы привели в избу полуживого человека, – он лежал на полу и стонал, надрывая душу. Одежда изорвана в клочья, тело сытое. В серых волосах запеклась кровь. Нос, щеки, – все разбито.
Стрельцы, указывая на него, кричали:
– Ис вами то же скоро будет…
– Дремлете? А они на Кукуе не дремлют…
– Ребята, за что немцы бьют наших?
– Хорошо, мы шли мимо, вступились… Убили бы его до смерти…
– При покойном царе разве такие дела бывали? Разве наших давали в обиду иноземцам проклятым?
Овсей Ржов, стрелец Пыжова полка, унимал товарищей, говорил гостинодворским купцам с поклоном:
– По бедности к вам пришли, господа честные гости, именитые купцы. Деваться нам стало некуда с женами, малыми ребятами… Вконец обхудали… Жалованье нам не идет второй год. Полковники нас замучили на надсадной работе. А жить с чего? Торговать в городе нам не дают, а в слободах тесно… Немцы всем завладели. Ныне уж и лен и пряжу на корню скупили. Кожи скупают, сами мнут, дьяволы, на Кукуе… Бабы наших, слободских, башмаков нипочем покупать не хотят, а спрашивают немецкие… Жить стало не можно… А не вступитесь за нас, стрельцов, и вы, купцы, пропадете… Нарышкины до царской казны дорвались… Жаждут… Ждите теперь таких пошлин и даней, – все животы отдадите… Да ждите на Москву хуже того – боярина Матвеева, – из ссылки едет… У него сердце одебелело злобой. Он всю Москву проглотит…
Страшны были стоны избитого человека. Страшны, темны слова стрельца. Переглядывались гостинодворцы. Не очень-то верилось, чтобы кукуйские немцы избили этого купчишку. Дело темное. Однако ж и правду говорят стрельцы. Плохо стало жить, – с каждым годом – скуднее, тревожнее… Что ни грамота: «Царь-де сказал, бояре приговорили», – то новая беда: плати, гони деньги в прорву… Кому пожалуешься, кто защитит? Верхние бояре? Они одно знают – выколачивать деньги в казну, а как эти деньги доставать – им все равно. Последнюю рубаху сними, – отдай. Как враги на Москве.
В круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пальцами в серебряных перстнях.
– Мы, то есть Воробьевы, – сказал, – привезли на ярмарку в Архангельск шелку-сырца. И у нас, то есть немцы, – сговорились между собой, – того шелку не купили ни на алтын. И староста ихний, то есть немец Вульфий, кричал нам: «Мы-де сделаем то, что московские купчишки у нас на правеже настоятся за долги* да и впредь заставим их, то есть нас, московских, торговать одними лаптями…»
Гул пошел по избе… Стрельцы: «А мы что вам говорим! Да и лаптей скоро не будет!» Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, тряхнул кудрявыми волосами.
– Яс Поморья, – сказал бойко, – ездил за ворванью. А как приехал, с тем и уехал – с пустыми возами. Иноземцы, Макселин да Биркопов, у поморов на десять лет вперед все ворванье сало откупили. И все поморцы кругом у них в долгах. Иноземцы берут у них сало по четверть цены, а помимо себя никому продавать не велят. И поморцы обнищали, и в море уж не ходят бить зверя, а разбрелись врозь… Нам, русским людям, на север и ходу нет теперь…
Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Ов-сей Ржов схватился за саблю, звякнул ею, оскалился:
– Нам – дай срок – с полковниками расправиться… А тогда и до бояр доберемся… Ударим набат по Москве. Все посады за нас. Вы только нас, купцы, поддержите… Ну, ребята, подымай его, пошли дальше…
Стрельцы подхватили избитого человека, – тот завыл, мотая головой: «Ой, уби-и-и-и-и-ли», – и поволокли его из избы, распихивая народ, на Красную площадь – показывать.
Гостинодворцы* остались в избе, – смутно! Ох, смутны, лихи дела! Тоже ведь, свяжись со стрельцами: шпыни*, им терять нечего… А не свяжешься – все равно бояре проглотят…
11
Алексашку на этот раз, после вечерней, выдрали без пощады, – едва приполз в подклеть. Укрылся, молчал, хрустел зубами. Алешка носил ему на печь каши с молоком. Очень его жалел: «Эх, ты, как тебя, паря…»
Сутки лежал Алексашка в жарком месте у трубы, и – отошел, разговорился:
– Этакого отца на колесе изломать, аспида хищного… Ты, Алешка, возьми потихоньку деревянного масла за образами, – я задницу помажу, к утру подсохнет, тогда и уйдем… Домой не вернусь, хоть в канаве сдохнуть…
Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе домовые голоса. Стряпухина девчонка тихо плакала. Алешке приснилась мать, – стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз, и все к голове подносит руки, жалуется… Алешка истосковался во сне.
Чуть свет Алексашка толкнул его: «Будя спать-то, вставай». Почесываясь, обулись поладнее. Нашли полкраюхи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мглистое. Сыро. Шуршат, падают сосульки. Черны извилистые бревенчатые улицы. За деревянным городом разливается, совсем близко, заря туманными кровяными полосами.
На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, юродивые – спозаранок занимать места на папертях. По Воздвиженке гнали по навозной дороге ревущий скот – на водопой на речку Неглинную.
Вместе со скотом мальчики дошли до круглой башни Боровицких ворот*. У чугунных пушек дремал в бараньем тулупе немец-мушкетер.
– Тут иди сторожко, тут царь недалеко, – сказал Алексашка.
По крутому берегу Неглинной, по кучам золы и мусора они добрались до Иверского моста, перешли его. Рассвело. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы – по два столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях, с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами.
– А вон еще двое, – сказал Алексашка: во рву на дне валялись трупы, полузанесенные снегом, – это – воры, во как их…
Вся площадь от Иверской до белого, на синем цоколе, с синими главами, Василия Блаженного была пустынна. Санная дорога вилась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича тревожно, по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до восьми, заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь.
– Идем, Алексашка, а то еще нас увидят…
– Со мной ничего не бойся, дурень.
Они пошли через площадь. По той ее стороне тесно громоздились дощатые лавки, балаганы, рогожные палатки. Гостинодворцы уже снимали с дверей замки, вывешивали на шестах товары. В калашном ряду дымили печки, – запахло пирогами. Со всех переулков тянулся народ.
Алексашка оставлял без внимания, – дадут ли по затылку, обругают: до всего ему было дело. Лез сквозь толпу к лавкам, заговаривал с купцами, приценивался, отпускал шуточки. Алешка, разинув рот, едва за ним поспевал. Увидев толстую женщину в суконной шубе, в лисьей шапке поверх платка, Алексашка заволочил ногу, пополз к купчихе, трясся, заикался. «У-у-у-у-убо-гому, си-си-сиротке, боярыня-матушка, с го-го-голоду помираю…» Вдова купчиха, подняв юбку, вынула из привешенного под животом кисета две полкопейки, подала, степенно перекрестилась. Побежали покупать пироги, пить горячий, на меду, сбитень.
– Я тебе толкую – со мной не пропадешь, – сказал Алексашка.
Народу все подваливало. Одни шли поглядеть на людей, послушать, что говорят, другие – погордиться обновой, иные – стянуть, что плохо лежит. В проулке, где на снегу, как кошма, валялись обстриженные волоса* – зазывали народ цирюльники, щелкали ножницами. Кое-кого уж посадили на торчком стоящее полено, надели на голову горшок, стригли. Больше всего шуму было в нитошном ряду. Здесь бабы кричали, как на пожаре, покупая, продавая нитки, иголки, пуговицы, всякий пошивной приклад. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак*.
Когда опять вышли к площади, – кто-то пробежал, про что-то закричал. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека.
– Православные, – со слезами говорили они на все стороны, – глядите, что с купцом сделали…
Этого человека положили в чьи-то лубяные сани. Стрелец Овсей Ржов, взлезши на них, стал говорить все про то же: как немцы по злобе убили едва не до смерти доброго купца и как верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам… Алексашка с Алешкой пробрались к самым саням.
Алешка, присев на корточки, сразу признал в избитом того самого пухлого, с маленькими глазками, в заячьей шапке, посадского, кто на Лубянке продал ему два подовых пирога. От него несло водкой. Стонать он устал. Лежа на боку, мордой в соломе, только повторял негромко:
– О-ох… Отпустите меня, Христа ради…
Овсей Ржов, крестясь, кланялся церквям и народу. Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали: «Скачут, скачут…»
От Спасских ворот по санному следу скакали два всадника. Передний – в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Кривая сабля его, усыпанная алмазами, билась по бархатному чепраку*. Не задерживая хода, бросив поводья, он врезался в толпу. Испуганные руки схватили коня под уздцы. Всадник быстро вертел головой, показывал редкие желтые зубы, – широколобый, с запавшими глазами, с жесткой бородкой… Это был Тараруй, – как прозвали его в Москве, – князь Иван Андреевич Хованский, воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худородных Нарышкиных. Стрельцы, завидя, что он в стрелецком кафтане, закричали:
– С нами, с нами, Иван Андреевич! – и побежали к нему.
Другой, подъехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:
– Бунтуете, православные? Кто вас обидел, за что? Говорите, говорите, мы о людях день и ночь душой болеем… А то царь увидел вас сверху, испужался по малолетству, нас послал разузнать…
Люди, разинув рты, глядели на его парчовую шубу, – пол-Москвы можно купить за такую шубу, – глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывала коня, – огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали. Усмехаясь, Василий Васильевич подъехал и стал стремя о стремя с Хованским.
– Отдайте нам в руки полковников, мы сами их рассудим: вниз головой с колокольни, – кричали ему стрельцы. – О чем бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали, нарышкинского ублюдка?
Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли…
– Стрельцы! – Он привстал в седле, от натуги побагровел, горловой голос его услышали самые дальние. – Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ярме… Теперь выбрали Бог знает какого царя. Не я его кричал… И увидите: не только денег, а и корму вам не дадут… И работать будете как холопы… И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным… Хуже того… Продадут и вас и нас всех чужеземцам… Москву сгубят и веру православную искоренят… Эх, была русская сила, да где она!
Тут весь народ так страшно закричал, что Алешка испугался: «Ну, затопчут совсем…» Алексашка Меншиков, прыгая по саням, свистал в два пальца. И разобрать можно было только, как Тараруй, надсаживаясь, крикнул:
– Стрельцы! Айда за реку в полки, там будем говорить…
12
На площади остались только распряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался.
– Дяденька, – сказал ему Алексашка, подмигнув Алешке, – мы тебя до дому доведем, нам тебя жалко.
Посадский был еще не в своем уме. Мальчики повели его, – он бормотал, спотыкался. Вдруг: «Стой!» – отталкивал мальчишек и кому-то грозился, топал разбухшим валенком. Шли за реку к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут: Федька Заяц. Двор у него на посаде был небольшой, на огороде – одно дерево с грачиными гнездами, но ворота и изба – новые. «Вот они, пирожки, калачики, – обрадовался Заяц, когда увидел свой двор, – вот они медовые, голубчики, выручают меня».
Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом. «Вы куда? Зачем?» – кинулся было он к ним, но махнул рукой и пошел в избу. Сел на покрытую новой рогожей лавку, начал себя оглядывать, – все рваное. Закрутил головой, заплакал.
– Убили меня, – сказал он кривой бабе. – Кто бил, за что, не помню. Дай чистое надеть. – И вдруг заорал, застучал о лавку: – Баню затопи, я тебе приказываю, кривая собака!
Баба повела носом, ушла. Мальчики жались ближе к печи, занимавшей половину избы. Заяц разговаривал:
– Выручили вы меня, ребята. Теперь – что хотите, просите… Тело мое все избитое, ребра целого нет… Куда я теперь, – возьму лоток, пойду торговать? Охти мне… А ведь дело не ждет…
Алексашка опять подмигнул Алешке. Сказал:
– Награды нам никакой не надо, пусти переночевать. Когда Заяц уполз в баню, мальчики залезли на печь.
– Завтра пойдем вместо него пироги продавать, – шепнул Алексашка, – говорю, – со мной не пропадешь.
Чуть свет кривая баба заладила печь тестяные шишки, левашники, перепечи и подовые пироги: постные – с горохом, репой, солеными грибами, и скоромные – с зайчатиной, с мясом, с лапшой. Федька Заяц стонал на лавке под тулупом, – не мог владеть ни единым членом. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помои, послал Алешку напоить Зайцеву скотину: в руках у него все так и горело, и все – с шуточками.
– Ловкач парень, – стонал Заяц, – ох, послал бы тебя с пирогами на базар… Так ведь уйдешь с деньгами-то, уворуешь… Больно уж расторопен…
Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет, снял со стены Сорок святителей и целовал икону. Ничего не поделаешь, – Заяц поверил. Баба уложила в лотки под ветошь две сотни пирогов. Алексашка с Алешкой подвязали фартуки, заткнули рукавицы за пояс и, взяв лотки, пошли со двора.
– Вот пироги подовые, медовые, полденьги пара, прямо с жара, – звонко кричал Алексашка, поглядывая на прохожих. – Вот, налетай, расхватывай! – Видя стоявших кучкой стрельцов, он приговаривал, приплясывая: – Вот, налетай, пироги царские, боярские, в Кремле покупали, да по шее мне дали, Нарышкины ели, животы заболели.
Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка тоже покрикивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром.
– Вас, ребята, мне Бог послал, – удивился Заяц.
13
Михайла Тыртов третью неделю шатался по Москве: ни службы, ни денег. Тогда на Лубянской площади дьяки над ним надсмеялись. Земли, мужиков не дали. Князь Ромодановский ругал его и срамил, велел приходить на другой год, но уже без воровства – на добром коне.
С площади он поехал ночевать в харчевню. По пути встретил старшего брата, и тот ругал его за несчастье и отнял мерина. Не догадался отнять саблю и дедовский пояс, полосатого шелка с серебряными бляхами. В тот же вечер в харчевне, разгорячась от водки с чесноком, Михайла заложил у целовальника и саблю и пояс.
К Михайле прилипли двое бойких москвичей, – один сказался купеческим сыном, другой подьячим, – вернее – попросту – кабацкая теребень*, – стали Михайлу хвалить, целовать в губы, обещались потешить. С ними Михайла гулял неделю. Водили его в подполье к одному греку – курить табак из коровьих рогов, налитых водой: накуривались до морока, – чудилась чертовщина, сладкая жуть.
Водили в царскую мыльню – баню для народа на Москве-реке, – не столько париться, сколько поглядеть, посмеяться, когда в общий предбанник из облаков пара выскакивают голые бабы, прикрываясь вениками. И это казалось Михайле мороком, не хуже табаку.
Уговаривали пойти к сводне – потворенной бабе. Но Михайла по юности еще робел запретного. Вспомнил, как отец, бывало, после вечерни, сняв пальцами нагар со свечи, раскрывал старинную книгу в коже с медными застежками, переворачивал засаленную у угла страницу и читал о женах:
«Что есть жена? Сеть прельщения человеков. Светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа… Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола…»
Как тут не заробеть! Однажды завели его к Покровским воротам в кабак. Не успели сесть, – из-за рогожной занавески выскочила низенькая девка с распущенными волосами: брови намазаны черно – от переносья до висков, глаза круглые, уши длинные, щеки натерты свеклой до синевы. Сбросила с себя лоскутное одеяло и, голая, жирная, белая, начала приплясывать около Михайлы, – манить то одной, то другой рукой, в медных перстнях, звенящих обручах.
Показалась она ему бесовкой, – до того страшна, – до ужаса, – ее нагота… Дышит вином, пахнет горячим потом… Михайла вскочил, волосы зашевелились, крикнул дико, замахнулся на девку и, не ударив, выскочил на улицу.
Желтый весенний закат меркнул в дали затихшей улицы. Воздух пьяный. Хрустит ледок под сапогом. За сизой крепостной башней с железным флажком, из-за острой кровли лезет лунный круг – медно-красный, – блестит Михайле в лицо… Страшно… Постукивают зубы, холод в груди… Завизжала дверь кабака, и на крыльце – белой тенью раскорячилась та же девка:
– Чего боишься, иди назад, миленький.
Михайла кинулся бежать прочь без памяти.
Деньги скоро кончились. Товарищи отстали. Михайла, жалея о съеденном и выпитом, о виденном и нетронутом, шатался меж двор. Возвращаться в уезд к отцу и думать не хотелось.
Наконец вспомнил про сверстника, сына крестного отца, Степку Одоевского, и постучался к нему во двор. Встретили холопы недобро, морды у всех разбойничьи: «Куда в шапке на крыльцо прешь!» – один сорвал с Михайлы шапку. Однако – погрозились, пропустили. В просторных теплых сенях, убранных по лавкам звериными шкурами, встретил его красивый, как пряник, отрок в атласной рубашке, сафьянных чудных сапожках. Нагло глядя в глаза, спросил вкрадчиво:
– Какое дело до боярина?
– Скажи Степану Семенычу, – друг, мол, его, Мишка Тыртов, челом бьет.
– Скажу, – пропел отрок, лениво ушел, потряхивая шелковыми кудрями.
Пришлось подождать. Бедные – не гордые. Отрок опять явился, поманил пальцем: «Заходи».
Михайла вошел в крестовую палату. Заробев, истово перекрестился на угол, где образа завешены парчовым застенком с золотыми кружевами. Покосился, – вот они как живут, богатые. Что за хоромный наряд! Стены обиты рытым бархатом. На полу – ковры и коврики – пестрота. Бархатные налавочники на лавках. На подоконниках – шитые жемчугом наоконники. У стен – сундуки и ларцы, покрытые шелком и бархатом. Любую такую покрышку – на зипун или на ферязь*, и во сне не приснится… Против окон – деревянная башенка с часами, на ней – медный слон.
– А, Миша, здорово, – проговорил Степка Одоевский, стоя в дверях. Михайла подошел к нему, поклонился – пальцами до ковра. Степка в ответ кивнул. Все же не как холопу, а как дворянскому сыну, подал влажную руку – пожать. – Садись, будь гостем.
Он сел, играя тростью. Сел и Михайла. На Степкиной обритой голове – вышитая каменьями туфейка*. Лоб – бочонком, без бровей, веки красные, нос – кривоватый, на маленьком подбородке – реденький пушок. «Такого соплей перешибить, выродка, и такому – богатство», – подумал Михайла и униженно, как подобает убогому, стал рассказывать про неудачи, про бедность, заевшую его молодой век.
– Степан Семеныч, для Бога, научи ты меня, холопа твоего, куда голову преклонить… Хоть в монастырь иди… Хоть на большую дорогу с кистенем… – Степка при этих словах отдернул голову к стене, остекленились у него выпуклые глаза. Но Михайла и виду не подал, – сказал про кистень будто так, по скудоумию… – Степан Семенович, ведь сил больше нет терпеть нищету проклятую…
Помолчали. Михайла негромко, – прилично, – вздыхал. Степка с недоброй усмешкой водил концом трости по крылатому зверю на ковре.
– Что ж тебе присоветовать, Миша… Много есть способов для умного, а для дураков всегда сума да тюрьма… Вон, хоть бы тот же Володька Чемоданов две добрые деревеньки оттягал у соседа… Леонтий Пусторослев недавно усадьбу добрую оттягал на Москве у Чижовых…
– Слыхал, дивился… Да как ухватиться-то за такое дело – оттягать? Шутка ли!
– Присмотри деревеньку, да и оговори того помещика. Все так делают…
– Как это – оговори?
– А так: бумаги, чернил купи на копейку у площадного подьячего и настрочи донос…
– Да в чем оговаривать-то? На что донос?
– Молод ты, Миша, молоко еще не бросил пить… Вон, Левка Пусторослев пошел к Чижову на именины, да не столько пил, сколько слушал, а когда надо, и поддакивал… Старик Чижов и брякни за столом: «Дай-де Бог великому государю Федору Алексеевичу здравствовать, а то говорят, что ему и до разговенья не дожить, в Кремле-де прошлою ночью кура петухом кричала…» Пусторослев, не будь дурак, вскочил и крикнул: «Слово и Дело!» Всех гостей с именинником – цап-царап – в приказ Тайных дел. Пусторослев: «Так, мол, и так, сказаны Чижовым на государя поносные слова». Чижову руки вывернули и – на дыбу. И завертели дело про куру, что петухом кричала. Пусторослеву за верную службу – чижовскую усадьбу, а Чижова – в Сибирь навечно. Вот как умные-то поступают… – Степка поднял на Михайлу немигающие, как у рыбы, глаза. – Володька Чемоданов еще проще сделал: донес, что хотели его у соседа на дворе убить до смерти, а дьякам обещал с добычи третью часть. Сосед-то рад был и последнее отдать, от суда отвязаться…
Раздумав, Михайла проговорил, вертя шапку:
– Не опытен я по судам-то, Степан Семеныч.
– А кабы ты был опытный, я бы тебя не учил… (Степка засмеялся до того зло, – Михайла отодвинулся, глядя на его зубы – мелкие, изъеденные.) По судам ходить нужен опыт… А то гляди – и сам попадешь на дыбу… Так-то, Миша, с сильным не связывайся, слабого – бей… Ты вот, гляжу, пришел ко мне без страха…
– Степан Семеныч, как я – без страха…
– Помолчи, молчать учиться надо… Я с тобой приветливо беседую, а знаешь, как у других бывает?.. Вот, мне скучно… Плеснул в ладоши… В горницу вскочили холопы… Потешьте меня, рабы верные… Взяли бы тебя за белы руки, да на двор – поиграть, как с мышью кошка… – Опять засмеялся одним ртом, глаза мертвые. – Не пужайся, я нынче с утра шучу.
Михайла осторожно поднялся, собираясь кланяться. Степка тронул его концом трости, заставил сесть.
– Прости, Степан Семеныч, по глупости что лишнее сказал.
– Лишнего не говорил, а смел не по чину, не по месту, не по роду, – холодно и важно ответил Степка. – Ну, Бог простит. В другой раз в сенях меня жди, а в палату позовут – упирайся, не ходи. Да заставлю сесть, – не садись. И кланяться должен мне не большим поклоном, а в ноги.
У Михайлы затрепетали ноздри, – все же сломил себя, униженно стал благодарить за науку. Степка зевнул, перекрестил рот.
– Надо, надо помочь твоему убожеству… Есть у меня одна забота… Молчать-то умеешь?.. Ну, ладно… Вижу, парень понятливый… Сядь-ка ближе… (Он стукнул тростью. Михайла торопливо сел рядом. Степка оглянул его пристально.) Ты где стоишь-то, в харчевне? Ко мне ночевать приходи. Выдам тебе зипун, ферязь, штаны, сапоги нарядные, а свое, худое, пока спрячь. Боярыню одну надо ублаготворить.
– По этой части? – Михайла густо залился краской.
– По этой самой, – беса тешить. Без хлопот набьешь карман ефимками*… Есть одна боярыня знатная… Сидит на коробах с казной, а бес ее свербит… Понял, Мишка? Будешь ходить в повиновении, – тогда твое счастье…
А заворуешься, – велю кинуть в яму к медведям, – и костей не найдут. (Он выпростал из-под жемчужных нарукавников ладони и похлопал. Вошел давешний наглый отрок.) Феоктист, отведи дворянского сына в баню, выдай ему исподнего и одежи доброй… Ужинать ко мне его приведешь.
14
Царевна Софья вернулась от обедни, – устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то – чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря, на колени опустила в вышитом платочке просфору. Стулец этот недавно по ее приказу принесли из Грановитой палаты. Вдова, царица Наталья, узнав, кричала: «Царевна-де и трон скоро велит в светлицу к себе приволочь». Пускай серчает царица Наталья.
Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек… В светлице – чистенько, простенько, пахнет сухими травами. Белые стены, как в келье. Изразцовая с лежанками печь жарко натоплена. Вся утварь, лавки, стол покрыты холстами. Медленно вертится расписанный розами цифирный круг на стоячих часах. Задернут пеленою книжный шкапчик: Великий пост – не до книг, не до забав.
Софья поставила ноги в суконных башмаках на скамеечку, полузакрыв глаза, покачивалась в дремоте. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается, сладкий, в девичью светлицу… В великопостные-то дни!.. Опустить бы занавеси на окошках, погасить пестрые лучи, – неохота встать, неохота позвать девку. Еще поют в памяти напевы древнего благочестия, а слух тревожно ловит, – не скрипнула ли половица, не идет ли свет жизни моей, ах, не входит ли грех… «Ну, что ж, отмолю… Все святые обители обойду пешком… Пусть войдет».
В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз, бывало, металась Софья между этих стен… Кричи, изгрызи руки, – все равно, уходят годы, отцветает молодость… Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью…
Из светлицы одна дверь – в монастырь. Сколько их тут – царевен – крикивало по ночам в подушку дикими голосами, рвало на себе косы, – никто не слыхал, не видел.
Сколько их прожило век бесплодный, уснуло под монастырскими плитами. Имена забыты тех горьких дев. Одной выпало счастье, – вырвалась, как шалая птица, из девичьей тюрьмы. Разрешила сердцу – люби… И свет очей, Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, – возлюбленный со сладкими речами, любовник, вкрадчивый и нетерпеливый… Ох, грех, грех! Софья, оставив просфору, слабо замахала руками, будто отгоняла его, и улыбалась, не раскрывая глаз, теплым лучам из окна, горячим видениям…
15
Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненнокрылый погубитель. Губы задрожали, – опять облокотилась о бархатный подлокотник, опустила на ладонь лицо. Шумно стучало сердце.
Наклоняясь под низкой притолкой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и обхватила его, как волна морская, взволнованным телом. Но притворилась, что дремлет: сие было приличнее, – устала царевна, стоявши обедню, и почивает с улыбкой.
– Софья, – чуть слышно позвал он. Наклонился, хрустя парчой. У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно. Софья всколыхнулась, неизъяснимое желание прошло по спине, горячей судорогой растаяло в широком тазу ее. Подняла руки – обнять Василия Васильевича за голову, и оттолкнула:
– Ох, отойди… Что ты, грех, чай, в пятницу-то…
Раскрыла умные глаза и удивилась, как всегда, красоте Василия Васильевича. Почувствовала, что он – нетерпелив. Покачала головой, вся заливаясь радостью…
– Софья, – сказал он, – внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди. Дело неотложное…
Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их. Ресницы ее были влажны от избытка любви. Подошла к зеркальцу – поправить венец, и рассеянно скользнула по своему отражению – некрасива, но ведь любит…
– Пойдем.
У косящатого окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский, царевнин дядя, – широкоскулый, с глазами-щелками, весь потный, в новой, дарованной шубе, весь налитой кровью от сытости и волнения. Софья, быстро подойдя, по-монашечьи наклонила голову. Иван Михайлович вытянул насколько возможно бороду и губы – ближе подступить мешало ему чрево.
– Матвеев уже в Троице. (Зеленоватые глаза Софьи расширились.) Монахи его как царя встречают… Мая двенадцатого ждать его на Москве. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петька Толстой… Рассказывает: Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, Милославских: «Вороны, говорит, на царскую казну слетелись… На стрелецких-де копьях хотят во дворец прыгнуть… Только этому-де не бывать… Уничтожу мятеж, стрелецкие полки разошлю по городам да на границы. Верхним боярам крылья пообломаю. Крест-де целую царю Петру Алексеевичу. А за малолетством его пусть правит мать, Наталья Кирилловна, и без того не умру, покуда так все не сбудется…»
Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине. Василий Васильевич находился поодаль, в тени. Хованский мрачно глядел под ноги, сказал:
– Сбудется, да не то… Матвееву на Москве не быть…
– А хуже других, – еще торопливее зашептал Милославский, – срамил он и лаял князя Василия Васильевича. «Васька-де Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы…»
Софья медленно обернулась, встретилась глазами с Василием Васильевичем. Он усмехнулся, – слабая, жалкая морщинка скользнула в углу рта. Софья поняла: решается его жизнь, идет разговор о его голове… За эту морщинку сожгла бы Москву она сейчас… Проглотив волнение, Софья спросила:
– А что говорят стрельцы?
Милославский засопел. Василий Васильевич мягко пошел по палате, заглядывая в двери, вернулся и стал за спиной Софьи. Не сдержавшись, она перебила начавшего рассказывать Хованского:
– Царица Наталья Кирилловна крови возжаждала… С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть, – у отца с матерью в лаптях ходила… Все знают, когда Матвеев из жалости ее взял к себе в палаты, а у нее и рубашки не было переменить… А теремов сроду не знала, с мужиками за одним столом вино пила. – У Софьи полная шея, туго охваченная жемчужным воротом сорочки, налилась гневом, щеки покрылись пятнами. – Весело царица век прожила, и с покойным батюшкой и с Никоном-патриархом немало шуток было шучено… Мы-то знаем, теремные… Братец Петруша, – прямо притча, чудо какое-то, – и лицом и повадкой на отца не похож.* – Софья, стукнув перстнями, стиснула, прижала руки к груди… – Я – девка, мне стыдно с вами говорить о государских делах… Но уж – если Наталья Кирилловна крови захотела, – будет ей кровь… Либо всем вам головы прочь, а я в колодезь кинусь…
– Любо, любо слушать такие слова, – проговорил Василий Васильевич. – Ты, князь Иван Андреевич, расскажи царевне, что в полках творится…
– Кроме Стремянного, все полки за тебя, Софья Алексеевна, – сказал Хованский. – Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих изб, бросают в окна камнями, палками, бранят полковников матерно… («Кха», – поперхнулся при этом слове Милославский, испуганно моргнул Василий Васильевич, а Софья и бровью не повела…) Полковника Бухвостова да сотника Боборыкина, кои строго стали говорить и унимать, стрельцы взвели на колокольню и сбили оттуда наземь, и кричали: «Любо, любо…» И приказов они слушать не хотят; в слободах, в Белом городе и в Китае собираются в круги и мутят на базарах народ, и ходят к торговым баням, и кричат: «Не хотим, чтоб правили нами Нарышкины да Матвеев, мы им шею свернем!..»
– Кричать они горласты, но нам видеть надобно от них великие дела. – Софья вытянулась, изломила брови гневом. – Пусть не побоятся на копья поднять Артамона Матвеева, Языкова и Лихачева – врагов моих, Нарышкиных – все семя… Мальчишку, щенка ее, спихнуть не побоятся… Мачеха, мачеха! Чрево проклятое… Вот возьми… – Софья сразу сорвала с пальцев все перстни, зажав в кулаке, протянула Хованскому. – Пошли им… Скажи им, – все им будет, что просят… И жалованье, и земли, и вольности… Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им: пусть кричат меня на царство.
Милославский только махал в перепуге руками на Софью. Хованский, разгораясь безумством, скалил зубы… Василий Васильевич прикрыл глаза ладонью, не понять зачем, – быть может, не хотел, чтобы при сих словах увидали надменное лицо его…
16
Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье – лучше и не надо. Разжирел и Заяц, обленился: «Поработал со свое, теперь вы потрудитесь на меня, ребята». Сидел целый день на крыльце, глядя на кур, на воробьев. Полюбил грызть орехи. С лени и жиру начали приходить к нему мысли: «А вдруг мальчишки утаивают деньги? Не может быть, чтобы не воровали хоть по малости».
Стал он по вечерам, считая выручку, расспрашивать, придираться, лазить у них по карманам и за щеки, ища утайных денег. По ночам стал плохо спать, все думал: «Должен человек воровать – раз он около денег». Оставалось одно средство: застращать мальчишек.
Алексашка с Алешкой пришли однажды к ужину веселые – отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался, – копейки не хватает… Украли! Где копейка? Взял с утра еще вырезанную, сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором: раз по Алексашке, два – по Алешке. Отвозив мальчиков, велел подавать ужинать.
– Так-то, – говорил он, набивая рот студнем, с уксусом, с перцем, – за битого нынче двух небитых дают… В люди вас выведу, вьюноши, сами потом спасибо скажете.
Ел Заяц щи со свининой, куриные пупки на меду с имбирем, лапшу с курой, жареное мясо. Молоко жрал с кашей. Кладя ложку на непокрытый стол, тонко рыгал. Щеки у него дрожали от сытости, глаза заплыли. Расстегнул пуговицу на портках:
– Бога будете за меня молить, чада мои дорогие… Я – добрый человек… Ешьте, пейте, – чувствуйте, я ваш отец…
Алексашка молчал, кривил рот, в глаза не глядел. После ужина сказал Алешке:
– От отца ушел через битье, а от этого и подавно уйду. Он теперь повадится драться, боров.
Страшно стало Алешке бросать сытую жизнь. Лучше, конечно, без битья! Да где же найти такое место на свете, – все бьют. На печи тайком плакал. Но нельзя же было отбиваться от товарища. Наутро, взяв лотки с пирогами, мальчики вышли на улицу.
Свежо было майское утро. Сизые лужи. На березах – пахучая листва. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шалые девки, – ленятся работать. На иной, босой, одна посконная рубаха, а на голове – венец из бересты, в косе – ленты. Глаза дикие. Скворцы на крышах щелкают соловьями, заманивают девок в рощи, на траву. Вот весна-то!.. «Вот пироги подовые с медом…»
Алексашка засмеялся:
– Подождет Заяц нынешней выручки…
– Ай, Алексашка, ведь так – грабеж…
– Дура деревенская… А жалованье нам дьявол платил? Хребет на него даром два месяца ломали… Эй! Купи, стрелец, с зайчатиной, пара – с жару, – грош цена…
Все больше попадалось баб и девок за воротами, на перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами, – народ расступился, глядя на них в страхе. Чем ближе к Всехсвятскому мосту через Москву-реку, тем стрельцов и народу становилось больше. Весь берег, как мухами, обсажен людьми, – лезли на навозные кучи – глядеть на Кремль. В зеркальной воде, едва колеблемой течением, спокойно отражались зеленоверхие башни, зубцы кирпичных стен и золотые купола кремлевских церквей, церковенок и соборов. Но неспокойны были разговоры в народе. За твердынями стен, где пестрели чудные, нарядные крыши боярских дворов и государева дворца, – в этой майской тишине творилось неладное… Что доподлинно, – еще не знали. Стрельцы шумели, не переходя моста, охраняемого с кремлевской стороны двумя пушками. Там виднелись пешие и конные жильцы – дети боярские, служившие при государевой особе. Поверх белых кафтанов на них навешены за спиной на медных дугах лебединые крылья. Жильцов было мало, и, видимо, они робели, глядя, как с Балчуга подваливают тысячи народу.
Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пироги они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили. Не до торговли. Жутко и весело. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Грозили кремлевским башням. Старик-посадский, взлезши на кучу мусора и снявши колпак с лысины, говорил медленно:
– При покойном Алексее Михайловиче так-то народ поднялся… Хлеба не было, соли не было, деньги стали дешевы, серебряный-то целковый казна переплавляла на медный… Бояре кровь народную пили жадно… Народ взбунтовался, снял с коня Алексея Михайловича и рвал на нем шубу… Тогда многие дворы боярские разбили и сожгли, бояр побили… И на Низу поднялся великодушный казак Разин… И быть бы тогда воле, народ бы жил вольно и богато… Не поддержали… Народ слабый, одно – горланить горазд. И ныне без единодушия того, ребята, ждите, – плахи да виселицы, одолеют вас бояре…
Слушали его, разинув рты… И еще смутнее становилось и жутче. Понимали только, что в Кремле власти нет, и время бы подходящее – пошатнуть вековечную твердыню. Но как?
В другом месте выскакивал стрелец к народу:
– Чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть свет в Москву въехал… Не знаете, что ли, Матвеева? Покуда в Кремле бояре, без головы, лаялись друг с дружкой, – жить еще можно было… Теперь настоящий государь объявился, – он вожжи подтянет… Данями, налогами так всех обложит, как еще не видали… Бунтовать надо нынче, завтра будет поздно…
Кружились головы от таких слов. Завтра – поздно… Кровью наливались глаза… Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке, – седой, запретный, вероломный, полный золота… На стенах у пушек – ни одного пушкаря. Будто – вымер. И высоко – плавающие коршуны над Кремлем…
Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы, донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежно-белом коне, появился всадник. Его не пускали, размахивая широколезвийными бердышами. Наседая, он вздернул коня, вырвался, потерял шапку и бешено помчался по плавучему мосту, – между досок брызнула вода, – цок, цок, – тонконогий конь взмахивал весело гривой.
Тысячи народа затихли. С того берега раздался одинокий выстрел по скачущему. Врезавшись в толпу, он вытянулся на стременах, – кожа двигалась на сизо обритой его голове, длинное длинноносое лицо разгорелось от скачки; задыхаясь, он блестел карими глазами из-под широких, как намазанных углем, бровей. Его узнали:
– Толстой… Петр Андреевич… Племянник Милославского… Он – за нас… Слушайте, что он скажет…
Высоким, срывающимся голосом Петр Андреевич крикнул:
– Народ… Стрельцы… Беда… Матвеев да Нарышкины только что царевича Ивана задушили… Не поспеете – они и Петра задушат… Идите скорей в Кремль, а то будет поздно…
Заворчала, зашумела, закричала толпа, ревя – кинулась к мосту. Заколыхались тысячи голов, завертелся среди них белый конь Толстого. Заскрипел мост, опустился, – бежали по колено в воде. Расталкивая народ, молча, озверелые, проходили сотня за сотней стрельцы. Где-то ударил колокол – бум, бум, бум, – чаще, тревожнее… Отозвались колокольни, заметались колокола, и все сорок сороков московских забили набат…
В тихом Кремле кое-где, блеснув солнцем, захлопнулось окошко, другое…
17
От нетерпения перемешавшись полками, стрельцы добежали до Грановитой палаты и Благовещенского собора. Многие, отстав по пути, ломились в крепкие ворота боярских дворов, лезли на колокольни – бить набат, – тысячепудовым басом страшно гудел Иван Великий. В узких проулках между дворов, каменных монастырских оград и желтых стен длинного здания приказов валялись убитые и ползали со стонами раненые боярские челядинцы. Носилось испуганно несколько оседланных лошадей, их ловили со смехом. Крича, били камнями окна.
Стрельцы, народ, тучи мальчишек (и Алексашка с Алешкой) глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Палаты каменные и деревянные, высокие терема, приземистые избы, сени, башни и башенки, расписанные красным, зеленым, синим, обшитые тесом и бревенчатые, – соединены множеством переходов и лестниц. Сотни шатровых, луковичных крыш, чудных верхушек – ребристых, пузатых, колючих, как петушьи гребешки, – блестели золотом и серебром. Здесь жил владыка земли, после Бога первый…
Страшновато все-таки. Сюда не то что простому человеку с оружием подойти, а боярин оставлял коня у ворот и месил по грязи пеший, ломил шапку, косясь на царские окна. Стояли, глядели. В грудь бил надрывно голос Ивана Великого. Брала оторопь. И тогда выскочили перед толпой бойкие людишки.
– Ребята, чего рты разинули? Царевича Ивана задушили, царя Петра сейчас кончают. Айда, приставляй лестницы, ломись на крыльцо!
Гул прошел по многотысячной толпе. Резко затрещали барабаны. «Айда, айда», – завопили дикие голоса. Кинулось десятка два стрельцов, перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, – взбежали на Красное крыльцо. Застучали в медную дверь, навалились плечами. «Айда, айда, айда», – ревом пронеслось по толпе. Заколыхались над головами откуда-то захваченные лестницы. Их приставили к окнам Грановитой палаты, к боковым перилам крыльца. Полезли. Лязгая зубами, кричали: «Давай Матвеева, давай Нарышкиных!»…
18
– Убьют ведь, убьют… Что делать, Артамон Сергеевич?..
– Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними… Эй, послали за патриархом? Да бегите еще кто-нибудь…
– Артамон Сергеевич, это они, они, враги мои… Языков сам видел, – двое Милославских, переодетые, со стрельцами…
– Твое дело женское – молись, царица…
– Идет, идет! – закричали из сеней. Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Исступленные, в темных впадинах, глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам прильнули головы стрельцов, взлезших на лестницы. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись.
Наталья Кирилловна кинулась к патриарху. Ее полное лицо было бело, как белый плат, под чернолисьей шапочкой. Уцепилась за его ледяную руку, часто целуя, лепетала:
– Спаси, спаси, владыко…
– Владыко, дела плохие, – сурово сказал Артамон Сергеевич. Патриарх повернул к нему расширенные зрачки. Матвеев мотнул квадратной пего-седой бородой. – Заговор, прямой бунт… Сами не знают, что кричат…
Похожий на икону древнего письма, орлиноглазый, тонконосый, Матвеев был спокоен: видал много всякого за долгую жизнь, не раз был близ смерти. Одно чувство осталось у него – гордое властолюбие… Сдерживая гнев, трепетавший в стариковских веках, сказал:
– Лишь бы из Кремля их удалить, а там расправимся…
За окнами жутче раздавались удары и крики. По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны, – красавец и щеголь, двадцатичетырехлетний и уже боярин, брат царицы, Иван Кириллович Нарышкин, – говорили, что будто бы уж примерял на голову царский венец. Черные усики его казались наклеенными на позеленевшем лице: словно он видел завтрашние пытки и страшную смерть свою на лобном месте. Размахивая польскими рукавами, крикнул:
– Софья пожаловала! – и скрылся за дверью. За ним вслед проковылял на кривых ногах карлик, ростом с дитятю. Держась за шутовской колпак, плакал всем морщинистым лицом, тоже будто чуя, что завтра предаст своего господина.
В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский. Щеки у Софьи были густо нарумянены. Вся – в золотой парче, в высоком жемчужном венце. Приложив к груди руки, низко поклонилась царице и патриарху. Наталья Кирилловна отшатнулась от нее, как от змеи, замигала глазами, – смолчала.
– Народ гневается, знать, есть за что, – сказала Софья громко, – ты бы с братьями вышла к народу, царица… Они Бог знает что кричат, будто детей убили… Уговори, посули им милости, – того гляди, во дворец ворвутся…
Говорила, а белые зубы ее постукивали, зеленые глаза мерцали радостным возбуждением. Матвеев шагнул к ней:
– Не время сводить бабьи счеты…
– Тогда выдь ты к ним…
– Смерти не боюсь, Софья Алексеевна…
– Не спорьте, – сказал патриарх, стукнув посохом. – Покажите им детей, Ивана и Петра…
– Нет! – крикнула Наталья Кирилловна, хватаясь за виски. – Владыко, не позволю… Боюсь…
– Вынесите детей на Красное крыльцо, – повторил патриарх.
19
И вот завизжал замок на медной двери на Красном крыльце. Толпа придвинулась, затихла, жадно глядя. Замолкли барабаны.
Алексашка повис, вцепившись руками и ногами, на пузатом столбе крыльца. Алешка не отставал от него, хотя было ой как страшно. Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей черной опашени* и золотопарчовой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Мономахова шапка* съехала ему на ухо, открыв черные стриженые волосы. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу.
Царица хотела сказать что-то и зашлась, закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание… Он держал за руку другого мальчика, постарше, с худым равнодушным личиком, отвисшей губой.
– Кто вам лгал, – стариковским, но сильным голосом заговорил Матвеев, изламывая седые брови, – кто лгал, что царя и царевича задушили… Глядите, вот царь Петр Алексеевич, на руках у царицы… Здоров и весел… Вот царевич Иван, – приподнял равнодушного мальчика и показал толпе. – Оба живы Божьей милостью… (В толпе стали переглядываться, заговорили: «Они самые, обману нет…») Стрельцы! Идите спокойно по домам… Если что надо, – есть какие просьбы и жалобы, – присылайте челобитчиков…
С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись, но говорили будто с усмешкой. Из присмиревшей толпы раздались злые голоса:
– Ну что ж, что они живы…
– Сами видим, что живы…
– Все равно не уйдем из Кремля…
– Нашли дураков… Знаем ваши сладкие слова…
– А потом ноздри рвать у приказной избы…
– Выдайте нам Матвеевых и Нарышкиных…
– Ивана Кирилловича Нарышкина… Он царский венец примерял…
– Кровопийцы, бояре… Языкова нам выдайте… Долгорукова…
Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой, – чей-то голос крикнул со смехом: «Гляди-ка, – чистый кот». С крыльца сбежал, весь в алом бархате, в соболях, в звенящем оружии, князь Михайла Долгорукий, сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, размахивая нагайкой:
– Рады, сучьи дети, что отец мой больной лежит. Сарынь*! Прочь отсюда, псы, холопы…
Попятились было стрельцы перед свистящей нагайкой… Но не те времена, – не так надо было разговаривать… Задышали, засопели, потянулись к нему:
– А с колокольни ты не летал?.. Ты кто нам, щенок?.. Бей его, ребята!..
Взяли его за перевязь, сорвали, в клочья разлетелся бархатный кафтан. Михайла Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, взошел на крыльцо. Стрельцы, уставя копья, кинулись за ним. Схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукова полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе. Матвеев и царица подались к двери. Но было уже поздно: из сеней Грановитой палаты выскочили Овсей Ржов с товарищами.
– Бей Матвеева, – закричали они.
– Любо, любо, – заревела толпа.
Овсей Ржов насел сзади на Матвеева. Царица взмахнула рукавами, прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекосилось, он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева…
– Оттаскивай, не бойся, рви его, – кричали стрельцы, подняв копья, – кидай нам!
Оттащили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленные копья.
Стрельцы, народ, мальчишки (Алексашка с Алешкой) ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын, и в толпе закричали:
– Хотим Ивана царем… Обоих… Хотим Софью… Любо, любо… Софью хотим на царство… Столб хотим на Красной площади, памятный столб, – чтоб воля наша была вечная…
Глава вторая
1
Пошумели стрельцы. Истребили бояр: братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михайлу Долгоруких, Григория и Андрея Ромодановских, Михайлу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других – похуже родом. Получили стрелецкое жалованье – двести сорок тысяч Рублев, и еще по десяти сверх того рублев каждому стрельцу наградных. (Со всех городов пришлось собирать золотую и серебряную посуду, переливать ее в деньги, чтобы уплатить стрельцам.) На Красной площади поставили столб, где с четырех сторон написали имена убитых бояр, их вины и злодеяния. Полки потребовали жалованные грамоты, где бояре клялись ни ныне, ни впредь никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками стрельцов не называть, напрасно не казнить и в ссылки не ссылать.
Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские – по посадам. И все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки – нищета, холопство, бездолье.
Мужик с поротой задницей ковырял кое-как постылую землю. Посадский человек от нестерпимых даней и поборов выл на холодном дворе. Стонало все мелкое купечество, худел мелкопоместный дворянин. Истощалась земля: урожай сам-три – слава тебе, Господи. Кряхтели даже бояре и именитые купцы. Боярину в дедовские времена много ли было нужно? – шуба на соболях да шапка горлатная – вот и честь. А дома хлебал те же щи с солониной, спал да молился Богу. Нынче глаза стали голоднее: захотелось жить не хуже польских панов, или лифляндцев, или немцев: наслышались, повидали многое. Сердце разгорелось жадностью. Стали бояре заводить дворню по сотне душ. А их обуть, одеть в гербовые кафтаны, прокормить ненасытную ораву, – нужны не прежние деньги. В деревянных избах жить стало неприлично. Прежде боярин или боярыня выезжали со двора в санях на одной лошади, холоп сидел верхом, позади дуги. На хомут, на уздечку, на шлею навешивали лисьих хвостов, чтобы люди завидовали. Теперь – выписывай из Данцига золоченую карету, запрягай ее четверней, – иначе нет чести. А где деньги? Туго, весьма туго. Торговлишка плохая. Своему много не продашь, свой – гол. За границу не повезешь, – не на чем. Моря чужие. Все торги с заграницей прибрали к рукам иноземцы. А послушаешь, как торгуют в иных землях, – голову бы разбил с досады. Что за Россия, заклятая страна, – когда же ты с места сдвинешься?
В Москве стало два царя – Иван и Петр, и выше их – правительница, царевна Софья. Одних бояр променяли на других. Вот и все. Скука. Время остановилось. Ждать нечего. У памятного стрелецкого столба на Красной площади стоял одно время часовой с бердышом, да куда-то ушел. Простой народ кругом столба навалил всякого. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептанье. Стали стрельцы сомневаться: не до конца тогда довели дело, шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно?
Старики рассказывали, – хорошо было в старину: дешевле, сытнее, благообразнее. По деревням мужики с бабами водили хороводы. На посадах народ заплывал жиром от лени. О разбоях не слыхивали. Эх, были, да прошли времена!..
В стрелецкой слободе объявилось шесть человек раскольников – начетчики, высохшие, как кость, непоколебимые мужики. «Одно спасение, – говорили они стрельцам, – одно ваше спасение скинуть патриарха никонианина и весь боярский синклит*, ониконианившийся и ополячившийся, и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни». Раскольники читали соловецкие тетради – о том, как избежать прелести никонианской и спасти души и животы свои. Стрельцы плакали, слушая. Старец раскольник, Никита Пустосвят, на базаре, стоя на возу, читал народу по соловецкой тетради:
«Я, братия моя, видал антихриста, право, видал, некогда я, печален бывши, помышляющи, как придет антихрист, молитвы говорил, да и забылся, окаянный. И вот на поле многое множество людей вижу. И подле меня некто стоит. Я ему говорю: чего людей много? Он же отвечает: антихрист грядет, стой, не ужасайся. Я подперся посохом двоерогим, стою бодро. Ан – ведут нагого человека, – плоть-то у него вся смрад и зело дурна, огнем дышит, изо рта, из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит. За ним царь наш последует, и власти, и бояре, и окольничьи, и думные дворяне… И плюнул я на него, дурно мне стало, ужасно… Знаю по Писанию – скоро ему быть. Выблядков его уже много, бешеных собак…»
Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа, Иван Андреевич Хованский, стал за раскол. Шесть костяных раскольников с Никитой Пустосвятом, три дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в Грановитую палату аналои, деревянные кресты и старые книги и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у Красного крыльца кричали: «Хотим старой веры, хотим старины». А иные говорили и тверже: «Пора государыне царевне в монастырь, полно царством-то мутить». Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила:
– Хотите променять нас на шестерых чернецов – мужиков – невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя, уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене…
Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья, – испугались: «Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву?..» Попятились. Стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы, закружились головы. Кто-то крикнул: «Черт ли нам в старой вере, то дело поповское, бей раскольников». Одному костяному старцу тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги.
Опоили проклятые бояре простых людей, вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы, – бушевали вразброд. Разбивали царские кабаки. Ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы, едва бояре отстреливались, – великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки изб. Неубранные трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули под Москвой ополчение, – разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами беглых холопов в Кремль, прибив на копье челобитную о выдаче на суд и расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на Красное крыльцо, белая от гнева: «Лгут на нас, и в мыслях того ополчения не было, крест на том целую, – закричала она, рвя с себя сверкающий алмазный наперсный крест, – то лжет на нас Матвейка-царевич». И с крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного захудалого татарского царевича Матвейку: подавитесь!
Матвейку разорвали на мелкие клочья, – насытили ярость, и опять стрельцы ушли ни с чем… Три дня и три ночи бушевала Москва, вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. И тогда же родилось у самых отчаянных решение: отрубить самую головку, убить обоих царей и Софью. Но, когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст: ни царей, ни царевны, – ушли вместе с боярами. Ужас охватил народ.
Софья уехала в село Коломенское и послала бирючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорение. В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать: уж не крикнуть ли его царем, – человек любезный, древнего рода, старого обычая. Будет свой царь для простого народа.
Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное, в двести тысяч, ополчение сходилось к Троице-Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд, со Степкой Одоевским во главе, налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно. Их, сонных, всех порубили саблями. Иван Андреевич в исподнем белье выскочил из шатра, размахивая бердышом. Михайла Тыртов прямо с коня кинулся ему на плечи. Прикрутив Ивана Андреевича к седлу, повезли в село Воздвиженское, где Софья справляла свои именины. У околицы села на вынесенных скамьях сидели бояре, одетые по военному времени – в шлемах, в епанчах. Михайла Тыртов сбросил с седла Хованского, и тот от горя и стыда, раздетый, стал на колени на траву и заплакал. Думный дьяк Шакловитый прочел сказку о его винах. Иван Андреевич закричал с яростью: «Ложь! Не будь меня, – давно бы в Москве по колена в крови ходили…» Трудно было боярам решиться пролить кровь столь древнего рода. Василий Васильевич сидел белее снега. И он и Хованский были Гедиминовичами, и Гедиминовича судили сейчас худородные, недавние выскочки. Видя такое шатание, Иван Михайлович Милославский отошел к верхоконным и шепнул Степке Одоевскому. Тот во весь конский мах поскакал через село к шелковому шатру царевны Софьи и тем же махом, топча кур и малых ребят, вернулся. «Правительница-де приказала не сомневаться, кончать князя». Василий Васильевич торопливо отошел, закрыл глаза платочком. Дико закричал Хованский, когда Михайла Тыртов схватил его за волосы, таща в пыль на дорогу. Здесь же у околицы отрубили Хованскому голову.
Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде.
Софья поспешила в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу. И так стояли, грозясь, обе стороны, ожидая, кто первый испугается. Испугались стрельцы и послали в Троицу челобитчиков. Принесли повинную. Тем и кончилась их воля. Столб на Красной площади снесли. Вольные грамоты взяты были назад. Начальником Стрелецкого приказа назначили Шакловитого, скорого на расправу. Многие полки разослали по городам. Народ стал тише воды, ниже травы. И опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина. Потянулись годы.
2
В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. Шагах в двадцати от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меншиков. Не плеть на этот раз была в руке у него, – сверкал кривой нож. «Остановись! – вскрикивал Данила страшным голосом, – убью!..» Алешка давно остался позади, где-то залез на дерево.
Больше года Алексашка не видел отца, и вот – встретил у разбитого и подожженного кабака, и Данила сразу погнался за сыном. Все это время Алексашка с Алешкой жили хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчиков знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы по рощам и речкам. Ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи. Все думали – поймать и обучить ломаться медведя, но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу.
Однажды, закинув удочку в тихую и светлую Яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосинова острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно – в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. Невдалеке, на пригорке, из-за липовых кущ поднимались гребнистые кровли Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, отражался в реке, нарядный и пестрый, – теперь зарос листвой, приходил в запустение.
У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то, – должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку:
– Эй, нашу рыбу пугать… Смотри, портки снимем, переплывем, – мы тебя…
Мальчик только шмыгнул. Алексашка опять:
– Ты кто, чей? Мальчик…
– А вот велю тебе голову отрубить, – проговорил мальчик глуховатым голосом, – тогда узнаешь…
Сейчас же Алешка шепнул Алексашке:
– Что ты, ведь это царь, – и бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство:
– Погоди, убежать успеем. – Закинул удочку, смеясь стал глядеть на мальчика. – Очень тебя испугались, отрубил голову один такой… А чего ты сидишь? Тебя ищут…
– Сижу, от баб прячусь.
– Я смотрю, – ты не наш ли царь. А?
Мальчик ответил не сразу, – видимо, удивился, что говорят смело.
– Ну – царь. А тебе что?
– Как что… А вот ты взял бы да и принес нам сахарных пряников. (Петр глядел на Алексашку пристально, не улыбаясь.) Ей-богу, сбегай, принесешь – одну хитрость тебе покажу. – Алексашка снял шапку, из-за подкладки вытащил иглу. – Гляди – игла, али нет? Хочешь – иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет…
– Врешь? – спросил Петр.
– Вот перекрещусь. А хочешь – ногой перекрещусь? – Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше.
– Еще бы тебе царь бегал за пряниками, – ворчливо сказал он. – А за деньги иглу протащишь?
– За серебряную деньгу три раза протащу, и ничего не будет.
– Врешь? – Петр начал мигать от любопытства. Привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где все еще суетились, звали, аукали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам.
Дойдя до конца мостков, он очутился шагах в трех от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитая молнией плакучая ива. Стоя под ивой, Алексашка показал Петру хитрость – три раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой, – и ничего не было: ни капли крови, только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами.
– Дай-ка иглу, – сказал нетерпеливо.
– А ты что же – деньги-то?
– На!..
Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову: «Не хуже тебя, не хуже тебя!» Забыв о мальчиках, побежал к дворцу, – должно быть, учить бояр протаскивать иголки.
Рубль был новенький, – на одной стороне – двуглавый орел, на другой – правительница Софья. Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видали только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.
– Пустяками занимается, – говорил Алексашка, сидя под разбитой ивой.
В конце лета он ухитрился все-таки купить у цыган за полтинник худого, с горбом, как у свиньи, медвежонка. Алешка стал его водить за кольцо. Алексашка пел, плясал, боролся с медведем. Но настала осень, от дождей взмесило грязь по колено на московских улицах и площадях. Плясать негде. В избы со зверем не пускают. Да и медведь до того жрал много, – все проедал, да и еще норовил завалиться спать на зиму. Пришлось его продать с убытком. Зимой Алешка, одевшись как можно жалостнее, просил милостыню. Алексашка на церковных площадях трясся, по пояс голый, на морозе, – будто немой, параличный, – много выжаливал денег. Бога гневить нечего, – зиму прожили неплохо.
И опять – просохла земля, зазеленели рощи, запели птицы. Дела по горло: на утренней заре в туманной реке ловить рыбу, днем – шататься по базарам, вечером – в рощу – ставить силки. Алексашке много раз говорили люди: «Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить». Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сажени. И нежданно-негаданно – наскочил…
Всю Старую Басманную пробежал Алексашка, – начало сводить ноги. Больше уже не оглядывался, – слышал: все ближе за спиной топали сапожищи, со свистом дышал Данила. Ну – конец! «Карауууул!» – пискливо закричал Алексашка…
В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета.
Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: «Стой!..» Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала.
Алексашка отдыхивался, сидя на запятках, – надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, – с длинными кудрями, но лицо – бритое. «Франц Лефорт», – ответила голова. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в Немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки.
«Мать честная, вот живут чисто», – подумал Алексашка, вертя головой сзади кареты. В глазах зарябили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда, – по краям стояли круглые деревца в зеленых кадках, и между ними горели плошки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями, смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей, у освещенной двери аустерии, или по-нашему – кабака, плясали, сцепившись, парами девки с мужиками.
Повсюду ходили мушкетеры – в Кремле суровые и молчаливые, здесь – в расстегнутых кафтанах, без оружия, под руку друг с другом, распевали песни, хохотали – без злобы, мирно. Все было мирное здесь, приветливое: будто и не на земле, – глаза впору протереть…
Вдруг въехали на широкий двор, посреди его из круглого озерца била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку.
– Ты кто, ты зачем, ты откуда здесь? – спросил он, смешно выговаривая слова. – Я тебя спрашиваю, мальчик. Ты – вор?
– Это я вор? – Тогда бей меня до смерти, если вор. – Алексашка весело глядел ему в бритое лицо со вздернутым носом и маленьким улыбающимся ртом. – Видел, как на Разгуляе отец бежал за мной с ножом?
– А! Да, видел… Я засмеялся: большой за маленьким…
– Отец меня все равно зарежет… Возьми, пожалуйста, меня на службу… Дяденька…
– На службу? А что ты умеешь делать?
– Все умею… Первое – петь, какие хошь песни… На дудках играю, на рожках, на ложках. Смешить могу, – сколько раз люди лопались, вот как насмешу. Плясать – на заре начну, на заре кончу, и не вспотею. Что мне скажешь, – то и могу…
Франц Лефорт взял Алексашку за острый подбородок. Мальчик, видимо, ему понравился.
– О, ты изрядный мальчик… Возьмешь мыла и вымоешься, ибо ты грязный… И тогда я тебе дам платье… Ты будешь служить… Но если будешь воровать…
– Этим не занимаемся, у нас, чай, ум-то есть, али нет, – сказал Алексашка так уверенно, что Франц Лефорт поверил. Крикнув конюху что-то про Алексашку, он пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто подплясывая, должно быть оттого, что неподалеку на озерце играла музыка и задорно визжали немки.
3
– Да уж будет тебе, Никита Моисеевич, как бы головка у ребенка не заболела…
Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать Апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька, Никита Моисеев Зотов, по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, – и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понеслись его косолапые шаги, пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца.
– Шапку-то, шапку, головку напечет! – слабо крикнула вслед царица.
Никита Зотов стоял перед ней истово и прямо, как в церкви, – расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной из тонкого сукна ферязи, – воротник сзади торчал выше головы. Благообразное лицо с мягкими губами и кудрявой бородой запрокинуто от истовости. Благостный человек – и говорить нечего. Скажи ему: кинься, Никита, на нож, – кинется. Предан больше собачьего, но уж больно светел, легок духом. Не таков бы нужен был дядька норовистому мальчику.
– Ты, Никита Моисеевич, побольше с ним божественное читай. А то он и на царя-то не похож… Ведь не оглянешься, – скоро уж женить… До сих пор не научился стопами шествовать, – все бегает, как простой… Ну – вон, гляди…
Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним – долговязые парни из дворцовой челяди, – с мушкетами и топориками на длинных древках. На земляном валу, – потешной крепостце, построенной перед дворцом, – за частоколом стояли согнанные с деревни мужики в широких немецких шляпах. Велено было им также держать во рту трубки с табаком. Испуганно глядя на бегущего вприскочку царя, они забыли, как нужно играть. Петр гневно закричал петушиным голосом. Наталья Кирилловна с содроганием увидела Петенькины бешеные, круглые глаза. Он вскарабкался на верх крепостцы и, сердясь, ударил несколько раз мушкетиком одного из потешных мужиков, втянувшего голову в плечи.
– Не по его – так и убьет, – проговорила Наталья Кирилловна, – в кого только нрав у него горячий?
Игра пошла сызнова. Выстраивая долговязых парней с топориками, Петр опять рассердился, что его плохо понимают. Это была беда: горячась, он начинал говорить неразборчиво, захлебывался торопливостью, точно хотел сказать много больше того, чем было слов на языке.
– Что-то головка стала у него так дергаться? – сказала Наталья Кирилловна, со страхом глядя на сына. И вдруг заткнула уши. Мужики в крепостце выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали – чем помягче: пареной репой или яблоками, и выстрелили. И тотчас, побросав оружие, воздели руки – в знак того, что сдаются.
– Нельзя сдаваться! Биться должны! – кричал Петр, крутя и тряся головой. – Сначала! Все сначала!..
– Никита Моисеевич, затвори-ка окошко, очень шумят, голова разболелась, – проговорила царица.
Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо. От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела, только брови да когда-то огненные, темные глаза остались от ее красоты. Всегда была в черном, покрытая черным платком. Так в Угличе когда-то жила царица Марья Нагая с несчастным Димитрием*… Не стряслось бы и здесь такой же беды… Правительница Софья спит и видит – обвенчаться с Голицыным и царствовать. Уж и корону заказала для себя немецким мастерам.
В Преображенском дворце пустынно, только челядь бегает на цыпочках, да по темным углам шепчутся старухи – мамки, няньки. Царь хоть юн, но духу старушечьего не переносит: увидит, как нянька какая-нибудь, закапанная воском, пробирается вдоль стены, так цыкнет, – старушечка едва без памяти доползет до угла.
Бояре в Преображенском не бывают, – здесь ни чести, ни прибытка. Все толпятся в Кремле, поближе к солнцу. Чтобы не совсем было зазорно, Софья приказала быть при дворе царя Петра четырем боярам; князю Михайле Алегуковичу Черкасскому, князю Лыкову, князю Троекурову и князю Борису Алексеевичу Голицыну. А велик ли прок от них? Лениво слезут с коней у крыльца, подойдут к царицыной ручке, сядут и – молчат, вздыхают. Говорить мало о чем найдется с опальной царицей. Вбежит в горницу Петр, – бояре, поклонясь нецарствующему царю, справятся о его государевом здоровье и опять вздыхают, качают головами: уж больно прыток становится царь-то, – гляди, царапина на щеке, руки в цыпках. Неприлично.
– Никита Моисеевич, сказывали мне, – в Мытищах баба есть, Воробьиха, на квасной гуще гадает – так-то верно, – все исполняется… – проговорила царица. – Послать бы за ней!.. Да что-то боюсь… Не нагадала бы худого…
– Матушка государыня, чего же худого нагадать вам может подлая баба Воробьиха? – нараспев, приятным гласом ответил Зотов. – В таком разе Воробьиху в клочья растерзать мало.
Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. Зотов подступил неслышно в мягких сапожках.
– Моисеич… Давеча в поварне, – стрелецкая вдова решето ягод приносила, – сказывала: Софья-де во дворце кричала намедни, и все слышали: «Жалко, говорит, стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей…»
У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами.
Что ей ответить? Чем утешить? У Софьи – стрелецкие полки, за Софью – все дворянское ополчение, а у Петра – три десятка потешных дураков-переростков да деревянная пушка, заряженная репой… Никита Зотов развел ладони, закинул голову, покуда не уперся затылком в жесткий воротник…
– Пошли за Воробьихой, – прошептала царица, – пусть уж скажет правду, а то так-то страшнее…
Долог, скучен летний день. Белые облака плывут и не плывут над Яузой. Знойно. Мухи. Сквозь марево видны бесчисленные купола Москвы, верхушки крепостных башен. Поближе – игла немецкой кирки, ветряные мельницы на Кукуе. Стонут куры, навевая дремоту. В поварне стучат ножами.
Бывало, при Алексее Михайловиче, – смех и шум в Преображенском, толпится народ, ржут кони. Всегда потеха какая-нибудь – охота, или медвежья травля, конские гонки. А теперь – глядишь – и дорога-то сюда от каменных ворот заросла травой. Прошла жизнь. Сиди – перебирай четки.
В стекло чем-то бросили, Зотов открыл окно. Петр позвал, стоя под липой, – весь в пыли, в земле, потный, как мужичонок:
– Никита, напиши указ… Мужики мои никуда не годятся, понеже старые, глупые… Скорее!
– О чем указ прикажешь писать, твое царское величество? – спросил Никита.
– Нужно мне сто мужиков добрых, молодых… Скорее…
– А написать, – для чего мужики сии надобны?
– Для воинской потехи… Мушкетов прислали бы не ломаных и огневого зелья к ним… Да две чугунных пушки, чтобы стрелять… Скорей, скорей… Я подпишу, пошлем нарочного…
Царица, отогнув ветвь липы, склонилась в окошко:
– Петенька, свет мой, будет тебе все воевать… Отдохнул бы, посиди около меня…
– Маманя, некогда, маманя, потом…
Он убежал. Царица долгим вздохом проводила сына. Зотов, сотворив крестное знамение, вынул из кармана гусиное перо и ножичек и со тщанием перо очинил, попробовал на ноготь. Еще раз перекрестясь с молитвой, отогнул рукав и сел писать полууставом: «Божьею милостью, мы, пресветлейший и державнейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец…»
Царица от скуки взяла почитать Петрушину учебную тетрадь. Арифметика. Тетрадь – в чернильных пятнах, написано – вкривь и вкось, неразборчиво: «Пример адиции… Долгу много, а денех у мена менше тово долгу, и надобает вычесть – много ли езчо платить. И то ставися так: долг выше, а под ним денги, и вынимают всякое исподнее слово ис верхнева. Например: один ис двух осталось один. А писать сверху два, ниже ево единица, а под единицей ставь смекальную линию, под смекальной линией – число, кое получится, или смекальное число…»
Царица зевнула, – не то есть хочется, не то еще чего-то…
– Никита Моисеевич, забыла я – полдничали сегодня мы али нет?
– Государыня матушка, Наталья Кирилловна. – Зотов, отложив перо, встал и поклонился. – Как отобедали – изволили вы почивать и, встав, полдничали, – подавали вам ягоды с усливками, грушевый взвар и мед монастырский…
– И то… Уж вечерню скоро стоять…
Царица лениво поднялась и пошла в опочивальню. Там при свете лампад (окно было занавешено) у стены на покрытых сундуках сидели злющие старухи-приживалки и поминали друг другу шепотом обиды. Разом встав, как тряпочные – без костей, поклонились царице. Она села под образами на веницейский с высокою спинкою стул. Из-за кровати выползла карлица с гноящимися глазами, по-ребячьи всхлипывая, прикорнула у государыниных ножек, – приживалки ее чем-то обидели.
– Сны, что ли, рассказываете, дуры-бабы, – сказала Наталья Кирилловна. – Единорога никто не видел?
Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. В сенях, на лестницах появились, протирая опухшие глаза, боярские дети из мелкопоместных, худородных, – стольники, приписанные Софьей к Петрову дворцу. Был здесь и Василий Волков, – отец его расшиб лоб о пороги, добился для сына чести. Житье было сытное, легкое, жалованье – шестьдесят рублей в год. Но – скучно. Стольники спали почитай что круглые сутки.
Колокол звонил к вечерне. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг к речке. На подмогу им царица послала десятка два мамок поголосистее. Обшарили, обаукали всю местность, – нет царя нигде. Батюшки, уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам: «Непременно это ее рук дело – Соньки… Давеча какой-то человек ходил круг дворца… И нож у него видели за голенищем… Зарезали, зарезали нашего батюшку-кормильца…» Наталью Кирилловну довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным Сокольничьим бором появилась тускловатая мрачная звезда. Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны; заломив руки, она закричала:
– Петенька, сын мой!
Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер, – рыбаки повскакали с испугом, чугунок с ершами опрокинулся в огонь. Волков спросил, задыхаясь:
– Мужики, царя не видали?
– Давеча не он ли проплыл в лодке?.. Кажись, гребли прямо на Кукуй. У немцев его ищите…
Ворота в слободе были еще не заперты. Волков помчался по улице туда, где толпились немцы. С верха он увидел царя и рядом с ним длинноволосого, среднего роста человека с растопыренными, как у индюка, полами короткого кафтана. В одной руке – на отлете – он держал шляпу, в другой – трость и, смеясь вольно, – собачий сын, – говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь. И все немцы стояли бесстыдно вольно. Волков соскочил с коня, протолкался и стал перед царем на колени:
– Милостивый государь, царица матушка убивается: уж Бог знает что про вас думали. Извольте идти домой – вечерню стоять…
Петр нетерпеливо дернул головой вбок – к плечу:
– Не хочу… Убирайся отсюда… – И, так как Волков продолжал истово глядеть на него с колен, царь загорелся, ударил его ногой. – Прочь пошел, холоп!
Волков поклонился низко и хмуро, не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец, с двойным розовым подбородком – в жилете, в вязаном колпаке и вышитых туфлях – виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку.
– Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома, у нас веселее…
Стоявшие кругом иноземцы, вынув трубки, закачали головами, подтвердили с добродушными улыбками:
– О да, у нас веселее…
И ближе придвинулись – слушать, что говорил длинному, с длинной детской шеей царю нарядный человек в пышно завитом парике – Франц Лефорт. Петр встретил его на Яузе: плыли в тяжелом струге, челядинцы нескладно гребли, стукаясь уключинами. Петр сидел на носу, поджав ноги. Озаренные закатом, медленно приближались черепичные кровли, острые шпили, верхушки подстриженных деревьев, мельницы с флюгерками, голубятни. С Кукуя доносилась странная музыка. Будто наяву виделся город из тридевятого царства, тридевятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки.
На берегу, на куче мусора появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане, при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями, – капитан Франц Лефорт. Петр видал его в Кремле, когда принимали иноземных послов. Отнеся вбок левую руку с тростью, он снял шляпу, отступил на шаг и поклонился, – завитые космы парика закрыли ему лицо. Столь же бойко он выпрямился и, улыбаясь приподнятыми уголками рта, проговорил ломано по-русски:
– К услугам вашего царского величества…
Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо, – до того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий. Лефорт говорил, потряхивая кудрями:
– Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет просо, трясет ткацкий стан и поднимает воду в преогромную бочку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегает собака и вертит его. В доме виноторговца Монса есть музыкальный ящик с двенадцатью кавалерами и дамами на крышке и также двумя птицами, вполне согласными натуре, но величиной с ноготь. Птицы поют по-соловьиному и трясут хвостами и крыльями, хотя все сие не что иное, как прехитрые законы механики. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем моря и горы. У аптекаря можно поглядеть на младенца женского пола, живущего в спирту, – лицо поперек полторы четверти, тело – в шерсти, на руках, ногах – по два пальца.
У Петра все шире округлялись глаза от любопытства. Но он молчал, сжав маленький рот. Почему-то казалось, что, если он вылезет на берег, – длиннорукий, длинный, – Лефорт засмеется над ним. От застенчивости он сердито сопел носом и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбежал к воде, – веселый, красивый, добродушный, – схватил исцарапанную, с изгрызенными ногтями руку Петра и прижал к сердцу:
– О, наши добрые кукуйцы будут сердечно рады увидеть ваше величество… Они покажут вам весьма забавные кундштюки*…
Ловок, хитер был Лефорт. Петр и не опомнился, как уже, размахивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Здесь окружили их сытые, краснощекие, добрые кукуйцы, и каждый захотел показать свой дом, свою мельницу, где в колесе бегала собака, свой огород с песчаными дорожками, подстриженными кустиками и ни одной лишней травинкой. Показали все умственные штуки, о которых говорил Лефорт.
Петр удивлялся и все спрашивал: «А это зачем? А это для чего? А это как устроено?..» Кукуйцы качали головами и говорили одобрительно: «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать, это похвально…» Наконец подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из отворенной двери аустерии. Петр увидал маленькую лодочку с маленьким, повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами, в голых руках она держала лютню. Петр ужасно удивился, – даже стало страшно отчего-то. Повернув к нему чудное в сумерках лицо, девушка заиграла на струнах и запела тоненьким голоском по-немецки такое жалостное и приятное, что у всех защекотало в носу. Между зелеными шарами и конусами подстриженных деревьев сладко пахли белые цветы табаку. От непонятного впечатления у Петра дико забилось сердце. Лефорт сказал ему:
– Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка, дочь зажиточного виноторговца Иоганна Монса.
Сам Иоганн Монс, с трубкой, весело поднял руку и покивал ладонью Петру. Соблазнительный голос Лефорта прошептал:
– Сейчас в аустерии соберутся девушки, будут танцы и фейерверк, или огненная забава…
По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы – идти домой. На этот раз пришлось покориться.
4
Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что, не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму, царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоях что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи… Спорили и лаялись о ценах. Вздыхали – что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха, обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море – татары, к Балтийскому не пробьешься, Китай далеко, на севере все держат англичане. Воевать бы моря, да не под силу.
К тому же мало поворотливы были русские люди. Жили по-медвежьи за крепкими воротами, за неперелазным тыном в усадьбах на Москве. В день отстаивали три службы. Четыре раза плотно ели, да спали еще днем для приличия и здоровья. Свободного времени оставалось немного: боярину – ехать во дворец, дожидаться, когда царю угодно потребовать от него службы, купцу – сидеть у лавки, зазывать прохожих, приказному дьяку – сопеть над грамотами.
Долго бы чесали бока, кряхтели и жаловались русские люди, но случилось неожиданное – подвалило счастье. Польский король Ян Собесский* прислал в Москву великих послов говорить о союзе против турок. Ласково заговорили поляки, что нельзя же допустить, чтоб поганые турки мучили христиан, и православным русским нехорошо быть в мире с турецким султаном и ханом крымским. В Москве сразу поняли, что полякам туго и самое время с ними торговаться. Так и было: Польша в союзе с австрийским императором едва отбивалась от турок, с севера ей грозили шведы. У всех еще в памяти была опустошительная Тридцатилетняя война* когда пошатнулась Австрийская империя, обезлюдела Германия и Польша стала чуть ли не шведской вотчиной. Хозяевами морей оказались французы, голландцы, турки, а по всему балтийскому побережью – шведы. Ясно было, чего сейчас добивались поляки: чтоб охранять русскими войсками украинские степи от турецкого султана.
Царственные большие печати и государственных посольских дел сберегатель и наместник новогородский, князь Василий Васильевич Голицын, потребовал от поляков вернуть Киев. «Верните нам исконную царскую вотчину Киев с городками, тогда на будущий год пошлем войско на Крым воевать хана». Три с половиной месяца спорили поляки: «Нам лучше все потерять, чем отдать Киев». Русские не торопились, стояли на своем, прочли полякам все летописи с начала крещения Руси. И пересидели, переспорили.
Ян Собесский, разбитый турками в Бессарабии, плача, подписал вечный мир с Москвой и возвращение Киева с городками. Удача была велика, но и податься некуда, – приходилось собирать войско, идти воевать хана.
5
Напротив Охотного ряда, на голицынском дворе, было чисто и чинно. Жарко блестели, от крыши до земли, обитые медью стены дома. У входа на персидских ковриках стояли два рослые мушкетера – швейцарцы, в железных шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. С той их стороны толпа простого народа, шатающегося по Охотному ряду, глазела на сытые лица швейцарцев, на выложенный цветными плитами широкий двор, на пышную, всю в стеклах, карету, запряженную рыжей четверней, на медно сияющий дом сберегателя, любовника царевны-правительницы.
Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого окна и по-латыни вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем де Невиллем. Гость был в парике и французском платье, какое только что стали носить при дворе Людовика Четырнадцатого. Василий Васильевич был без парика, но также во французском – в чулках и красных башмачках, в коротких бархатных штанах с лентами, – на животе и с боков из-под бархатной куртки выбивалось тонкое белье в кружевах. Бороду он брил, но усы оставил. На французском столике перед ним лежали свитки и тетради, латинские книги в пергаменте, карты и архитектурные чертежи. На стенах, обитых золоченой кожей, висели парсуны, или – по-новому – портреты, князей Голицыных и в пышной веницейской раме – изображение двоеглавого орла, державшего в лапах портрет Софьи. Французские – шпалерные и итальянские – парчовые кресла, пестрые ковры, несколько стенных часов, персидское оружие, медный глобус, термометр аглицкой работы, литого серебра подсвечники и паникадила, переплеты книг и на сводчатом потолке – расписанная золотом, серебром и лазурью небесная сфера – отражались многократно в зеркалах, в простенках и над дверями.
Гость с одобрительным любопытством поглядывал на сие наполовину азиатское, наполовину европейское убранство. Василий Васильевич, играя гусиным пером, положив ногу на ногу и великодушно улыбаясь, говорил (лишь иногда запинаясь в латинских словах и выговаривая их несколько на московский лад):
– Поясню вам, господин де Невилль. Нашего государства основа суть два сословия: кормящее и служилое, сиречь – крестьянство и дворянство. Оба сии сословия в великой скудости обретаются, и оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно разорение. Великим было бы счастьем оторвать помещиков от крестьян, ибо помещик ныне, одной лишь корысти ради, без пощады пожирает крепостного мужика, и крестьянин оттого худ, и помещик худ, и государство худо…
– Высокомысленные и мудрые слова, господин канцлер, – проговорил де Невилль. – Но как вы мечтаете выполнить сию трудную задачу?
Василий Васильевич, загораясь улыбкой, взял со стола тетрадь в сафьяне, писанную его рукой: «О гражданском житии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу…»
– Великое и многотрудное дело, ежели бы народ весь обогатить, – проговорил он и стал читать из тетради: «Многие миллионы десятин лежат в пустошах. Те земли надлежало бы вспахать и засеять. Скот умножить. Русскую худую овцу вывести и вместо нее обязать заводить аглицкую тонкорунную овцу. Ко всяким промыслам и рудному делу людей приохотить, давая от того им справедливую пользу. Множество непосильных оброков, барщин, податей и повинностей уничтожить и обложить всех единым поголовным, умеренным налогом. Сие возможно лишь в том размышлении, если всю землю у помещиков взять и посадить на ней крестьян вольных. Все прежде бывшие крепостные кабалы разрушить, чтобы впредь весь народ ни у кого ни в какой кабале не состоял, разве – небольшое число дворовых холопей…»
– Господин канцлер, – воскликнул де Невилль, – история не знает примеров, чтоб правитель замышлял столь великие и решительные планы. (Василий Васильевич сейчас же опустил глаза, и матовые щеки его порозовели.) Но разве дворянство согласится безропотно отдать крестьянам землю и раскабалить рабов?
– Взамен земли помещики получат жалованье. Войска будут набираться из одних дворян. Даточных рекрутов из холопов и тяглых людей мы устраняем. Крестьянин пусть занимается своим делом. Дворяне же за службу получат не земельную разверстку и души, а увеличенное жалованье, кое царская казна возьмет из общей земельной подати. Более чем вдвое должен подняться доход государства…
– Мнится – слышу философа древности, – прошептал де Невилль.
– Дворянских детей, недорослей, дабы изучали воинское дело, надобно посылать в Польшу, во Францию и Швецию. Надобно завести академии и науки. Мы украсим себя искусствами. Населим трудолюбивым крестьянством пустыни наши. Дикий народ превратим в грамотеев, грязные шалаши – в каменные палаты. Трусы сделаются храбрецами. Мы обогатим нищих. (Василий Васильевич покосился на окно, где по улице брел пыльный столб, поднимая пух и солому.) Камнями замостим улицы. Москву выстроим из камня и кирпича… Мудрость воссияет над бедной страной.
Не расставаясь с гусиным перышком, он покинул кресло и ходил по коврам, и много еще необыкновенных мыслей высказал гостю:
– Английский народ сам сокрушил несправедливые порядки, но в злобстве дошел до великих преступлений – коснулся главы помазанника…* Боясь сих ужасов, мы жаждем блага равно всем сословиям. Ежели дворянство будет упираться нашим начинаниям, мы силой переломим их древнее упрямство…
Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно серьезным. Де Невилль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, так же кланяясь и округло, от сердца вниз, помахивая рукою в перстнях и кружевах, шел Василий Васильевич:
– Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин де Невилль, что вы изволите так скоро покидать меня.
Оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо стуча каблучками, прошел в опочивальню. Там на двуспальной кровати под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она подъехала тайно в закрытой карете с черного хода.
6
– Сонюшка, здравствуй, свет мой…
Она, не отвечая, подняла хмурое лицо, пристально зелеными мужичьими глазами глядела на Василия Васильевича. Он в недоумении остановился, не дойдя до кровати.