Читать онлайн О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного бесплатно
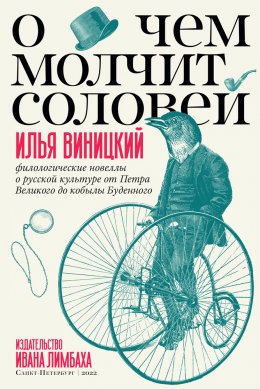
© И. Ю. Виницкий, 2022
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2022
© Издательство Ивана Лимбаха, 2022
Горький год
От автора
Надоели мне, брат, все человеческие слова… все наши слова – надоели! Каждое из них слышал я… наверное, тысячу раз…
<…> Сделай так, чтоб работа была мне приятна – я, может быть, буду работать… да! Может быть! Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! Когда труд – обязанность, жизнь – рабство!
А. М. Горький. На дне
По секрету: я давно хотел найти способ пройти между Сциллой привычного для меня жанра академической статьи с ее узкой специализацией, тяжеловесным научным аппаратом и серьезным и глубокомысленным тоном («как мы знаем», «курсив наш», «мы никак не можем согласиться с мнением», «выражаем глубокую признательность за ценные советы и замечания», «см., ср., вар.» и др.) и Харибдой беллетризированной импровизации на научную тему, ни к чему не обязывающей и часто недружественной по отношению к так называемому профессиональному сообществу («ведь на самом деле „Мастер и Маргарита“ [„Братья Карамазовы“, Библия или „Книга о вкусной и здоровой пище“] не о том, о чем писали эти „старомозгие“, а вот о чем» или «и тут я понял, о чем эта чистая деревенская девочка с голубыми глазами, стоящая на пороге моей трехкомнатной квартиры, хотела меня спросить. И я ей ответил: «Да! Пушкин написал „Царя Никиту“! Но он потом раскаялся…»).
Возможность проскользнуть между двумя этими (знаю, что преувеличенными, но я говорю о себе) крайностями возникла случайно, и предлагаемая вниманию читателей книжка – результат этой счастливой (как мне кажется) случайности.
Два с лишним года тому назад, вместо того чтобы закончить исследование, над которым я давно работал, я вдруг начал писать в качестве вечерней гуманитарной гимнастики небольшие статьи-заметки о произведениях и авторах, которые мне были всегда интересны или вдруг взволновали приунывший было ум. Заметки эти строились как похожие на детективы маленькие новеллы (я в том году «подсел» на детективные сериалы, среди которых мне больше всего нравились старые британские и новые скандинавские, особенно те, в которых дело раскрывалось в пределах одного 50-минутного эпизода) и как-то отражали мое пан(ико)демическое настроение (то мне было страшно, то грустно, то весело). До традиционных научных статей они не дотягивали размером и выбивались из привычного мне филологического ряда несерьезным тоном, какой-то (впрочем, понятной в условиях самоизоляции) непоседливостью воображения и быстрой сменой тем и декораций. Да мне и не хотелось их посылать в научные журналы и дорабатывать с учетом мнений анонимных экспертов и постоянно усложняющихся стандартов.
Одну из таких заметок-новелл я предложил культурно-просветительскому интернет-изданию «Горький», которое когда-то взяло у меня интервью и напечатало его с замечательной иронической иллюстрацией.
Редактор мою новеллу одобрил, но попросил убрать (а) научные термины, (б) ученые сноски, (в) библиографию (тот самый аппарат), (г) эпиграфы, а также (д) еще сильнее ужать тексты. «Что же я получу за эти сугубые жертвы?» – спросил я. «Хорошие иллюстрации, гиперссылки, позволяющие нырять в контексты, затронутые в Вашем материале, и – гораздо больше читателей». Я согласился. И не пожалел. (Судя по счетчику на сайте «Горького», самым востребованным материалом оказалась новелла о птичке, пойманной юным Александром Сергеевичем Пушкиным.)
Автор книги за работой (глазами Gorky Media)
Позднее к напечатанным за два с лишним года в «Горьком» заметкам с картинками я добавил несколько близких по жанру текстов, опубликованных в других (ненаучных или снисходительных к игре научных) изданиях. Собрав все в один файл, я понял, что выходит своего рода cерия филологических новелл с детективными сюжетами и что у нее даже есть общая если не идея, то эмоция: как, черт возьми, весело придумывать и решать научные задачки, не боясь ошибиться и не думая о том, что мизантропический коллега огреет тебя критическим кирпичом за допущенную неточность в датировке, упущенную литературу или выпущенную на волю недостаточно аргументированную гипотезу (лучше, конечно, не допускать, не упускать и не выпускать, но уж если вылетело…).
Тогда я спросил моего редактора: а нельзя ли эти иллюстрированные заметки, рассыпанные по интернету, выпустить в виде печатной книжки с иллюстрациями, эпиграфами и умеренной библиографией? Мой редактор предложением заинтересовался и обратился к знакомому издателю. Дело, однако, затянулось, а нынешние жуткие события вообще поставили его под вопрос «зачем?» – самый страшный из всех проклятых вопросов того воображаемого сообщества, которое принято называть русской интеллигенцией. Ответить на него я не могу. Только вспоминаю слова Гоголя: «Затем, что так было надо». И пушкинские: «…затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона». А еще честертоновского отца Брауна (кажется): «Бог знает больше дьявола. Но не афиширует этого».
Читатель, читай! Автору было весело разгадывать литературные загадки и ему очень хочется передать свою филологическую радость тебе. Особенно в нынешнем холодном климате.
P. S. Выражаю искреннюю признательность за доверие и советы моему редактору Дмитрию Иванову, а также моим друзьям, коллегам и родственникам.
Филотерапия, или Третий бастион Самюэля Пиквика[1]
(маленький манифест)
Jucunda confabulatio, sales, joci, приятные беседы, шутки, парадоксы, веселые истории, melliti verborum globuli, как утверждают Петроний, Плиний, Спонданус, Целий и многие другие великие авторы, являются тайным снадобьем от горести, упоминающимся у Гомера, чашей Елены или поясом Венеры, которые издавна славились способностью изгонять печали и заботы и вызывать веселье и радость в сердце, когда они правильно поняты или применены своевременно.
Роберт Бертон. Анатомия Меланхолии (1621)
«Долой миланколию!» – как сказал малыш, когда померла его училка.
Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба… (1837)
Выставка
Работа у нас книжная, кабинетная, вязкая, трудоемкая и мыслетленная, но чреватая неожиданными радостями, особенно ценными в наше печальное время. Один знаменитый ученый патетически назвал наше дело службой понимания. Может быть, так оно и было. В моем случае и в нашу пору это скорее служба преодоления квартирного (и культурного) одиночества. Да вы и сами это наверняка понимаете.
После почти двухлетнего сидения на одном месте (причем в широком, равно как и узком значении этого выражения), повергнувшего меня в самые печальные чувствования, я наконец отправился в давно задуманное и несколько раз перенесенное путешествие в туманную Англию. Последняя встретила меня мелким холодным и долгим дождиком, в очередной раз подтвердившим начальные слова из заученного еще в школьные советские годы и взбудоражившего мое тогдашнее воображение экзаменационного «топика»: «The British climate is mild and damp» (правда, на этот раз он был больше «damp», нежели «mild»).
На следующий день после приезда я отправился на автобусе в Оксфорд – вновь пройтись по любимым (мокрым) местам, встретиться с коллегой, съесть рыбку с картошкой в известном пабе (последний, как оказалось, закрылся в пандемию, и его дверь была наглядно затянута унылой паутиной1), а также обновить библиотечный билет и скопировать кое-какие страницы из нужных для моей новой книжки книжек.
Приехал я раньше назначенного времени регистрации, и любезная тетушка-библиотекарь посоветовала мне покамест посмотреть их новую выставку: не гулять же в самом деле в такую погоду?
Меня ждал очень приятный и душеполезный сюрприз. Выставка оказалась посвященной 400-летию выхода в свет знаменитой книги Роберта Бертона «Анатомия меланхолии» (1621) – той самой энциклопедии человеческих печалей и способов их излечения (чаще всего безуспешного), которой я зачитывался много лет назад во время работы над своим кандидатским исследованием, которую с удовольствием цитировал в статьях и первой своей книге «Утехи меланхолии» и о которой всего неделю назад рассказывал студентам, взявшим мой курс по истории эмоций. Легкий дождь, Оксфорд, библиотека, личные воспоминания, легкая меланхолия – посреди безумного и больного мира, – что может быть лучше и здоровее для чувствительного российского путешественника из Америки?
Я не собираюсь писать рецензию на эту выставку2 (скажу только, что ее цель заключалась в том, чтобы показать – несколько в лоб, – насколько актуальны идеи английского ученого XVII века сейчас, в ковидную годину). Но я очень хочу поделиться своими впечатлениями об одном ее меланхолическом экспонате, связанном с моим любезным отечеством. Последний не только поразил меня своей иконической программностью, но и навеял некоторые мысли о терапевтической природе нашей филологической профессии, особенно в нынешних обстоятельствах. Итак…
Утехи меланхолии
Один отдел выставки был посвящен библиотерапии – канонизированной Бертоном практике лечения мрачной меланхолии с помощью чтения занимательных и веселых книг вроде рассказываемых во время чумы новелл «Декамерона». Сам ученый и его многочисленные последователи не только лечились такими «противоядиями и противоскучиями» от собственной тоски, но и наполняли свои трактаты, чтобы рассмешить себя и читателей многочисленными шутками и развлекательными историями о «странностях» и «сумасбродствах» меланхоликов вроде того, что мнил себя стеклянным и боялся малейшей встряски3, или одного несчастного, что «ни под каким видом не хотел испустить из себя урину, возомнив, что в утробе у него целое море и что потопит он весь мир» (первого излечили «от такой глупости» тем, что уронили ему на ноги вязанку дров, и он «почувствовал боль и вследствие силлогизма, что он не стекло, ибо стекло бесчувственно, убедился в нелепости прежнего мнения касательно состава собственного тела»4; в свою очередь, сумасброда, боявшегося потопа, привели к зажженному возле деревни «большому омету соломы и просили, чтоб он испустил сколько-нибудь своей урины для погашения такого великого пожара, и тогда он с крайним удивлением усмотрел, сколь мало в нем оной»; деревня, должно быть, сгорела, как побочная жертва в целом успешного лечения5).
Раненый экспонат
Но я ушел в сторону. В качестве примера библиотерапии на Оксфордской выставке был представлен застекленный экспонат с разъяснительным текстом на табличке. Это был обгоревший и, как указывала подпись, окрашенный кровью экземпляр русского перевода диккенсовских «Замогильных записок Пиквикского клуба», обнаруженный англичанами в Севастополе в 1855 году.
По преданию, русский владелец этой книги библиотерапевтически утешал себя чтением юмористического романа знаменитого английского писателя во время штурма города союзниками. Эта подпись, в свою очередь, сопровождалась педантичным библиографическим уточнением, согласно которому перевод был сделан неким Иринархом Ивановичем (Irinarch Ivanovich) и напечатан в… Ленинграде в 1850 году. Такое уточнение, разумеется, вызвало высокомерную улыбку у вашего покорного слуги: переводчика-то звали Иринархом Ивановичем Введенским, а что касается Ленинграда, то сами понимаете, как смешон этот анахронизм… ох, библиографы, библиографы, вы любую меланхолию можете разогнать…
Но я сразу поймал себя на мелочности своей мысленной эскапады. В конце концов кто не ошибается в таких вещах (за неделю до того я сам случайно назвал в статье жену Сталина его вдовою)6. Отбросив иронию, я сосредоточил все внимание на самом русском экспонате, который тут же сфотографировал, увеличил и рассмотрел. Кто привез эту замечательную книгу в библиотеку? Как попала она в руки этому человеку и кто был тот несчастный русский солдат или офицер, который смеялся под грохотом бомб над похождениями доброго английского эсквайра? Погиб ли он или спасся? Точно ли это пятна крови и можно ли установить, как относительно недавно писал журнал «The New Yorker», по сохранившимся отпечаткам пальцев и прочим биоследам владельца этого экземпляра? Вдруг это был Лев Толстой, читавший Диккенса во время осады города (правда, другие произведения)? Вот бы была чудесная символическая встреча двух великих авторов! Знал ли об этом боевом экземпляре своего романа сам Диккенс? Где кончается история и начинается легенда?
Завороженный тайнами экспоната, я попытался найти лицо, ответственное за выставку, которое разрешило бы мне (святая простота!) хотя бы подержать в руках и полистать этот покрытый (возможно) русской кровью экспонат, но, увы, помощи так и не дождался. Унылый охранник сказал, что у него нет ключа от стеклянного ящика (ах, если бы разбился он вдребезги от одного моего филологического желания!). Добродушная библиотекарша вызвала какую-то юную начальницу, которая взяла мой электронный адрес и сказала, что со мной свяжется один из кураторов выставки. Никто со мной так и не связался.
Потому и пришлось провести свое собственное расследование. Вот, дорогие неизвестные читатели, его результаты и выводы.
Феникс из пепла
История этого экспоната оказалась намного интереснее его выставочной морали и библиотечного провенанса. Последний установить оказалось несложно. В вышедших в 1868 году «Анналах Бодлианской библиотеки» говорилось о том, что эта обгоревшая книжка, представляющая собой русский перевод «Записок Пиквика», была подарена библиотеке в 1856 году неким преподобным Фредериком Джоном Холтом Бивером (Reverend Frederick John Holt Beever, 1830–1863), который нашел ее при штурме союзниками Великого Редана (в русской историографии – Третьего бастиона) 8 сентября 1855 года7.
Преподобный Холт Бивер был выпускником Колледжа Иисуса в Оксфорде, отличался авантюристическим характером и, похоже, был лицом историческим в близком Ноздреву смысле. В мае 1855 года он испросил в колледже разрешение на путешествие за границу до конца длинных каникул («till the end of the next Long Vacation») и (возможно) отправился в Крым. Никаких документальных свидетельств пребывания Бивера в Севастополе нет, и, более того, его утверждение, что он служил в штабе лорда Реглана, сомнительно: английский генерал погиб в конце июня 1855 года. Косвенным доказательством участия Бивера в крымской кампании его биограф считает подаренный Бодлианской библиотеке экземпляр русского перевода «Записок Пиквика» с подписью «взято в Большом Редане (то есть на Третьем бастионе. – И. В.) утром 9 сент<ября>». «Возможно, – предполагает биограф, – что Бивер был свидетелем того, как 8 сентября британская армия взяла Большой Редан – место главного сражения во время осады». Более того, по возвращении в Англию он отправился в родной Уэльс, где прочитал несколько лекций о своей «экспедиции в самое пекло войны». Эти лекции Бивер иллюстрировал «диаграммами, музыкой в антрактах и коллекцией русских мушкетов, сабель и других военных реликвий». «Соблазнительно предположить, – заключает биограф, – что среди последних был обгоревший фолиант „Записок Пиквика“»8.
В конце 1850-х годов Холт Бивер уехал (вроде бы) в Индию, где стал свидетелем очередной кровавой бойни. Потом вернулся в Англию, откуда отправился в Америку. Какое-то время он жил в Нью-Йорке и вращался в высшем свете (современная исследовательница недавно высказала гипотезу, что он был неизвестным отцом знаменитой писательницы Эдит Уортон9). Потом уехал в Дакоту, где героически погиб в стычке с отважными индейцами в 1863 году. Смерть 33-летнего английского офицера была описана в журналах и стала предметом художественного изображения.
Едва ли стоит сомневаться в том, что обгоревший экземпляр русского перевода «Записок Пиквика» подарил библиотеке именно он, но вывез ли он эту книгу из Крыма, и вообще, как она попала ему в руки, – этого мы не знаем. Заметим, что впервые сообщение о даре Бивера Бодлианской библиотеке было зафиксировано через 13 лет после войны, в 1868 году.
Юмор и пушки
На протяжении нескольких десятилетий этот экспонат хранился в комнате «Древностей и образцов» («Curiosities and Models») библиотеки в компании со старинными китайскими свитками с изображениями берегов реки Цинг-Минг, коллекцией индийского оружия и маленькой статуэткой китайского божества из Пекина.
В 1871 году бостонский журналист Куртис Гилд рассказал об оксфордской коллекции в книге «За океаном. Виды и сцены из чужих земель»:
В альковах одной комнаты хранились сокровища древней литературы, написанные на санскрите, иврите, коптском и даже китайском и персидском языках… Здесь был Коран Типпу Саиба с его удивительными буквами и Книга Еноха, привезенная из Абиссинии Брюсом, исследователем Африки. Наконец мой любезный чичероне показал мне фолиант, странные буквы которого я сперва принял за арабские или коптские, но это была книга, найденная английским военным при взятии Севастополя в Третьем бастионе и оказавшаяся при ближайшем рассмотрении «Записками Пиквикского клуба» на русском языке…10
В 1881 году еще один американский журналист – Джон Р.-Г. Хассард открыл свою историю западной пиквикианы рассказом о книжке, обагренной русской кровью, которую посетителям Бодлианской библиотеки показывают как священную реликвию, и представил воображению читателей сцену чтения этой веселой книги русскими солдатами в самом аду войны: «Представьте себе воинов царя Николая, сидящих посреди царства смерти и смеющихся над Сэмом Веллером. Нет никаких сомнений, что они буквально зачитывались этой книгой, о чем говорят ее потрепанные страницы»11.
Американский проповедник Монкюр Д. Конвей (Moncure D. Conway) в статье, опубликованной 23 апреля 1885 года в «Pall Mall», приводил фрагмент из письма одной незнакомой дамы, которая сообщала, что,
[п]рочитав сегодня вечером своим детям строки, в которых Брет Гарт рассказывает, как у лагерного костра «поднялся один человек и вытащил из скудных запасов своего мешка заветную припрятанную книгу» [ «one arose, and from his pack’s scant trea-sure a hoarded volume drew»], я вспомнила, как несколько дней назад в Бодлианской библиотеке мы все были растроганы видом потрепанного и обугленного экземпляра «Записок Пиквика» на русском языке, подобранного каким-то английским военным на поле битвы в Крыму. Это навело меня на мысль о том, как многие русские воины забывали о трудностях и опасностях войны за чтением английского юмористического романа, чьи почерневшие страницы вскоре окажутся подобранными их английскими противниками; народы, связанные друг с другом узами умственных утех, оказались разорванными непонятно с какой целью!12
Здесь следует отметить, что «неизвестная дама» в приводимом письме ссылается на знаменитое стихотворение Френсиса Брет Гарта «Диккенс в лагере» (1870), написанное на смерть писателя. При свете костра калифорнийские золотоискатели читают историю малютки Нелл (героини «Лавки древностей»), смягчающую их грубые сердца:
- Один, просунув в тощий ранец руку,
- Достал заветный том,
- Рассказ послушать, карт забросив скуку,
- Все собрались кругом.
- И вот, лишь тени подобрались кромкой,
- Огонь чуть ослабел,
- Он Мастера читать стал книгу громко,
- Где «Маленькая Нелл»…
(пер. А. Лукьянова)
Только вместо сентиментальной истории «Мастера» в проповеди Конвея фигурирует его юмористический роман, который читают перед смертельной битвой русские воины.
Через десять лет после выхода книги Хассарда ирландский журналист и писатель Перси Фитцджеральд процитировал в своей «Истории Пиквика» («The History of Pickwick») слова предшественника и добавил к ним собственный комментарий:
Одно из самых трогательных свидетельств популярности этого романа, которое доставило бы автору несомненное удовольствие, – это история о том, как в Бодлианской библиотеке показывают посетителям фолиант, «найденный английским военным на руинах Третьего бастиона и оказавшийся при ближайшем рассмотрении „Записками Пиквикского клуба“ на русском языке». Эта выдающаяся книга равно привлекала к себе внимание топографов, библиографов, критиков, книготорговцев, комментаторов и художников. Действительно, можно без преувеличения сказать, что существует настоящая пиквикиана13.
Интерес к хранящейся в Бодлианской библиотеке реликвии достиг своего апогея в Первую мировую войну, неожиданно (или ожидаемо?) возродившую культ диккенсовского романа (так, в 1916 году в Нью-Йорке стал выходить литературный развлекательный и пацифистский по своему характеру журнал под символическим для старой меланхолико-терапевтической традиции названием «The Medical Pickwick»). В 1916 году английский журналист и бывший оксфордский библиотекарь Томас Плауман представил в статье, помещенной в «Living Age», образ безымянного русского читателя диккенсовского романа, погибшего от руки соотечественника автора последнего:
Есть в Бодлианской библиотеке экземпляр «Записок Пиквика» на русском языке, подаренный английским офицером, который нашел его в рюкзаке русского воина, погибшего при штурме англичанами Третьего бастиона во время Крымской войны. Трудно представить себе иностранца, способного полностью оценить комизм кокницизмов Сэма Веллера и глубоко английские особенности других персонажей Диккенса, но занимательный сюжет и юмористические эпизоды романа привлекают к себе внимание всех народов и свидетельствуют о космополитическом характере гения писателя. И все же как печально думать о бедном русском воине, который так ценил Дикенса, что взял его книгу с собой на войну и пал от руки соотечественника автора14.
В 1917 году версия истории о севастопольском экземпляре «Записок Пиквика» была опубликована в книге Вильяма Бойда Карпентера (William Boyd Carpenter) «Еще несколько страниц из моей жизни» («Further Pages of My Life») как пример культурного (литературного) братства народов даже во время самых трагических конфликтов. Кузен автора по имени Дункан Макнил (Duncan MacNeill) увидел во время захвата бастиона молодого английского офицера, который держал в руках какую-то книгу:
Командир потребовал, чтобы молодой человек отдал ему книгу. Тот повиновался. Командир быстро просмотрел страницы этого тома и, подняв глаза, сказал: «Не думаю, что многие из вас умеют читать по-русски, но перед нами весьма любопытная вещь. Эта книга, оставленная русскими воинами, не что иное, как русский перевод „Пиквикских записок“ Диккенса».
Таким образом, наши противники в Крымской войне в долгие часы блокады могли развлекать себя произведениями английского писателя, вероятно самого популярного в то время. Когда обмен литературой между народами может продолжаться даже во время войны, это хорошее предзнаменование. Братство писателей – это узы мира, и как прискорбно, что в последние годы Германия потратила столь много энергии на то, чтобы посеять семена раздора и вражды между народами. Такого жестокого раскола не было среди противников в эпоху Крымской войны15.
Показательно, что автор воспоминаний использует этот исторический пример восприятия «Пиквика» в качестве критики «антикультурной» Германии, между тем как в немецкой прессе этого времени похожий случай (обнаружение юмористического романа Диккенса в сумке пленного немецкого солдата) служил доказательством бескультурности англичан (оказалось, что английский полковник, взявший в плен немца, вообще не знал о существовании «Записок Пиквика»16).
Севастопольская реликвия вновь попадает в политическое поле зрения во время Второй мировой войны. Так, в ноябре 1941 года в рамках «Недели помощи России», объявленной мэром Оксфорда, экспонат севастопольского «Пиквика» был выставлен в здании библиотеки. В это время в центре университетского города был вывешен флаг с серпом и молотом, но советских гостей в Оксфорде было мало, и это свидетельство советско-британской дружбы былых противников осталось незамеченным17. Впрочем, своеобразным дипломатико-библиографическим ответом на оксфордскую экспозицию можно назвать выставку в отделе редкой книги Ленинской библиотеки в 1945 году, на которой английским гостям были продемонстрированы альбом русских пейзажей Аткинсона и переводы английской классики, включавшие первые русские издания «Ричарда III», «Гамлета» (принадлежавшие знаменитому русскому критику Виссариону Белинскому), а также экземпляр «Записок Пиквика», который читал В. И. Ленин18. Действительно, 20 августа 1921 года Управление делами Совнаркома обратилось к Румянцевскому музею с просьбой выдать для Ленина книгу Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба», которая, по словам советского библиографа, была «последней книгой, заказанной В. И. Лениным в библиотеке»…19
Обратим внимание на то, что севастопольская реликвия, подаренная Бодлианской библиотеке выпускником колледжа Иисуса, в разных исторических (выставочных) контекстах получала разные толкования: свидетельство общечеловеческого гения Диккенса; символ культуры, восстающей против жестокости войны; утопия литературного братства читателей всего мира; материальное доказательство русско-английских литературных связей, несмотря на политические конфликты; наконец (тема нынешней выставки) – пример библиотерапии.
Но что же на самом деле случилось с этой книгой? Как попала она к Холту Биверу? Знал ли о ней сам автор «Записок Пиквика»?
Диккенс доволен
Знал. В вышедшей в 1932 году в свет книге «Portrait of an Independent: Moorfield Storey: 1845–1929» приводится текст письма американского юриста Мурфилда Стори (Moorfield Storey) от 4 февраля 1868 года. В письме описывается обед, на котором присутствовали Чарльз Диккенc и военный министр в администрациях Линкольна и Джонсона Эдвин Стэнтон. Приведу относящийся к истории нашего фолианта фрагмент этого письма целиком:
Стентон был большим поклонником Диккенса и прекрасно знал его произведения. Поэтому он был очень рад его видеть и приветствовал его комплиментом, в котором признался, что всю войну держал «Пиквика» у изголовья своей кровати и никогда не ложился спать, не прочитав главы. Он сказал, что «Пиквик» был единственной книгой, которая могла помочь ему в часы уныния и усталости, неизменно меняя настроение к лучшему.
Г-н Диккенс в свою очередь рассказал, что у него было несколько экземпляров этой книги на русском языке, присланных ему из Крыма офицерами, нашедшими их в русском лагере. Некоторые из этих фолиантов были залиты кровью. Все это, несомненно, было ему очень приятно. Г‑н Диккенс оказался очень сердечным и приятным человеком – совершенно простым и естественным20.
Итак, к 1868 году Диккенсу было известно о нескольких обагренных кровью трофейных экземплярах русского «Пиквика», и этим «фактом» он откровенно гордился. Известен Диккенсу был и русский переводчик этого романа. Еще до войны он получил восторженное письмо от «a Russian man of letters» по имени Иринарх Иванович Вреденский («Irinarch Ivansvitch Wredenskii»), который сообщал ему о своих переводах «Домби и сына» и «Записок Пиквика», получивших известность во всей России21. Наконец, стоит подчеркнуть, что самое «успокоительное» чтение «Записок Пиквика» во время осады Севастополя документально зафиксировано – правда, не русским, а английским участником кампании. Джордж Рэнкен в своем военном дневнике сообщал, что тяжелой зимой 1854 года читал сослуживцам главы из «бессмертного» диккенсовского романа22 (в это же время «Домби и сын» читал – по другую сторону траншей – Лев Толстой). В свою очередь, вскоре после Крымской войны один из ее ветеранов и инвалидов – писатель Владимир Елагин вместе со своими друзьями-литераторами Михаилом Стопановским и Николаем Баллиным (последний был учеником переводчика Диккенса Введенского) основал в Екатеринославе негласное литературное общество с морально-политической направленностью, принявшее название «Пиквикского клуба»23 (вообще «пиквикские клубы» – с самыми разными идеологическими повестками – действовали и в других странах).
Между тем массовое чтение русскими воинами английского юмористического романа в траншеях Севастополя, о котором сообщал Диккенс, представляется мне, мягко говоря, некоторым преувеличением. Воображение писателя могло быть подогрето историей об окровавленном бодлианском фолианте, опубликованной в том же самом году в «Анналах» библиотеки. А еще вероятнее то, что бодлианская и диккенсовская версии легенды о севастопольском «Пиквике» восходят к одному и тому же источнику – вышедшему весной 1856 года «Дневнику похождений в составе британской армии от начала Крымской войны до взятия Севастополя» («Journal of Adventures with the British Army, from the Commencement of the War to the Taking of Sebastopol»), написанному Джорджем Тэйлором.
По словам автора «Дневника», во время битвы за город некий офицер высокого ранга рассказал ему о том, что английские военные, вернувшиеся в лагерь, должны были отдать свою добычу специально выставленным патрулям, и одному воину пришлось расстаться со своим драгоценным трофеем – «Записками Пиквика», переведенными на русский язык. «Бедный парень, – посетовал рассказчик, – он не смог обойти армейский пикет и вынужден был положить свой трофей в общую кучу». А затем неожиданно добавил: «Теперь он у меня!»24 Этот же анекдот, красноречиво свидетельствующий о мародерстве победителей, приводится и в литературном журнале «Critic» от 15 апреля 1856 года.
В следующем году история о севастопольском «Пиквике» была рассказана (и, по сути дела, канонизирована) в третьем томе книги «Сцены в военном лагере и на поле боя, очерки Крымской войны» («Scenes in camp and field, sketches of the war in the Crimea»; ее автором считается Ричард Вилбрэм [Richard Wilbraham]). Приведем этот фрагмент полностью:
Среди трофеев, попавших в руки полковнику Уитмору [Whitmore], была книга в красивом переплете с гербом Севастополя. Она, по всей вероятности, принадлежала гарнизонной библиотеке и была обнаружена в одном из блиндажей Большого Редана, где, скорее всего, какой-то офицер читал ее в относительной безопасности в ожидании нашего штурма. Похититель, очевидно, решил, что получил хороший приз, и как же велико было его негодование, когда ему приказали вернуть его вместе с другими трофеями. Некоторым из моих читателей, возможно, будет любопытно узнать, какую именно книгу читал русский офицер в столь критический момент. Это был русский перевод нашего старого друга «Пиквика»!25
Как видим, в первых печатных свидетельствах о севастопольской книге нет никаких ссылок на молодого капеллана Холта Бивера (что, разумеется, не исключает его гипотетическую вовлеченность в эту историю). Зато есть указание на то, что книга эта попала в руки полковника Уитмора (очевидно, подполковника Джорджа Стоддарта Уитмора [1829–1903] – участника сражений при Альме, Инкермане и осады Севастополя, адъютанта сэра Джорджа Броуза [George Brouse]26) из разрушенной городской военной библиотеки.
Так оно, по всей видимости, и было.
Библиотека
В 1822 году в Севастополе была учреждена Морская офицерская библиотека, содержавшаяся на суммы, жертвуемые служащими в Черноморском флоте. Здание библиотеки было построено в 1843 году и тогда же сгорело. В 1849 году библиотека «получила снова приличное помещение», и к началу 1850-х годов ее фонд включал около 14 000 томов. Прекрасное здание библиотеки было обращено фасадом к морю и имело форму креста. В библиотеку вела мраморная лестница, по обе стороны которой стояли сделанные из каррарского мрамора сфинксы.
Во время обороны Севастополя библиотека «сделалась центром, вокруг которого сгруппировалась» жизнь защитников города. «Разделить ли радость или горе, – писали севастопольские офицеры, – сообщить ли полученную новость, свидеться ли с товарищем – путь всегда лежал к Библиотеке»27.
Приведу два свидетельства современников, которые, как мне кажется, служат яркими примерами коллективной библиотерапии во время войны.
Николай Берг вспоминал о проведенных в газетной комнате Морской библиотеки часах:
Как хорошо и приятно было усесться в этой комнатке и читать, несмотря на то что вокруг библиотеки летали бомбы и ядра и нередко лопались под окнами в саду; несмотря на то что нестерпимый треск и гул раскатывались кругом (в особенности если стреляли на 3-м бастионе) – и стекла дребезжали, а иногда и вовсе трескались и падали, звеня, на пол. Под конец не было ни одного живого окна во всей библиотеке, а инде были высажены бомбами целые рамы. Скорее этот гром и опасность придавали еще большую прелесть заветному уголку. Всеми думами несся в гостеприимную светлую комнату, к столу, покрытому печатными листами. О, как приятно было там! Мне кажется, там и умереть было бы легче. Две жизни чувствовал в себе, сидя в мягких креслах и читая какой-нибудь увлекающий листок, принесшийся бог весть с какой стороны: или из далекой и милой России, откуда смотрели на нас тысячи родных очей; или с берегов Франции и Англии, от наших европейских учителей… Сто раз спасибо, столько раз, сколько пролетало над нами бомб, – спасибо тем, кто приказывал отпирать двери библиотеки в это грозное время, кто думал о ней до конца!28
Второе свидетельство принадлежит еще одному участнику обороны города, артиллерийскому офицеру А. И. Ершову:
Одним из утешений моих в это довольно тяжелое время была севастопольская библиотека. В свободные часы, а их теперь выпадало довольно часто, хаживал я туда. Необыкновенно приятно, даже обаятельно казалось мне после разных невзгод осадного положения перенестись вдруг в прекрасную залу и, сидя там на покойном вольтеровском кресле, следить за своими и иностранными новостями в мире политики и искусства. Тот не знает всей цены подобному занятию, кто не бывал в положении севастопольцев29.
К середине 1855 года «всё изменилось»:
Постоянные посетители библиотеки на бастионах, и она сама, немая свидетельница всего происходящего вокруг нее, пострадала от неприятельских бомб. Бомба, прилетевшая из-за Малахова кургана, пробив крышу и потолок здания, упала на главный зал, разбила модель корабля «Двенадцать Апостолов», шкапы и двери и произвела пожар, который с трудом был потушен30.
Государь пожертвовал на восстановление библиотеки 25 000 рублей, но спасти здание так и не удалось. В конце лета было принято решение о вывозе книг из Морской библиотеки, и «огромный обоз» сухопутным путем и доставил эти книги в Николаев. Наконец, накануне вступления союзников в Севастополь российским командованием было принято решение сжечь главные городские объекты. Сигналом к их уничтожению стал поджог Морской библиотеки.
В посвященной осаде Севастополя части «Записок» Петра Коновича Менькова это событие описывается так:
Грустно и молча бродили меж войсками по площади князь Васильчиков и Меньков. Подошел к ним капитан Воробьев (Волынского пехотного полка), состоящий при князе Васильчикове.
– Приказание ваше исполнено, – сказал весело Воробьев, – от последней линии баррикад до библиотеки и оттуда к Морской улице пожар подготовлен, и ровно в двенадцать часов вся эта линия домов запылает!
– Есть ли костер под библиотекой? – спросил отрывисто князь Васильчиков.
– Библиотека запылает разом с другими домами; всё готово!
…Князь Васильчиков и Меньков направились в сторону баррикад…
Библиотека и вся линия домов была уже в пламени.
– Поторопились зажечь! – сказал равнодушно Воробьев.
– Не останавливайте пожара, – сказал князь Васильчиков. – Бог даст, обойдется без потерь – неприятель молчит! <…>
С рассветом главнокомандующий и штаб его оставили Севастополь31.
В книге Николая Дубровина «Трехсотсорокадевятидневная защита Севастополя» (1872) акцент ставится на патриотическо-терапевтическом воздействии пожара на удрученное эмоциональное состояние русских солдат:
При виде пожара грустные лица солдат на время прояснились: они видели, что врагу останется только груда камней и пепла. Чувство радости охватило всех, в войсках послышались говор, а порою и веселая шутка.32
Очевидно, что не все книги удалось вывезти из библиотеки в Николаев. «Вступив в Севастополь, – пишет советский историк, – интервенты варварски разграбили оставшиеся книги, увезли в Лондон и Париж даже мраморные ступени лестницы»33 (каррарские сфинксы были вывезены французами и выставлены на обозрение в саду Тюильри).
Вернемся теперь к книжке, представленной на выставке в Оксфорде. Из надписи на экземпляре, переданном Бодлианской библиотеке, следует, что русский перевод Диккенса попал в руки Холта Бивера 9 сентября 1855 года. Это был день победы союзников, окончания 349-дневной обороны города и – сожжения Морской библиотеки. Очень похоже, что именно в руинах последней какой-то английский военный и нашел этот экземпляр и передал его своему офицеру (не удивлюсь, если на страницах недоступного для меня экземпляра сохранился штамп Морской библиотеки – тот самый герб Севастополя, о котором упоминал в своих воспоминиях английский участник блокады). Трудно сказать, как этот феникс из пепла в итоге попал к Холту Биверу. Не был ли молодой капеллан тем самым начальником, который реквизировал трофеи? Приобрел ли он эту реликвию у упоминавшегося выше полковника Уитмора? Не была ли эта книжка одним из упоминавшихся Диккенсом окровавленных фолиантов, якобы вывезенных английскими военными из Крыма? Не «обработал» ли Холт Бивер приобретенный у какого-нибудь букиниста русский экземпляр соответствующим образом, чтобы вписать его в обнародованный ранее анекдот? Так или иначе, но, скорее всего, никакого убитого русского воина, боровшегося с меланхолией при помощи чтения веселого романа, не было. Пуля, следы крови, разорванный солдатский рюкзак – всё это, скорее всего, красочные детали легенды, постепенно сложившейся (в прямом смысле слова материализовавшейся) в английской литературе, причудливым образом включившей роман Диккенса в мифологию военных реликвий.
В самом деле, история севастопольского экземпляра хорошо вписывается в традицию музейного собирания «меченных» кровью знамен, кителей и книг – секулярную традицию, восходящую к культу религиозных святынь. Действительно, история библиореликвий знает многочисленные примеры простреленных и окровавленных Библий, молитвенников и псалмов. В Ташкенте хранится знаменитый список Корана со следами крови халифа Усмана (считается, что халиф был убит именно во время чтения этой книги). В ереванском Матенадаране находятся книги, «обагренные кровью воинов и опаленные огнем пожарищ во времена нашествий иноземных завоевателей, но спасенные теми, кто остался жив34». В начале XIX века Вальтер Скотт считал самой драгоценной реликвией, попавшей к нему после битвы при Ватерлоо, обагренный кровью французского солдата том военных песен («Letters»35). Хорошо известны такие библиофильские реликвии в советскую эпоху – например, книга Лиона Фейхтвангера, принадлежавшая погибшему в марте 1942 года Герою Советского Союза краснофлотцу И. Г. Голубцу, первый (лицейский) том полного собрания сочинений Пушкина, простреленный осколком фашистского снаряда и спасенный секретарем дивизионной газеты лейтенантом Д. Онегиным (sic!) в декабре 1943 года, а также книга Николая Островского «Как закалялась сталь», «обагренная кровью Героя Советского Союза старшины Куропятникова, переданная в Музей флота». Наконец, как минимум две такие «опаленные войною» (на этот раз Великою Отечественною) книжные реликвии («Под Щитом Севастополя» А. Лавинцева и «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского) хранятся в современной севастопольской Морской библиотеке36.
Между тем «пиквикский случай» представляется мне особым, если не уникальным: он остраняет религиозный или национально-патриотический материальный культ простреленной (обожженной и окровавленной) книги, обеспечивая «севастопольскому экземпляру» столь долгую и яркую историю бытования. Частная смеховая культура, «английский юмор», гуманная словесность XIX века, объединяющая читателей в международное литературное братство, в легенде о трофейном томе диккенсовского романа противостоят ужасу войны, идеологическому фанатизму и разобщению людей37. В то же время эта легенда символически подчеркивает исторический трагизм этого противостояния: безымянный читатель веселой книжки гибнет, размывая типографскую краску фолианта собственной кровью. Сам же фолиант находит себе место на полке в далекой библиотеке – надгробный памятник смеющемуся солдату в печальном мемориале книжных реликвий.
Всё так, но, как мы видели, за этой красивой романтической легендой стоит весьма неприглядная реальная история. Символическая реликвия оказывается украденным из библиотеки поверженного города трофеем, которому сразу по счастливом для союзников окончании войны создается соответствующий провенанс, совмещающий некоторое сочувствие к падшему противнику с национальной гордостью победителей, мистификаторским лукавством джентльмена удачи и антикварным восторгом хранителя вывезенных в «истинную метрополию» культурных ценностей, выставляемых на обозрение досужего обывателя. Скучно жить на этом свете господам.
Колледж
Но «Away with melancholy, as the little boy said when his school-missis died. Welcome to the College, gen’l’m’n» («„Долой миланколию!“, как сказал малыш, когда померла его училка. Добро пожаловать в колледж, джентльмены!»)38
«Welcome to the College!» – повторю я с русским, а не кокнийским акцентом в финале этого филологического эссе, навеянного библиотерапевтической темой оксфордской выставки, посвященной «Анатомии меланхолии» Бертона. Видите, какой бульон, какая каша-малаша с Малаховым курганом получилась у меня в результате этого спонтанно-энтузиастического расследования? Здесь вам и книги, и кровь, и уныние, и гражданские и мировые войны XIX и XX веков, и Оксфорд с серпом и молотом, и сожженная, подобно несчастной Александрийской, севастопольская Морская библиотека с итальянскими сфинксами, и китайские фигурки, и индийское оружие, и Диккенс с английскими мародерами, и артиллерист Толстой с «Домби и сыном», и калифорнийский золотодобытчик, плачущий над судьбой маленькой Нелли, и убитый индейцами сиу валлийский выпускник колледжа Иисуса, возможно зачавший американскую писательницу и лауреата Пулитцеровской премии, и вождь большевиков на закате своей жизни, и героический старшина Куропятников…
И к чему все это кричащее живое многообразие, любезные члены нашего профессионального клуба? А к тому, что оно, как мне кажется, выражает в своем калейдоскопическом самодвижении современную притчу об эмоциональном назначении (стимуле, как сказал бы Б. М. Эйхенбаум) нашей работы. Есть, наверное, иная, и если и не высшая, то наша до мозга костей форма отрефлектированного Бертоном библиографического лечения от меланхолии – стремление в наш печальный век разлетевшихся во все стороны губительных трихинов, лопающихся от столкновения с идеологическими молотками хрустальных сердец и «сзумившегося» до окошка компьютера мироздания углубиться, уйти с головой в странные – потрепанные, обожженные, простреленные, окрашенные кровью, клюквенным соком или просто писательским и читательским потом – книжки, преломившие во всем своем веселом великолепии и несводимой к общему знаменателю сложности курьезные и поучительные истории человеческого бытия, – истории, освещающие наше (и, хочется надеяться, ваше) одинокое существование. Но только не называйте это башней из слоновой кости и эскапизмом. В башне сидят напыщенные снобы (эскаписты – большей частью унылые слизни, не вылезающие из своих щелей и с тупым видом лузгающие, как семечки, чужие сны-сериалы). Мы же – не побоюсь этого хорошего слова – прекраснодушные интеллектуальные туристы и путешественники, движущиеся, подобно членам Пиквикского клуба, «в состоянии неутомимой усидчивости» и с легкостью необыкновенной к новым далям и смыслам и расширяющие во имя (пускай и воображаемого) научного прогресса «круг своих наблюдений», занося «свои умозрительные и практические исследования в обширнейшую область человеческого ведения»39. Надо только идти по следу – и чем дальше в лес, тем больше… слов.
«Веселая у нас наука!» [ «Die fröhliche Wissenschaft!»], как заметил один сумасшедший филолог, наглотавшись хлорала и веронала от бессонницы быстро-(и глупо-)текущей жизни.
Урок анатомии: Как царь Петр своих подданных от брезгливости не отучил[2]
Я никогда не считал, что важно узнать правду о прошлом. Напротив, важнее установить то, что реально, а не то, что верно.
Хейден Уайт. Цель интерпретации1
Несколько лет тому назад я имел удовольствие послушать лекцию профессора А. К. Жолковского, посвященную известной истории о параноидальной реакции Сталина на триумфальное выступление Анны Ахматовой в 1946 году. Согласно Александру Константиновичу, слова вождя народов «Кто организовал вставание?», ставшие «ярким мемом», являются апокрифом, сочиненным самой Анной Андреевной «по мотивам» одной из сцен шекспировского «Макбета». Версия Жолковского показалась мне парадоксальной и стимулирующей. Вообще анекдоты о словах и поступках тиранов – жанр древний и крайне интересный для исследователя. Имеют ли эти анекдоты фактическую основу? (Понятно, что в абсолютном большинстве случаев это определить невозможно, да и не нужно, – но все-таки хочется.) Из какого материала, в каком идеологическом, политическом или эстетическом контексте эти истории кристаллизуются? Кем они создаются (если создаются) и как и почему распространяются-возвращаются? Как они интерпретируются разными авторами? О чем говорят в разные исторические периоды и почему им так часто доверяют не только «поэты», занимающиеся, по Аристотелю, тем, что «могло бы случиться», но и «историки», опирающиеся на то, «что было на самом деле»? Предлагаемая работа представляет собой попытку такого рода исследования.
Сразу признаемся читателю, что заинтересовавший нас случай «довольно не чист, но рисует обычаи Петра»2.
Fake Fact?
Есть очень известный исторический анекдот о царе Петре, который посетил в Лейдене анатомический кабинет знаменитого доктора Германа Боергава (Boerhaave, 1668–1738) и, прослушав его лекцию, заставил свою брезгливую и суеверную свиту разгрызать зубами сухожилия трупа в качестве просветительского урока. Я этот ультранатуралистический (некрофилический) анекдот часто студентам привожу в пример цивилизаторских усилий царя (насильственная секуляризация традиционных для московской теократии представлений о человеческом теле и лютая борьба с любой – даже физиологически мотивированной – оппозицией), но недавно задумался о его исторической достоверности и происхождении. Перед тем как подойти к решению этой проблемы, я задумал устроить маленький социологический опрос и обратился к своим коллегам – известным историкам и литературоведам, российским и американским, – с наивным (с научной точки зрения) вопросом: кажется ли вам этот жутковатый рассказ исторически достоверным или вымышленным? Приведу ниже ответы моих уважаемых респондентов:
1. «Безусловно! Так и было. Петр был не просто дик и жесток, но любил еще и экспериментировать над своими подданными и унижать их. Вспомните у Корба: почувствовал боярин Головин врожденное отвращение к салату и уксусу, так Петр его повелел схватить и собственноручно стал наполнять ему ноздри и рот салатом и уксусом до тех пор, пока несчастный не закашлялся так, что у него пошла кровь из носа».
2. «Инстинктивно не верю, но это, может быть, потому, что я продукт последовавшего уже после „просвещения“. Конечно, у этого мифа две стороны: просвещенность и дикость, меня всегда больше привлекала просвещенность».
3. «Я думаю, что он вполне мог это сделать. Он был престранным и премерзким типом („[h]e was a weird, gross guy“). Но в конце концов факт и легенда так тесно переплетаются в этой фигуре, что просто невозможно их полностью отделить друг от друга».
4. «Остаюсь в сомнении относительно этой истории, но склоняюсь к тому, что это выдумка, так как действие происходит за границей, где Петр должен был проявить больше выдержки и не наказывать бояр столь диким, даже с его точки зрения, образом. С другой стороны, меня можно убедить в обратном, если существуют надежные фактические доказательства».
5. «Не могу судить о том, было ли это или нет. Сама история полностью вписывается в мой образ Петра, но этот образ сам по себе является культурным конструктом. Интересно услышать, что об этом думают ваши коллеги!»
6. «Я нахожу эту историю вполне правдоподобной. В немалой степени потому, что время было такое: позитивизм и наука, a la Кунсткамера, и статья Слезкина о Петровской эпохе».
7. «Да, я слышала эту оборотническо-вампирическую историю в пелевинском духе („this werewolfish-vampiric Pelevin-like tale“). Обычно ее представляют как «слух», но лично я не верю в то, что такое действительно было. Ужас и величие („Terror and Greatness“) – да, и всем этим русским тиранам, как и шекспировским королям, свойственно стремление утвердить себя с помощью травматизации собственных подданных. Можно допустить, что этот отвратительный материалистический царистский представитель русского Просвещения действительно придумал такое наказание, но подобный эксперимент мог бы отравить его бояр. Все-таки более вероятно то, что перед нами эпизод, отражающий кошмарный сон о Петре его подданных. Но у меня нет доказательств…»
8. «Я полагаю, что это правда… Петр, как известно, и зубы рвал у своих придворных… Еще один пример стремления Петра к тому, чтобы шокировать людей старых, „суеверных“, взглядов».
Мнения респондентов разделились на две почти равные группы, причем, хочу заметить, вне зависимости от того, является ли отвечающий литературоведом или историком: да, потому что такой поступок вполне в характере Петра (любопытство, дикость, презрение к подданным, ненависть к суевериям, садизм) и в духе его преобразований и времени; нет, потому что детали этого рассказа представляются весьма сомнительными (иностранцы бы не позволили, спутники отравились бы после такого эксперимента, да и вообще такое изуверство неслыханно даже для этого далеко не доброго монарха) или подозрительно литературными (ассоциация с шекспировскими тиранами). Ответы коллег не только выявляют риторическую природу этой истории, но и «драматизируют» ее прочтение исследователем. Перед нами оказывается фантастический (в значении, которое приписывал этому термину Цветан Тодоров) рассказ: мы колеблемся между признанием его реальности или сказочности. Такое сомнение, как мне кажется, придает этому рассказу не только герменевтическую, но и эстетическую привлекательность. Как заметил один из моих респондентов, «эпизод, отражающий кошмарный сон о Петре его подданных».
Между тем вопрос о фактической достоверности этой исторической фантазии в принципе решаем. В конце концов, в отличие от бечисленных анекдотов о тиранах далекого прошлого, герой этого рассказа жил в исторически документируемое время. Если что-то было, то какие-то следы должны остаться.
История анекдота
История этой истории в русском и западноевропейском контексте представляется мне крайне любопытной и поучительной.
Анатомический театр в Лейдене
В 1862 году этот анекдот, со ссылкой на неназванный источник («известие»), привел в своей книге «Наука и литература в России при Петре Великом» П. П. Пекарский:
Бывши в Лейдене, Петр не преминул посетить другую медицинскую знаменитость того времени, доктора Бэргавена (sic! – И. В.), и осматривал также анатомический театр. Сохранилось известие, что там царь долго оставался перед трупом, у которого мускулы были раскрыты для насыщения их терпентином. Петр, заметив притом отвращение в некоторых из своих спутников, заставлял их разрывать мускулы трупа зубами3.
Историю подхватил и «препарировал», в соответствии со своими убеждениями, Дмитрий Писарев в рецензии на книгу Пекарского, озаглавленной «Бедная русская мысль» и опубликованной в «Русском слове»4. Потом ее включил в свои лекции и «Историю» Сергей Соловьев (со ссылкой на Пекарского)5. Затем ее популяризировал Василий Ключевский, поместив в свой образцовый «исторический портрет» Петра6. Неудивительно, что этот колоритный анекдот привлек к себе внимание авторов исторических романов и повестей – Даниила Мордовцева («Похороны», 1885), Дмитрия Мережковского («Петр и Алексей», 1903), Александра Аросева («Записки Терентия Забитого», 1922), Алексея Толстого («Петр Первый», 1929–1943) и Даниила Гранина («Вечера с Петром Великим», 1996). Эту историю (со ссылкой на только что вышедший том Соловьева) упоминал в материалах к задуманному роману о Петре Лев Толстой7. Она часто включается в работы о Петровской эпохе современных российских и западных ученых. В наше время эта история добралась до газет и популярных журналов (в одной из публикаций Петр сам зубами труп рвал, в другой – «криками и пиками» заставлял приближенных рвать жилы у трупа зубами).
Воспринятая как факт петровской биографии, эта история стала объектом культурно-семиотического осмысления. Виктор Живов интерпретирует жестокий петровский приказ как своеобразную инициацию, через которую царь решил провести своих суеверных и непокорных спутников «для осознания ими необходимости усвоить европейские установления, нравятся они им или не нравятся»:
Петр требовал от своих подданных преодолеть себя, демонстративно отступиться от обычаев отцов и дедов и принять европейские установления как обряды новой веры: понятно, что преодоление страха и отвращения были естественными компонентами ритуала инициации и анатомический театр прекрасно подходил для этой роли8.
Страстный интерес Петра к анатомии и вивисекции хорошо известен9. Молодой царь восхищался удивительными экспонатами анатомического кабинета знаменитого Рюйша, слушал его лекции, присутствовал при операциях и пытался оперировать сам, очевидно считая анатомирование (как и стоматологию) царским делом: прежде чем излечить государство путем изъятия больных органов, нужно понять, из чего вообще сделаны его подданные. Вообще к вивисекции и спиртованию Петр относился как к искусству, вызывавшему сильное эстетическое переживание (так, сохранилось известие, что однажды он увидел у Рюйша «превосходно препарированный труп ребенка, который улыбался как живой, не утерпел и поцеловал его»10). Много лет спустя Петр приобрел уникальную анатомическую коллекцию Рюйша для своей Кунсткамеры.
Согласно поденному «юрналу» Великого посольства, лейденский анатомический театр Петр посетил по возвращении из Англии ранним утром 28 апреля (8 мая) 1698 года11 и вечером того же дня (или на следующий день) устроил грандиозное пиршество по случаю Святой недели (замечательная рифма с сеансом расчленения кадавра!), в котором участвовали те же самые волонтеры12. Но заставлял ли Петр Алексеевич в тот знаменательный день своих спутников-волонтеров (их было 16 человек)13 грызть труп? Еще «строгий реалист» Писарев – человек эпохи Пирогова и Сеченова – удивлялся тому, что петровская свита не потравилась «от прикосновения гнилых соков к нежным тканям рта» и не перемерла взамен полезного урока. Похоже, что сомневался в достоверности этой истории и библиограф А. С. Лацинский, пересказавший ее в статье о пребывании Петра в Голландии и Заандаме: «…заметив у некоторых из русских, сопровождавших его, брезгливость к представившейся им отталкивающей картине трупа со вскрытыми мускулами, Царь заставил их подойти ближе к трупу и перекусить зубами (??) несколько мускулов»14. Современные исследователи Д. Ю. и И. Д. Гузевичи считают, что часто встречающееся в научной литературе описание анатомических занятий, которые Петр якобы брал у Бургаве, «слишком смахивает на позднейший анекдот (скорее всего, речь идет о разовом посещении театра)»15.
Далее я постараюсь доказать, что рассматриваемая история, кажущаяся многим специалистам достоверной или хотя бы вероятной (А. К. Жолковский бы сказал, что от нее исходит «аромат подлинности»), представляет собой несомненную фальшивку (от чего этот анекдот не становится менее интересным для исследователя), и установить, кто и зачем пустил ее в ход и какую роль играет она в петровском мифе.
Дальше – тишина
Кто же сочинил или «организовал», говоря словами другого тирана, этот кажущийся вероятным исторический анекдот? Очевидно, что не Петр Петрович Пекарский. Несколько лет тому назад К. А. Богданов указал на то, что схожую с рассказанной Пекарским историю можно найти в брошюре голландца Яна Меермана (Johan Meerman), вышедшей по-французски и частично переведенной и проанализированной в книге М. А. Веневитинова «Русские в Голландии: Великое посольство 1797–1698 годов» (1897)16. Брошюра Меермана – активного сторонника Наполеона, графа Империи и сенатора – была напечатана в Париже 1812 году17. Меерман отмечает, что Петр, заставив своих спутников разгрызать сухожилия трупа, посоветовал им никогда не подходить с предубеждением к тому, чего они не знают («et leur conseilla de tâcher toujours de se rendre familiers avec les choses pour lesquelles ils pourroient avoir mal-à-propos de la répugnance»18). Заметим, что автор брошюры не указал на источник своей информации о посещении Петром анатомического кабинета Боергава. В 1814 году рассказ о петровском уроке анатомии привел, со ссылкой на Меермана, его соотечественник – историк Якоб Штельтема в своих анекдотах о путешествии Петра Великого в Голландию и Заандам, вышедших по-голландски и во французском переводе19.
Но и Меерман не был создателем этого анекдота. Более того, по всей видимости, он позаимствовал его не из отчественных голландских источников и преданий, а из французских исторических сочинений. Рассказ о лейденском уроке царя приводится во втором издании «Histoire de Russie et des Principales Nations» (1800) Шарля Левека (еще одно издание этого труда, содержащее интересующий нас анекдот, вышло в 1812 году). Приводится он Левеком как пример «férocité» русских и их отца нации20. В сноске, сопровождающей этот анекдот, говорится, что он восходит к историку Н.-Г. Леклерку, ссылавшемуся на Якоба фон Штелина (Staelin), который, в свою очередь, услышал эту историю от племянника знаменитого доктора Боергава21.
В самом деле, в третьем томе «Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne» Леклерка (1784) приведен рассказ об утреннем посещении Петром анатомического кабинета Боергава в Лейдене и уроке, данном царем его свите. Следует заметить, что этот анекдот был включен Леклерком в раздел историй о «слабостях» российского монарха, оттеняющих его высокие достоинства. Источником своей информации Леклерк (врач по профессии, состоявший одно время лейб-медиком вел. кн. Павла Петровича) действительно называет племянника Боергава, лейб-медика императрицы Елизаветы Германа Каау-Бургава (Боергава; 1705–1753). Стоит также заметить, что в своем пересказе этой истории Леклерк отмечает своеобразное чувство юмора Петра и указывает, что покусанный его челядью скелет до сих пор хранится (с отметками боярских зубов!) в лейденской анатомической коллекции22. Замечательно, однако, что этого анекдота нет в числе рассказов о Петре, опубликованных Я. Штелином (1788) со слов его информантов, среди которых был и Каау-Бургав (можно, конечно, допустить, что он находится в неопубликованных материалах Штелина, некогда переданных в библиотеку Санкт-Петербургской медико-хирургической академии23).
Где жало твое?
Мы, кажется, достигли предела документируемости лейденского анекдота – устный рассказ, приписываемый русскому врачу и племяннику знаменитого голландского доктора, родившемуся через семь лет после петровского визита в анатомический театр Лейдена и умершему за 21 год до публикации «Истории» медика Леклерка.
Культурный факт
Я полагаю, что якобы восходящая к устному рассказу Каау-Бургава24 история о петровской попытке «приучить русских к поучительным наблюдениям» (Грот) является очевидным апокрифом, созданным во Франции и адресованным западному читателю: курьезный эпизод, оттеняющий величие царя-просветителя. «Цивилизационный конфликт», представленный в этой истории, усиливается за счет того, что ее действие происходит не в дикой Московии, но в европейской цитадели медицинской науки XVII столетия. Это западный взгляд на Петра: в каком-то смысле он сам (вместе со своими спутниками) становится поразительным человеческим экспонатом, наблюдаемым в чаше лейденского театра западной публикой. Иначе говоря, перед нами воображаемая картина, выражающая европейское представление о русском цивилизаторе. Никаких документальных подтверждений реальности этой истории нет (если не считать кадавра, обглоданного петровской свитой, но мне лично в его существование верится с трудом25). Ни сам знаменитый доктор Боергаве, ни кто-либо из спутников и современников царя не упоминают об этом событии. Возможно, что в основе этой легенды были какие-то исторические впечатления, относящиеся к «свирепому» московскому, а не «культурному» голландскому периоду деятельности царя (так, если верить И. Г. Корбу, в начале 1699 года Петр Алексеевич повелел боярам присутствовать при анатомических упражнениях у врача Цопота, «хотя они им и [были] противны»)26.
Между тем этот вымышленный или синтезированный из разных эпизодов рассказ стал своеобразным историко-культурным фактом. Примечательно, что наибольшее распространение на Западе он получил в наполеоновский период: иллюстрация дикой жестокости русского тирана и рабской покорности его подданных. Можно заметить, что он соответствовал «каннибалистскому» образу свирепых русских, занимавшему особое место в наполеоновской пропаганде, особенно в последний период Империи. Рискну предположить, что этот анекдот ассоциировался в эту эпоху с хорошо известными рассказами Геродота и Гая Юлия Солина о скифах-антропофагах, имевших обычай на похоронах разгрызать зубами трупы родственников. Новые скифы, с их свирепым отцом нации, оказывались ничуть не лучше своих предков.
В России этот анекдот получил известность гораздо позже, в пореформенные 1860-е годы, благодаря блестящей рецензии Дмитрия Писарева на труд Пекарского, заимствовавшего эту историю из французских источников. Именно Писарев превратил лейденскую легенду, хорошо вписывавшуюся в «паталогоанатомический» дискурс эпохи русского реализма27, в один из ярких символов петровского просветительства, оторванного от реальных нужд народа и абсолютно неэффективного:
Вот, видите ли, великому человеку любопытно смотреть на обнаженные мускулы трупа, а простым смертным этот вид кажется неприятным: надо же проучить простых смертных, имеющих дерзость находить не по вкусу то, что нравится великому человеку, великий человек и заставляет их зубами разрывать мускулы трупа; должно сознаться, что это средство побеждать неразумное отвращение настолько же изящно, насколько оно действительно. Наверное, спутники Петра, испытавшие на себе это отеческое вразумление, после этого случая входили в анатомические театры без малейшего отвращения и смотрели на трупы с чувством живой любознательности. Если бы даже случилось, что некоторые из них заразились от прикосновения гнилых соков к нежным тканям рта, то и беда небольшая, – тем действительнее будет урок, данный остальным присутствующим: они, наверное, поймут, что простому смертному нельзя иметь собственнаго вкуса, что главная и единственная обязанность простого смертного – смотреть в глаза великому человеку, отражать на своей физиономии его настроение и с подобострастием любоваться теми предметами, которые обратили на себя его благосклонное внимание28.
«Кому были нужны эти преобразования? – риторически вопрошал Писарев. – Кто к ним стремился? Чьи страдания облегчились ими? Чье благосостояние увеличилось путем этих преобразований?»29 Совершенно очевидно, что «рельефный» анекдот о Петре в анатомическом театре Писарев использовал не только для развенчания культа этого преобразователя (и вообще романтического культа великой личности), но и для критики современных ему реформ сверху. Знаменательно, что рецензия Писарева на книгу Пекарского о Петре-реформаторе была напечатана в «Русском слове» после статьи критика о другом апологете реальных знаний и вивисекции, тургеневском Базарове, – враче, физиологе и нигилисте, скончавшемся «от небольшого пореза, сделанного во время рассечения трупа» (роман «Отцы и дети» вышел в том же 1862 году)30. Героический образ Базарова также находится в центре программной статьи Писарева «Реалисты», написанной в Петропавловской крепости в 1864 году. Тургеневский персонаж-разночинец не только интерпретируется Писаревым как один из первых представителей нового поколения русских реалистов, все содержание жизни которых «пока исчерпывается тремя словами: „любовь, знание и труд“», но и как скрытая антитеза безумному деспотическому «великому человеку», не сумевшему излечить свой народ от невежества и заложить основы истинного просвещения31.
С легкой руки Писарева история о петровском уроке анатомии становится объектом многочисленных психологических, исторических, мистических и культурологических спекуляций. А. Я. Грот увидел в ней несомненное свидетельство «тесного сочетания несовместных по-видимому, но явных и поразительных противоречий» первого русского императора32. Д. Л. Мордовцев, вложивший в своем историческом повествовании рассказ о принудительном разгрызании трупа в уста противницы Петра царевны Софьи («Указал своим молодцам мертвечину жрать – мертвых людей есть… От пьянства человек взбесился»), подчеркнул в соответствующей сноске, что «так россияне того милого времени понимали занятия царя анатомию» и саркастически заметил об изуверском приказе молодого цивилизатора: «Хорош прием»33. Казимир Валишевский в своей беллетризированной истории Петра Великого (1897) привел лейденский анекдот в качестве иллюстрации граничащих с безумием причуд императора34. А. С. Лацинский увидел в нем проявление «той в высшей степени странной» черты характера Петра, «которая заставляла его, – там, где он замечал у кого-либо из своих спутников какое-либо отвращение или брезгливость к чему бы то ни было, – требовать, чтобы тот пересилил в себе это чувство»35. Инфернальное (мистическое) истолкование этой истории было предложено в романе Мережковского «Петр и Алексей» («Антихрист»)36.
В свою очередь, «пропетровская» интерпретация этого анекдота (в такой стране только так и можно было бороться за просвещение) также восходит к началу 1860-х годов. В 1863 году выходит XIV том «Истории» Соловьева, содержащий эту историю как одну из иллюстраций досадного непонимания замысла Петра людьми, «которые уперлись против естественного и необходимого движения России на новый путь», и теми, кто «признавали несостоятельность старины, необходимость преобразований, но которые не могли понять, что преобразования должны совершаться именно тем путем, по которому шел молодой царь»37. В конце XIX века история о полезном уроке, преподнесенном царем-преобразователем своим темным боярам, приобретает хрестоматийный характер и даже входит в круг детского чтения. Так, проф. Ив. Ив. Иванов в брошюре «Как царь Петр стал преобразователем России» (издание журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок», 1904) превратил этот краткий анекдот в целую психологическую картину с характерным сочувственным комментарием:
Петру пришлось быть в анатомическом собрании другого ученого. Здесь не было ничего приятного и красивого, – только очень хорошо были приготовлены разныя части человеческого тела. Царь долго стоял над трупом, смотрел на мускулы, политые скипидаром. Далеко не всем спутникам царя нравилась эта картина. Некоторые не могли смотреть на нее без отвращения. Петр это заметил, – и что же он сделал? Ему, должно быть, тотчас же представилась старая Москва, зараженная невежеством и всевозможными предрассудками, – та самая Москва, где и верили в колдунов, и жгли их, и собирали разныя волшебныя вещи и обматывали простаков. И Петр немедленно на месте решил наказать москвичей за брезгливость, а может быть – и за темный предрассудок. Он приказал каждому из своих спутников зубами оторвать по мускулу от трупа – и прибавил еще поучение: пусть они постараются привыкнуть к таким вещам, какие они считают противными вовсе некстати. Уже по этому случаю можно было судить, как Петру придется переделывать своих подданных, прививать к русской земле то, чему он научился за границей38.
В наиболее радикальном (одиозном) виде пропетровское истолкование царского урока анатомии представлено в словах идеального чекиста Клейнера из романа раннесоветского писателя А. Я. Аросева, перенесшего действие истории из Лейдена в Швецию. Этот чекист-рационализатор предлагает показывать сцены казни в кинематографе «для всех», «чтобы всем урок был, чтобы боялись». Сомневающемуся в эффективности этого метода рассказчику он отвечает: «Вы с предрассудками. Петр I завез русских студентов в Стокгольм и велел им в анатомическом театре у трупов мускулы зубами раздирать, чтобы научились препарировать. Это небось не развратило. Что необходимо, то не развращает. Поймите это. Что необходимо, то не развращает».39
Менее радикально-восторженное, но явно сочувственное отношение к петровскому поступку находим у А. Н. Толстого, включившего этот анатомический рассказ в дневник «любознательного голландца» Якова Номена: еще одно проявление экстраординарной личности молодого русского царя (заметим, что в настоящем дневнике Номена этой истории нет)40. Наконец, рассказчик из «Вечеров с Петром Великим» Даниила Гранина объясняет чудовищный приказ царя его деспотической любознательностью41.
Культурный фантазм
Подведем итоги. Как предположил один из моих респондентов, история о Петре в лейденском анатомическом театре действительно является культурным конструктом или, точнее сказать, культурной метафорой. Современные исследователи, опирающиеся на этот анекдот как исторический факт, вводят читателя в заблуждение. Петр, конечно, был крайне жесток в осуществлении своих цивилизаторских планов (или просто садистских наклонностей42), во всем видел оппозицию и протест и не терпел суеверий и брезгливости (хотя сам, если верить Якобу фон Штелину, боялся тараканов). Но едва ли ему пришло бы в голову приказать своим спутникам откусывать от трупа по мускулу даже в качестве полезного урока, причем в присутствии светила европейского просвещения, доктора Германа Боергава.
Я вовсе не хочу сказать, что перед нами обычный апокриф, преломляющий представления о царе Петре и его времени. Этот анекдот кажется мне гораздо более глубоким и значительным, мифологическим в своей основе (древнейшие представления о связи абсолютной власти с антропофагией43). С жанровой точки зрения рассказ о Петре в анатомическом театре, сложившийся, как мы видели, в конце XVIII века и ставший достоянием западной публики в Наполеоновскую эпоху и русской публики в эпоху болезненных социальных реформ и расцвета естественных наук (прежде всего физиологии), лежит на пересечении двух архаических фольклорных традиций. Назовем эти традиции «медицинско-просветительской» и «пыточно-тиранической». Так, с одной стороны, рассматриваемая нами история вписывается в многовековую традицию «патолого-анатомических» анекдотов, часто связывавшихся с именами знаменитых лекарей (заметим, что мотив отвращения от мертвого тела, которое должен преодолеть будущий врач, нередко встречается в подобных рассказах44). Истоки истории о петровском сеансе в анатомическом театре, по всей видимости, следует искать среди анекдотов о великом учителе всех докторов Европы Германе Боергаве (как мы помним, именно его племянника французский историк указывал в качестве информанта). С другой стороны, этот петровский апокриф вписывается в традицию средневековых экземпл об остроумном тиране-злодее, «веселящемся чудовище, испытывающем [и пытающем. – И. В.] свои жертвы»45. Если приводить конкретный прообраз (разумеется, типологический, а не непосредственный), то это будет хорошо известный в Европе сюжет о «зломудром» румынском господаре Дракуле, отучившем (подобно Петру, – правда, еще более радикальным образом) своего подданного от брезгливости (очевидно, последняя интерпретируется тираном как своего рода физиологический протест против его действий):
Как-то обедал Дракула среди трупов, посаженных на кол, много их было вокруг стола его. Он же ел среди них и в том находил удовольствие. Но слуга его, подававший ему яства, не мог терпеть трупного смрада и заткнул нос и отвернулся. «Что ты делаешь?» – спросил его Дракула. Тот отвечал: «Государь, не могу вынести этого смрада». Дракула тотчас же велел посадить его на кол, говоря: «Там ты будешь сидеть высоко, и смраду до тебя будет далеко!»46
Патолого-анатомическое (патологическое) остроумие деспота, отмеченное создателем (как я полагаю) лейденской легенды медиком Леклерком, со временем было отброшено историками и писателями, воспринявшими этот рассказ как реальную сцену из жизни Петра и наполнившими его идеологическими смыслами в соответствии со своими задачами и убеждениями.
Один из моих уважаемых респондентов остроумно уподобил лейденский анекдот историческому сновидению. В самом деле, этот вымышленный петровский урок анатомии представляет собой своеобразный культурный фантазм, порожденный тектоническим сдвигом в российской истории конца XVII века47 и материализующий характерное для XVIII–XX веков двойственное представление о русском тиране-цивилизаторе и реформируемой / излечиваемой / испытываемой / пытаемой / уничтожаемой / воскрешаемой48 им стране. Глубинный мифологический потенциал этой странной некрофилической легенды, впервые представленной публике в 1780-е годы, объясняет ее долгую жизнь в западном и российском историческом воображении. В конце концов прошлое преследует нас не потому, что было, а потому, что кто-то его своевременно и удачно вырезал, препарировал и заспиртовал.
«Азиатская рожа» Александра Блока
О том, как «Скифы» рифмуются с планами Петра Великого
Насчет неправильной рифмы, отдать аудитору, чтобы приискал другую.
Ф. К. Прутков. Военные афоризмы
Однако «в ж…» – сомнительный синоним для выражения «к революции».
Эрик Найман
Помните замечательную армейскую «поэмку» сына Козьмы Пруткова Федора: «Тому удивляется вся Европа, // Какая у полковника обширная шляпа»? К последнему слову господин полковник приписал недоуменное замечание: «Чему удивляться? Обыкновенная, с черным султаном. Я от формы не отступаю. Насчет неправильной рифмы, отдать аудитору, чтобы приискал другую»1. Действительно, для русского уха «Европа» так же тесно связана с подразумеваемым здесь словом, как устрица в воображении Собакевича с тем, на что она похожа. Это известно любому веселому аудитору. В настоящей заметке речь пойдет о геополитическом случае поэтической игры с этой набившей оскомину, но все равно смешной рифмой.
Face Recognition
Абрам Терц как-то заметил, что Александр Блок в знаменитом стихотворении «Скифы» завуалировал «наглую рифму поэтической инверсией»:
- Мы широко по дебрям и лесам
- Перед Европою пригожей
- Расступимся! Мы обернемся к вам
- Своею азиатской рожей!..2
В российских педагогических анналах конца прошлого века сохранилось сведение о том, как молодой филолог Михаил Павловец разъяснял своим ученикам, что «Европою пригожей» в «Скифах» – это инверсия, скрывающая рифму «своею азиатской ж…». По мнению Павловца, Блок любил прятать скабрезности в разного рода сдвиги и инверсии (вроде знаменитого «ужо постой» в поэме «Двенадцать»; впоследствии, насколько нам известно, «une collection particulière» блоковских сдвигов Павловца пополнилась новыми находками).
В 2003 году Михаил Безродный предложил «переписать» знаменитые стихи следующим образом:
- Мы широко по дебрям и лесам
- Перед пригожею Европой
- Расступимся! Мы повернемся к вам
- <нрзб>3
В 2009 году неприличный вариант («нрзб.» у Безродного) был приведен в Живом Журнале (далее ЖЖ) Владимиром Емельяновым со ссылкой на известного индолога и буддолога Андрея Всеволодовича Парибка. Аргументы Парибка сводились к следующему:
…Встречалось ли вам раньше такое выражение равнодушия, когда один человек поворачивается к другому рожей, пусть даже и азиатской? Вряд ли. Повернуться к презираемому человеку можно только задницей. И замысел Блока, по мнению Парибка, изначально был именно таков4.
Смысл блоковского послания, в изложении Емельянова, заключается в том, что «Россия не собирается вступать в столкновение с Западом, но не собирается и защищать его от нападений с Востока». Она просто «поворачивается к Западу Уралом, т. е. именно своей задницей» (вспомним схожую телесную метафору «среднеазиатского подбрюшья» в геополитическом прожекте Александра Солженицына). «Подумав так, – заключает автор, – Блок не стал, однако, печатать свой замысел, а зашифровал его в туманной фразе про азиатскую рожу. Тем более что и поменять-то нужно было совсем немного: во второй строфе вместо „перед пригожею Европой“ поставить „перед Европою пригожей“».
Эта гипотеза, преломленная, как уже говорилось, в «текстологическом» эксперименте Безродного, вызвала эмоциональное обсуждение в том же ЖЖ. По авторитетному свидетельству филолога Олега Проскурина, «соблазн такого прочтения, видимо, одолевал многих в разные годы»: «помнится, еще в конце 80-х один сотрудник ИМЛИ в курилке Ленинской библиотеки обосновывал соответствующую конъюнктуру ссылкой на <…> соображения П. В. Палиевского», который, скорее всего, сам от кого-то услышал такой вариант (полагаем, что уж не иначе, как от Абрама Терца). В то же время никаких веских доказательств в пользу этой гипотезы, кроме ее внутренней логичности, образной убедительности (географическая карта России с линией Уральских гор, отделяющих Восток от Запада) и своеобразного остроумия, в дискуссии приведено не было. Верна ли эта догадка?
Начнем с того, что угроза блоковских скифов «обернуться рожей» к «пригожей» Европе, казалось бы, мотивированная зачином к стихотворению («раскосые и жадные» глаза), действительно звучит странно. Во-первых, в чем тут угроза, если западные соседи и так уже «сотни лет глядели на Восток»? Во-вторых, как можно одновременно обернуться лицом к Европе и отвернуться от последней, приглашая западных интервентов «на Урал» сражаться со свирепою гуннскою ордою? То есть, наверное, можно, но это как бы (подчеркнем: «как бы») избыточное, какое-то вертлявое, по выражению В. И. Щебня, действие.
Грубый вариант «азиатской ж…» между тем имеет, как мы полагаем, не только фонетическую (клишированная рифма), но и идеологическую подоплеку-подтекст, которую мы постараемся реконструировать в этой заметке. Чтобы нас не обвинили в досужем интересе к сквернословию, заметим, что в мандельштамоведении до сих пор идет дискуссия о нецензурном финале антисталинской инвективы 1933 года, в котором якобы фигурировало то же самое слово, причем в таком же этническом контексте. Вообще роль агрессивных «этнических» ругательств в поэтических инвективах является важной и интересной темой для общего исследования.
Завещание Петра
В первой книжке «Русского архива» за 1874 год появился сенсационный материал, озаглавленный «Отзыв ПЕТРА ВЕЛИКАГО». Приведем его текст полностью:
В заметках покойного Н. Д. Киселева находятся следующие замечательные строки: «У Трощинского найдены Блудовым в записках Остермана следующие слова Петра Великого: „Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом“». Записано собственноручно покойным Николаем Дмитриевичем Киселевым и сообщено племянником его Петром Сергиевичем Киселевым5.
Под этим сообщением была помещена заметка того же Петра Киселева «Новые стихи А. С. Пушкина», в которой приводилось записанное поэтом собственноручно четверостишие «Ищи в чужом краю здоровья и свободы»6.
«Замечательные» слова Петра, приведенные со ссылкой на неизданные записки Андрея Ивановича Остермана, еще в XIX веке стали крылатыми и циркулировали в разных редакциях у авторов самых разных убеждений и лагерей – обернуться/повернуться спиною/задом/задницей и, в конце концов, ж… «Запад же для Петра, – говорил в речи о религиозном характере русских государей XVIII века профессор Киевской духовной академии Филипп Терновский, – был только орудием, только средством для просвещения России, ценным, пока цель не достигнута, и ничего не стоящим по ея достижении: „Европа“, писал Петр, „нужна нам только на несколько десятков лет, а после того мы можем обернуться к ней задом“»7. Эту сентенцию (с эвфемизмом «спиною») приводил Дмитрий Мережковский в романе о царе Петре и царевиче Алексее8. «Трудно решить, в самом ли деле он произнес их, – писал о словах Петра Георгий Плеханов в „Истории общественной мысли“ (1914). – Вернее, что – нет. И все-таки они имеют глубокий исторический смысл. Как ни сильно увлекала Петра западноевропейская цивилизация, в своей преобразовательской деятельности он был и мог быть западником только отчасти»9.
Эта апокрифическая петровская цитата дошла и до наших дней. Ее вкладывает в уста Петру Фридрих Горенштейн в пьесе «Детоубийца» (1985). На нее ссылается Сергей Кургинян, говоря о проблемном «завещании» Петра Великого и столь же проблемных рекомендациях «взять у Европы технологии и повернуться к ней задницей»10. Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким) заявляет, что «патриотическое пожелание Петра I „обернуться задом к Европе“ после извлечения из нее надлежащей пользы не исполнилось» и «западничество» с XVIII века до нынешнего времени «поглощало умы российских верхов, точно трясина финских болот, на которых „царь-плотник“ выстроил свою столицу»:
Из «окна в Европу», прорубленного Петром, полились в Россию большей частью не чаемые научно-технические знания, а ересь, полубезбожное вольномыслие и прямое безбожие, распущенность нравов и презрение к собственному Отечеству11.
Обратим внимание на отсылку владыки к пушкинскому (точнее, заимствованному у Франческо Альгаротти) «окну в Европу», историософски «аукающемуся» с легендарной цитатой из Петра.
В свою очередь показательно, что блоковские строки «Мы обернемся к вам // Своею азиатской рожей!» часто связывались в российской публицистике XX века с геополитическими поворотами страны и относительно недавно были использованы в качестве эпиграфа в одном из газетных откликов на «последнее предупреждение» Западу – мюнхенскую речь Владимира Путина, произнесенную в 2007 году.
Поворот избушки
Очень похоже, что Блок в «Скифах» действительно перефразировал «завет» Петра, представив его как спровоцированное Европой завершение западного пути России (архаичный и издевательский в данном контексте эпитет «пригожая» здесь, кажется, отсылает к слову «девка»). Иначе говоря, Россия выучила свой более чем двухвековой урок («и жар холодных числ, // И дар божественных видений, // Нам внятно всё – и острый галльский смысл, // И сумрачный германский гений») и отвернулась от вероломного Запада, столкнув последний с дикой монгольской ордою: «Мы поглядим, как смертный бой кипит, // Своими узкими глазами» (т. 5, с. 79). Не исключено, что в легендарной сентенции царя-революционера, приводимой в разных источниках с разными эвфемизмами, Блок услышал скрытую грубую рифму, которую не преминул включить в подтекст своего «геополитического» стихотворения. Каким образом эта цитата могла попасть в поле зрения поэта?
В 1917 году Блок перечитывал «Курс русской истории» Василия Осиповича Ключевского, концепция которого представлялась ему «исключительно важной для понимания смысла совершавшихся событий». По мнению А. Е. Заблоцкой, задуманная Блоком и начатая в марте 1918 года статья «Страница из дневника» была тесно связана с идеями этого курса. По словам поэта, «Российская империя распалась. Остался только призрак ее <…> Окончился период „новой русской истории“, тот период, который Ключевский считает четвертым и который охватывает для него годы с окончания смутного времени начала XVII века до начала царствования Александра II, то есть 250 лет <…> новый открывается новой смутой, если угодно назвать то, что происходит, этим именем»12. Блок опирается здесь на преамбулу к 41-й лекции Ключевского «Взгляд на IV период русской истории». Именно оттуда заимствована завершающая фрагмент его статьи цитата о конце старой русской истории: «Обязанные во всем быть искренними искателями истины, мы всего менее можем обольщать самих себя, когда хотим измерить свой исторический рост, определить свою общественную зрелость»13.
Между тем не вызывает сомнений, что поэт был внимательным читателем и программной 68-й лекции курса Ключевского, посвященной значению реформ Петра Великого. В сохранившейся в библиотеке Блока четвертой части «Истории» имеются многочисленные пометы владельца на полях этой лекции, относящиеся к 1910-м годам. Судя по этим пометам, Блока особо интересовал раздел, посвященный «приемам» Петровской реформы, шедшей, по словам Ключевского, «среди растерянной суматохи, какой обычно сопровождается война», «глухой и упорной внутренней борьбы, не раз шумно прорывавшейся: четыре страшных мятежа и три-четыре заговора – все выступали против нововведений, строились во имя старины, ее понятий и предрассудков». Привлекли его внимание и рассуждения историка в этом разделе о враждебном отношении Петра «к отечественной старине, к народному быту, тенденциозное гонение некоторых наружных его особенностей, выражавших эти понятия и предрассудки»14.
Не вызывает никаких сомнений знакомство Блока и с предшествующим разделом этой лекции, посвященным отношению Петра к Западной Европе и его видению места России в истории:
Как относился Петр к Западной Европе? Предшественники поставили Петру, между прочим, и такую задачу – «все делать с примеру сторонних чужих земель», именно земель западноевропейских. В этой задаче было много уныния, отчаяния в национальных силах, самоотречения. Как понял ее Петр? Как он смотрел на отношение России к Западной Европе, видел ли он в последней всегдашний образец для первой, или западноевропейский мир имел для него лишь значение учителя, с которым расстаются по окончании выучки?15
Ответом на последний вопрос и оказывается легендарное мнение Петра, впервые приведенное в «Русском архиве» 1874 года:
…Хочется верить дошедшему до нас через много рук преданию о словах, когда-то будто бы сказанных Петром и записанных Остерманом: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом». Итак, сближение с Европой было в глазах Петра только средством для достижения цели, а не самой целью16.
В январе 1918 года (после временного срыва Брестских переговоров) Блок решил, что «час настал»:
Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним. Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит вы уже не арийцы больше. И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток.