Читать онлайн Тогда в Иудее… бесплатно
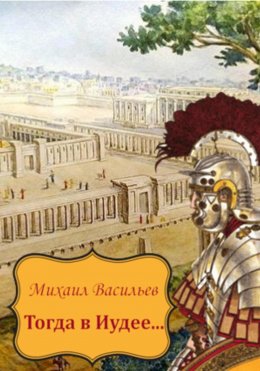
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться,
и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое";
но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме.
Martis dies, hora quarta diei
Глава
1
Ала1 эдуев2 медленно поднималась по узкой каменистой дороге, ведущей от Иопии к Иерусалиму. Ала была сформирована из новобранцев в Лугдунской Галии, недалеко от города Новиодуна, и должна была нести службу в провинции Белгика, но то ли по воле цезаря Тиберия, то ли по какой-то еще причине ее отправили за море, в Сирию, в качестве ауксилии3 двенадцатому легиону4. Правитель Сирии Публий Помпоний Флакк решил послать алу в Иудею, префект5 которой без конца жаловался на недостаток солдат, на непокорность и даже враждебность местного населения, на постоянную угрозу со стороны арабов, науськиваемых парфянами. Прибывшая в Кесарию ала должна была двигаться на границу, но префект провинции Иудея Понтий Пилат распорядился отправить конников прежде в Иерусалим, чтобы усилить римский гарнизон на время иудейского праздника. Сначала ала двигалась по удобной приморской дороге, проложенной еще в незапамятные времена, а у Иопии вынуждена была повернуть на восток. У небольшого городка Аримафея дорога, извиваясь, пошла вверх и стала похожа на горную тропу, зажатую меж зарослей кустарника, над которыми высились зеленые зонтики пустынной акации.
Помня об инсургентах6, трибун7, командовавший алой, выделил головной дозор из двадцати всадников. Командовать им он поручил молодому офицеру. Отряд уже миновал подъем, переночевал на хребте и сегодня, по мысли трибуна, должен был к шестому часу дня достигнуть города иудеев.
Впереди арьергарда на гнедом, как у всех эдуев, жеребце ехал молодой офицер. Постоянно оглядываясь по сторонам блестящими от возбуждения глазами, он хотел увидеть и запомнить все: бледно-розовое небо, сияющий край восходящего солнца, тонкие ветви дрока, усыпанные желтыми цветами, стук копыт по каменистой тропе, запах пота. Все это казалось ему очень важным, потому что со всем этим начиналась для молодого офицера иная, взрослая жизнь – жизнь солдата. И начало этой жизни надо было запомнить как можно подробнее, чтобы потом рассказать внукам. Как и все юноши, молодой офицер считал, что будет жить долго, очень долго: смерть в бою казалась ему чем-то мифическим, хотя отец его, трибун девятнадцатого легиона, погиб, когда юноше было четырнадцать лет, а дед, который и воспитывал молодого офицера, потерял руку в битве при мысе Акций.
Юношу звали Марк Рубеллий. Рубеллии – плебейский род, после Союзнической войны получивший земли в Апулии на берегу реки Ауфидус. Сам не зная почему, Рубеллий вдруг вспомнил эту реку, зеленую воду, на восходе отливавшую розовым цветом, омут недалеко от виллы, куда он приходил рано утром ловить рыбу, держа в руке ивовый прут с леской, сплетенной из конского волоса, и костяным крючком. Он садился на плоский камень, забрасывал крючок с наживкой и терпеливо ждал, когда задрожит кончик ивового прута. Сколько радости испытывал Марк, когда удавалось вырвать из воды серебристое дрожащее тело рыбы и уложить его на серый песок! Правда, рыба всегда попадалась мелкая. Он так ни разу и не поймал крупной, но мелочь он приносил домой. На вилле раб-повар тщательно чистил ее, выбирал даже самые мелкие кости и пек пирожки – любимое лакомство деда.
Потом ему вдруг вспомнился отставной гладиатор8 по имени Дагон, которого дед нанял для обучения Марка.
– Мужчина должен уметь владеть мечом, – говорил дед. – Рим держится на двух столпах: мече и законе. Еще покойный Марк Тулий из Арпина делил квиритов9 на людей меча и людей тоги10. Мы, Рубеллии, всегда служили Риму мечом. Ты тоже Рубеллий, как твой отец, как все твои предки, – значит, и твой долг служить Городу мечом. А как можно служить тем, чем не умеешь владеть? Никак. Вот твой учитель. Слушайся его, как меня. А ты, Дагон, учи его, как учил тебя твой ланиста11, – без жалости и снисхождения.
Дагон – в прошлом гладиатор, фракиец,12 – действительно великолепно владел мечом, поэтому он не просто сохранил жизнь, но и после одного из боев получил деревянный меч и статус вольноотпущенника. Он поселился на вилле и, помня наставления деда, не жалел Марка: будил его затемно, заставлял поднимать тяжелые камни и часами стоять, держа на вытянутой руке тяжелый деревянный меч, выструганный из дубовой доски. Но после уроков фехтования, к вечеру, Марк снова стоял, зажав между коленями мешок, набитый мелкими камнями. Это упражнение его заставлял делать уже дед, который сидел напротив в кресле и объяснял юноше, что воин должен иметь сильные ноги. Если доведется служить в кавалерии, то конем во время боя лучше управлять ногами, сжимая ему бока, тогда обе руки будут свободны для боя. Дед разрешал отпускать мешок только тогда, когда солнце скрывалось за лесистыми вершинами гор, поэтому Марк падал на ложе и засыпал, точно проваливался в темную яму, забывая про ноющую боль в руках и коленях. Однако постепенно тело Марка наливалось силой и приобретало необходимую ловкость, мускулы каменели.
– Ты не думай, – говорил старый гладиатор, – за тебя тело должно думать. Ты еще и подумать не успел, а оно уже все сделало.
Марк слушал Дагона, а когда тот отпускал его отдохнуть, уходил в подвал, который располагался рядом с виллой. На виноградниках выращивали белый виноград москате, из которого делали сладкое вино. Самые отборные кисти не срезали до поздней осени. Закутанные в мелкие сетки от птиц, грозди ждали первых холодных дней, когда легкий заморозок превращал воду в льдинки, оставляя нетронутым сладкий сок. Тогда рабы срезали гроздья и тащили корзины, наполненные виноградом, к давильне. Рабы почти бежали, сгибаясь под тяжестью корзин. Нужно было успеть – не дать ледяным кристалликам растаять прежде, чем ягоды лягут под пресс. Такое сладкое вино особенно ценили матроны, живущие в Риме, поэтому виноградники приносили старому Рубеллию неплохой доход. В подвале было прохладно. Свет, падавший из двух небольших окон, освещал дорожку, выложенную белым песчаником, и огромные амфоры, до половины закопанные в песок. Марк садился на выступ стены, прислонившись к ее грубо обработанным камням, впитывал их прохладу и думал, точнее, мечтал. Он уже давно решил стать солдатом, как его отец и все те Рубеллии, чьи восковые маски висели над алтарем ларов13, включая и Гнея Рубеллия – гастата14, погибшего в битве при Каннах, и, согласно семейной легенде, до конца защищавшего от иберийцев раненого Луция Эмилия Павла. В полумраке подвала ряды амфор казались мальчику фалангой то македонян, то иберийцев, то совсем уж неизвестных нервов, которые, как было написано в свитке Геродота, во время битвы превращались в волков.
Юный Марк мечтал о дальних походах, о землях массагетов15. Про них он читал в другом свитке. Читать и писать молодого Рубеллия научил грек, больше похожий на сирийца или иудея, который в небольшом городке Эгерия содержал школу. Туда Марка отвозил раб-тудертанец16, ставший его педагогом. Он запрягал гнедого мула в легкую повозку – цисиум, сажал мальчика рядом с собой, и они ехали до города по широкой сельской дороге мимо пирамидальных тополей и виноградников. Школа располагалась в небольшом доме, который учитель арендовал у местного торговца вином. Это была большая комната, где мальчики из свободных семей обучались счету, письму и греческому языку. Школа была для Марка отдыхом от утомительных упражнений, и потому он учился охотно, был в числе первых учеников. Однажды во время урока грамматики учитель вдруг встал со своего сиденья и торжественным голосом, подняв руку кверху, произнес:
– Сейчас мы, дети, запишем фразу, которая должна стать для вас руководством на пути жизни: «Dulce et decorum est pro patria mori!»17.
И как мягкий воск легко запечатлевает изображение, так душа юного Марка впитала и сохранила чеканную медь этих звенящих слов. Так же она впитывала и поучения деда.
Вечером, когда солнце опускалось за деревья и двор виллы наполнялся прохладой, дед располагался на широкой каменной скамье перед парадным входом и, посадив рядом с собой внука, рассказывал ему о походах, в которых довелось участвовать, о мужестве и терпении простых легионеров.
– Помни, – говорил дед, – мы, римляне, – великий народ. Великий потому, что для каждого из нас нет ничего важнее Рима. Наша жизнь принадлежит Риму, потому что Рим – это мы. Мы создали этот великий Город, а Город создал нас, научил нас жить, дал нам понятие чести, которого не знают другие народы. Для настоящего квирита честь – это выполнение своего долга. Мы, Рубеллии, служили Риму мечом, и ты будешь служить ему мечом, сражаться там, куда тебя пошлют. И драться храбро, чтобы не опозорить род. Помни, Марк: я стар, отец твой погиб, и совсем скоро на тебя ляжет забота о чести рода Рубеллиев.
Тропа пошла под уклон, потом она повернула в сторону Иерусалима. За поворотом показались белеющие сквозь зелень кустарника плоские крыши не то большой деревни, не то маленького городка. По приказу Марка всадники остановились, поджидая основную колонну. Когда та приблизилась, Марк тронул коня, обогнул передовое охранение – два десятка запыленных, как кустарник на обочине, всадников – и приблизился к группе офицеров.
Впереди ехал командир алы, устало горбясь под военным плащом. За ним следовали примпил18 Пантер, присоединившийся к але в Кесарии, и второй трибун – такой же молодой, как и Марк, выходец из некогда влиятельной патрицианской семьи Коммониев, но со временем потерявшей свое влияние и сохранившей только память о славных, но, увы, далеких временах. Командовал алой старый служака – потомок храброго центуриона19, воевавшего с кельтиберами20 под началом Тиберия Семпрония Гракха. За свои заслуги и раны, обезобразившие лицо, он получил землю около небольшого городка Илурциса, который после присвоения ему статуса муниципия21 стал именоваться Гракхурием. Город стоял на берегу одного из притоков Эбро. Река была достаточно полноводной, и бывший цетурион Гай Фундарий решил, что, кроме полей пшеницы, неплохо было бы вложить собранные за время службы деньги и в какое-нибудь доходное дело. Он потратил военную добычу на строительство двух речных барж-каудикариев и вступил в гильдию лодочников. Его сын имел уже четыре каудикария. А когда молодой Гай Фундарий, следуя семейной традиции, уходил служить, его старший брат управлял уже хозяйством, в котором было двенадцать больших барж.
Гай Фундарий начал службу в ауксилие – вспомогательных войсках десятого легиона – и, будучи не провинциалом, а римским гражданином, к концу службы дослужился до звания трибуна. Однако свободных вакансий в десятом легионе не было, и его отправили на Восток империи в качестве начальника вновь набранной алы. Вместо относительно спокойной службы в шестом легионе, постоянно стоящем лагерем недалеко от Антиохии, Фундарий должен был вести алу в далекую и неспокойную Иудею. Ситовник22, который Гай Фундарий получил в Иопии, извещал трибуна, что, по воле наместника провинции Сирия Публия Помпония Флака, ала поступает в распоряжение префекта императорской провинции Иудея Понтия Пилата и должна прибыть в Иерусалим, чтобы усилить гарнизон этого города на время местных праздников. По окончании праздников ала должна была отправиться в тетрархию23 Ирода Антипы и там, около городка со странным, непривычным для римского уха названием – Беф-Гарам, нести охрану границы.
Покачиваясь в такт движению коня, инстинктом старого конника удерживая равновесие, Гай Фундарий перебирал свои невеселые мысли. Спокойного окончания службы не предвиделось. Еще пять лет придется тянуть лямку на границе. Конечно, это не Рейнский лимес24, но все же это граница: шайки разбойников, которых голод и нищета гонит в римские провинции, контрабандисты, не менее опасные, чем разбойники, – а в его распоряжении две сотни новобранцев и два молодых офицера. Единственная надежда на примпила Пантера, привезшего в Иопию ситовник. Конечно, эти баттавы25 – крепкие сельские парни, с детства привыкшие к тяжелому труду на земле, – со временем станут хорошими солдатами. Но когда это будет? И сколько их доживет до этого? А главное – доживет ли он? А дожить хотелось. Брат писал, что расчистил участок вдоль реки, удалив кустарники, и разбил там огород. В последнее время стали популярны соления и маринады, и брат писал, что намерен выращивать огурцы и артишоки и ждет его, чтобы вместе управляться с хозяйством. Фундарий отогнал мысли, остановив коня, поднял голову и посмотрел на подъехавших офицеров.
Молодой Коммоний, сидевший в седле с аристократической небрежностью, ему сразу не понравился. «Типичный сынок из семьи нобелей26, – подумал он, глядя на нежные черты узкого лица Коммония и брезгливо опущенную нижнюю губу, – слюнтяй и неженка, но полон амбиций». За долгое время службы ему приходилось видеть таких офицеров трибунов Laticlavius27 – молодых отпрысков патрицианских или всаднических семей. Они служили недолго – ровно столько, сколько было нужно, чтобы выслужить ценз для первой гражданской должности, как правило, плохо ладили с солдатами, и солдаты относились к ним с легким презрением. Спасали этих трибунов Laticlavius центурионы, имевшие боевой опыт. Были среди них, правда, немного, те, кто пошёл служить по убеждению, но таких с каждым годом становилось все меньше.
Гай Фундарий с удовольствием посмотрел на молодого Рубеллия, чье свежее, несмотря на долгую дорогу, лицо светилось утренней радостью. Он напомнил Фундарию его самого молодого, когда он так же восторженно относился к возможности служить в легионах, так же был готов совершить подвиг.
Примпилярий Пантер, хотя и был самым опытным, тоже не понравился трибуну: было в нем что-то от дерзкого, наглого римского жителя, завсегдатая скачек, гладиаторских боев и театральных зрелищ. Фундарий, побывавший в Риме всего один раз да и то проездом, ненавидел и презирал этих дерзких, беззаботных людей, живущих за счет подачек и даровых раздач хлеба и масла. Пантер был именно таким: немигающие черные, как маслины, глаза, надменно выдвинутый вперед подбородок, презрительный излом тонких губ.
– Вот что, – проговорил трибун глухим голосом, – впереди что-то вроде деревни, там напоим коней и поправим упряжь. Отдых будет коротким, только напоим коней. Рубеллий, ты с передовым отрядом первым войдешь в деревню. Прикажи эквитам28 отвязать щиты и взять на руку. И пусть смотрят во все глаза. Мне говорили, что здесь полно инсургентов. Пантер и я – с основным отрядом. Коммоний возьмет две декурии для охраны повозок и пусть поторопит возниц. Если кто отстанет, попробует палок. На исходе первой стражи мы должны быть у ворот Иерусалима.
Окончив речь, трибун дал знак начать движение. Марк вернулся к передовому отряду и отдал команду. Эквиты послушно отвязали от седел круглые кавалерийские щиты и взяли их на руку. Сбившись в тесную колонну, ощетинившись остриями пик, всадники двинулись в сторону мирно спящей деревни.
Коммоний ни словом, ни жестом не выразил своего неудовольствия распоряжениями трибуна. Медленно двигаясь к арьергарду, он размышлял о том, что кому, как не ему, представителю древнего рода, чей предок Постум Коммоний был консулом29 в первые годы республики, надлежало командовать авангардом, а не охранять телеги и погонщиков мулов. Тем не менее он отобрал две декурии30 и приказал окружить и прикрыть собой повозки, а погонщикам мулов велел поторопить лениво бредущих животных.
Деревня приближалась. Марк ехал впереди авангарда. Он еще пристальнее вглядывался в плотную зелень кустарника, положив правую руку на рукоять меча. Этот меч заказал для него дед у лучшего мастера из тех, кто жил в их округе. Вольноотпущенник галл, у которого на окраине Арпы были кузница и маленькая плавильня, взял за изготовление меча пятьдесят денариев и два кония лучшего вина сорта дульче. Передавая меч Марку в присутствии деда, рослый крепкоплечий галл положил клинок на голову и согнул его так, что рукоять и острый кончик меча коснулись его плеч, потом галл отпустил конец меча, и тот выпрямился.
– Отличная спата31, – проговорил галл, – самый кавалерийский меч.
– Да, – согласился дед, – меч отличный.
– А острый, – продолжал хвалить свое изделие кузнец, – паутину разрубит. И прочный – можешь взять и ударить по гладиусу32, который делают в больших мастерских, – ни одной зарубки не будет.
– Меч отличный, – сказал подошедший Дагон, беря его в руки. – Только его напоить надо, а то он мертвый, а мертвый меч всегда плохой помощник.
– Да, – согласился дед, – надо бы.
Тогда Марк не понял, что означала эта фраза. Смысл ее стал ему ясен только через несколько дней. Днем, когда он, как всегда, занимался фехтованием с Дагоном, в ворота виллы въехала двухколесная повозка с невысокими деревянными бортами, на которой возили шерсть во время стрижки овец. Сейчас на ней сидело двое рабов, старых и изможденных, – мужчина и женщина, вернее, жалкое их подобие. Возница, откинув борт, приказал рабам слезть с повозки. Они медленно слезли и опустились на серые известковые плиты, которыми был вымощен двор. Дагон, отбив дубовым мечом меч Марка, коротко бросил:
– Подожди, – и, повернувшись, ушел в сторону вилы. Он скоро возвратился вместе с дедом. Дед нес недавно купленный меч в простых кожаных ножнах. Достав из ножен спату, дед протянул ее Марку.
– Убей их, – проговорил дед, концом меча указав на сидящих рабов.
– Зачем? – опешил Марк.
– Возьми и убей их, – повторил дед, протягивая юноше меч. – Воткнуть меч или ударить им человека в первый раз очень трудно, и, когда тебе это придётся делать в бою, ты можешь замешкаться. А то мгновение, которое ты потратишь на то, чтобы собраться с духом, будет стоить тебе жизни. Я не хочу, чтобы мой единственный внук погиб в первом бою.
Марк повернулся и, взяв спату, подошел к сидящим на земле рабам. Как и все римляне, особенно выросшие в сельской местности, он считал рабов чем-то вроде говорящих животных, отупевших от тяжелой однообразной работы и дурной пищи. Но когда Марк приблизился к рабам, мужчина поднял голову и посмотрел на юношу. И тот увидел глаза человека – два бесцветных, водянистых глаза, полных страдания и боли.
– Бей! – крик прозвучал, как удар бича.
Марк сделал шаг. Рабыня зачем-то поднялась, мужчина продолжал сидеть, отведя глаза от юноши и безучастно опустив голову.
– Бей! – крикнул дед, и Марк ударил.
Удар получился неуверенный, слабый. Острие спаты неглубоко вошло в отвислый, морщинистый живот женщины. Та вскрикнула неожиданно громко для столь истощенного тела. Мужчина мгновенно вскочил, словно крик женщины оживил его. Он бросился на юношу, вытянув вперед костлявые руки. Марк выдернул меч и отпрыгнул. Раб продолжал двигаться на него, вытянув вперед руки. И тут тело вспомнило уроки старого гладиатора. Марк сделал шаг влево, одновременно нанося удар, как учил его Дагон, – слева направо и снизу вверх. Клинок рассек мужчине горло, и тот упал на спину, залив плиты двора кровью. Женщина, зажимая руками рану, опустилась на плиты.
– Добей! – приказал подошедший дед, сухой, жилистой рукой указав на рабыню. Пересиливая какую-то странную слабость, Марк шагнул вперед и вонзил клинок в грудь женщины. Издав странный клокочущий звук, рабыня упала на спину.
– Теперь ты ударишь первым, – произнес Дагон, – и ударишь как положено.
На краю деревни передовой отряд догнал примпил Пантер. Поравнявшись с Марком, примпил придержал своего коня.
– Подожди, – обратился он к молодому трибуну, – надо осмотреться.
Всадники остановились. Деревня встречала их настороженной тишиной. Перед ними лежала узкая короткая улица, выходившая на небольшую площадь около колодца. За невысокими оградами виднелись небольшие домики с плоскими крышами, заставленными корзинами и высокогорлыми кувшинами. Людей видно не было. Только в крайнем дворе стоял тощий серенький ослик. Пантер достал свиток и развернул ситовник.
– Гивот, – сказал примпил, – если быстро напоим коней, и мулы под началом молодого аристократа поторопятся, то еще до полудня мы будем у Дровяных ворот Иерусалима.
– А если будем поить долго? – спросил Марк.
– Тогда прибудем после полудня, в самую жару, – ответил примпил.
Баттавы слезли с коней и повели их к каменным колодам, стоящим рядом с колодцем. Двое баттавов уже черпали кожаными ведрами воду и выливали ее в колоду. Утомленные кони жадно рвались к воде, но опытные конники-баттавы сдерживали их, давая остыть.
Марк отдал коня одному из баттавов, а сам подошел к низкой ограде и присел на каменную скамью в тени земляничного дерева. Он с наслаждением снял шлем, провел рукой по коротко остриженным волосам, стряхивая капли пота, с наслаждением ощущая уходящую утреннюю прохладу. Жаркий диск солнца уже наполовину выглянул из-за лесистой спины горного хребта. Подошел Пантер, сел рядом с молодым Рубеллием и тоже снял шлем. Марк с удивлением посмотрел на примпила. Волосы Пантера были цвета соломы, хотя брови были черные, и щеки, которые покрыла щетина, были сизыми.
– Все. Осталось совсем недолго, – Пантер посмотрел на Рубеллия. – После этого селения будет еще маленькое местечко Анафор. Потом повернем на юг, к Иерусалиму. А там – отдых, баня и все такое. Жаль, что мы там пробудем только семь дней, а потом – на границу.
– А зачем нам нужно в Иерусалим? – спросил Марк
– Там каждый год происходит праздник. В городе собирается большое количество людей. Они приносят жертву своему богу. Видишь, в деревне почти нет ни мужчин, ни женщин, а старики и дети попрятались.
Словно в подтверждение этих слов, за их спиной послышались шаги. Обернувшись, они увидели старуху в длинном неопределенного цвета балахоне. Шаркающей старческой походкой она подошла к куче желтой соломы, наполнила ею небольшую корзину и медленно прошла через двор к маленькому загону, в котором стояли две козы и ослик.
– Видишь, – проговорил примпил, – остались одни старики. Город будет полон людей, а поскольку обстановка здесь неспокойная, то начальство решило усилить местный гарнизон. Кроме того, прокуратор каждый год вынужден приезжать в Иерусалим из Кесарии и приводить с собой три центурии33 легионеров.
– Местные жители могут поднять мятеж? – спросил Марк.
– Да, восстание здесь не прекращается. Мне один грек – содержатель таберны в Антиохии – говорил, что иудеи заключили договор с богом. Если они будут соблюдать правила, установленные им, то будут править миром. Но для этого они должны поднять восстание, и тогда бог пошлет им спасителя, который своей божественной силой поможет иудеям одержать победу. Последний раз они поднимали крупный мятеж во времена Цезаря.
– И что?
– Ничего. От греков они избавились, но вынуждены были признать наше покровительство. Цезарь Август дал им царя и после смерти царя разделил государство между сыновьями умершего, а Иудею забрал себе.
– А на границе?
– На границе, – Пантер нехорошо улыбнулся. – На границе мы будем гоняться за шайками бедуинов, нанятых черными тамкарами34.
Кто такие черные тамкары, Марк не успел спросить. Раздался протяжный звук рога. Марк и Пантер поднялись и пошли к своим лошадям.
В четвертом часу дня ала миновала Анафор – маленькое поселение, окруженное рощами оливковых деревьев и ровными шпалерами виноградников. Вскоре в мареве наступающего жаркого дня показались верхушки стен и башен Иерусалима. После перекрестка ала остановилась и перестроилась. Теперь это была монолитная конная масса, блестевшая металлом щитов и пик, с которых баттавы по приказу трибуна сняли чехлы. Впереди этой массы двигалась небольшая группа, состоящая из сигнифера35, несшего значок алы, и двух трубачей, держащих в руках блестящие рога-корну. Впереди этой группы ехали офицеры во главе с трибуном, который сбросил плащ и сидел на коне, блестя лорикой-хаматой36, прямой, как бронзовая статуя. Блестящей змеей ала медленно подползала к Дровяным воротам Иерусалима, которые находились на севере города, недалеко от Храмовой горы и крепости Антония, где размещался римский гарнизон. Из ворот выходила дорога, ведущая в Галилею и, огибая Гениссаретское озеро, уходила дальше, в Сирию. Около города Вифраим от нее отделялась другая дорога, которая вела в порт Иопия, и еще одн, – идущая в Декаполис.
Ворота назывались так, потому что около них с раннего утра собирались продавцы дров – в основном земледельцы из окрестных селений, продавцы всякой нужной в хозяйстве мелочи: оселков для точки ножей и топоров, кусков кожи, годных на заплатки, веревок и лоскутьев ткани. Ворота открывались во втором часу дня. Сначала в дубовой створке распахивалось узкое, как щель, окошко, в которое смотрел начальник караула, и, убедившись, что опасности нет, давал знак солдатам, и те начинали вращать тяжелый ворот. Сначала поднималась решетка, окованная полосами железа, потом со скрипом отворялись сделанные из дубовых плах створки ворот, открывая проход в полутемную арку, где виднелась Дровяная улица с полосатыми навесами над лотками торговцев. В этот день ворота открылись чуть позже. Краснолицый декурион, с крепкой шеей, в блестящей лорике-хамата поверх красного воинского хитона, в сверкающем на солнце шлеме с коротким султаном37, приоткрыв ворота, терпеливо ждал, пока из крепости Антония не подойдет подкрепление. По приказу прокуратора, с сегодняшнего дня караулы у всех ворот Иерусалима были удвоены. Только когда, топая калигами38 по каменистой почве улицы, подошло подкрепление, ворота раскрылись. В них хлынула толпа торговцев и покупателей дров. Более состоятельные люди и слуги из богатых домов гнали ослов, на которых они нагружали тяжелые вязанки. В толчее, возникшей в воротах, ослы испуганно ревели. Стоящие там продавцы стали укладывать на пыльную обочину вязанки дров и хвороста. Продавец трав – высокий худой человек в грязной синей симле – доставал из корзины пахучие пучки. Больше всего было пучков сильфия – любимой пряности горожан.
Среди торговцев был и Фесда, которого соседи звали Дисмас. Это прозвище получил его отец, переселившийся в Иерусалим из маленького поселения около Ямнии. На вопрос: «Где его родина?» – он всегда отвечал: «Я пришел со стороны заката». Как и все переселяющиеся в большой город, отец Дисмаса мечтал разбогатеть и, как многие из них, разорился. Единственное, что он сумел, – это купить небольшой домик у самой стены, недалеко от Дровяных ворот. Фесда-Дисмас пришел к воротам, неся большой плетеный короб, заменявший ему торговую лавку. Он имел постоянное место для торговли, за которое платил декуриону по оболу39 за каждую седмицу. Фесда подошел к своему месту, поставил на землю свой короб, открыл его и, достав, разложил на крышке короба свои немудреные товары. На плетеную из ивы крышку легли мешки разных размеров из старой линялой ткани. Эти мешки из обрывков и лоскутьев, собранных на улицах или купленных за одну лепту, шили его жена и две дочери. Рядом легли оселки, куски кожи, обрывки веревок и бесформенные куски железа. Разложив товары, Фесда присел на корточки и стал ждать покупателей. Глядя на проходивших мимо него людей и животных, Фесда тихо про себя молился Иегове, чтобы тот проявил милость и позволил ему заработать сегодня хотя бы два денария. Один денарий вместе с пятью отложенными ранее пойдет к шулхани40. За них шулхани даст три храмовых шекеля, чтобы уплатить храмовый налог, как положено каждому иудею. Еще одного денария хватит, чтобы обеспечить Седер41, то есть купить вина, горьких трав, пшеничной муки для мацы и ягненка или хотя бы его часть. Краем уха Фесда-Дисмас ловил раздраженные возгласы продавцов и покупателей. Люди были недовольны поздним открытием ворот. Ругали новые порядки, вспоминали прошлые лучшие дни. Кто-то высоким голосом утверждал, что при Хасмонеях ворота открывались, когда появлялся первый путник. Другой, кого Фесда не видел, утверждал, что ворота открывались с первым лучом солнца при Антипаре и его сыне Ироде. Кто-то уверял, что римляне нарочно поздно открывают ворота, чтобы люди толкались и давились, тем самым унижая иудеев – настоящих хозяев города, – ведь не римлянам, а царю Давиду подарил Иегова город иусеев.
– Ты это вот тому толстомордому скажи, кто хозяин города, – прозвучал насмешливый голос в толпе.
Разговоры сразу стихли. Все невольно посмотрели на декуриона. Тот, заложив руки за пояс, широко расставив сильные ноги, стоял около створки ворот, озирая толпу безразличным взглядом. Фесда в это время успел обменять несколько мешков на вязанку крепких сухих сучьев. Два селянина купили у него точильный камень и кусок кожи, и Фесде показалось, что Яхве проявил свою милость и позволит ему встретить Седер, как и должно встречать этот праздник сыну Эрец-Исраэля. Толпа постепенно редела. Горожане уносили дрова, а селяне засовывали за пояса ассари, квадрансы и лепты, полученные за них. Около Фесды остановился торговец водой, ведя в поводу ослика, нагруженного кувшинами с питательной влагой. Ослик был пегий и старый, настолько старый, что среди ослов мог считаться Мафусаилом.
– Доброго дня, сосед, – сказал продавец воды, останавливая осла. – Как торговля?
– Не могу сказать, что плохо.
– И у меня хорошо. Всю воду распродал. Вот снова собираюсь к источнику. День будет жаркий, народу в городе много – все захотят пить. А у меня вода, сам знаешь, отличная: с мятным отваром, хорошо утоляет жажду, – он отвязал от седла глиняную кружку, достал маленький кожаный бурдюк и наполнил кружку водой.
– Выпей, сосед, утоли жажду. Это я для себя держу, самому ведь тоже пить хочется.
– А, может, и нам нальешь? – прозвучал голос за спиной Фесды.
Фесда обернулся и увидел двух молодых людей, одетых в симлы из дорогой ткани поверх коротких хитонов. У говорившего симла была ярко-зеленого цвета с крупными синими полосами. Хитон под ней, перехваченный широким поясом из тисненой кожи, был из дорогой египетской ткани. «Интересно, – подумал Фесда, – что надо этим людям у Дровяных ворот в такую раннюю пору?».
– Налью, если деньги есть.
– Деньги есть.
Молодой человек в дорогой симле достал из кармашка на поясе несколько медных монет и протянул водоносу.
– Мне и моему спутнику, – проговорил он, отдавая деньги.
Водонос наполнил кружки и протянул их молодым людям.
– А водонос прав, – произнес второй, выглядевший постарше, но тоже в дорогой симле и льняном хитоне, – день действительно будет очень жарким.
Сказав это, он как-то странно улыбнулся. Они выпили воду, отдали кружки водоносу. Тот торопливо привязал их и, еще раз пожелав Фесде удачной торговли, быстро пошел к городу. Фесда видел, как его окружили солдаты. Тот что-то говорил им, показывая на свои кувшины. Наконец солдаты расступились, давая дорогу водоносу, и тот скрылся в тени воротной арки. Фесда продолжал торговать, постоянно ощущая присутствие чужих людей за спиной. Это ощущение раздражало и даже пугало его. Он, было, хотел сменить место, но свободное пространство, куда Фесда намеревался перебраться, занял запоздавший селянин, свалив туда кучу мелкого сухого хвороста, годного разве что на растопку. Покупатели подходили, приценивались, иногда, если что-то нравилось, расплачивались. Он продал за две пруты щербатый точильный камень, за четыре пруты моток веревки, и какой-то селянин купил за денарий большую суму с длинными ручками, сшитую женой Фесды. Торговля отвлекла его, и он даже забыл о странных людях, расположившихся за его спиной. Фесда думал о предстоящем празднике и решил, что купит не барашка, а курицу – обычай допускал такую замену: ягнята, наверное, поднялись в цене. Пряности для вечерней трапезы дома были. Вчера, хотя торговля была не особенно удачной, он смог купить немного фиг и яблок для хоросета42. Сегодня он тоже купит небольшой кувшинчик вина и разбавит его водой, тогда каждый из членов семьи сможет выпить четыре чаши. Он вспомнил о четырех вопросах, которые должен был задать сыну в вечер праздника, и с грустью подумал, что Яхве лишил силы его чресла, и он смог родить только двух дочерей. От невеселых размышлений Фесду-Дисмаса отвлек приближающийся цокот копыт, подобный грохоту отдаленного грома, сопровождаемый протяжным звуком рогов. Фесда повернул голову и увидел, как над невысоким кустарником, зеленой каймой идущим по краю дороги, показались всадники в блестящих доспехах.
Меднокожей змеей колонна воинов размеренно ползла к воротам. В их неторопливом, слаженном движении чувствовалась мощь горного потока, смывающего на своем пути камни и стволы деревьев. Колонна приближалась неукротимо и угрожающе.
Впереди на гнедом жеребце ехал офицер в блестящем доспехе, таком же блестящем шлеме с красным плюмажем из страусовых перьев. Овальный щит красного цвета с бронзовым умбоном43 был прикреплен к седлу позади всадника, красный сагум44, стекая с плеч, опускался на седло. Позади него ехали три офицера, за ними гарцевал вексилярий45 в сопровождении двух тубиценов46, за вексилярием плотной слитной массой двигались всадники.
Когда голова колонны оказалась прямо напротив Фесды, двое молодых людей, стоящих позади него, выдвинулись вперед и, словно выбрав момент, бросились к всаднику, на ходу вынимая длинные кинжалы из складок симлы. Тот, что был постарше, оказался проворнее. Он первым очутился около офицера и прыгнул на него, одновременно нанося удар. И офицер, и всадник упали на землю. Офицер остался лежать. Нападавший вскочил, одним прыжком пересек дорогу и вломился в зелень кустарника. Все произошло так быстро, что стражники у ворот задвигались только после того, как инсургент, миновав мелкий кустарник, скатился вниз по склону и скрылся в зарослях терновника и боярышника. Второй юноша в зеленой симле бросился на крайнего офицера, ехавшего во втором ряду, но тот, заметив его, поднял коня на дыбы. Юноша остановился, растерянно оглядываясь, ища путь спасения, но офицер, опустив коня, прямо из седла бросился ему на плечи. Они упали на землю. Юноша вскочил, размахивая кинжалом в вытянутой руке. Он отступал, пятясь прямо на Фесду. Римлянин поднялся, обнажил акинак47 и неторопливо, шагом уверенного в себе воина, пошел на нападавшего. Пятясь, юноша споткнулся о короб Фесды и упал на спину. Совершенно неосознанно Фесда нагнулся, чтобы помочь ему подняться. Он протянул упавшему руку, и тут что-то ударило его по затылку. Фесда упал, проваливаясь во мрак.
Марк не успел понять, что происходит. И только когда Пантер свалился из седла на какого-то человека, он резко дернул повод, останавливая коня. Марк спрыгнул с седла, достал спату и неожиданно для себя увидел трибуна. Тот лежал на боку в какой-то неудобной позе, не шевелясь, голова его была неестественно откинута, и рядом с головой темнела лужа крови. Марк бросился на помощь Пантеру, но его опередил подбежавший декурион. Рукоятью меча он нанес удар по голове невысокого худого иудея, тот упал лицом вперед в придорожную пыль. Не останавливаясь, декурион ударил ногой, обутой в тяжелую калигу, пытавшегося подняться инсургента. Тот рухнул, выронив кинжал, схватившись руками за разбитое лицо. Сквозь белые длинные пальцы заструилась кровь. Декурион занес меч, чтобы пронзить инсургента, но его остановил окрик примпила:
– Живой, нужен живой!
Декурион вложил меч в ножны и, оторвав руки от его головы, рывком завернул их за спину. Марк увидел залитое кровью лицо юноши. Вместе с подошедшим Пантером декурион связал инсургента подобранными на земле веревками.
– Этого тоже, – приказал примпил, указывая на лежащего на земле Фесду-Дисмаса. Дисмаса связали подбежавшие вслед за декурионом солдаты.
Фесда очнулся и ощутил себя лежащим вниз лицом в серой пыли. Он попытался подняться, но с удивлением обнаружил, что руки его крепко связаны за спиной. Лежа, он повернул голову и увидел пропыленные ремни солдатских калиг и крепкие мясистые икры, тоже покрытые серым налетом пыли. Фесда хотел обратиться к этим икрам, но из горла вырвался какой-то хрип, и боль пронзила затылок. Он услышал слова на чужом языке и не мог понять, о чем говорят стоящие над ним люди. Потом его рывком подняли с земли так, что его худое слабосильное тело затрепетало, и боль еще сильнее вцепилась в затылок. Фесду подвели и поставили на колени рядом с юношей в зеленой симле. Он увидел опухшее лицо соседа и кровь, которая текла из его рассеченной брови. Крупными бордовыми каплями она падала на ткань симлы, расплываясь огромными пятнами. «Кровь не отстирать – пропала симла», – подумал Фесда. И тут он начал осознавать странность и дикость своего положения. Почему связаны руки? Почему он стоит на коленях рядом с человеком, который, наверное, был сикарием48? Почему солдаты сломали его короб? Почему они топчут его товары, мешая их с пылью? И ответом на все эти вопросы была страшная догадка, которая заставила Фесду содрогнуться, наполнила его маленькую душу ужасом. Неужели солдаты приняли его за сикария – друга этих людей? Это ошибка! Ошибку надо исправлять! Фесда поднял голову и, глядя на стоящего рядом солдата, превозмогая боль, проговорил:
– Я не с ними, я не они, развяжите меня.
Легионер, к которому он обратился, плохо понимал арамейский. Это был грек из Декаполиса – потомок македонских воинов. Он повернул голову и, не разобрав, что говорит этот тщедушный иудей, несильно пнул его ногой. Опасаясь более сильного удара, Фесда замолчал. Стоя на коленях, он видел, как спешившиеся всадники из пик и плащей сделали носилки, как закрепили эти носилки к седлам четырех лошадей и бережно уложили на них тело убитого офицера. Солдат приказал встать, и Фесда поднялся вместе с незнакомым юношей. Их поставили меж двух всадников, и они пошли, точнее побежали, подгоняемые ударами.
Перед аркой ворот колонна была вынуждена перестроиться: из-за узости Дровяной улицы конники могли ехать только по трое. Марк Рубеллий оказался впереди вместе с примпилом Пантером, который знал город и вел колонну к крепости Антония, где располагалась резиденция прокуратора, когда тот посещал Иерусалим.
Глава 2
В это утро прокуратор императорской провинции Иудея римский всадник Понтий Пилат проснулся по привычке рано, еще до рассвета. Эту привычку он приобрел во время военной службы. Как и все представители Лугдунской ветви всаднического рода49 Понтиев, он начал службу в юности. Служить пришлось в XV Аполлоновом легионе под началом Цецины Севера – в ту пору наместника Мезии. Потом легион передали под начало Марка Плавтия Сильвана, с которым молодой трибун пробивался к Сискии, сражался у Вульциевых болот. Он вместе со своей когортой50 оборонял лагерь, когда бревки51 и дессидиаты52, объединившись, разгромили вспомогательные отряды легиона и обрушились на лагерь. Именно там Понтий заработал свое почетное прозвище, которое надлежало передать потомкам, – Пилат-Копьеметатель. Он получил его за свое умение бросать солдатские дротики-пилумы: ни один, из брошенных им, не пролетел мимо цели. Именно его дротик поразил молодого вождя дессидиатов – гиганта с труднопроизносимым именем. После этого боя Понтий получил свою первую флеру53 с изображением богини Беллоны54. Его заметили. Гай Понтий, ставший Пилатом, был оставлен в Панонии при штабе прибывшего туда по приказу Августа Тиберия Клавдия Нерона, впоследствии императора Тиберия. Пилат отличился при осаде Андетерии: именно его разведчики обнаружили тайный подъем, ведущий в крепость, на крутой скале, и по нему легионеры смогли проникнуть внутрь этого последнего оплота Батона Иллирийского. Правда, в суматохе штурма Батону удалось ускользнуть. Пилат продолжал служить, став корникулярием55 при штабе Тиберия Клавдия Нерона. Пришлось сменить меч на стилос – умение командовать солдатами на умение разбираться с многочисленными документами. Как корникулярий, Понтий Пилат присутствовал при капитуляции Батона Иллирийского и был свидетелем великодушия Тиберия, который простил Батона и даже щедро наградил его. Позднее Пилат продолжал службу во II Августовом легионе в Аргенторате – римском военном лагере на германской границе. Там он дослужился до звания префекта лагеря56 и оттуда был переведен в Рим, в канцелярию императора, а потом послан в качестве префекта в эту неспокойную провинцию. На прощание могущественный префект претория57 Элий Сеян, с которым у Пилата были дружеские отношения, если вообще можно дружить с людьми такого высокого ранга, пожелал ему удачного пути и, странно усмехнувшись, произнес:
– Милый Понтий, провинция непростая, и это говорит о высоком доверии к тебе цезаря Тиберия. Я хочу дать тебе совет: твоя задача сделать так, чтобы на границе было тихо – цезарь не хочет войны.
– Но ведь, насколько я осведомлен, Иудея – беспокойная провинция, и там может начаться мятеж? – осторожно спросил Пилат.
– Там и идет мятеж, – улыбка скользнула по полным ярким губам всесильного префекта претория, – только не явный, а скрытый. По провинции бродят шайки инсургентов, да и в соседних областях положение не лучше. Дети Ирода из тех, кого их чадолюбивый отец не успел казнить, оказались слабыми правителями. Особенно тетрарх58 этот – Ирод Антипа. Его провинция Галилея – какое-то гнездо мятежников, и они кочуют из Галилеи в Иудею и обратно. Ты, мой милый Пилат, должен действовать решительно, и, если при ликвидации инсургентов будет немного больше убитых и несколько сожженных поселений, цезарь Тиберий посмотрит на это благосклонно. Твоя задача – не допустить большого восстания, не дать повод соседям парфянам использовать это в своих целях. И не очень стесняйся. Ты понимаешь, о чем я говорю?
И Сеян снова улыбнулся.
Эти воспоминания нахлынули на префекта Иудеи, когда он лежал на походной кровати в одной из комнат претория под стеганым шелковым одеялом. Утренняя свежесть наполняла небольшую спальню, легкая узорчатая занавесь на окне тихо колебалась. Пилат натянул одеяло до подбородка – так приятно было ощущать ласковое тепло шелка, и префект вернулся к отрадным мыслям. Сколько бы он здесь ни пробыл: год, два, – главное было сделано. Ему уже сорок четыре года, и пора подумать о спокойной, беззаботной жизни в родном Лугдуне. За время, которое Пилат провел в Иудее, он успел приобрести три доходные виллы, и, если управлять ими самому, а не полагаться на виликов59, то доход может быть еще больше. У него есть добротный дом с теплым полом, просторной баней и большим имплювием60 в самом Лугдуне на Вороньем холме, недалеко от театра. Управляющий писал ему, что к дому удалось провести водопровод. Пилат повернулся на бок и продолжал размышлять дальше. В Лугдуне можно стать декурионом61, хотя зачем ему эти хлопоты, ведь на декурионах лежат обязанности по поддержанию порядка в городе, они отвечают за выплату налогов и многое другое. Нет, лучше безмятежно и спокойно жить, наслаждаясь тихими радостями.
В окно проник странный звук, который становился все громче. Пилат прислушался: этот звук напомнил ему детство в далеком Лунгдуне. Так начиналось утро на их вилле. Это был голос зернотерок. Служанки, жены, старшие дочери крутили жернова, мололи муку для мацы. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» – так начиналось каждое утро в Иерусалиме и во всей ойкумене. День начинался с выпечки хлеба. К звуку зернотерок прибавился стук пестов. В каменных ступах растирались в мелкую кашу сельдерей, лук, чеснок и сильфий. Готовилась приправа к утреннему хлебу.
Префект откинул одеяло, ударив в медный гонг, стоящий на моноподии рядом с краббатос, позвал раба. Тот, следуя заведенному порядку, принес бронзовый тазик с водой и привел тонзора-раба, специально обученного бритью. Тонзор разложил набор бритв из закаленной стали и стал медленно удалять жесткую черную щетину со щек Пилата, иногда смачивая кожу. После бритья и умывания холодной водой тот же молчаливый слуга принес завтрак. Пилат был равнодушен к пище, как и всякий, кто большую часть жизни провел в военных лагерях, поэтому завтрак, принесенный рабом на глиняном блюде, был прост и даже аскетичен. Он состоял из ломтя белого хлеба панис секундарис, жесткого козьего сыра и пучка сельдерея. Рядом с блюдом раб поставил небольшой килик воды, слегка подкрашенной вином. После завтрака все тот же слуга, исполняя обязанности вестибулярия, принес и разложил на постели одежду, ожидая, какой наряд выберет сегодня господин. Прокуратор, поразмыслив, указал на тогу с узкой пурпурной полосой – официальную тогу римских магистратов. Слуга облачил Пилата, специальными деревянными скрепками, зафиксировав складки. Прокуратор прошелся по комнате, проверяя, удобно ли сидит тога, вышел в приемную и, миновав вестибюль, оказался на внутренней галерее второго этажа. Опершись на деревянные перила, он осмотрел двор, стражу, стоящую у открытых ворот. Башни по углам крепости Антония, сложенные из белого камня, блестели, как острия копий, и от восточной башни во дворе уже легла короткая сизая тень. На галерее его нашел номенклатор62-вольноотпущенник то ли грек, то ли египтянин – высокий крепкий человек в белом хитоне с бритой головой и узким умным лицом. В руках номенклатор держал свитки ситовника и деревянную табличку, покрытую воском.
– Господин, – обратился он, тихим голосом, – там пришли бенефициарий63 и фрументарий64. Выслушав номенклатора, Пилат молча повернулся, прошел в атрий65 и сел на курульное кресло66. Номенклатор вошел вслед за префектом, откинул тяжелую занавесь, отделявшую атрий от вестибюля, пропуская офицеров, и вопросительно посмотрел на префекта. Тот махнул рукой, и номенклатор удалился.
Вошедшие офицеры сели в плетеные кресла, стоящие напротив префекта. Бенефициарий был молодым, крепкого телосложения. Одет он был в солдатскую тунику, перехваченную широким солдатским поясом, на котором висела кожаная сумка. Бенефициарием он стал недавно, когда умер его предшественник, заразившийся какой-то местной болезнью. Этого молодого человека префект выбрал за ловкость и сообразительность, и тот старался доказать, что выбор Пилата верен.
Фрументарий был абсолютно не похож на римлянина: скорее всего его можно было принять за грека или даже за иудея, хотя вырос он недалеко от Остии, где у его отца, потомка римских всадников, была небольшая вилла. Он одет был в темно-синюю симлу и такого же цвета хитон. Черные слегка вьющиеся волосы были перехвачены узорчатой повязкой, на ногах у фрументария были кожаные башмаки местного пошива.
Первым начал бенефициарий. Он достал из кожаной сумки ситовник и доложил:
– Сегодня должна прибыть ала баттавов. Наместник посылает ее на усиление гарнизона во время праздников. Но потом ала должна отбыть на границу.
– И где ты ее намерен разместить, Эбуций?
В римской армии первого века еще царила суровая дисциплина, но офицеры общались между собой накоротке, как того требовало воинское братство.
– Во дворце Ирода: дворец стоит пустой. Правда, за ним следят слуги под руководством домоправителя. Я уже отправил ему приказание подготовить правое крыло дворца для приема солдат. Там есть и конюшни. Дворец хорошо укреплен, и солдаты будут в безопасности. Для провианта алы туда отправлено… – бенефициарий достал новый ситовник.
Пилат остановил его жестом:
– Не надо, я знаю, что ты исполнил все, как должно. У тебя все?
– Нет. Пришла почта. Для вас два частных письма и послание наместника.
Бенефициарий достал из сумки и, встав, подал прокуратору скрепленные между собой деревянные дощечки, опломбированные печатями. Префект взял послания, посмотрел на печати и положил их на стоящий рядом с креслом моноподий. Он перевел взгляд на фрументария:
– Ты сильно рискуешь, Ремий, придя в таком наряде прямо в преторий.
– Нисколько. Сегодня наш друг претор67 проверяет списки должников по налогам. У ворот толпятся должники, надеющиеся получить отсрочку. Солдаты пропускают их небольшими группами. Я прошел с одной из таких групп и сначала побывал у претора, а только потом поднялся к вам.
Префект поморщился и обратился к бенефициарию:
– Эбуций, прошу тебя спуститься и передать претору, чтобы он отпустил этих должников. Я ценю его заботу об императорской казне, но собирать в дни праздников толпу обиженных около претория – это опасно. Можно вызвать мятеж, чем не преминут воспользоваться инсургенты, которые, наверняка, уже проникли в город. Передайте претору, что с должниками мы разберемся после праздника. Что у тебя, Ремий?
Фрументарий дождался, пока уйдет бенефициарий, и тихо проговорил:
– Верный человек доносит, что предводитель отряда, действовавшего в Галилее, – некто Дим Галиелянин – собирается вместе с отрядом перебраться в окрестности Иерусалима на время праздника Песах. И еще. Сведения пока не проверены: два предводителя из Переи намереваются сделать то же самое.
– Собираются затеять смуту?
– Да, но здесь есть и еще нечто. Они верят, что в этом году должен появиться Машиах.
– Кто? – густые брови префекта удивленно приподнялись.
– Машиах – посланник их бога, который чудесной силой, полученной им от бога, уничтожит наши легионы, и иудеи станут хозяевами мира.
Пилат улыбнулся, вспомнив, как три года назад тоже пришелец из Галилеи собрал на Масленичной горе толпу фанатиков-идиотов, обещая им разрушить мановением рук стены города и уничтожить гарнизон римлян. Тогда он был недалеко от Иерусалима и послал на Масленичною гору сирийскую конницу, приказав рубить всех подряд, не заботясь о пророке. Сирийцы убили массу народа. О пророке никто не вспомнил – и это было главное. Слишком заняты были жители города своей скорбью, чтобы думать о каком-то безымянном пророке.
– Насколько многочисленны эти отряды, и где они намерены расположиться? – спросил префект после некоторого раздумья.
– Отряды немногочисленны, а места их дислокации я вскоре узнаю. Думаю, нам понадобится ала баттавов.
– Да, я считаю так же, тем более что трибун, который командует алой, – опытный офицер.
Фрументарий поднялся:
– Я вынужден уйти. Сейчас претор выгонит своих должников, и я должен выйти из претория вместе с ними. Как только я получу сведения об отрядах, я извещу тебя.
Когда фрументарий исчез (слово «ушел» не подходило), префект распечатал первое письмо. Оно было от его старинного друга, с которым Пилат служил еще в Панонии – Веллия Патеркула. Веллий после гибели Сеяна отошел от государственных дел и уехал на родину в Кампанию, где занялся литературой. Он писал, что цезарь после убийства Сеяна не появляется в Риме, проводя все время на Капри. Империей он управляет через приказы, которые передает сенату с Макроном. О себе Патеркул писал немного: что усердно работает и готовится закончить свой труд, в котором, как он надеется, правдиво отразил их время. В конце письма была странная приписка: «Vive valeque!68 И помни, мой друг, что нам с тобой не привыкать к переменам». Пилат задумался над последними словами далекого друга и решил, что Веллий предупредил его о болезни императора и о возможных переменах в Риме. Отложив письмо, префект подумал, что срок его пребывания в этой провинции может быстро закончиться, а значит, надо торопиться собрать как можно больше денег, чтобы потом в далеком Лунгдуне ни в чем не нуждаться.
Второе письмо было от жены. С первых строк Пилат понял, что Прокула, оставшаяся в Риме, писала по обязанности, как и положено римской матроне, поэтому он не стал читать письмо до конца, а отложил, пробежав глазами первые строки. «Пусть живет в Риме, – подумал Пилат, – а когда придет срок покидать Иудею, он поедет в Лунгдун, а там будет видно».
Пилат встал и, шурша складками тоги, прошелся по атрию. Он размышлял о том, как, каким образом ему удастся в короткий срок добыть еще хотя бы пять тысяч ауреусов – золотых монет с изображением цезаря Тиберия.
От раздумий префекта отвлек шум во дворе претория. Пилат вышел на галерею и увидел, как во двор въехали два всадника в офицерских доспехах. За ними следовали четыре конника. К седлам их коней были приторочены носилки, сделанные из пик и плащей. На них лежало неподвижное тело офицера. Всадники остановились и спешились. Пилат прошел по галерее и тоже спустился во двор по наружной лестнице. Заметив его, офицеры подошли и встали. Один из них, молодой, видно, служивший совсем недавно, оглянулся на второго, который был явно старше, со знаками примпила. Тот тихо произнес:
– Говори.
Молодой офицер обернулся и, глядя прямо в глаза префекта, доложил четким, преувеличенно громким голосом:
– Ала прибыла согласно приказу! На въезде в город трибун Фундарий был убит инсургентами! Двое инсургентов схвачены на месте, одному удалось скрыться! Трибун латиклавий69 Марк Рубеллий!
– Где захваченные сикарии? – спросил префект.
– Там, – Марк показал на пленных, окруженных солдатами.
– Сикариев в подвал! – приказал префект и, обращаясь к молодому офицеру, спросил: – Давно служишь?
– Нет, два месяца. Это мой первый поход.
– Сам откуда?
– Из Апулии.
Пилат посмотрел на второго офицера, и тот, вытянувшись, доложил:
– Гай Пантер, примпил двенадцатого легиона, вепри70.
Пилат ничего не ответил, молча подошел к носилкам, посмотрел на мертвого трибуна, прошел к воротам и оглядел пленных сикариев. Один из них, тщедушный, в старом линялом хитоне, разорванном на плече, что-то попытался сказать разбитыми в кровь губами, но префект не стал его слушать.
– В подземелье! – приказал он начальнику караула у ворот, потом вернулся к стоящим офицерам и, подумав, произнес, обращаясь к молодому трибуну:
– Алу отведете во дворец Ирода, – и, заметив, что трибун скорее всего не знает города, добавил, что декурион, начальник караула, покажет им дорогу.
– Я знаю город и знаю, где находится дворец Ирода, – проговорил примпил.
– Бене71, – ответил префект и, повернувшись, пошел к лестнице, ведущей внутрь претория.
Тюрьма располагалась прямо под крепостью Антония. В скале, на которой стоял город, был выдолблен подземный ход. Он, если верить слухам, вел прямо во дворец Ирода, и в нем, опять же если верить слухам, был убит один из сыновей Ирода. Римляне перекрыли вход стеной из каменных блоков, оставив только узкую щель, закрытую дубовой дверью. В боковой стене справа по ходу вырубили в скале камеры, более похожие на норы. Человек в них мог стоять только согнувшись. Слева, кроме двух камер, было вырублено большое просторное помещение, служившее для допросов. Пленных загнали в одну из камер, и легионер захлопнул дверь. Заскрипел засов, отделяя Фесду и его невольного спутника от мира.
Префект поднялся в атрий, вслед за ним туда поспешил бенефициарий.
– Что будем делать? – спросил он, обращаясь к бенефициарию. – Ала нам нужна как боевая единица. Ала, как я понял, не имеет боевого опыта.
– Да, – согласился бенефициарий, – ее сформировали еще по приказу Сеяна для усиления границ в Панонии. Но потом, после жалоб моего предшественника на ненадежность местного контингента, несущего охрану границы, алу решено было послать сюда и вообще сменить кавалерийские части, набранные в Сирии и Декаполисе, на испанские и галльские. Однако потом про это вроде как забыли.
«Сеян казнен, а цезарь, похоже, стал ко всему равнодушен, – подумал Пилат. – Не получим мы ни галльской, ни испанской конницы. И будут здесь границу охранять продажные сирийцы и себастийцы». Но вслух сказал совсем другое:
– Кого из офицеров мы назначим командовать алой?
Эбуций подумал и, медленно роняя слова, произнес:
– Из офицеров самый опытный примпил Пантер, но он из пролетариев, отца нет, мать завивальщица волос, прямо говоря, – шлюха. А из молодых я бы назначил Рубеллия, того, что вам рапортовал. Он из семьи солдат, отец погиб при Акции, дед потерял руку в Белгике, и, сами видели, есть в нем воинская кровь. А второй? Он хотя и из патрициев, но вялый какой-то, надменный: с солдатами ладить не будет. Я полагаю, лучше назначить Рубеллия, а на первых порах ему поможет Пантер. Переведем его в разряд дупликариев72. Пилат подумал и согласился. Он приказал бенефициарию удвоить патрули в городе и охрану у ворот.
Получив приказ вести алу во дворец Ирода, Марк вышел из ворот на улицу, где в тесноте, зажатые глухими стенами домов, его ждали баттавы. Не спешиваясь, они стояли посередине улицы, заставляя паломников, идущих к храму, пробираться вдоль стен. Те ругали всадников на своем языке, баттавы спокойно слушали, не понимая ни слова, и, только когда прохожий начинал эмоционально жестикулировать, кто-нибудь из баттавов угрожающе опускал пику. Паломник успокаивался и, ругаясь про себя, шел дальше.
У Марка возникло вдруг странное чувство, что все это происходит не с ним, словно кто-то показывает ему театральное действо, в котором живет и говорит другой Марк. Так в детстве он смотрел на проделки горбатого Магнуса-Пульчинелло, и деревянная кукла, сделанная умелыми руками бродячего жонглера, казалась ему живой. Сейчас на улице чужого города Марк вдруг почувствовал себя такой же куклой. Солдат подвел ему коня – фессалийского жеребца гнедой масти. Дед купил его, когда узнал, что внук будет служить в ауксилии. Жеребца звали Ферокс, и сейчас он косил на хозяина большими влажными глазами. Марк легко запрыгнул в жесткое галльское седло. Подъехал Пантер и встал рядом с ним. С другого бока встал Коммоний, который еще не опомнился после смерти трибуна Фундария.
Сцена во дворе претория, разговор молодого Рубеллия с прокуратором вызвали у Коммония подозрение, что этот молодой провинциал может быть назначен командиром алы. Чувство не зависти, а незаслуженной обиды появилось у молодого аристократа. Пока что единственным утешением, правда, слабым была мысль о том, что префект тоже из провинциалов и, естественно, продвигает по службе себе подобных. Погруженный в свои не очень веселые мысли, Коммоний почти не обращал внимания на город, который произвел сильное впечатление на Марка. Они, обогнув крепость Антония, выехали на площадь перед Храмом, точнее, перед стеной основания Храма. Несмотря на ранний час, на площади было много народу. Среди всех Марк заметил людей в кожаных панцирях и островерхих шлемах. В руках они держали тяжелые дубины, особенно много их было около арки, над которой располагалась широкая лестница, ведущая во двор храма. Ала миновала арку, и Пантер повернул коня вправо на относительно широкую улицу, изгибавшуюся дугой. Впереди Марк увидел полукруглое здание, похожее на театр, и вопросительно посмотрел на Пантера. Тот, заметив взгляд юноши, лениво ответил:
– Ирод – царь иудеев – получил власть по решению нашего сената как верный союзник Рима. Он любил наш образ жизни и хотел привить эту любовь иудеям, но они так и остались дикими варварами.
За театром располагался дворец, обнесенный невысокой стеной с зубчатыми башнями. Его ворота были закрыты, на стенах виднелись островерхие шлемы воинов. У монумента над гробницей Давида ала повернула на узкую извилистую улицу, застроенную богатыми особняками. Впереди показались черепичные крыши дворца Ирода.
Глава 3
Когда ала баттавов только въезжала на площадь перед храмом, в подземную тюрьму крепости Антония спустился квестионарий – римский чиновник, занимавшийся следствием. Это был плебей, чьи предки жили в Риме чуть ли не со времен Нумы Помпилия. Отец его, как и дед, и прадед, держал в Риме пекарню на Велабре – узкой долине, превратившейся в улицу между Палантином и Капитолием. Здесь торговали всевозможной снедью, рыбой, пойманной в Тибре, колбасой, вином разного качества, оливковым маслом и знаменитым велабрским копченым сыром, запах которого пропитал, казалось, стены домов. На узких прилавках маленьких лавочек пекари выкладывали различные сорта хлеба: от дорогого панис кандиди до самого дешевого серого хлеба из непросеянной муки, который назывался деревенским. Отец был уважаемым человеком в братстве пекарей, дал хорошее образование и старшему, и младшему сыну, надеясь, что один из них станет чиновником. Луция Эмилия, в отличие от старшего брата, не привлекало отцовское ремесло, его манили дальние страны, о которых он слышал от Диокла – своего учителя греческого языка. Манила воинская служба, и, когда исполнилось девятнадцать лет, Луций стал стипендиарием и сразу был направлен в десятый легион. В строю Эмилий прослужил недолго: грамотного и сообразительного легионера быстро заметили – он выделялся среди сельских парней, составлявших основную массу легионеров, – и определили сначала писцом, а потом назначили квестионарием и отправили в Иудею. Несмотря на небольшой опыт службы чиновником, под влиянием традиций, сложившихся еще во времена республики, Луций Эмилий быстро превратился в типичного римского бюрократа начала новой эры. Основным качеством этой бюрократии было честное служение римскому государству. Чиновники не отделяли себя от этого государства, исполняли все, что положено, честно и добросовестно и стремились принести этому государству максимальную пользу. Но этот монолитный слой, приносивший империи максимальную пользу, уже разъедала ржа коррупции. Уже появлялись чиновники, которые смотрели на занимаемую должность как на синекуру – как на средство личного обогащения. Правда, Луций Эмилий относился к чиновникам старой формации.
Войдя в комнату для допросов, он застал там писца и палача, который ручными мехами раздувал небольшой переносной горн. Квестионарий прошёл к центру комнаты, где стояло курульное кресло, сел, положив руки на широкие подлокотники. Обернувшись к писцу, он ровным монотонным голосом проговорил, чеканя каждое слово:
– Пиши: «Я, Луций Эмилий, квестионарий при префекте императорской провинции Иудея, за два дня до майских ид в год консульства цезаря Тиберия и Луция Волкация Тулла начинаю следствие по делу об убийстве трибуна алы баттавов Фундария группой сикариев».
Он замолчал, переводя дух, и приказал легионеру, стоящему у двери, привести первого арестованного. Тот ушел и скоро вернулся, ведя перед собою тщедушного иудея в старой полинялой симле. Поставив арестованного перед следователем, легионер отошел к двери и застыл, равнодушно невидящим взглядом наблюдая за происходящим.
Квестионарий посмотрел на задержанного, на его трясущуюся в нервном ознобе фигуру, на лицо, половина которого была занята багровой опухолью, на сочащиеся кровью тонкие губы. «Не очень-то он похож на сикария», – подумал квестионарий и, обращаясь к писцу, спросил:
– Показания очевидцев есть?
Писец замялся:
– Я успел опросить только караул у Дровяных ворот, а конников опросил в общем: записал их показания на один ситовник. Потом оформлю все, как требуется, для отправки в Сенат.
Луций Эмилий поморщился и взял ситовник, поданный писцом. Наскоро пробежав ровные четкие строки, он вернул ситовник писцу и спросил стоящего перед ним дрожащего человека:
– Кто был с тобой? Назови их имена и скажи, где можно найти того, который сбежал с места преступления. Если ты правдиво ответишь на мои вопросы, то закон будет милосерден к тебе. Если ты солжешь, то этот человек будет тебя пытать, и тебе будет очень больно. Или ты готов терпеть боль ради своего бога и не боишься пыток?
– Я боюсь пыток, игемон, – дрожащим голосом ответил Фесда, – но я ничего не знаю. Я – торговец. Игемон может спросить в квартале кожевников про Фесду, которого прозвали Дисмас, и каждый скажет, что Дисмас – мелкий торговец, а жена его и дочери шьют мешки и сумки.
Квестионарий повернулся к писцу и ровным спокойным голосом проговорил:
– Запиши: подозреваемый, который именует себя Дисмасом, отказался дать правдивые показания.
Квестионарий вопросительно посмотрел на палача, а тот – на задержанного и сделал рукой знак, который показывал, что пытка бесполезна: арестованный быстро потеряет сознание и станет нечувствителен к боли.
– Значит, ты не желаешь говорить правду? – вновь спросил квестионарий. – А вот солдаты, которые несут стражу у ворот, показали, что ты помогал террористу подняться. А декурион Рект – начальник караула у Дровяных ворот – показывает, что ты даже мешал нанести ему удар. Я верю, что ты, Дисмас, – торговец, но разве это мешает тебе быть сикарием?
Фесда молчал. Он не знал, что ответить этому римлянину, такому равнодушно-холодному, словно перед ним стоял не человек, а параграф из их законов.
– Человек упал, – голос его звучал тихо: мешала боль в разбитых губах. – Я помог ему встать. Это так обычно помочь упавшему, и не моя вина, что я случайно помешал господину декуриону. Я не знаю этих людей. Я даже не видел, как они пришли. Я не знаю, кто они и где их искать. Я прошу поверить мне и отпустить домой. Скоро праздник, и моя семья ждет меня.
Луций Эмилий слушал задержанного и лишний раз убеждался в коварстве местного народа. Он считал показания солдат, которым нет смысла лгать, истинными и видел, что этот Дисмас, или как его там, уклоняется от ответственности, стремясь разжалобить его. Он дал знак легионеру, чтобы тот увел задержанного. Пока тот тащил упирающегося Дисмаса, кричащего что-то о своей невиновности, призывающего в свидетели Иегову, правда, крик его больше походил на шипение, Луций Эмилий обменялся мнением с писцом. Писец, служивший здесь еще при прежнем прокураторе, был уверен, что все местные жители так или иначе – разбойники и мечтают только о приходе Машиаха, который прогонит римлян и даст иудеям власть над миром. Луций поинтересовался:
– Кто же такой этот Машиах?
Писец точно не знал, но, объясняя, сравнил Машиаха с Геркулесом, который, однако, гораздо сильнее и могущественнее. А чтобы этот Машиах пришел, иудеи должны действовать – вот они и действуют.
Легионер привел второго задержанного, и, глядя на него, квестионарий подумал, что с этим будет труднее, чем с первым. Крепкий, среднего роста иудей, судя по одежде, из хорошей семьи, стоял спокойно, сцепив перед собой руки и дерзко смотрел на квестионария маленькими, злыми, как у хорька, черными глазами, притаившимися под тяжелым нависшим лбом. Квестионарий произнес дежурную фразу о милосердии закона к раскаявшимся преступникам, напомнил о распятии или кипящем масле – наказаниям, полагавшимся за убийство римлянина. Задержанный молчал, продолжая смотреть на римского чиновника. Луций Эмилий спокойно выдержал этот взгляд. В сущности, ему было безразлично, заговорит этот инсургент или нет. Показаний легионеров, несших караул у Дровяных ворот, достаточно, чтобы отправить обоих на крест, а показания офицеров алы баттавов, которые писец запишет после допроса, только усугубят вину этих двоих. Тем не менее он дал знак палачу. Тот снял со стены скорпион – треххвостовую плеть из сыромятной кожи, смоченной в соленой воде. На конце каждого хвоста были острые, тонкие шипы, похожие на жало скорпиона. Именно поэтому такое орудие из арсенала палача получило свое название. Палач подошел к инсургенту и взялся за ворот симлы, чтобы, разорвав ее, обнажить спину. Едва рука служителя закона коснулась ткани плаща, взгляд иудея изменился, глаза утратили дерзкое выражение и покатились куда-то под лоб. Он задрожал, как в лихорадке, и, тоненько взвизгнув, упал на пол. Он рухнул, как падает сброшенная с плеч одежда. Палач удивленно посмотрел на задержанного, присел, повернул лицо упавшего к себе, провел по нему широкой ладонью и тихо проговорил:
– Живой, дышит. Сейчас его допрашивать бесполезно – трус. Он наговорит то, чего и не было.
Луций Эмилий повернулся к писцу:
– Нам его признание не особенно и нужно. Отправишься во дворец Ирода и снимешь показания с офицеров. Для военного суда этого более, чем достаточно.
– А тот, третий? – спросил писец. – Да и имя его надо бы занести в протокол, – добавил он.
– Третьим пусть займется фрументарий. Я думаю: эти двое вряд ли знают, где он может спрятаться – у таких всегда несколько нор. А имя? Зачем оно нам? Запиши, что подследственный молодой иудей признал себя виновным в убийстве римского офицера, но имя назвать отказался. И оформи дело, как положено. В восьмом часу дня я должен буду передать это дело префекту.
Квестионарий умолк, потом поднялся и вышел из помещения для допросов. Писец остался писать.
– А с этим что? – спросил легионер, кивая на лежащего инсургента.
– Если не сдох, – раздраженно проговорил писец, продолжая заполнять ситовники, то отнесите в тюрьму или на обед к префекту.
Палач вместе с легионером подняли бесчувственное тело и вынесли из комнаты. В камере они швырнули его на пол и удалились, закрыв дверь. Писец собрал заполненные ситовники в кожаную сумку, висевшую на поясе, туда же прикрепил чернильницу и стилос и, сетуя на то, что по дневной жаре придется идти в Верхний город, тоже покинул комнату, не забыв потушить факел.
Глава 4
Рационалий73 императорской провинции Иудея Спурий Ицилий – потомок древнего плебейского рода – сидел за столом в небольшой комнате на первом этаже претория. Перед ним стоял скриба-писец, ведавший списками налогов и должников. Рационалий просматривал фамилии иудеев, задолжавших римской казне. После реформы, которую провел цезарь Тиберий, уничтоживший откупа, вся забота по сбору налогов с провинций легла на специальных чиновников, одним из которых был Спурий Ицилий – молодой римлянин, едва перешагнувший через возрастной ценз, необходимый для занятия такой должности. Просматривая списки не уплативших налоги, он постепенно впадал в уныние, близкое к отчаянию. Налогов собрано было крайне мало, причем среди должников числилась не только сельская беднота, что было естественно, но и люди состоятельные. Ведомость поступлений с таможни выглядела не лучше. Спурий поднял глаза на скрибу и спросил:
– Сколько на сегодня собрано денег?
Писец назвал ничтожно малую сумму. Спурий встал и нервно прошелся по комнате от стены до стены. Он вспомнил последнюю инструкцию, полученную из Рима за подписью одного из трех главных квесторов. В ней напоминалось об ответственности, которую несут рационалии за пополнение казны. Цезарь Тиберий сократил провинциальные налоги, и если деньги из провинции поступали несвоевременно, то это объяснялось только нераспорядительностью местных чиновников. В качестве отрицательного примера в инструкции упоминалась и провинция Иудея. Вернувшись за стол, Спурий Ицилий взял ворох ситовников и посмотрел на них так, словно оттуда должны были высыпаться драхмы и ауреусы. Взгляд его остановился на одном из имен.
– Абба бар Гедалия – кто это? – спросил Спурий писца.
– Богатый тамкар. Торгует товарами, которые привозят арабы: перцем, благовониями, тканями из земли андхов и даже шелком из Серики, – отвечал писец.
– Он заплатил всего 60 статеров, – удивился Спурий, – и это одна сотая от его оборота.
– Этот Гедалия, по слухам, глава братства черных тамкаров, – пояснил писец. – Эти торговцы покупают товар, который бедуины переправляют через границы, минуя наши таможни. Потом товары через Иопию или Тир растекаются по империи. Говорят, что люди у Гедалии есть даже в Лондиниуме, но это, скорей всего, слухи. Я считаю: их распускает сам Гедалия, чтобы придать себе больше весу.
Рационалий подумал, глядя на ситовник, потом приказал писцу составить доклад о деятельности Аббы бар Гедалия. Доклад этот он хотел показать префекту и, может быть, с его помощью выбить из наглого, по его мнению, торговца большую сумму. Но это – в будущем, а что делать сейчас, когда Рим требует отправки податей? По слухам, цезарь Тиберий хотя и сидит затворником на своем Козьем острове, но зорко следит за пополнением казны. Подумав, Спурий Ицилий решил отправить то, что собрали, а в отчете объяснить отсутствие должных сумм нерасторопностью мытарей – сборщиков налогов на местах. Отправлять деньги надо было сейчас, тем более, как считал Спурий, инсургенты скорее всего будут заняты своими религиозными церемониями, и дороги будут относительно безопасны.
Спурий Ицилий поднялся, вышел из комнаты и, пройдя по узкому коридору, очутился во внутреннем дворе. Там на него обрушилась жара. После сумрака помещения солнце слепило глаза. Рационалий торопливо пересек двор наискосок и оказался в тени галереи. Здесь было тоже жарко, но солнце уже глаз не слепило. Стоя под навесом галереи, Спурий услышал голос города. Это был шум, похожий на отдаленный шторм. Множество звуков: и стук копыт по камням, и голоса торговцев, нахваливающих свой товар, и крики людей, спорящих, веселящихся и печалящихся – все это сливалось в глухой голос города. Зачарованный этим странным гомоном, рационалий Спурий Ицилий простоял под навесом галереи несколько минут и, словно очнувшись, вспомнил, что шел в канцелярию когорты, прибывшей с префектом на праздник.
В канцелярии бенефициарий, выслушав Спурия, задумался, а потом предложил отправить деньги под охраной себастийцев – наемных солдат Ирода Антипы. Тот как раз прибыл на праздник и остановился в своем дворце. Так как город охраняет когорта, гарнизон крепости Антония и ала баттавов, то личная охрана тетрарху в таком количестве не нужна. Да и лучше будет удалить часть себастийцев из города на время праздника: неизвестно, на чью сторону встанут они, случись беспорядки.
– В этом году, что-то особенно тревожно – не так, как в прошлом. Конечно, – заключил он, взглянув на недовольную мину на лице рационалия, – такое дело нельзя доверять варварам, и командование себастийцами необходимо поручить опытному римскому офицеру. Таким офицером будет центурион второй когорты Гай Мемий – искушенный и осторожный командир. Я направлю его к вам и сейчас же пошлю гонца к Ироду Антипе. Полагаю, что мы сможем подготовить обоз с налогом и отправить его завтра утром во втором часу дня. Спурий, у которого не было выбора, вынужден был согласится, тем более что теперь ответственность за сохранность денег ложилась на командование когорты. Если все считают, что себастийцы – это достаточная охрана, то пусть так и будет. Уже в своей канцелярии он отдал приказание упаковать монеты в прочные кожаные мешки и запечатать их свинцовыми печатями.
Глава 5
Глава корпорации черных тамкаров Абба бар Гедалия в это утро проснулся поздно и с ощущением неясной тревоги, которая появилась, как только он открыл глаза, из ничего. Лежа под тонким шелковым одеялом, Абба пытался понять, откуда взялось это чувство. Дела его шли хорошо. Сегодня должны были прибыть два шейха, которые доставляли ему товары из Arabia Felix74. Правда, после неудачной экспедиции Гая Элия Гала цезарь Август ввел государственную монополию на перец и пряности, и теперь ввозить эти товары можно было только нелегально. Но Гедалию это не пугало: именно шейхи, которых он ждал, уже наладили контрабандную доставку и нуждались лишь в деньгах. Деньги у Гедалии были, и шейхи выражали готовность сотрудничать. Он знал, что они уже прибыли в город: об этом еще вчера ему сообщил домоправитель Елиазер. Шейхи, как всегда, остановились в караван-сарае «Сион», и Гедалия намеревался сегодня навестить их, чтобы договориться о поставках перца и миро. На исходе прошлой седмицы Абба получил от своего компаньона из Александрии письмо, в котором тот просил прислать два бата перца. Ничто не могло помешать этой сделке и нажить лихву. Гедалия встал, сам – без помощи слуги – надел легкий хитон и талит из дорогой тирской ткани. Прежде чем совершить утреннюю молитву, он позвал слугу и спросил:
– Все ли в порядке в доме?
Вопрос несколько удивил слугу, но тот спокойным голосом сообщил, что дома все хорошо. Отпустив его, Гедалия совершил утреннюю молитву, переменил талит на халлук синего цвета, украшенный красной вышивкой по подолу и краям рукавов. Из шкатулки он достал два золотых перстня: с бирюзой – оберег от зла – и сердоликом – символом жизненной силы. Один перстень он надел на указательный палец левой руки, другой – на средний правой. Накрыв голову тюрбаном, Гедалия отправился на галерею, выходившую во внутренний двор. На половине жены – дом тамкара был построен по греческому образцу – суетились служанки. На галерее появилась и жена, колыхаясь дебелым телом. Гедалия прошел по галерее, огибая двор, и подошел к жене, которая встретила его, сидя в удобном плетеном кресле. В последнее время у нее распухали и болели ноги. Глядя на нее, Гедалия подумал, что жена очень быстро состарилась. В этой толстой с оплывшим лицом женщине теперь невозможно было узнать юную, стройную девушку – дочь богатого тамкара. Сам Абба, несмотря на возраст, сохранил стройность тела, и, хотя лицо его покрыли морщины, глаза смотрели по-молодому. Он сел рядом с женой на скамью темного дерева и сделал вид, что слушает ее рассказ. Сам он пытался понять, почему тревога, родившаяся утром, не проходит, а только набирает силу, поэтому сообщение жены о том, что их сын Варраван ушел куда-то рано утром, надев праздничную одежду, Гедалия пропустил мимо ушей. Он наскоро попрощался с женой и спустился во внутренний дворик. Подозвав слугу, Гедалия приказал подать паланкин, сделанный по римскому образцу с занавесками и подушками. Абба знал, что блюстители закона давно осудили его за паланкин, за пристрастие к римско-греческим обычаям.
Абба бар Гедалия был правоверным иудеем, чтящим закон. Но господство римлян не возмущало его. Да, римляне были людьми другой веры, но они принесли на их землю порядок: прекратились мятежи и войны, разорявшие страну в прошлом. Для оборотистых, смышленых людей Рим давал большие возможности. Теперь для них были открыты все пути Ойкумены от Антиохии до далекого и почти сказочного Лондиния. Римляне нравились Гедалии своей практичностью и деловитостью. Они не питали несбыточных надежд вроде тех, какие имели некоторые из его соплеменников, не тратили сил понапрасну, если были не уверены в достижении цели. Ожидание освобождения от власти римлян Абба считал не только глупым, но и вредным. Получая информацию от своих посредников и компаньонов, он был прекрасно осведомлен о положении в империи. Абба знал, как умеют римляне расправляться с непокорными. Его египетский компаньон писал о гибели Такфарината и о печальной судьбе сына. Гедалия, как практичный человек, не верил, что необученные земледельцы и пастухи смогут победить профессиональную армию Рима. Когда при нем заговаривали о том, как хорошо живется их соплеменникам в Парфии при Артабане, а особенно в Адиабене, Гедалия лишь саркастически улыбался. Парфяне, как и римляне, были для Эрец-Исраэль чужаками, и неизвестно, кто из них был хуже.
Носильщики-эфиопы, невысокие мускулистые парни – их хорошо кормили, – подали паланкин, устроенный на римский манер с голубыми занавесями, украшенными золотыми кистями и мягкими шелковыми подушками пурпурного – модного в империи – цвета. Откинувшись на подушке и задернув занавеси, Абба бар Гедалия весь отдался плавному покачиванию паланкина – приятному ощущению неторопливого полета. В просвете между занавесями мелькали головы прохожих, стены домов и полосатые маркизы над лавками торговцев. До его уха долетал говор толпы, крики зазывал, заунывная речь на чужом языке. Носильщики остановились, пропуская римский патруль, и бар Гедалия увидел блестящие каски легионеров и наконечники пилумов. Наконец носилки остановились около небольшого двухэтажного дома. В нем находилась лавка, которая принадлежала его доверенному лицу – Елиазеру бен Иегуде. Здесь бар Гедалия встречался с другими доверенными людьми, заключал тайные сделки.
Елиазер встретил хозяина в первой комнате, почтительно встав из-за деревянного прилавка, на котором были разложены образцы товара. Внешне Елиазер больше походил на солдата, чем на торговца. И только умные с хитринкой глаза да вкрадчивый голос выдавали в нем опытного тамкара. В лавке было душно, пахло мускусом, ладаном и еще чем-то знакомым. Несмотря на духоту, у Елиазера поверх легкого хитона был надет халлук из дорогой тяжелой ткани. Он не только считал, но и говорил открыто, что он – потомок Елиазера, служившего домоправителем у Иосифа и собиравшего в путь Иакова, когда тому пришлось бежать в Ур Халдейский после некрасивой истории с правом первородства.
Елиазер проводил хозяина в покой, располагавшийся позади лавки и отделенный от нее деревянной дверью. Это был одновременно и склад, и деловой кабинет. Около узкого стрельчатого окна, выходившего в переулок, стояло деревянное кресло с высокой спинкой и обитыми тканью подлокотниками, а также несколько простых табуретов. Рядом со столом находился сундук из дерева, закрытый на большой висячий замок.
Опустившись в кресло, расправив складки халлука и удобно расположив руки, бен Гедалия посмотрел на Елиазера. Тот понял, что пришло время доклада. Подумав, с чего начать, он своим вкрадчивым голосом проговорил:
– Незадолго до вас были два грека из Декаполиса. Принесли письмо от вашего доверенного человека Хаги из Массифа. Они хотят купить по шесть мин мирры, нарда и костуса. Я так понял, что они там у себя делают нардинум, разливают его во флаконы, которые покупают у сирийцев и продают в Антиохию. А может быть, игемон, – продолжал Елиазер, – нам самим этот нардинум делать? Открыли бы мастерскую. Не здесь, а где-нибудь в Иопии или лучше – в самой Кесарии. И продавали бы. Да не в Антиохию, а прямо в Рим. Судя по этим грекам, дело выгодное: у старшего на пальце огромный золотой перстень со смарагдом.
Бар Гедалия помолчал, оценивая предложение домоправителя и ответил:
– Для этого надо уметь готовить этот нардинум. Там много всяких секретов. Таких мастеров мы здесь не найдем, а чужие свои секреты не расскажут. Самим пробовать – только товар испортить. Ты, когда продавать будешь, поговори с ними. Можешь предложить им постоянную поставку прямо к ним, в Массиф, и цену предложи хорошую.
Елиазер согласился и продолжал стоять перед хозяином, ожидая дальнейших указаний. Абба бар Гедалия молчал, перебирая пальцами корешки ладана, лежащие на столе. Худое лицо его как-то странно огрузнело, от носа к кончикам сухих губ пролегли глубокие складки.
– Ты чем-то огорчен, игемон? – спросил Елиазер.
– Не знаю, – Гедалия оставил в покое корешки ладана. – С утра у меня, Елиазер, какое-то странное чувство, словно змея подобралась к сердцу и сосет его. Будто что-то плохое должно случиться или уже случилось.
– Плохих вестей вроде не было, игемон, да и откуда им быть? Дела идут хорошо, власть нас не трогает. Префект регулярно получает, что положено. Хвала Яхве, мне вчера принесли весточку, что товары, которые ты отправил нашим братьям в Адиабену, дошли благополучно. Шейх Зайд аль-Харис в точности исполнил обещанное. Я думаю, что с ним можно будет вести дела и дальше. Его человек сообщил, что ткани из Серики в обмен на наши товары шейх доставит после Песаха. Правда, посланец рассказал, что на нашей тропе, возле Иерихона, римляне собираются поставить таможенный пост. Ты, игемон, сегодня будешь встречаться с шейхами бедуинов. Поговори с ними. Я думаю, у них есть свои тайные тропы. Может быть, они помогут нам.
– Эти шейхи просто так не помогут и запросят за помощь немалую сумму.
Разговор о делах несколько отвлек Гедалию. Тревога словно спряталась, притаилась где-то в уголке души, ожидая своего часа.
– Самим надо искать тропы. Ты пошли людей, пусть поищут в окрестностях Махерона. Путь, конечно, будет длиннее, зато дешевле и надежней. А про римский пост я поговорю с Симоном. Деньги он получает – вот пусть попробует отработать. У тебя все припасено для Седера?
– Все, игемон, сегодня принесут ягненка, резак обещал после полудня.
Бар Гедалия замолчал, откинувшись на спинку кресла. Молчал и Елиазер. Постояв еще немного, он понял, что господин не хочет продолжать беседу, что тот погружен в свои не очень веселые думы, и тихо вышел в лавку, прикрыв за собой дверь.
Слуга, карауливший лавку, пока Елиазер беседовал с хозяином, молча встал с табурета и через маленькую дверь, отделенную занавесью, удалился в комнату, в которой занялся своим делом: развесом и упаковкой благовоний. Слуга был сирийцем и Песах не праздновал. В нише стены, прямо над весами, на которых он взвешивал дорогие корешки и крупицы смолы, стояла глиняная фигурка Астарты, у которой слуга постоянно просил исполнить его мечту. Мечта была незатейлива, как и он сам. Он хотел разбогатеть и вернуться домой, но Астарта плохо слушала его просьбы, а точнее, – не слушала совсем.
Елиазер вышел на улицу, по которой люди шли к Храму. Белое солнце уже поднялось высоко и медленно выжигало город. Он постоял и вернулся в лавку. Елиазер не ждал покупателей, разве что таких, как эти греки, для которых день был обычным в череде других дней, отмеренных человеку богом. Он сел на свой табурет за прилавком. Мысли его были приятны: он знал, что дома все готово для праздничного ужина, что уничтожены остатки квасного хлеба, что у жены и дочери есть новые наряды. Внутренне Елиазер гордился собой, своим умом и трудом, который принес в дом достаток. Он гордился собой так же, как будут гордиться мужчины через две тысячи лет, глядя на новый наряд жены, на богатый стол, освещенный цветными огнями новогодней елки.
Мысли Елиазера были прерваны молодым человеком, вошедшим в лавку. Было видно, что тот спешил. По его полному лицу пролегли грязные дорожки, оставленные каплями пота. Они начинались от глаз и пропадали в густой черной бородке. Несмотря на приличную одежду, молодой человек не походил на покупателя. Подойдя к прилавку, незнакомец остановился, переводя дух. Отдышавшись, он обратился к Елиазеру почему-то шепотом:
– Имею к тебе важное дело.
– И какое дело заставило тебя так торопиться ко мне?
– Ты знаешь человека по имени Абба бар Гедалия?
– И что?
Елиазер во время разговора внимательно рассматривал незнакомца. Он сразу понял, что этот молодой человек из тех, кто кормится около Синедриона, оказывая его уважаемым членам мелкие услуги и выполняя их несложные поручения.
– Меня послал Ездра-законник, заседающий в Синедрионе, – ответил незнакомец. – Он дал мне важную весть для этого человека.
Елиазер отворил дверь, ведущую в покой, где продолжал неподвижно сидеть бар Гедалия и жестом предложил вестнику войти. Тот вошел и остановился перед сидящим тамкаром. Елиазер последовал за ним, притворил дверь, и, указывая на хозяина, проговорил:
– Говори, этот человек – Абба бар Гедалия.
Тамкар поднял глаза на незнакомца, потом вопросительно взглянгул на домоправителя.
– Он от Ездры-законника в Синедрионе, и у него к тебе важное слово, игемон, – пояснил Елиазер.
Молодой человек посмотрел на Елиазера, потом на тамкара, как бы спрашивая, можно ли говорить при нем.
– Говори, – приказал бар Гедалия.
– Прости, игемон, – произнес незнакомец, – моя весть будет печальна. Твой сын Иешуа бар Абба, прозванный Варраваном, арестован римлянами и посажен в тюрьму претория по приказанию префекта.
– За что? – внезапно севшим голосом спросил тамкар.
– Ездра точно не знает, но сын твой то ли убил римского офицера, то ли принимал участие в убийстве, то ли просто находился рядом. Но, как слышал Ездра, его обвиняют в убийстве и сейчас, наверное, допрашивают.
«Сын мой, Авессалом! Сын мой, сын мой, Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» – эти слова повторял, плача, царь Давид, когда узнал от Хусия о гибели своего старшего сына, и весь Израиль утешал его.
Но некому было утешить Аббу бар Гедалию. Да можно ли утешить человека, который теряет своего единственного сына? Цепкие пальцы тамкара впились в мягкие подлокотники, он закрыл глаза, ощущая, как холодный ком в груди расширяется, затрудняя дыхание. Змея тревоги впилась в сердце, разрывая его на части.
– Уходи, – тихим голосом проговорил бар Гедалия, открыв глаза и глядя на вестника печали. Он достал из кошеля, висевшего на поясе, и положил на столешницу две серебряные монеты с изображением чаши.
– Прости, игемон, но денег этих я не возьму. Я принес тебе печаль и горе. Тебе не за что меня благодарить, да и мне эти деньги не принесут ни счастья, ни удачи. Прости за худую весть. Да хранит тебя Иегова. И пусть твой человек даст мне воды. День был жаркий, а я спешил.
Елиазер увел вестника и вскоре вернулся. Бар Гедалия продолжал сидеть по-прежнему. Потом, не меня позы, спросил Елиазера:
– Сколько денег у тебя здесь?
Елиазера поразило изменившееся лицо хозяина, ставшее вдруг похожим на лицо старца, и слабый старческий голос, но особенно удивило то, что тамкар, цепко державший в памяти все денежные счета, не помнит, сколько золотых и серебряных монет хранится в тайнике.
– Здесь у меня сорок мин и пятьдесят статеров, – ответил Елиазер. – Завтра должны доставить товар тамкары из Набатеи, и я отложил мины, чтобы рассчитаться с ними, а сорок статеров были обещаны Симону Зелоту, и он хотел на днях прислать своего человека.
– Никому ничего не плати, – голос тамкара окреп. – Набатейцы подождут: никто не возьмет сразу столько товара за деньги, кроме меня. Не хотят – пусть ищут другого тамкара. Только где они его найдут? Человеку Симона скажи: пусть явится сам. Пусть поторопится и ждет меня здесь. Я и так уже дал ему немалую сумму, а толку пока на две лепты. Да пройдись по тамкарам и попроси для меня денег. Скажи: у бар Гедалии – беда, но не говори какая, хотя, наверное, уже знают. Все деньги доставишь ко мне домой, и если придет Симон, то приведешь его, но тайно.
– Я сделаю все, как ты сказал, игемон, – ответил хозяину Елиазер. Сопровождаемый домоправителем Гедалия выбрался на улицу и опустился на мягкие подушки паланкина. Бросив носильщикам короткое: «Домой!», тамкар погрузился в невеселые размышления.
Сын, его единственный сын, наследник, находился в опасности! Может быть, сейчас его пытают! Гедалия был прекрасно осведомлен, как допрашивают подозреваемых в римских тюрьмах. Если бы сын нарушил закон, Гедалия знал бы, что предпринять. Он всегда сумел бы договориться с членами Синедриона, но убийство римлянина, да еще и римского офицера, – за это его сыну грозила смерть. Римляне умели быть беспощадными! Если бы у него было несколько сыновей! Но после рождения первенца бог запечатал лоно его жены, и, несмотря на долгие годы брака, на все его старания, она оставалась бесплодной. Но он не роптал – пусть будет так, если такова воля бога. Он должен сохранить наследника, продолжателя рода Гедалия! Размышления о боге натолкнули тамкара на мысль, показавшуюся ему спасительной. Откинув полог паланкина, он приказал носильщикам:
– К дому наси, которого зовут Каиафа.
Глава 6
Дом главы Синедриона – наси – находился в верхнем городе недалеко от дворца Ирода. Дверь, ведущая во внутренний дворик, выходила на узкую тихую улицу. В этом квартале не жили торговцы и ремесленники, и потому улицы его не звенели громкими криками, расхваливающими свой товар. Это был район тех, кого называли саддукеи: членов Синедриона, богатых торговцев и землевладельцев. Гедалия торопил носильщиков, и те спешили, переходя на бег, когда это было возможно, пробиваясь сквозь плотную массу паломников. Абба бар Гедалия торопился: он хотел застать уважаемого наси дома, чтобы поговорить с ним наедине. Ему повезло: у ворот он увидел паланкин и стоящих в вольных позах носильщиков. Привратник сообщил ему, что хозяин дома, но собирается отбыть в Синедрион, тем не менее согласился доложить господину о столь важном и уважаемом госте.
Иосиф – первосвященник, наси Синедриона, зять влиятельного саддукея Хананна бар Шета, тридцатилетний представительный мужчина с приятным округлым лицом, обрамленным короткой окладистой бородой, одетый в парадные одежды, уже собирался спуститься к воротам, когда вошел привратник и сообщил, что уважаемый тамкар Абба бар Гедалия просит встречи по очень важному делу. Иосиф хорошо знал, кто такой Абба бар Гедалия и каким влиянием тот пользуется в городе и не только среди богатых тамкаров, но и среди жреческой знати. Об этом человеке не раз с уважением высказывался его тесть, а к мнению тестя Иосиф всегда прислушивался. Он, несмотря на то что должен был отправиться в «Палату тесаных камней», приказал привратнику проводить уважаемого тамкара в комнату для гостей и сам поспешил туда, по дороге приказав двум служанкам, сидевшим у тлеющего очага, принести смешанную с соком граната прохладную воду.
Комната для гостей в доме Иосифа располагалась на первом этаже в дальнем углу двора. Здесь было не так жарко, как на втором этаже, стены дома давали тень, и в комнате постоянно было время ранних сумерек.
Иосиф встретил гостя стоя и после традиционных фраз приветствия предложил ему сесть, указав на стул черного дерева, стоящий напротив хозяйского кресла. Он подождал, пока тот усядется, и только после этого сел сам. С самого начала Иосифа поразило лицо гостя. Оно было похоже на маску: черты лица словно окаменели. Так бывает у человека, на которого внезапно свалилась не большая, а просто огромная беда. Иосиф сидел и терпеливо ждал.
– Беда привела меня к тебе. Беда, подобная смерти. Иного слова и не найдешь, – чуть помедлив, тихо проговорил тамкар. Иосиф молчал, давая человеку выговориться.
– Ты уже, конечно, знаешь, что произошло? – продолжал тамкар.
Иосиф жестом дал понять, что осведомлен, хотя доверенный слуга Малх утром доложил, что в городе все спокойно. Он встревожился: в Иерусалиме произошло нечто, о чем он, наси, должен был знать и не знал. На всякий случай первосвященник придал лицу скорбное выражение.
– У Дровяных ворот сегодня утром убили римского офицера, – продолжал Гедалия. – И в этом обвиняют моего сына и какого-то мелкого торговца, а, как мне сообщили, настоящий убийца скрылся.
Гедалия умолк и смотрел на Иосифа, ожидая ответа. От этого ответа зависела жизнь его сына. Иосиф молчал. Новость, сообщенная тамкаром, не просто взволновала его, а вызвала испуг. Убийство римского офицера в праздник опресноков, когда в город стекаются люди из сел! Цезарь снизил налоги, но народ не доволен даже не размером налога, а тем, что его приходится платить чужакам – людям иной веры. Он вспомнил рассказ Малха о том, как в одном селении – название Иосиф запамятовал – мытарь – сборщик налогов – бросил в дорожную пыль глиняный ящик с собранными деньгами, говоря при этом, что негоже платить деньги чужакам: деньги надо отдавать богу. И собравшаяся толпа поддержала мытаря, разбила ящик и забрала деньги. А ведь этого человека назначили римляне, и он согласился, но теперь пошел против них. Иосиф знал, что селяне кормят шайки инсургентов, которые нападают не только на римлян, но и на тех иудеев, кто, по их мнению, предал свой народ и сотрудничает с захватчиками. А если весть об убийстве римлянина вызовет мятеж? Сейчас в городе полно горячих голов, готовых взяться за ножи. Размышляя об этом, первосвященник подумал, что ему не стоит торопиться в «Зал тесаных камней». Лучше сначала посоветоваться с тестем. Его тесть – бывший некогда член Синедриона Ханнани бар Шет – пользовался в городе большим влиянием, благодаря богатству и обширным связям. Именно с ним надо обсудить беду бар Гедалии и, если тесть сочтет возможным, переговорить с префектом. Иосиф считал Понтия Пилата человеком разумным, хотя и иногда слишком поддающимся эмоциям. С ним можно было вести разговор о беде уважаемого человека. По мнению Иосифа, префект понимал разницу между людьми и знал, что преступление бедного – это преступление, но если то же совершал человек богатый или уважаемый, то это – трагическая случайность, и потому наказание должно быть разным.
Пока первосвященник размышлял, Абба бар Гедалия терпеливо ждал, уставившись взглядом на белую стену комнаты. Иосиф был его единственным шансом обратиться с просьбой к самому римскому прокуратору. Абба бар Гедалия был знаком с префектом и несколько раз оказывал ему услуги по отправке денег в Рим. Он бы пошел к прокуратору и униженно бы просил и предлагал деньги, но сейчас он этого сделать не мог: римский всадник не будет разговаривать с отцом убийцы римского офицера. Нужен был посредник. Таким посредником мог стать не Иосиф, а его тесть – Ханнани бар Шет. Тамкар знал, что первосвященник ничего не предпринимает, не посоветовавшись с тестем, за что и был прозван Каиафой.
Иосиф поднял глаза на тамкара и медленно произнес:
– Я скорблю вместе с тобой, уважаемый Абба бар Гедалия. Я знаю твоего сына Иуешуа-Варравана бар Аббу как достойного юношу дома Израилева. Я могу тебе обещать, что предприму все, что в моих слабых силах, чтобы избавить твоего сына от беды. Но ты знаешь: мы живем в мире, где помочь человеку может только золото. Для префекта нужен будет большой донатий, очень большой, уважаемый Абба бар Гедалия, и, если вам не хватит золота, я готов помочь.
– Я благодарю тебя, уважаемый Иосиф, за сочувствие и помощь, за слова, которые излечили мою больную душу. Я исполню все, что от меня потребуется. Я полагаю, что мне часто являться в твой дом не следует. Мой позор, как болезнь, должны остаться со мной. Если будут хоть какие-то вести, то пришли посланца в лавку Елиазера, – произнеся это, тамкар поднялся.
– Бог нам поможет. Он защитит овец стада Израилева, – проговорил Иосиф, провожая его.
Абба бар Гедалия покинул дом первосвященника. Проходя по внутреннему дворику, он думал, что не зря поговорил именно с Иосифом, а не пошел к его тестю. Ханнани бар Шет был крайне осторожен и всегда старался держаться в тени. Так, только немногие, в том числе и он, знали Бар Шета как организатора «Золотой операции», когда жертвенные шекели менялись в Сирии на золото и отвозились в Рим, где его курс был значительно выше, чем в Сирии. В Риме это золото менялось по курсу на римское серебро, которое возвращалось в Иудею и, в свою очередь, менялось на шекели один к одному. Уже на улице, находясь возле паланкина, Абба бар Гедалия подумал, что ему на всякий случай стоит поговорить еще с одним человеком. Он подозвал слугу, сопровождавшего его. Тот подошел, изображая готовность выполнить любое поручение хозяина. На его узком плутоватом лице сирийца блестели черные маслины глаз, в которых выражалась беспредельная преданность господину. Слуга был быстр и изворотлив, как ящерица. Бар Гедалия ценил его несмотря на то, что тот был иноверцем и поклонялся в тайне от хозяина богине Иштар.
– Найди Симона Каннанита и передай ему, что после полудня я буду ждать его в лавке Елиазера. И еще передай, что у меня к нему неотложное дело.
– Я все исполню, как ты велел, господин, – ответил слуга, тут же повернулся и заспешил по улице в сторону могилы Давида.
– Все, что мог, – подумал тамкар, опускаясь на мягкие подушки паланкина. – Теперь осталось только ждать…
Он знал, что ему предстоят самые мучительные и томительные в своем медленном течении часы, полные новой тревоги, рожденной неизвестностью.
Проводив гостя, Иосиф постоял в раздумье, потом кликнул слугу и послал того узнать, дома ли тесть, а сам спустился во внутренний дворик. Во дворе сын Иосифа, второй сын, – первый умер в два года от болезни – играл с глиняными колесницами. Раб-педагог, заведенный по греческому образцу, сидел на низенькой скамеечке рядом со служанками, перебиравшими бобы, и следил за мальчиком. Увидев отца, сын оставил игру и подошел к Иосифу.
– Почему ты не пошел к учителю? – в ответ на приветствие спросил Иосиф.
– Учитель сказал, что во время праздников уроков не будет, – ответил сын.
– Праздник – не время для развлечений, – наставительно произнес Иосиф. – Ты уже готов ответить на вопросы, которые я задам во время Седера?
– Да, отец, я знаю все ответы.
– Хорошо, тогда пойди к себе и прочитай Книгу Исхода и Книгу Эсфирь.
– Но, отец, я читал их вместе с учителем, – возразил мальчик, которому не хотелось оставлять игру.
– Прочитай еще раз. Ты уже должен понимать, что, когда вырастешь, станешь служителем в Храме, а может быть, и займешь мое место – станешь наси. А значит, ты должен знать эти книги. Иди и читай.
Погрустневший мальчик медленно побрел в свою комнату на отцовской половине дома. Раб-педагог также с неохотой последовал за ним. Иосиф, проводив глазами сына, направился к арке, ведущей во внутренний двор тестя. Здесь его ждал слуга, который сообщил, что Ханнани бар Шет дома и рад будет увидеть зятя у себя. Отпустив слугу, Иосиф прошел через внутренний дворик и поднялся по лестнице на галерею. Пройдя по ней, он откинул тяжелую занавесь и оказался в покоях Ханнани бар Шета. Тот сидел в кресле темного дерева у низенького столика такого же цвета.
– Садись, Иосиф, – произнес тесть и указал на второе кресло, стоявшее напротив.
Иосиф сел. Он не любил тестя: тот подавлял его своей волей и постоянно между делом, как бы ненароком, напоминал, что всем, что Иосиф имеет, он обязан ему. Самым неприятным было то, что это была правда. Только зять всемогущего Бар Шета мог легко занять должность наси. Отец Иосифа был коэном, потомком Аарона, чьи предки служили богу еще в Скинии. Но коэнов было много. Предки Бар Шета тоже были коэнами, и, если бы у Хананни был сын, то Иосиф до конца жизни остался бы просто священником.
Тесть был одет по-домашнему: легкий греческий хитон облегал его мускулистое тело. Ханнани, несмотря на возраст, приближающийся к мафусаилову, выглядел довольно молодо. Только сухое узкое лицо с крючковатым, похожим на клюв, носом выдавало его возраст. Глубокие морщины серыми складками легли от крыльев носа к краешкам узких бесцветных губ.
– Дома все благополучно? – спросил Хананни.
– Слава Яхве. Никто не болеет, сын читает книгу Исхода, жену навещает теща. Ты ведь знаешь, что твоя дочь не сегодня – завтра нас осчастливит?
– Знаю, – согласился бар Шет, – знаю также, что к тебе приходил Абба бар Гедалия. Он приходил просить за сына?
Иосифа всегда поражала осведомленность тестя обо всем, что делалось не только в Иерусалиме, но и во всей провинции.
– Он думал прийти ко мне, – продолжал Хананни, – но понял, что я не захочу встретиться с ним, а потому пришел к тебе.
Иосиф, слушая Хананни, подумал, что тесть постоянно напоминает ему о своем влиянии в городе и о том, что Иосиф, хотя и является наси, но на самом деле всего лишь зять Хананни бар Шета.
– Что он хотел? – спросил тесть.
– Его сын арестован, – ответил Иосиф. – Сына подозревают в убийстве римского офицера.
– Так офицер точно убит? А я полагал, что это всё-таки слухи. Может быть, драка, в крайнем случае, – ранение солдата? Но убийство римского офицера в канун праздника, когда город полон народу, среди которого могут быть и эти мятежники из Галилеи?! Ты понимаешь, Иосиф, что это для нас значит?
Зять промолчал. Он не совсем понимал, почему так взволнован его вечно невозмутимый тесть. А тесть подумал в очередной раз, что его зять – баран, и, может быть, нужно было более тщательно выбирать мужа для дочери.
– Ты хочешь сказать, – медленно выбирая слова, проговорил Иосиф, – что есть угроза мятежа? Но префект ввел в город войска, и тетрарх привел своих себастийцев. Они обуздают народ и задавят мятежников.
– Я хочу сказать тебе, – зло проговорил, словно выплюнул слова, бар Шет, – что теперь проклятому богом префекту римлян мятеж уже не нужен. Ему незачем конфисковывать казну храма, когда есть наша с тобой казна, казна Гедалии и всех его черных тамкаров, которые разжирели на контрабанде. Убит римский офицер! И кем убит? Сыном уважаемого торговца, через которого идут деньги Храма, друга наси, а значит, и моего друга! Это ли не заговор против Рима и цезаря Тиберия?! Это ли не призыв к мятежу?! И даже если мятеж не состоится, то префект объяснит это своими успешными действиями. Теперь этот Понтий Пилат в силах с нами сделать все, что захочет. И мы не сможем оправдаться в глазах цезаря. Вот то, что я хотел, чтобы ты услышал.
– Но, Хананни, почтенный Абба бар Гедалия уверил меня, что его сын Иуешуа-Варраван бар Абба арестован по недоразумению, что его сын оказался там случайно, просто проходил мимо. И с ним арестован какой-то мелкий торговец, тоже невиновный.
– И кто этому поверит? Если не ошибаюсь, это было у Дровяных ворот?
Иосиф кивнул.
– Кто поверит, – продолжал Хананни, – что сын Аббы бар Гедалии встал рано утром, чтобы купить дров для Седера? Я говорил Аббе, что все эти разговоры, прогулки с Симоном Зелотом могут кончиться печально. Я напоминал этому торгашу судьбу уважаемого члена Синедриона Захарии, чей сын тоже был приличным молодым человеком, усердным в изучении Закона, а после общения с зелотами надел власяницу и стал призывать народ к мятежу.
– Да, сын Захарии, как я слышал, – вставил Иосиф, – не призывал народ к мятежу: он говорил о покаянии и о приходе Машиаха.
– Но тетрарх казнил его как мятежника, – возразил тесть. – И разве это не призыв к мятежу, когда проповедник называет правителя, поставленного Римом, кровосмесителем? Да и последователи его сбились в шайки и нападают на римлян не хуже, чем сикарии. И не только на римлян! Поэтому Ирод Антипа и ездит всегда в окружении себастийцев. Слава Яхве, они разбойничают только в Галилее! Но я слышал, что и в провинции они стали появляться!
– Что мне ответить Гедалии? – осведомился Иосиф. – Он ждет моего ответа. Я сказал ему, что если мы и согласимся встретиться с префектом, то должны обещать тому большой донатий. Очень большой. Я сказал Гедалии, что если у того не хватит золота, то Храм поможет ему. Разумеется, речь шла о долге под проценты.
«Он все же не совсем глуп», – подумал Хананни о зяте, но промолчал, обдумывая сложившуюся ситуацию. Иосиф терпеливо ждал. А Хананни бар Шет размышлял. Его острый ум искал выхода и не просто выхода из этого сложного и запутанного дела, но такого, который укрепит его влияние.
«Префект умен, – рассуждал бар Шет. – Он знает, что может бросить и Синедрион, и народ Эрец-Исраэля под римские мечи. Может, но постарается обойтись без этого. Неизвестно, как его действия оценит цезарь Тиберий, который заперся на острове, и, если верить слухам, предается там разврату. Что увидит больной разум цезаря в действиях префекта? Пилат умен и изберет другой путь. Какой? Никто не сможет сказать. Разум чиновника извилист, как полет стрекозы. Одно ясно: цель префекта – золото. Значит, он вместе с зятем предложит ему золото, очень много золота, но не своего. Золото дадут Гедалия и эти ослы из Синедриона. Зять поедет сейчас в «Палату тесаных камней», напугает членов Синедриона до смертной дрожи, и они согласятся открыть храмовое хранилище, даже принесут свои шекели и ауреи. Абба бар Гедалия получит кредит из храмовой казны. Получит без процентов. Проценты мы возьмем потом и не деньгами».
Хананни посмотрел на зятя властным, тяжелым, как свинец, взглядом.
– Ты сейчас, немедля, пойдешь в «Палату тесаных камней» и расскажешь членам Синедриона о том, что ждет всех нас после убийства римского офицера. Ты скажешь, что спасти от распятия нас может только золото, и потребуешь доступ в казну храма. Сделай так, чтобы они согласились дать из казны деньги. Когда получишь их добро, возвращайся сюда. Без согласия Синедриона можешь не приходить. Нам нечего будет предложить префекту, и тогда этот Седер будет для нас последним. Тогда ты вернёшься домой и попрощаешься с семьей.
Глава 7
Утреннее происшествие, так поразившее молодого Марка Рубеллия, быстро отошло на задний план и затаилось в дальних уголках памяти молодого трибуна. Его оттеснило множество мелких дел. Они обрушились на Марка, когда турма, командиром которой он стал по воле богов, заняла северное крыло дворца Ирода. Хорошо еще, что дед, когда-то сам командовавший когортой, делился с внуком воспоминаниями, не останавливаясь только на битвах и подвигах его солдат, но рассказывая и о мелочах лагерного быта. Управитель дворца – иудей, назначенный римской администрацией, как мог, помогал молодому Рубеллию. Марк общался с ним с помощью Пантера, который сносно знал арамейский язык. К счастью молодого трибуна, дворец походил на крепость, которая могла выдержать недолгую осаду. Здесь были конюшни для лошадей и мулов и даже небольшой запас корма. Управитель, однако, намекнул Марку, что если его солдаты задержатся во дворце более, чем на три дня, то фураж быстро закончится. Но он знает честного торговца, у которого можно приобрести фураж очень дешево и притом отличного качества. Управитель понравился Марку своей предупредительностью, готовностью услужить. Он показал огромную кухню с бронзовыми котлами и такими же вертелами и негромко приказал слугам, жившим при дворце, принести дров и развести огонь под котлами. Правда, управитель немного поморщился, когда рабы турмы внесли на кухню глиняные пифосы с соленым свиным салом. В лагерях солдаты каждой декурии готовили еду сами, им выдавались продукты в сыром виде. Но во дворце это было невозможно: не разжигать же костры на гладких плитах двора, и Марк решил, что декурии будут готовить еду по очереди, но сразу для всех. Он приказал Коммонию расставить часовых у ворот и на стенах, окружавших дворец, назначил пароль на сегодняшний день и совершил еще много нужных дел прежде, чем оказался в небольшой прохладной комнате, в которой разместился бенефициарий со своими писцами. Бенефициарий, назначенный еще Фундарием, – немолодой римлянин с суровым лицом и жесткими, как щетина, глазами заявил, что списки солдат, пригодных к службе, а также списки лошадей он составил, и если префект назначил молодого Рубеллия командовать алой, то он должен проверить их перед отправкой в Антиохию.
– Почему в Антиохию? – спросил Марк.
Бенефициарий пояснил, что ала числится как ауксиля двенадцатого легиона, а это значит, что пополнение солдатами и конями ала будет получать тоже от двенадцатого легиона. Следовательно, и отчеты необходимо отправлять командованию легиона. Все это бенефициарий высказал спокойным менторским тоном. Кроме того, чиновник сообщил, что, хотя погибший командир и не приказывал, он, зная по опыту, что это потребуется, начал составлять списки солдат и офицеров, в которые будут заноситься все необходимые сведения.
– Кстати, – добавил он, – нынешний префект служил бенефициарием у цезаря Тиберия, когда тот командовал легионами в Панонии.
Марк ничего не ответил, а стал молча просматривать ситовники. Почерк у бенефициария был четким. Буквы, выписанные черной сепией75, хорошо разбирались даже в полумраке комнаты. Пришел раб, служивший при дворце, и сказал, что господин управляющий хочет видеть господина римского начальника. Марк пошел за ним, покорно поддаваясь течению дел.
Домоправитель показал молодому Рубеллию отведенный для него покой. Он ушел, а Марк огляделся. Комната была довольно большой, с двумя стрельчатыми узкими окнами в торце. В углу около окон стояло ложе из светлого дерева. Края его были инкрустированы бронзовыми пластинами с геометрическим узором. Марк уже обратил внимание, когда вместе с турмой двигался по городу, на полное отсутствие статуй. Даже редкие орнаменты, украшавшие богатые дома, были геометрически скучны. И здесь, во дворце, в тех помещениях, которые он успел увидеть, был тоже геометрический орнамент. Рядом с ложем располагались стол овальной формы, два табурета и сундук. В углу, около двери, сиротливо притулился глиняный горшок. На столе стояли кувшин с узким горлом и несколько глиняных кружек.
Марк снял плащ и положил его поверх сундука, туда же отправил перевязь с мечом и шлем. Молодой Рубеллий остался в красной солдатской тунике и красных штанах, доходящих до колен. Эта непривычная для римлян деталь одежды, отсутствующая в легионах, кроме германских легионов, была присуща для всей вспомогательной конницы, набираемой в северных провинциях. Грубая ткань этих бриджей античного мира защищала ноги всадников от жестких краев седла. Марк подумал, что соседи, наверное, сильно удивились бы, увидев его в таком странном, неприличном для римлянина наряде. Он присел на ложе, вытянув ноги, и только сейчас почувствовал, как устал. Все: и дальний переход, и смерть Фундария, и хлопоты по устройству турмы – все напряжение, которое он испытал за сегодняшний очень долгий день, уходило куда-то. Осталось одно желание – лечь на ложе, вытянуться до хруста и заснуть. Молодость сильна: она может перебороть усталость тела, но не усталость духа, и Молодой Рубеллий заставил себя встать и пройтись по комнате, разгоняя сон, взять кувшин и наполнить кружку поской – напитком легионеров, состоящим из воды и винного уксуса.
Некоторые ревнители римской старины считали, что солдатам вообще не нужно давать вина. Вино утомляет дух и расслабляет тело. Слабость духа рождает слабость воли, лишает способности сопротивляться.
Резкий, терпкий напиток взбодрил тело и сделал ясными мысли. Меряя шагами комнату, Марк стал думать, как ему поступить дальше, какие отдать приказания. Армия держится на приказах. Приказ определяет жизнь и смерть солдата. Битву выигрывают легионеры, но волей и умом командира, воплощенными в приказах. Поразмыслив, молодой трибун решил, что после обеда баттавы должны заняться лошадьми: после долгого перехода коней надо чистить, осмотреть копыта, привести в порядок сбрую. А потом, если ничего не произойдет, будут упражнения с оружием.
Его размышления прервал Пантер, который вошел в комнату в сопровождении слуги. Слуга нес три чашки, наполненные пшенной кашей с салом и кувшин с поской. Все это он поставил на стол и удалился.
– Почему три чашки? – спросил Марк.
– Третьим будет наш боевой товарищ Коммоний, – с легкой иронией в голосе ответил примпил. Марк и Пантер сели за стол и начали есть, собирая кашу в комочки и отправляя в рот. Голод – лучший повар. Марк и Пантер были молоды, голодны и поэтому поглощали пищу с аппетитом. Коммоний, подошедший позднее, ел кашу с видом человека, привыкшего к более изысканным кушаньям, хотя дома, если не приходили гости, его едой были хлеб, дешевый козий сыр и точно такая же каша из полбы.
Род Коммониев угасал, теряя силу и авторитет. Предки молодого офицера не занимали видных постов, их фамилия не звучала на рострах во время выборов. Особенно пострадал род Коммониев в конце республики, когда древняя демократия чести сменилась демократией денег. Коммонии не могли купить должности, которые, как торгаши из Субурры, продавали сенаторы. Его дед при конце республики встал на сторону Помпея и вместе с другими бежал из Рима в Элладу. Там он попал в плен и, благодаря великодушию Цезаря, а скорей всего – своей незначительности, был отпущен и прощен. Ему сохранили жизнь – и только. Дед жил как частное лицо, даже не пытаясь занять хотя бы незначительную должность. Борьбу между Брутом и Антонием, а потом между Антонием и Октавианом он пережидал на маленькой вилле недалеко от Остии, где наблюдал за рабами, которые ухаживали за небольшим виноградником и тремя югерами76 пшеничного поля. Отец Коммония вырос на этой вилле и тихо ненавидел ее, поэтому, как только умер дед, семья перебралась в Рим. Родовой дом Коммониев сильно обветшал, деньги, скопленные дедом, ушли на то, чтобы придать дому сколь-нибудь приличный вид. Карьеры отец не сделал: умерли старые покровители семьи, а молодые с трудом вспоминали, кто такие Коммонии. Теперь молодому Коммонию предстояло начинать все сначала. Он не стремился в армию – на этом настоял отец, объясняя сыну, что для занятия гражданской должности необходимо выслужить ценз в легионах. Коммоний предпочел бы служить в менее диких, как считал, и более цивилизованных местах, например, в Галии или Сирии. Провинция Иудея была чуть лучше германского лимиса или беспокойной Панонии. Об этом он и сказал своим сотрапезникам, когда, не доев, отодвинул миску и, морщась, стал пить поску. Марк не знал, что ответить. Он не видел ничего, кроме Эгерии – маленького городка, расположенного недалеко от виллы.
– Этот город похож скорей на деревушку, – продолжал Коммоний. – И этот запах, крикливая толпа, дикие рожи… Когда мы проезжали по городу, мне казалось, что эти люди вот-вот бросятся на нас.
– Ничего удивительного, – ответил Пантер, – мы для них враги. Причем, если галлы или иберы давно смирились, поняли преимущества империи и многое стали перенимать – не только наши обычаи, но и говорить на нашем языке, – то здесь не так. Эти люди никогда не смирятся с нашим присутствием. Они сами хотели владеть миром. Им это обещал их бог. У них один бог, управляющий всем миром, но в этом мире бог любит только иудеев. Остальные народы – грязь на его ногах, и иудеи боятся смешаться с этой грязью и стать ей подобными. В Антиохии есть большая колония иудеев. Торговцы, ремесленники, они живут рядом с сирийцами, греками, но только рядом. У них особый квартал, куда не пускают чужаков. Они женятся только между собой, чего не скажешь о других народах. У нас в легионе служил кузнец. Мать его была дочерью сирийского торговца хлебом, отец – грек, дед его матери назывался ассирийцем. А у иудея и отец, и мать – одного племени. Так же, говорят, они живут в Александрии да и в Риме тоже. Поэтому они никогда не примирятся с нами, с империей. Иудеям нужна своя империя, где они будут хозяевами. Но Иерусалим – это только начало. Мы здесь ненадолго, дней на пять – не больше. Потом – граница, а там жара, нищие поселения и арабы, приходящие внезапно, как ветер из пустыни.
– Арабы пытаются отобрать часть нашей земли? – спросил Марк.
– Нет, – ответил примпил, – просто живут они довольно бедно, вот и грабят. Награбят и уйдут. А еще, говорят, арабов нанимают черные тамкары, когда нужно через границу провести караван, минуя таможню. Кому-то – лихва, кому-то – беда.
Пантер замолчал и стал думать о том, что судьба вновь обманула его ожидания. Он надеялся прослужить оставшийся срок в Сирии – провинции относительно спокойной, получить свой надел земли и вести тихую, безмятежную, а главное – сытую жизнь. В детстве и отрочестве примпилу приходилось довольно часто голодать. И вдруг – приказ: перейти из легиона в ауксилию, что само по себе было неприятно, и отправляться с алой в Набатею, на границу. Правда, его боевой товарищ, ставший бенефициарием двенадцатого легиона, говорил Пантеру, что служить на границе не так уж плохо, и умный человек сможет за время службы пополнить свое состояние. Он же намекнул, что империя не сильно пострадает, если два или три каравана пройдут, не уплатив таможенную пошлину. И еще Пантер подумал: если с покойным Фундарием можно было договориться, то, как разговаривать с этим юношей, он не знал. Вслух же примпил произнес дежурную фразу о долге сынов империи служить там, куда пошлют. И Марк, и Коммоний с этим согласились, но Рубеллий согласился искренне, а Коммоний счел это благоглупостью, в которую давно никто не верит. Власть денег, точно плющ, душила империю медленно, но неуклонно, поселяя в душах людей равнодушие ко всему, кроме собственного благополучия.
В комнату вошел бенефициарий и подал Марку ситовник. Тот развернул желто-коричневый лист и стал читать. Это был приказ из канцелярии префекта, в котором предписывалось командиру алы баттавов выделить три декурии всадников для патрулирования Верхнего города и кварталов, примыкающих к храму, в ночное время. Прочитав приказ, Марк посмотрел на Пантера.
– Ночной патруль? – спросил примпил.
– Да, – ответил Марк.
– Ничего страшного, – произнес Пантер, вставая. – Иудеи станут готовиться к празднику, соблюдая все обряды, и им будет не до мятежа. У них очень строгие законы в отношении обрядов. Конечно, это будет не очень приятная прогулка по ночному городу. Верхний город – это район богатых домов, и можно не опасаться, что кто-то выльет тебе на голову ночной горшок, а в районе храма находится крепость Антония, где стоит наш гарнизон. Местные повстанцы не так глупы, чтобы начинать мятеж под носом у легионеров. На твоем месте, Рубеллий, я бы приказал солдатам не брать пик: в узких улицах они бесполезны и будут только мешать. Спата в этом случае надежней. Прикажи держать мечи обнаженными. Назначь старшим кого-нибудь из декурионов, и этого будет достаточно.
– Старшим патруля я назначаю Коммония, – проговорил Марк, глядя в глаза молодого аристократа.
Коммоний поморщился, но промолчал.
– Тогда мой совет, – произнес Пантер, обращаясь к Коммонию. – Держи около себя двух солдат. А человека, который тебе покажется подозрительным, не подпускай ближе, чем на три шага, если не хочешь повторить судьбу трибуна Фундария.
Втроем они вышли из комнаты и остановились в тени галереи. Солнце уже миновало полуденную черту, и на двор легли длинные тени от дворца. Марк пошел в канцелярию, а Пантер и Коммоний отправились к помещениям, временно превратившимся в казармы. Около них уже строились всадники под командованием декурионов.
– Ты из Рима? – спросил Пантер, когда он и Коммоний медленно шли в тени колоннады, наслаждаясь относительной прохладой.
– Да, – ответил Коммоний.
– И где ты там жил?
– В квартале Матери Венеры, на улице с тем же названием.
– Это на Авентина?
– Да, нас называли венеренсес. А ты? Ты тоже из Рима?
– Из Рима, только я жил в маленькой комнатке на Субуре, недалеко от префекта, там, где висели окровавленные плети, которыми стегали преступников. Да, да, – продолжил примпил в ответ на удивленный взгляд Коммония. – Я из тех, кого называют пролетарии, из тех, чье имущество – дети и ничего другого. Моя мать – завивальщица волос, а точнее, – шлюха. Меня она родила от кого-то из своих клиентов, которым завивала не только волосы. Так что по отцу я, может быть, патриций, только папочка остался неизвестным. А, может быть, моя мамаша и сама точно не знала, от кого я. Так что я пошел в стипендиарии, чтобы не сдохнуть от голода или дурной болезни. И в Рим я не вернусь. Мать, наверное, умерла, другой родни у меня нет. Отслужу и поселюсь где-нибудь у моря, подальше от городов и границ. Может быть, в Иберии: там, говорят, еще выделяют земли ветеранам.
В канцелярии бенефициарий доложил молодому трибуну, на которого он, помимо воли, смотрел несколько свысока, что, согласно распорядку, на ночь караулы удвоены. Им сообщен пароль – «Марс» и отзыв – «Invictus»77. На завтра, если не поступит каких-либо приказов из претория, назначены физические упражнения, пока стоит утренняя прохлада, а после обеда, он (бенефициарий) рекомендовал бы назначить упражнения с оружием. Марк молча согласился и, покинув прохладную канцелярию, отправился проверять посты. На самом деле ему хотелось осмотреть дворец. Он вышел на широкий двор, вымощенный каменными плитами.
Собственно, дворец Ирода состоял из двух зданий: северного и южного, соединенных колоннадами. С западной стороны дворец от городской стены отделяла узкая глубокая долина, по которой шла тропа. Вдоль тропы располагались небольшие пруды, хранившие запасы воды. От края платформы, на которой находился дворец, скала круто обрывалась вниз почти отвесно, синие тени лежали на ее острых выступах. Около бассейна перед южным дворцом Рубеллий увидел управляющего. Тот стоял возле мраморного парапета и следил, как двое слуг в одних набедренных повязках чистили бассейн, укладывая в корзины грязно-серый ил. Заметив молодого офицера, смотритель, что-то приказал слугам и пошел навстречу Рубеллию. Не доходя двух шагов, он склонил в приветствии голову и почтительно спросил:
– Господин хочет осмотреть дворец? Я могу проводить, если господин пожелает. Черные глаза этого невысокого, плотного иудея смотрели по-доброму, и Марк согласился. Управитель повел молодого офицера к южной части дворца, зеркально повторяющей северную.
Это было трехэтажное здание с красно-бурой черепичной крышей, скошенной внутрь, и просторным имплювием. Стены были гладко оштукатурены и покрыты белой краской. Они миновали портик, увенчанный башней, и оказались в просторном зале с гладкими стенами, лишенными каких-либо украшений. В центре зала, ближе к южной стене, меж двух широких и высоких окон на возвышении из тесаных камней стояло огромное кресло.
– Тронный зал царя Ирода, – спокойным, бесстрастным голосом проговорил управляющий. Марк, как и многие римляне, интересовался только тем, что происходит в самом городе. О том, что творилось на окраинах империи, он знал очень мало или совсем ничего не знал. Зал не произвел на молодого Рубеллия никакого впечатления.
– Ирод был вашим царем? – спросил он.
– Да, – так же бесстрастно ответил управляющий, – здесь он и умер. Говорят, на этом троне.
– Прямо на троне? – удивился Марк.
– Я знаю только то, что слышал от других. Когда умер Ирод, меня не было во дворце, да и не могло быть. Я тогда был юношей, но мой отец уже служил здесь, правда, на очень незначительной должности. И он рассказывал то, что слышал от других. Ирод в последние годы очень болел. Тело покрылось гнойными нарывами: он испытывал сильный зуд, и его постоянно обтирали губками, смоченными соленой водой. Еще говорят, что его мучили боли в низу живота. Такие боли, что царь иногда даже был как бы не в себе. В один из дней он попросил дать ему яблоко, и, когда слуга принес его, Ирод приказал подать нож, чтобы очистить яблоко, ведь у царя почти не осталось зубов, и кожура была для него слишком твердой. Слуга принес серебряный нож. Ирод сделал вид, что чистит яблоко, а потом размахнулся и со всей силой вонзил нож в низ живота, туда, где болело, словно он хотел убить боль. Нанеся удар, царь закричал и лишился чувств. Слуги, которые не успели удержать руку Ирода, а может быть, и не захотели – разное толкуют – позвали придворного лекаря, но к вечеру Ирод умер.
Все это управитель изложил тем же спокойным тоном, словно повторял не раз сказанное.
– Иудеи жалели о смерти царя? – спросил Марк.
Управитель ничего не ответил, и его полное, обрамленное аккуратно подстриженной бородой лицо осталось спокойным.
– В прошлый и позапрошлый год здесь останавливался господин префект, но в этом году он предпочел поселиться в претории, что в крепости Антония, – помолчав, проговорил управитель.
– Он жил в этой части дворца или там, где расположилась моя ала? – вновь задал вопрос Марк.
– Нет, господин префект занимал эту половину дворца, и я тоже рассказывал ему о царе Ироде, – скучным голосом проговорил управитель. – Господин префект даже посидел на троне и сказал, что понимает Ирода и даже сочувствует ему.
– Почему?
– Я не знаю мыслей господина префекта. Наверху есть личные покои царя и царицы Мариамны. Но это пустые комнаты: мебель вывезли, оружие, которое висело на стене спальни, – тоже, остались только голые стены.
Молодой Рубеллий не стал смотреть на пустые стены царских покоев. Он поблагодарил управителя и покинул дворец.
Во дворе, похожем на площадь, его встретил полуденный жар. Солдаты под командованием декурионов отрабатывали навыки боя в пешем строю. На красных солдатских туниках темнели пятна пота. У восточной колоннады всадники, назначенные в ночной патруль, проверяли оружие и снаряжение, слышалось шорканье оселка о металл. Приземистый, широкоплечий баттав, бывший у себя в деревне кузнецом, правил острия спат. Около солдат прохаживался Коммоний с видом человека не знающего, зачем его сюда поставили. Иногда он останавливался, смотрел на солдат и молча шел дальше. Около бассейна, уже вычищенного слугами, расположилась декурия, назначенная на кухню. Оттуда до молодого трибуна долетал звук зернотерок. Солдаты мололи крупу для ужина. День шел на исход – первый день иной жизни римского всадника Марка Рубеллия.
Глава 8
Малх – доверенный слуга Иосифа, посланный им к Дровяным воротам узнать, что же там всё-таки произошло, вернулся в дом наси в шестом часу дня. Слуга побывал у Дровяных ворот, послушал рассказы, которыми делились торговцы, но толком узнать ничего не смог. Каждый рассказчик отстаивал свою версию и доказывал ее с пеной у рта. Малх даже обратился к начальнику римского караула у ворот, положив в широкую ладонь легионера серебряный денарий. Монета сделала декуриона словоохотливым, но, кроме того, что проклятые богами дети собак иудеи убили римлянина, тот ничего сказать не мог. Единственное, что точно узнал слуга Иосифа, – это то, что арестованы два человека и отправлены в тюрьму претория. Одному инсургенту удалось убежать. Декурион говорил, зло выплевывая слова. Он заверил Малха, что хоть сейчас готов перерезать всех иудейских собак, толкущихся у ворот. Слуга Иосифа отошел от пышущего гневом легионера, который продолжал уже в одиночестве ругать иудеев, мешая латинские и арамейские бранные слова. На Малха декурион смотрел как на своего.
Тот был непохож на иудея, да и не был он иудеем. Слуга Иосифа скорее походил на ветерана, получившего отставку. Удлинённое бритое лицо, покрытое темным загаром, прямой нос, большие серые глаза и светлые, коротко подстриженные волосы говорили о том, что Малх был дальним потомком македонского солдата, осевшего после войны на Востоке. Он родился и вырос в Гадаре, городе, входившем в Декаполис области городов, населенных греками. Его родной дом стоял на берегу Гиеромакса – древней, как мир, реки, чьи мутные воды мешались с теплой соленой водой из источников, бьющих из-под земли. Отец Малха владел двумя такими источниками. Расширив их и обложив края камнем, отец превратил источники в два небольших бассейна, поставил рядом с ними две невысокие статуи Асклепия и Гигеи, вытесанные местным скульптором, поэтому у Асклепия – Эскулапа получились только посох и змея. Сам же Асклепий больше походил на бродягу, нежели на бога врачевания. Гигею скульптор изобразил сидящей на камне и держащей на коленях змею. Левая грудь богини была обнажена, и скульптор придал ей такие размеры, что больные, принимавшие лечебные ванны, смотрели на нее не отрываясь. Отец лечил людей, не получив и малой толики медицинских знаний, и, хотя он уверял, что его прадед был Асклепиадотом, врачевал он, опираясь на здравый смысл и природную сметливость. Так как некоторые больные выздоравливали, а смерть остальных объяснялась волей богов и слепотой Парок78, то у отца не было проблемы с пациентами. Брал он недорого и потому был популярным лекарем. Старшего брата Малха тоже отдали в учение к врачу. Грек, прослуживший пятнадцать лет военным врачом в легионах и осевший по окончании службы в Гадаре, согласился учить брата за весьма умеренную плату. А Малх? Он не хотел быть врачом, не хотел прожить всю жизнь у подножья холма, на котором располагалась крепость Гадары. Он ходил к учителю, но науки не увлекли его. Малха манил огромный мир, полный странных вещей и неограниченных возможностей. Таинственность мира за границей Гадары привлекала его. Сын лекаря не боялся неизвестности, наоборот, именно неизвестность манила его. Он любил слушать разговоры отца с пациентами, когда те прели в горячей воде бассейнов. Среди них были и отставные легионеры, и солдаты аксилии, служившие не только в Сирии, но и видевшие пески африканских пустынь и густые леса германских земель. Среди них был один совсем дряхлый старик, который при Августе служил в далекой Британии, лежащей, по словам ветерана, на самом краю Ойкумены. Армия не привлекала Малха своей дисциплиной и зачастую привязанностью к одному месту. Он хотел чего-то другого. Чего? Он и сам толком не знал. Отец, видя нежелание младшего сына следовать по его пути тем более, что старший, окончив учение, стал верным помощником, отпустил младшего странствовать. Отец дал Малху новую халамиду, дорожную суму из грубой кожи, длинный нож и два десятка денариев и сказал на прощание:
– Иди, сын, ищи свое счастье.
Так Малх стал блудным сыном. Но он не вернулся в дом отца, не припал к его коленям. И отец Малха не приказал зарезать жирного теленка и не устроил пир по случаю возвращения блудного сына под родной кров. Он умер в полном неведении о том, что стало с младшим из сыновей. Малх не вернулся домой даже тогда, когда понял убогую однообразность мира, когда утренним туманом истаяли мечты юности. Он шел своим извилистым, как полет летучей мыши, путем. И этот путь непостижимым образом привел его в дом наси Иосифа, где Малх стал доверенным слугой, наемным работником.
Во дворе дома наси его встретила служанка – пожилая женщина в старой рубахе и такой же старой шали, покрывавшей редкие бесцветные волосы. Тихим голосом она сообщила, что господин уехал и приказал Малху ждать его. Тот прошел в угол двора, где на первом этаже дома, рядом с кладовыми, была его маленькая каморка. Кроме дощатой кровати и небольшого глиняного сундука с деревянной крышкой, служившей сиденьем, в каморке ничего не было. Малх снял синюю симлу, аккуратно положил ее на сундук и сел на тощий тюфяк, лежавший поверх рамы из досок. Протянув руку, он потрогал жесткий валик, служивший ему подушкой. Пальцы его нащупали нечто твердое. Это был кожаный кошель, в котором хранились его сбережения. Достав его, Малх стал пересчитывать деньги. Там лежало двадцать тирских шекелей, серебряных монет с изображением бога Мелькарта и орла. Насладившись приятной тяжестью и пересчитав деньги, Малх спрятал кошель среди пучков грубой, свалявшейся шерсти и положил валик на место. Сумма скопилась приличная. За эти деньги можно было купить небольшой участок земли или скромный дом на окраине Иерусалима. Но земля Малху была не нужна: он не хотел заниматься земледелием. Его мечтой, пережившей другие желания, был караван-сарай в торговом городе вроде того, который содержал Жирный Бенони, куда Малх заходил иногда выпить дешевого местного вина и послушать разговоры заезжих торговцев. Но для караван-сарая недоставало еще столько же тирских шекелей, и Малх погрузился в размышления, как в короткий срок достать необходимую сумму. Он не собирался надолго задерживаться в Иерусалиме. Малх интуитивно чувствовал опасность: еще немного, и в городе, да и во всей провинции, вспыхнет мятеж, который римляне утопят в крови, не разбирая, кто прав, кто виноват. Размышления его прервало появление слуги из дома бар Шета. Тот передал приказ немедленно явиться в дом Хананни. Малх поднялся, надел симлу и вышел во двор.
И вот он стоит перед Иосифом и Ханнани бар Шетом и ждет вопросов. Оба: и зять, и тесть – были облачены в парадные одежды, хитоны тонкой ткани, цититы с кистями, блестевшими золотыми нитями, на головах их возвышались пышные тюрбаны. Оба они являли собой воплощение богатства и власти.
– И что ты узнал? – спросил Хананни бар Шет
– Немного, господин, – ответил Малх. – Я был у Дровяных ворот, слушал разговоры, но люди говорят разное, часто противоречат друг другу.
– И что говорят люди? – повторил вопрос Хананни, – Говори все!
– Говорят, что напали на офицера, тот ехал во главе колонны всадников.
– И что это за всадники? – вступил в разговор Иосиф.
– Солдаты, – Малх помолчал. – Но не сирийцы и не себастийцы. Римский отряд около двух сотен.
– Префект привел подкрепление? – бар Шет посмотрел на зятя.
– Я ничего не знаю, – смущенно ответил Иосиф.
– Они расположились во дворце царя Ирода, – вступил в разговор Малх.
Сухие когтистые пальцы Хананни застучали по черному подлокотнику.
– Выходит, – произнес он, обращаясь к зятю, – вместо одной когорты, как было прежде, префект привел еще и отряд конницы, а может быть, и не один. Зачем?
Вопрос был обращен к Иосифу, но тот промолчал.
– Продолжай! – приказал бар Шет.
– Я дал денарий начальнику стражи у ворот. Тот рассказал, что арестованы были двое. Одного он знает, точнее, видел раньше. Этот человек, по словам начальника стражи, часто торговал у ворот, продавал всякую дрянь. Так сказал начальник. Денарий я дал из своих денег, – уточнил Малх.
– Тебе вернут денарий, – проговорил Иосиф.
– Еще, – продолжал Малх, – я поговорил с торговцем дровами. Тот уверен, что сбежавший от солдат сикарий – не иудей, а чужак, похожий на араба.
– Это все, что ты узнал? – спросил Иосиф.
– Все, господин, – ответил Малх.
Тогда иди и жди в своей коморке. Ты сегодня, может быть, еще понадобишься нам.
– Про этого третьего, – задумчиво произнес Хананни, когда слуга ушел. – Меня беспокоит этот третий, не похожий на иудея. Не задумали ли наши друзья из Адиабены помочь нам избавиться от римлян. Или помочь царю Артабану. Я получил письмо из Нагардеи от одного почтенного человека. Он пишет, что знать Парфии недовольна усилением власти царя. И если цезарь Тиберий пришлет к границам Парфии одного из царевичей, живущих в Риме, то неизвестно, удержит ли царь Артабан власть. А если в провинции начнется восстание, то Риму будет не до Артабана, и тот сможет спокойно укрепить свою власть и в Парфии, и в Армении. Если третий, сбежавший, прислан из Парфии или Нагардеи, то префект легко обвинит в заговоре в пользу враждебного государства всех черных тамкаров и, конечно, почтенного Гедалию.
Хананни замолчал, размышляя. Молчал и Иосиф. Он хорошо знал, что в такие минуты тестя лучше не тревожить. Неожиданно по сухим тонким губам бар Шета скользнула улыбка. Иосиф удивленно посмотрел на тестя.
– Ты что-нибудь придумал? – спросил Иосиф.
Хананни вновь улыбнулся недоброй улыбкой, показав мелкие острые зубы.
– Если то, что я придумал, нам с тобой удастся совершить, то все черные тамкары будут у меня вот здесь, – и он показал зятю кулак. – Для этого нам необходимо поговорить с префектом и как можно скорее.
Хананни позвал слугу, приказал подать большой паланкин и удвоить количество носильщиков. Когда господа удобно разместились на подушках паланкина, рабы-носильщики подняли его и скорым шагом пошли, почти побежали по улице, ведущей к Храмовой площади.
Глава 9
Шел восьмой час дня. Понтий Пилат, префект императорской провинции Иудея, откинулся на спинку кресла и пальцами потер веки. В последнее время у него появилась странная резь в глазах, точно туда насыпали мелкого песку. Резь возникала после долгого чтения ситовников. И хотя они писались крупными буквами, черной сепией, глаза префекта болели. Можно было, конечно, заставить их читать раба-декламатора, но Пилат лучше понимал смысл документа, когда ситовник лежал перед глазами. Отодвинув на край стола пачку ситовников, он встал и, покинув кабинет, прошел в небольшой триклиний, где около овального стола находились небольшие обеденные ложи. Поскольку префект сегодня обедал один, еда была по-солдатски проста. Пилат не изменял вкусу к пище, приобретенному за долгие годы лагерной жизни. Если же он устраивал роскошные обеды, то это была дань общественным правилам или требованиям жены. Когда он вошел, слуга уже заканчивал накрывать на стол. Пилат сел на ложе – возлежал он только тогда, когда обедал не один, – это тоже была привычка, приобретенная в легионе. Префект, ополоснув руки и вытерев их льняным полотенцем, отломил кусок солдатского хлеба, положил на него тонкие куски вареной говядины, полил все это соусом из сельдерея и стал медленно есть. Слуга, стоящий рядом, наполнил килик заранее приготовленным мульсумом – напитком, состоящим из воды, вина и меда. Пилат съел хлеб с мясом, запил еду мульсумом и собирался отведать сыра и соленых оливок, как вошел легионер и доложил, что у ворот претория стоят два члена синедриона и просят прокуратора принять их для очень важной беседы.
– Кто? – спросил префект.
За солдата ответил вошедший вслед за ним номенклатор:
– Это наси Синедриона и его тесть Хананни бар Шет.
Префект отодвинул кубок, медленно поднялся с ложа.
– Пусть ждут меня в приемной, поставь туда курульное кресло. И еще: приготовь мне тогу79 пуеля, – и в ответ на вопросительный взгляд слуги, добавил. – У меня сегодня траур по убитому боевому товарищу.
Префект намеренно медлил с одеванием: несколько раз слуга менял расположение складок тоги. Наконец, когда, по мнению Пилата, наси и его тесть прождали достаточно долго, он вошел в кабинет. Это была небольшая комната с двумя узкими окнами. Против входа стоял маленький столик со столешницей из полированного мрамора, около него слуги поставили курульное кресло. Чуть сбоку от стола находились три простых табурета, в дальнем углу возвышался большой деревянный сундук с бронзовыми накладками по углам и массивным замком в виде львиной головы. Поскольку этот кабинет в отсутствии префекта занимал фрументарий, то, пока Иосиф и его тесть ждали выхода Пилата, около двери, ведущей на галерею, стоял легионер. Префект вошел, жестом отпустив солдата. Тот отдал честь и, четко повернувшись, застучал калигами по доскам галереи. Наси и бар Шет обратили внимание на траурную тогу перфекта, как только он появился.
– У тебя горе, господин? – начал разговор Иосиф.
– Я скорблю по убитому другу, боевому товарищу, павшему от предательского удара, – префект лгал: он не только не служил вместе с убитым Фундарием, но и до сего дня даже не слышал о нем.
– Весь Эрец-Исраэль скорбит о твоем друге. Совершить убийство в дни праздника, пролить кровь на улицах святого города …
Иосиф увлекся. Он говорил, как говорил бы в Синедрионе, уснащая речь витиеватыми оборотами, цитируя священные книги. Понтий Пилат слушал его невнимательно, прекрасно понимая, что главное сегодня будет сказано не этим еще молодым благообразным человеком, а его тестем. Глядя на ораторствующего наси, Пилат подумал, что если бы Пракситель или Фидий задумали изваять статую главы Синедриона, то своей моделью обязательно сделали бы Иосифа.
Заметив, что префект его не слушает, наси скомкал речь и замолчал. В разговор вступил Хананни бар Шет:
– Мы скорбим вместе с тобой, господин, и привела нас сюда скорбь уважаемого человека, человека богобоязненного и послушного воле цезаря Тиберия и твоей воле.
– О ком ты говоришь? – спросил Пилат, внимательно разглядывая собеседника. Он впервые так близко видел Ана – так иногда называли бар Шета, – хотя был наслышан о нем. Перед ним сидел негласный правитель города – один из немногих, чьи слова весили тяжелей свинца. За внешностью пожилого человека – бар Шета трудно было назвать стариком – Пилат увидел хищника, безжалостного и осторожного.
– Я, господин, говорю об Аббе бар Гедалии, – ответил Ан.
– Его сын – достойный молодой человек, украшение Эрец-Исраэля, – попал в неприятную историю. Твои воины задержали его как виновника смерти того офицера.
– Выбирай слова! – в голосе префекта зазвучал металл римских мечей. – Не в смерти, а в убийстве заслуженного офицера, отмеченного за боевые заслуги самим цезарем Тиберием, когда тот командовал Панонскими легионами. А это преступление не только против римского гражданина, но и против римской государственности! За это – смерть! А если учесть, что нападавшие – не римские граждане, то распятие на видном месте в назидание остальным!
– Но, господин префект, – вкрадчивым, медовым голосом произнес бар Шет, – этот юноша – сын достойного отца: он не мог быть причастным к убийству, тем более римлянина. И, если он оказался на месте преступления, то совершенно случайно, и тем самым вызвал подозрение твоих солдат.
Пилат, выслушав Хананни, взял со стола несколько ситовников, пробежал их глазами и положил обратно, оставив в руке один.
– Вот показания всадников алы баттавов. Они утверждают, что арестованный сын Аббы бар Гедалия напал на римского офицера. Именно он нанес смертельный удар трибуну Фундарию, или тот, другой, – солдаты не видели. А может быть, это не просто убийство? – взгляд префекта остановился на Иосифе и стал совсем ледяным. – Может быть, это жертвоприношение вашему богу, и совершено оно с согласия жрецов вашего храма, ведь зарезал же отец своего первенца и принес в жертву богу.
Прокуратор замолчал, внимательно наблюдая за собеседниками. Ужас холодными лапами сжал души Иосифа и его тестя. Души их повисли на тонких ниточках, которые вот-вот обрежет слепая эллинская пряха. Они не ожидали, что в голове этого, пусть и просвещенного римлянина, родится такая мысль, полная змеиного коварства. Мысль, угрожавшая именно им, мысль, которая позволит префекту расправиться с ними, не трогая народ. И народ не поднимется на их защиту: бедный всегда враг богатого так же, как и чужеземец. Префект спокойно наблюдал за растерянностью этих иудеев. Он видел ужас, который они старались скрыть, и понимал, что теперь они пойдут на любые условия. Пилат не собирался проводить карательных акций: этого не одобрят в Риме, да и мертвому Фундарию они не помогут, а, чтобы провести показательную казнь, хватит и тех двоих, что сидят в подвале претория тем более, что фрументарий обещал к утру следующего дня арестовать третьего.
«Фундарию уже ничем не поможешь – надо подумать о себе», – так размышлял Понтий Пилат. И хотя эта мысль казалась ему немного циничной, зато верной и правильной. Пока префект размышлял, бар Шет сумел подавить страх, но ему нужно было время, чтобы обдумать новые условия сделки, которые теперь можно было предложить римлянину. Он бросил короткий взгляд на зятя. Тот, уловив этот взгляд, начал торопливо:
– Игемон, – второпях наси употребил арамейское слово вместо римского dominus, – наверное, плохо осведомлен о вере народа Эрец-Исраэль.
– Плевать я хотел на вашу веру! – перебил Пилат первосвященника. – Есть, был и будет божественный цезарь Тиберий!!!
– Наш бог запрещает жертвовать человеков, – продолжал Иосиф, словно, не слыша слов префекта. – И человек, о котором ты упомянул, – наш праотец Авраам не зарезал своего сына. Он собирался сделать это, чтобы доказать свою преданность Яхве. Но ангел, посланный богом, остановил его, и глас божий возвестил о неприятии Яхве жертвы человеческой. Мы приносим в жертву агнцев, птиц, но не людей. Иудей, придя в Храм в праздник Песах, приносит жертвенные шекели.
«Которыми вы удачно спекулируете», – подумал Пилат, хорошо осведомленный о финансовых операциях жрецов с жертвенными деньгами и размерах их прибылей.
– Поэтому, господин, – закончил речь Иосиф, – нас нельзя обвинить в жертвоприношении человека, тем более римлянина.
Иосиф замолчал. Молчал и Пилат, ожидая, когда в разговор вступит Хананни, но поскольку тот тоже не проронил ни слова, префект произнес:
– Все это так, Иосиф, и говорил ты убедительно, но, – префект сделал паузу, – но это известно тебе. Об этом мало кто знает в Антиохии и совершенно не знают в Риме. Ты думаешь, что сенаторы утомляют себя изучением вашей веры? Если ты так думаешь, то ошибаешься, Иосиф. Для сенаторов важно только одно: убийство римского офицера. И если его можно объяснить жертвоприношением, то так и доложат цезарю Тиберию, не вникая в подробности. А я, если не покараю виновных, буду наказан. И вот еще, – Пилат взял со стола ситовник, – донесение начальника патруля декуриона Дагалайфа. Тут сказано, что вчера, накануне праздника, группа бородатых людей хотела побить камнями некую женщину, но прежде, чем декурион успел вмешаться, толпу остановил некий человек. Декурион проверил данного человека: им оказался житель Галилеи, каменщик, работающий на стройке недалеко от Назарета. Бородатые люди, как я понимаю, – это фарисеи, а ведь они заседают в Синедрионе. Сегодня – женщина, завтра – римский офицер, а дальше что? Я тебя спрашиваю, Ан!
– Фарисеи, – тщательно подбирая слова, как мастер подбирает камешки для мозаики, ответил бар Шет, – люди, ревностно чтущие закон и иногда нарушающие границы дозволенного. Скорей всего, эта женщина совершила прелюбодеяние, за что по нашему закону надлежит ее побить камнями. Фарисеи просто в гневе забыли, что право жизни и смерти теперь принадлежит римлянам. Но я, господин, хотел говорить о другом. Ты сказал, что должен наказать виновных, – и это верно. Но кто будет этим виновным? Вот о чем я хотел поговорить с тобой. Иуешуа-Варраван бар Абба – единственный сын уважаемого тамкара…