Читать онлайн Смерть – дело одинокое бесплатно
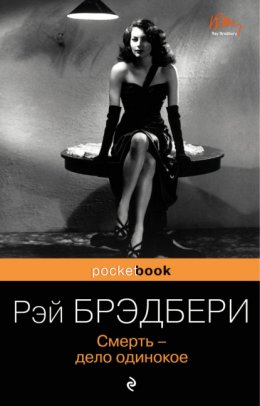
С любовью Дону Конгдону, благодаря которому возникла эта книга, и памяти Рэймонда Чандлера, Дэшила Хэммета, Джеймса М. Кейна и Росса Макдональда, а также памяти моих друзей и учителей Ли Брэкетт и Эдмонда Гамильтона, к сожалению ушедших, посвящается
Тем, кто склонен к унынию, Венеция в штате Калифорния[1] раньше могла предложить все что душе угодно. Туман – чуть ли не каждый вечер, скрипучие стоны нефтяных вышек на берегу, плеск темной воды в каналах, свист песка, хлещущего в окна, когда поднимается ветер и заводит угрюмые песни над пустырями и в безлюдных аллеях.
В те дни разрушался и тихо умирал, обваливаясь в море, пирс, а неподалеку от него в воде можно было различить останки огромного динозавра – аттракциона «русские горки»[2], над которым перекатывал свои волны прилив.
В конце одного из каналов виднелись затопленные, покрытые ржавчиной фургоны старого цирка, и, если ночью пристально вглядеться в воду, заметно было, как снует в клетках всякая живность – рыбы и лангусты, принесенные приливом из океана. Казалось, будто здесь ржавеют все обреченные на гибель цирки мира.
И каждые полчаса к морю с грохотом проносился большой красный трамвай, по ночам его дуга высекала снопы искр из проводов; достигнув берега, трамвай со скрежетом поворачивал и мчался прочь, издавая стоны, словно мертвец, не находящий покоя в могиле. И сам трамвай, и одинокий, раскачивающийся от тряски вожатый знали, что через год их здесь не будет, рельсы зальют бетоном, а паутину высоко натянутых проводов свернут и растащат.
И вот тогда-то, в один такой сумрачный год, когда туманы не хотели развеиваться, а жалобы ветра – стихать, я ехал поздним вечером в старом красном грохочущем, как гром, трамвае и, сам того не подозревая, повстречался в нем с напарником Смерти.
В тот вечер лил дождь, старый трамвай, лязгая и визжа, летел от одной безлюдной, засыпанной билетными конфетти остановки к другой, и в нем никого не было – только я, читая книгу, трясся на одном из задних сидений. Да, в этом старом, ревматическом деревянном вагоне были только я и вожатый, он сидел впереди, дергал латунные рычаги, отпускал тормоза и, когда требовалось, выпускал клубы пара.
А позади, в проходе, ехал еще кто-то, неизвестно когда вошедший в вагон.
В конце концов я обратил на него внимание, потому что, стоя позади меня, он качался и качался из стороны в сторону, будто не знал, куда сесть, – ведь когда на тебя ближе к ночи смотрят сорок пустых мест, трудно решить, какое из них выбрать. Но вот я услышал, как он садится, и понял, что уселся он прямо за мной, я чуял его присутствие, как чуешь запах прилива, который вот-вот зальет прибрежные поля. Отвратительный запах его одежды перекрывало зловоние, говорившее о том, что он выпил слишком много за слишком короткое время.
Я не оглядывался: я давно по опыту знал, что стоит поглядеть на кого-нибудь – и разговора не миновать.
Закрыв глаза, я твердо решил не оборачиваться. Но это не помогло.
– Ox, – простонал незнакомец.
Я почувствовал, как он наклонился ко мне на своем сиденье. Почувствовал, как горячее дыхание жжет мне шею. Упершись руками в колени, я подался вперед.
– Ox, – простонал он еще громче. Так мог молить о помощи кто-то падающий со скалы или пловец, застигнутый штормом далеко от берега.
– Ох!
Дождь уже лил вовсю, большой красный трамвай, грохоча, мчался в ночи через луга, поросшие мятликом, а дождь барабанил по окнам, и капли, стекая по стеклу, скрывали от глаз тянувшиеся вокруг поля. Мы проплыли через Калвер-Сити[3], так и не увидев киностудию, и двинулись дальше – неуклюжий вагон гремел, пол под ногами скрипел, пустые сиденья дребезжали, визжал сигнальный свисток.
А на меня мерзко пахнуло перегаром, когда сидевший сзади невидимый человек выкрикнул:
– Смерть!
Сигнальный свисток заглушил его голос, и ему пришлось повторить:
– Смерть…
И опять взвизгнул свисток.
– Смерть, – раздался голос у меня за спиной. – Смерть – дело одинокое!
Мне почудилось – он сейчас заплачет. Я глядел вперед на пляшущие в лучах света струи дождя, летящего нам навстречу.
Трамвай замедлил ход. Сидевший сзади вскочил: он был взбешен, что его не слушают, казалось, он готов ткнуть меня в бок, если я хотя бы не обернусь. Он жаждал, чтобы его увидели. Ему не терпелось обрушить на меня то, что его донимало. Я чувствовал, как тянется ко мне его рука, а может быть, кулаки, а то и когти, как рвется он отколошматить или исполосовать меня, кто его знает. Я крепко вцепился в спинку кресла перед собой.
– Смерть… – взревел его голос.
Трамвай, дребезжа, затормозил и остановился.
«Ну давай, – думал я, – договаривай!»
– …дело одинокое, – страшным шепотом докончил он и отодвинулся.
Я услышал, как открылась задняя дверь. И тогда обернулся.
Вагон был пуст. Незнакомец исчез, унося с собой свои похоронные речи. Слышно было, как похрустывает гравий на дороге.
Невидимый впотьмах человек бормотал себе под нос, но двери с треском захлопнулись. Через окно до меня еще доносился его голос, что-то насчет могилы. Насчет чьей-то могилы. Насчет одиночества.
Трамвай дернулся и, лязгая, понесся дальше сквозь непогоду, мимо высокой травы на лугах.
Я поднял окно и высунулся, вглядываясь в дождливую темень позади.
Я не мог бы сказать, что там осталось – город, полный людей, или лишь один человек, полный отчаяния, – ничего не было ни видно, ни слышно.
Трамвай несся к океану.
Меня охватил страх, что мы в него свалимся.
Я с шумом опустил окно, меня била дрожь.
Всю дорогу я убеждал себя: «Да брось! Тебе же всего двадцать семь! И ты же не пьешь». Но…
Но все-таки я выпил.
В этом дальнем уголке, на краю континента, где некогда остановились фургоны переселенцев, я отыскал открытый допоздна салун, в котором не было никого, кроме бармена – поклонника ковбойских фильмов о Хопалонге Кэссиди[4], которым он и любовался в ночной телепередаче.
– Двойную порцию водки, пожалуйста.
Я удивился, услышав свой голос. Зачем мне водка? Набраться храбрости и позвонить моей девушке Пег? Она за две тысячи миль отсюда, в Мехико-Сити. А что я ей скажу? Что со мной все в порядке? Но ведь со мной и правда ничего не случилось!
Ровно ничего, просто проехался в трамвае под холодным дождем, а за моей спиной звучал зловещий голос, нагонял тоску и страх. Однако я боялся возвращаться в свою квартиру, пустую, как холодильник, брошенный переселенцами, бредущими на запад в поисках заработка.
Большей пустоты, чем у меня дома, пожалуй, нигде не было, разве что на моем банковском счете – на счете Великого Американского Писателя – в старом, похожем на римский храм здании банка, которое возвышалось на берегу у самой воды, и казалось, что его смоет в море при следующем отливе. Каждое утро кассиры, сидя с веслами в лодках, ждали, пока управляющий топил свою тоску в ближайшем баре. Я нечасто с ними встречался. Притом что мне лишь изредка удавалось продать рассказ какому-нибудь жалкому детективному журнальчику, наличных, чтобы класть их в банк, у меня не водилось. Поэтому…
Я отхлебнул водки. И сморщился.
– Господи, – удивился бармен, – вы что, в первый раз водку пробуете?
– В первый.
– Вид у вас просто жуткий.
– Мне и впрямь жутко. Вы когда-нибудь чувствовали, будто должно случиться что-то страшное, а что – не знаете?
– Это когда мурашки по спине бегают?
Я глотнул еще водки, и меня передернуло.
– Нет, это не то. Я хочу сказать: чуете смертельную жуть, как она на вас надвигается?
Бармен устремил взгляд на что-то за моим плечом, словно увидел там призрак незнакомца, который ехал в трамвае.
– Так что, вы притащили эту жуть с собой?
– Нет.
– Значит, здесь вам бояться нечего.
– Но, понимаете, – сказал я, – он со мной разговаривал, этот Харон[5].
– Харон?
– Я не видел его лица. О боже, мне совсем худо! Спокойной ночи.
– Не пейте больше!
Но я уже был за дверью и оглядывался по сторонам – не поджидает ли меня там что-то жуткое? Каким путем идти домой, чтобы не напороться на тьму? Наконец решил и, зная, что решил неверно, торопливо пошел вдоль старого канала, туда, где под водой покачивались цирковые фургоны.
Как угодили в канал львиные клетки, не знал никто. Но если на то пошло, никто, кажется, уже не помнил и того, откуда взялись сами каналы в этом старом обветшавшем городе, где ветошь каждую ночь шелестела под дверями домов вперемешку с песком, водорослями и табаком из сигарет, усеивавшим берег еще с тысяча девятьсот десятого года[6].
Как бы то ни было, каналы прорезали город, и в конце одного из них, в темно-зеленой, испещренной нефтяными пятнами воде, покоились старые цирковые фургоны и клетки; белая эмаль и позолота с них облезли, ржавчина разъедала толстые прутья решеток.
Давным-давно, в начале двадцатых, и фургоны, и клетки, словно веселая летняя гроза, проносились по городу, в клетках метались звери, львы разевали пасти, их горячее дыхание отдавало запахом мяса. Упряжки белых лошадей провозили это великолепие через Венецию, через луга и поля, задолго до того, как студия «Метро-Голдвин-Майер»[7] присвоила львов для своей заставки и создала совсем иной, новый цирк, которому суждено вечно жить на лентах кинопленки.
Теперь все, что осталось от прошлого праздничного карнавала, нашло себе пристанище здесь, в канале. В его глубокой воде одни клетки стояли прямо, другие валялись на боку, схоронившись под волнами прилива, который иногда по ночам совсем скрывал их от глаз, а на рассвете обнажал снова. Между прутьями решеток сновали рыбы. Днем здесь, на этих островах из дерева и стали, отплясывали мальчишки, по временам они ныряли внутрь клеток, трясли решетки и заливались хохотом.
Но сейчас, далеко за полночь, когда последний трамвай унесся вдоль пустынных песчаных берегов к месту своего назначения, темная вода тихо плескалась в каналах и чмокала в решетках, как чмокают беззубыми деснами древние старухи.
Пригнув голову, я бежал под ливнем, как вдруг прояснилось и дождь перестал. Луна, проглянув сквозь щель в темных тучах, следила за мной, будто огромный глаз. Я шел, ступая по зеркалам, а из них на меня смотрели та же луна и те же тучи. Я шел по небу, лежавшему у меня под ногами, и вдруг – вдруг это случилось…
Где-то поблизости, кварталах в двух от меня, в канал хлынула волна прилива; соленая морская вода гладким черным потоком потекла между берегами. Видно, где-то недалеко прорвало песчаную перемычку и море устремилось в канал. Темная вода текла все дальше. Она достигла пешеходного мостика, как раз когда я достиг его середины.
Вода с шипением обтекала прутья львиных клеток.
Я подскочил к перилам моста и крепко за них ухватился.
Потому что прямо подо мной, в одной из клеток, показалось что-то слабо фосфоресцирующее.
Кто-то в клетке двигал рукой.
Видно, давно уснувший укротитель львов только что проснулся и не мог понять, где он.
Рука медленно тянулась вдоль прутьев – укротитель пробудился окончательно.
Вода в канале спа́ла и снова поднялась.
А призрак прижался к решетке.
Склонившись над перилами, я не верил своим глазам.
Но вот светящееся пятно начало обретать форму. Призрак шевелил уже не только рукой, все его тело неуклюже и тяжело двигалось, словно огромная, очутившаяся за решеткой марионетка.
Я увидел и лицо – бледное, с пустыми глазами, в них отражалась луна, и только, – не лицо, а серебряная маска.
А где-то в глубине моего сознания длинный трамвай, сворачивая по ржавым рельсам, скрежетал тормозами, визжал на остановках, и при каждом повороте невидимый человек выкрикивал:
– Смерть… дело… одинокое!
Нет!
Прилив начался снова, и вода поднялась. Все это казалось странно знакомым, будто однажды ночью я уже наблюдал такую картину.
А призрак в клетке снова привстал.
Это был мертвец, он рвался наружу.
Кто-то издал страшный вопль.
И когда в домиках вдоль темного канала вспыхнул свет, я понял, что кричал я.
– Спокойно! Назад! Назад!
Машин подъезжало все больше, все больше прибывало полицейских, все больше окон загоралось в домах, все больше людей в халатах, не очнувшихся от сна, подходило ко мне, тоже не успевшему очнуться, но только не от сна. Будто толпа несчастных клоунов, брошенных на мосту, мы глядели в воду на затонувший цирк.
Меня трясло, я всматривался в затопленную клетку и думал: «Как же я не оглянулся? Как же не рассмотрел того незнакомца, ведь он наверняка все знал про этого беднягу там, в темной воде».
«Боже, – думал я, – уж не он ли, этот тип из трамвая, и затолкал несчастного в клетку?»
Доказательства? Никаких. Все, что я мог предъявить, это три слова, прозвучавшие после полуночи в последнем трамвае, а свидетелями были лишь дождь, стучавший по проводам и повторявший эти слова, да холодная вода, которая, словно смерть, подступала к затонувшим в канале клеткам, заливала их и отступала, став еще более холодной, чем прежде.
Из старых домишек выходили все новые несуразные клоуны.
– Эй, народ! Все в порядке!
Снова пошел дождь, и прибывающие полицейские косились на меня, словно хотели спросить: «Что у тебя, своих дел мало? Не мог подождать до утра, позвонить, не называя себя?»
На самом краю берега над каналом, с отвращением глядя на воду, стоял один из полицейских в черных купальных трусах. Тело у него было белое – наверно, давно не видело солнца. Он стоял, наблюдая за тем, как волны заливают клетку, как всплывает покойник и манит к себе. За прутьями возникало лицо. Печальное лицо человека, ушедшего далеко и навсегда. Во мне росла щемящая тоска. Пришлось отойти: я почувствовал, как в горле начинает першить от горечи – того и гляди, всхлипну.
И тут белое тело полицейского вспороло воду. И скрылось.
Я испугался, не утонул ли и он тоже. По маслянистой поверхности канала барабанил дождь.
Но вдруг полицейский показался снова – уже в клетке, прижавшись лицом к прутьям, он хватал ртом воздух.
Я вздрогнул: мне почудилось, будто это мертвец всплыл, чтобы сделать последний судорожный живительный глоток.
А минуту спустя я увидел, как полицейский, изо всех сил работая ногами, уже выплывает из дальнего конца клетки и тащит за собой что-то длинное, призрачное, похожее на погребальную ленту из блеклых водорослей.
Кто-то подавил рыдание. Господи Иисусе, неужто я?
Тело выволокли на берег, пловец растирался полотенцем. Мигая, угасали огни патрульных машин. Трое полицейских, тихо переговариваясь, наклонились над покойником, освещая его фонариками.
– …похоже, почти сутки.
– …а следователь-то где?
– У него трубка снята. Том поехал за ним.
– Бумажник? Удостоверение?
– Пусто – видно, приезжий.
Начали выворачивать карманы утопленника.
– Нет, не приезжий, – сказал я и осекся.
Один из полицейских оглянулся и направил на меня фонарик. Он с интересом вгляделся мне в глаза и услышал звуки, которые рвались из моего горла.
– Знаете его?
– Нет.
– Тогда почему…
– Почему расстраиваюсь? Да потому! Он умер, ушел навсегда. О господи! Это же я его нашел!
Неожиданно мысли мои скакнули назад.
Давным-давно, в яркий летний день, я завернул за угол и вдруг увидел затормозившую машину и распростертого под ней человека. Водитель как раз выскочил и нагнулся над телом.
Я сделал шаг вперед и замер. Что-то розовело на дороге возле моего ботинка.
Я понял, что это, вспомнив лабораторные занятия в колледже. Маленький одинокий комочек человеческого мозга.
Какая-то женщина, явно незнакомая, проходя мимо, остановилась и долго смотрела на тело под колесами. Потом, повинуясь порыву, сделала то, чего и сама не ожидала. Медленно опустилась на колени возле погибшего. И стала гладить его по плечу, мягко, осторожно, словно утешая: «Ну, ну, не надо, не надо!»
– Его… убили? – услышал я свой голос.
Полицейский обернулся:
– С чего вы взяли?
– А как же… я хочу сказать… как бы иначе он попал в эту клетку под водой? Кто-то должен был его туда запихнуть.
Снова вспыхнул фонарик, и луч света зашарил по моему лицу, словно глаза врача, ищущего симптомы.
– Это вы позвонили?
– Нет, – поежился я. – Я только закричал и перебудил всех.
– Привет! – тихо проговорил кто-то.
Детектив в штатском, небольшого роста, начинающий лысеть, опустился на колени возле тела и уже выворачивал карманы утопленника. Из них вывалились какие-то клочки и комочки, похожие на мокрые снежные хлопья, на кусочки папье-маше.
– Что это, черт побери? – удивился кто-то.
«Я-то знаю», – подумал я, но промолчал.
Склонившись рядом с детективом, я дрожащими руками подобрал кусочки мокрой бумаги. А детектив в это время обследовал другие карманы, вынимая из них такой же мусор. Я зажал мокрые комочки в кулаке и, выпрямившись, сунул их себе в карман, а сыщик как раз поднял голову.
– Вы насквозь промокли, – сказал он. – Сообщите полицейскому свое имя и адрес и отправляйтесь домой. Сушиться.
Дождь начался снова. Меня трясло. Я повернулся, назвал полицейскому свою фамилию и адрес и быстро пошел к дому.
Я пробежал почти целый квартал, когда возле меня остановилась машина и открылась дверца. Коренастый лысеющий сыщик кивнул мне.
– Господи, ну и вид у вас, хуже некуда! – сказал он.
– От кого-то я уже слышал об этом всего час назад.
– Садитесь.
– Да я живу в квартале отсюда.
– Садитесь!
Весь дрожа, я влез в машину, и он провез меня последние два квартала до моей пропахшей затхлостью, тесной, как коробка от печенья, квартиры, за которую я платил тридцать долларов в месяц. Вылезая из машины, я чуть не свалился – так измотала меня дрожь.
– Крамли, – представился сыщик. – Элмо Крамли. Позвоните мне, когда разберетесь, что за бумажонки вы спрятали в карман.
Я виновато вздрогнул. Потянулся рукой к карману. И кивнул:
– Договорились.
– И хватит вам страдать и трястись. Кем он был? Никем. – Крамли вдруг замолчал – видно, устыдился того, что сказал, и наклонил голову, собираясь ехать дальше.
– А мне почему-то кажется, я знаю, кем он был, – проговорил я. – Когда вспомню, позвоню.
Я стоял, совсем окоченев. Боялся, что за спиной меня ожидает еще что-то страшное. Вдруг, когда я открою дверь, на меня хлынут черные воды канала?
– Вперед! – приказал Элмо Крамли и захлопнул дверцу.
Он уехал. Только две красные точки и остались от его машины, они удалялись в струях снова начавшегося ливня, который заставил меня зажмуриться.
Я посмотрел на телефонную будку возле заправочной станции на другой стороне улицы. Я пользовался этим телефоном, как своим собственным, названивая разным издателям, а вот они никогда не звонили мне в ответ. Шаря в карманах в поисках мелочи, я размышлял, не позвонить ли в Мехико, не разбудить ли Пег, не взвалить ли на нее мои страхи, не рассказать ли ей про клетку, про утопленника и… о господи… напугать ее до смерти!
«Послушайся сыщика», – подумал я.
Вперед!
У меня уже зуб на зуб не попадал, и я с трудом вставил проклятый ключ в замочную скважину.
Дождь последовал за мной и в квартиру.
Что ждало меня за дверью?
Пустая комната двадцать на двадцать футов, продавленный диван, книжная полка, на ней четырнадцать книг и много пустого места, жаждущего, чтобы его заполнили, купленное по дешевке кресло да некрашеный сосновый письменный стол с несмазанной пишущей машинкой «Ундервуд стандарт» выпуска 1934 года, огромной, как рояль, и громыхающей, как деревянные башмаки по не покрытому ковром полу.
В машинку был вставлен давно ждущий своего часа лист бумаги. А в ящике рядом с машинкой лежала небольшая стопка журналов – полное собрание моих сочинений – экземпляры «Дешевого детективного журнала», «Детективных рассказов», «Черной маски», каждый из них платил мне по тридцать – сорок долларов за рассказ. По другую сторону машинки стоял еще один ящик, ждал, когда в него положат рукопись. Там покоилась единственная страница книги, никак не хотевшей начинаться. На ней значилось:
РОМАН БЕЗ НАЗВАНИЯ
А под этими словами моя фамилия. И дата – июль 1949 г.
То есть три месяца тому назад.
Продолжая дрожать, я разделся, вытерся полотенцем, надел халат, вернулся к письменному столу и уперся в него глазами.
Дотронулся до пишущей машинки, гадая, кто она мне – потерянный друг, слуга или неверная любовница?
Еще несколько недель назад она издавала звуки, отдаленно напоминавшие голос музы. А теперь почти каждый раз я тупо сижу перед проклятой клавиатурой, словно мне отрубили кисти рук по самые запястья. Трижды, четырежды в день я устраиваюсь за столом, терзаемый муками творчества. И ничего не получается. А если и получается, то тут же, скомканное, летит на пол – каждый вечер я выметаю из комнаты кучу бумажных шариков. Я застрял в бесконечной аризонской пустыне, известной под названием «Засуха».
Во многом мой простой объяснялся тем, что Пег так далеко – в Мехико, среди своих мумий и катакомб, а я здесь один, и солнце в Венеции не показывается уже три месяца, вместо него лишь мгла, да туман, да дождь, и снова туман и мгла. Каждую ночь я заворачивался в холодное хлопчатобумажное одеяло, а на рассвете разворачивался с прежним мерзким ощущением на душе. Каждое утро подушка оказывалась влажной, а я не мог вспомнить, что мне снилось и отчего она стала солоноватой.
Я выглянул в окно на телефон, я прислушивался к нему с утра до вечера изо дня в день, но еще ни разу он не зазвонил, чтобы предложить превратить в деньги мой замечательный роман, сумей я закончить его в прошлом году.
Вдруг я поймал себя на том, что пальцы неуверенно скользят по клавишам машинки. «Будто руки того утопленника в клетке», – подумал я и вспомнил, как они высовывались между прутьями решеток, покачиваясь в воде, словно морские анемоны. И я вспомнил о других руках, которых так и не увидел, – о руках того, кто ночью стоял в вагоне трамвая у меня за спиной.
И у того и у другого руки не знали покоя.
Медленно, очень медленно я присел к столу.
Что-то стучало у меня в груди, казалось, что-то бьется о решетку брошенной в канал клетки.
Кто-то дышал мне в затылок.
Надо избавиться от того и от другого. Надо что-то сделать, чтобы они успокоились и перестали меня донимать, иначе мне не заснуть.
Какой-то хрип зазвучал в моем горле, словно меня вот-вот вырвет. Но не вырвало.
Вместо этого пальцы забегали по клавишам, зачеркивая заголовок «РОМАН БЕЗ НАЗВАНИЯ».
Потом я сдвинул каретку, сделал интервал и увидел, как на бумаге возникают слова: СМЕРТЬ, затем ДЕЛО и, наконец, ОДИНОКОЕ.
Я дико уставился на этот заголовок, ахнул и, принявшись печатать, печатал, не останавливаясь, почти час, пока не заставил трамвай в отсветах грозовых молний умчаться сквозь ливень прочь, пока не залил львиную клетку черной морской водой, которая хлынула, сметая все преграды, и выпустила мертвеца на волю.
Вода струилась по моим рукам, стекала к ладоням и по пальцам выливалась на страницу.
И вдруг, как наводнение, надвинулась темнота.
Я так ей обрадовался, что рассмеялся.
И рухнул в постель.
Я пытался уснуть, но расчихался и все чихал и чихал, извел целую пачку бумажных носовых платков и лежал без сна, совершенно несчастный, предчувствуя, что моя простуда никогда не кончится.
Ночью туман сгустился, и где-то далеко в заливе одиноко и потерянно, не переставая, гудела и гудела сирена. Казалось, огромное морское чудовище, давно умершее, брошенное и забытое, оплакивая самого себя, уплывало все дальше от берега, в глубину, в поисках собственной могилы.
Ночью ветер задувал ко мне в окно, шевелил напечатанными страницами моего романа. Я слышал, как бумага, вздыхая, словно вода в каналах, дышит, как дышал мне в затылок тот, в трамвае. Наконец я уснул.
Проснулся поздно в ярком сиянии солнца. Чихая, добрался до двери, распахнул ее настежь и оказался в таком ослепительном потоке дневного света, что мне захотелось жить вечно, но, устыдившись этой мысли, я, подобно Ахаву[8], готов был посягнуть на солнце. Однако вместо этого я стал поспешно одеваться. Одежда за ночь не высохла. Я натянул теннисные шорты, надел куртку и, вывернув карманы еще сырого пиджака, нашел похожие на папье-маше комочки бумаги, вывалившиеся всего несколько часов назад из карманов мертвеца.
Затаив дыхание, я коснулся их кончиками пальцев. Я знал, что это такое. Но пока не был готов обдумать вопрос до конца.
Я не люблю бегать. Но тут побежал…
Побежал прочь от каналов, от клетки, от голоса в темном ночном трамвае, прочь от моей комнаты, прочь от только что напечатанных страниц, ждущих, чтобы их прочитали, ведь на них начинался рассказ обо всем случившемся, но сейчас мне еще не хотелось их перечитывать. Ни о чем не думая, я бежал очертя голову вдоль берега к югу.
Бежал в страну под названием «Затерянный мир».
Но замедлил бег, решив поглазеть на утреннюю кормежку диковинных механических зверей.
Нефтяные вышки. Нефтяные насосы.
Эти гигантские птеродактили[9], рассказывал я друзьям, стали прилетать сюда по воздуху в начале века и темными ночами плавно опускались на землю, чтобы вить гнезда. Перепуганные прибрежные жители просыпались среди ночи от чавканья огромных голодных животных. Люди садились в постелях, разбуженные в три часа ночи скрипом, скрежетом, стуком костей этих скелетоподобных монстров, взмахами голых крыльев, которые то поднимались, то опускались, напоминая тяжкие вздохи первобытных существ. Их запах, вечный, как само время, проплывал над побережьем, доносясь из допещерного века, из времен, когда люди еще не жили в пещерах, это был запах джунглей, ушедших в землю, чтобы там, в глубине, умереть и дать жизнь нефти.
Я бежал через этот лес бронтозавров[10], представляя себе трицератопсов[11] и похожих на частокол стегозавров[12], выдавливающих из земли черную патоку, утопающих в гудроне. Их жалобные крики эхом отдавались от берега, а прибой возвращал на сушу их древний громоподобный рык.
Я бежал мимо невысоких домиков, притулившихся среди чудовищ, мимо каналов, вырытых и наполненных водой еще в 1910 году, чтобы в них отражалось безоблачное небо, по их чистой поверхности в те дни плавно скользили гондолы, а мосты были, как светлячками, увешаны разноцветными лампочками, сулящими веселые ночные балы, похожие на балетные спектакли, уже не повторявшиеся после войны. И когда гондолы погрузились на дно, унеся с собой веселый смех последней вечеринки, черные уроды продолжали сосать песок.
Конечно, кое-кто из тех времен здесь все-таки оставался, укрывшись в лачугах или запершись в немногочисленных виллах, напоминавших средиземноморские, возведенных тут и там по капризу архитекторов.
Я бежал, бежал и вдруг остановился. Мне пора было поворачивать назад, идти искать этот похожий на папье-маше мусор, а потом выяснять, как звали его пропавшего, погибшего владельца.
Но сейчас я не мог оторвать глаз от высившегося передо мной средиземноморского палаццо, сиявшего белизной, как будто на песок опустилась полная луна.
«Констанция Раттиган, – прошептал я, – может быть, выйдешь поиграть?»
На самом-то деле дворец был не дворец, а слепящая глаза белоснежная мавританская крепость, фасадом обращенная к океану, она бросала дерзкий вызов волнам: пусть нахлынут, пусть попробуют сокрушить ее. Крепость венчали башенки и минареты, на песчаных террасах наклонно лежали голубые и белые плитки в опасной близости – всего каких-то сто футов – от того места, где любопытные волны почтительно кланялись крепости, где кружились чайки, стараясь заглянуть в окна, и где сейчас замер я.
«Констанция Раттиган».
Но никто не выходил.
Одинокий и таинственный, этот дворец, стоявший на берегу, где царили лишь грохот прибоя да ящерицы, бдительно охранял загадочную королеву экрана.
В окне одной из башен днем и ночью горел свет. Я ни разу не видел, чтобы там было темно. Интересно, она и сейчас там?
Да!
Вон за окном метнулась тень, словно кто-то подошел взглянуть вниз, на меня, и тут же отпрянул, как мотылек.
Я стоял, вспоминая.
Ее головокружительный взлет в двадцатых длился всего один быстро пробежавший год, а потом ее неожиданно сбросили с высоты вниз, и она исчезла где-то в подземельях кино. Как писали в старых газетах, директор студии застал ее в постели с гримером и, схватив нож, перерезал Констанции Раттиган мышцы на ногах, чтобы она никогда больше не могла ходить так, как он любил. А сам сразу сбежал, уплыл на запад, в Китай. Констанцию же Раттиган с тех пор никто не видел. И никто не знал, может ли она вообще ходить.
«Господи!» – услышал я свой шепот.
Я подозревал, что поздними ночами Констанция Раттиган навещает мой мир, что она знакома с людьми, которых знаю и я. Что-то предсказывало мне возможность скорых встреч с ней.
«Иди, – говорил я себе. – Возьми вон тот медный молоток в виде львиной морды и постучи в дверь, что выходит на берег».
Нет. Я покачал головой. Испугался, что меня встретит за дверью всего лишь блеск черно-белой кинопленки.
Ведь с тайной любовью не ищешь встречи, хочется только мечтать, что когда-нибудь ночью она выйдет из своей крепости и пойдет по песку, а ветер, гонясь за ней, будет заметать ее следы, что она остановится возле твоего дома, постучит в окно, войдет и начнет разматывать кинопленку, изливая в изображениях на потолке свою душу.
«Констанция, дорогая Раттиган, – мысленно умолял я, – ну выйди же! Вскочи в этот длинный белый лимузин, вон он, сверкающий и горячий, стоит на песке возле самого дома, запусти мотор, и мы умчимся с тобой на юг, в Коронадо, на залитый солнцем берег…»
Но никто не выходил, не заводил мотор, никто не звал меня, никто не уносился со мной на юг, к солнцу, подальше от этой туманной сирены, погребенной где-то в океане.
И я отступил, с удивлением обнаружив на своих теннисных туфлях соленую воду, повернулся и поплелся назад к залитым холодным дождем клеткам, побрел по мокрому песку – величайший в мире писатель, чего, правда, никто не знал, кроме меня самого.
С влажными конфетти и мокрыми комочками папье-маше в карманах куртки я вошел туда, куда, как я знал, мне следовало наведаться.
Туда, где собирались старики.
Эта тесная, полутемная лавка глядела на трамвайные рельсы. В ней продавали конфеты, сигареты и журналы, а также билеты на красный трамвай, который проносился из Лос-Анджелеса к океану.
Владели этой пропахшей табачным дымом лавкой два брата, пальцы у них были испещрены никотиновыми пятнами. Они вечно брюзжали и пререкались друг с другом, как старые девы. На стоявшей сбоку скамье облюбовала себе место стайка стариков. Не обращая внимания на ведущиеся вокруг разговоры, как зрители на теннисном матче, они просиживали здесь час за часом изо дня в день и морочили головы посетителям, прибавляя себе годы. Один утверждал, что ему восемьдесят два. Другой – что ему девяносто. Третий похвалялся, что ему девяносто четыре. С каждой неделей возраст менялся, старики не помнили, что выдумывали месяц назад.
И когда мимо с грохотом проносились большие красные трамваи, вы, вслушиваясь, могли уловить, как от стариковских костей отшелушивается ржавчина и хлопья ее, точно снег, плывут по кровеносным сосудам, чтобы на миг блеснуть в помутневших глазах. Тогда старики, не закончив фразы, замолкали на несколько часов, силясь вспомнить, о чем начали говорить в полдень. Бывало, они заканчивали разговор только к ночи, к тому времени, как братья, продолжая ворчать, закрывали лавку и, переругиваясь, возвращались в свои холостяцкие постели.
Никто не знал, где живут старики. Каждый вечер, когда братья, шпыняя друг друга, скрывались в темноте, старики, подгоняемые соленым ветром, словно перекати-поле, разбредались кто куда.
Я вступил в вечную полутьму лавки и остановился возле скамьи, на которой старики восседали с незапамятных времен.
На скамье между ними оставалось свободное место. Там, где всегда сидели четверо, сейчас было трое, и по их лицам я понял: что-то не так.
Я взглянул им под ноги: пол был засыпан не только сигарным пеплом, но и легким снегом – странными кусочками бумаги – конфетти от множества пробитых компостерами трамвайных билетов, конфетти разной формы в виде букв А, Б, В.
Я извлек из кармана теперь уже почти высохшую бумажную массу и сравнил ее со снежинками на полу. Наклонился, набрал этих снежинок полную горсть и, разжав пальцы, пустил весь алфавит по ветру.
Переведя взгляд на пустое место на скамье, я спросил:
– А где же старый джент… – и поперхнулся.
Потому что старики уставились на меня так, будто я выстрелил в них, застывших в молчании, из пистолета. И к тому же их глаза говорили, что для похорон я одет неподобающим образом.
Самый старый зажег трубку, раскурил ее и, попыхивая, пробормотал:
– Придет. Всегда приходит.
Однако двое других неловко заерзали на скамейке, и лица их затуманились.
– Где он живет? – осмелился спросить я.
Старик вынул трубку изо рта:
– А кто интересуется?
– Я. Вы же меня знаете, – ответил я. – Я хожу сюда не один год.
Старики взволнованно переглянулись.
– Это важно, – заметил я.
Старик снова поерзал на скамье.
– Канарейки, – буркнул он.
– Что?
– Леди с канарейками. – Трубка погасла. Старик стал разжигать ее снова, в его глазах была тревога. – Не стоит его беспокоить. Ничего с ним не сделалось. Он не болен. Придет.
Он убеждал меня слишком усердно, и старики едва заметно беспокойно задвигались.
– А как его фамилия? – спросил я.
Это была ошибка. Как?! Я не знаю его фамилии! Господи, да ее все знают! Старики снова уставились на меня.
– Леди с канарейками! – воскликнул я и стремглав выскочил из лавки, чуть не угодив под колеса трамвая, проезжавшего в тридцати футах от дверей.
– Идиот! – заорал вожатый, высунувшись наружу, и погрозил мне кулаком.
– Леди с канарейками! – по-дурацки прокричал я в ответ, тоже грозя кулаком в доказательство того, что остался жив.
И помчался ее искать.
Адрес я знал, так как видел вывеску на окне: «…продаются канарейки».
В нашей Венеции всегда было и теперь есть множество заброшенных уголков, хозяева которых выставляют на продажу жалкие остатки того, что радовало им душу, втайне надеясь, что никто ничего не купит.
Вряд ли найдется хоть один старый дом с давно не стиранными занавесками, где в окне не красовалась бы вывеска вроде:
«1927 г. ЗАКУСКИ НА СКОРУЮ РУКУ. РАЗУМН. ЦЕНА. ЧЕРНЫЙ ХОД».
Или:
«МЕТАЛЛИЧ. КРОВАТЬ. ПОЧТИ НЕ ИСПОЛЬЗ. ДЕШЕВО. ВЕРХН. ЭТАЖ».
Проходя мимо, невольно задаешься вопросами: на какой же стороне кровати спали, спали ли на обеих сторонах, и если спали, то как долго, и с каких пор там никто больше не спит? Двадцать лет? Тридцать?
«СКРИПКИ, ГИТАРЫ, МАНДОЛИНЫ» – гласит другая вывеска.
И в окне – старые инструменты, вместо струн не проволока, не кетгут, а паутина, а за окном, скорчившись над верстаком, старик что-то вырезает из дерева; он всегда отворачивается от света, его руки быстро двигаются; он – свидетель еще тех дней, когда начали затаскивать гондолы из каналов во дворы и использовать как ящики для цветов.
Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как этот старик продал последнюю скрипку или гитару?
Постучишь в дверь, в окно – старик не перестанет резать и полировать дерево, лицо и плечи у него трясутся. Почему он смеется? Потому что ты стучишь, а он делает вид, будто не слышит?
Вы проходите мимо окна с объявлением:
«КОМНАТА С ВИДОМ».
Окно комнаты выходит на океан. Но уже лет десять в ней никого нет. И никому нет дела до вида на океан.
Я завернул за угол и нашел то, что искал.
Объявление висело на окне с потемневшими от солнца рамами, тонкие буквы, вычерченные повидавшим виды карандашом, еле заметные, словно написанные лимонным соком, выцветшие, почти совсем стершиеся… Господи! Не иначе, их написали лет пятьдесят назад!
«Продаются канарейки».
Да, полвека назад кто-то послюнил карандаш, написал на картонке это объявление, прикрепил его на годы липкой лентой от мух, а потом отправился пить чай, поднявшись по лестнице, на перила которой налипла пыль, словно их смазали смолой, вошел в комнату, где пыль толстым слоем покрывала лампочки, так что они стали тусклые, как восточные светильники, где подушки превратились в комки ваты, а в шкафах с пустых вешалок свисали тени.
«Продаются канарейки».
Я не стал стучать. Несколько лет назад просто из глупого любопытства я попробовал было постучать и, чувствуя себя полным идиотом, ушел.
А сейчас я повернул древнюю дверную ручку. Дверь подалась. В нижнем этаже царила пустота. Ни в одной из комнат не было мебели. В лучах солнца клубились пылинки. Я крикнул:
– Есть кто дома?
Мне показалось, что на самом верху кто-то прошептал:
– …никого.
На подоконниках валялись дохлые мухи. К сетке от насекомых на окне прилипло несколько мотыльков, окончивших свои дни летом 1926 года, их крылышки потемнели от пыли.
Где-то далеко наверху, где томилась состарившаяся, забытая в башне безволосая Рапунцель[13], словно прошелестело падающее перышко.
– …да?
На прячущихся в темноте стропилах пискнула мышь.
– Войдите.
Я толкнул дверь. Раздался громкий пронзительный скрежет. «Наверно, – подумал я, – ржавые петли нарочно не смазывали, чтобы скрип извещал о появлении непрошеного гостя».
В верхнем холле о давно перегоревшую лампочку билась моль.
– …сюда, наверх…
Я стал подниматься в царивших здесь средь бела дня сумерках, проходя мимо повернутых к стене зеркал. Ни одно из них не увидит, как я пришел, ни одно не увидит, как уйду.
– …да? – прошелестело где-то.
На верхней площадке я помедлил у дверей. Может быть, мне показалось, что, распахнув дверь, я увижу гигантскую канарейку, распростертую на ковре из пыли, уже не поющую, способную отвечать на вопросы только ударами сердца.
Я вошел. И услышал вздох.
Посреди пустой комнаты стояла кровать, на ней с закрытыми глазами лежала старуха, ее губы чуть шевелились – она дышала.
«Археоптерикс[14]», – подумал я.
Так и подумал. Честное слово. Я видел такие кости в музее, видел слабые, как у рептилии, крылья этой погибшей, вымершей птицы, ее силуэт был запечатлен на песчанике – возможно, рисунок сделал какой-то египетский жрец.
Кровать и все, что на ней лежало, напоминали захламленное дно обмелевшей реки. Словно сквозь медленно текущие воды, угадывались соломенный матрас, какая-то ветошь и жалкий скелет.
Она лежала на спине, такая плоская, такая хрупкая, что я засомневался, живое ли передо мной существо или всего лишь окаменелость, не тронутая ходом времени.
– Да?
На пожелтевшем личике, едва видном из-под одеяла, открылись глаза, словно блеснули стекляшки.
– Я насчет канареек, – услышал я собственный голос. – У вас там объявление на окне? О птицах?
– Ах, – вздохнула старуха. – О боже…
Она забыла. Наверно, уже много лет не спускалась вниз. И за последнюю тысячу дней я, похоже, был единственный, кто поднялся к ней наверх.
– Ах, – прошептала она. – Это было давно. Канарейки. Да-да. У меня были. Замечательные. В тысяча девятьсот двадцатом году, – продолжала она шепотом, – в тридцатом, в тридцать первом… – Шепот стал едва слышен.
Видно, на этом время для нее остановилось. Дальше просто наступало еще одно утро, проходил еще один день.
– Они пели. Господи! Как они пели. Но никто не заходил купить. Почему? Не продала ни одной!
Я огляделся: в дальнем углу стояла птичья клетка и еще две высовывались из шкафа.
– Простите, – тихо прошелестела старуха. – Совсем забыла снять с окна эту вывеску…
Я подошел к клеткам. Моя догадка подтвердилась.
На дне первой я увидел обрывок древней, как папирус, газеты «Лос-Анджелес таймс» за 25 декабря 1926 года:
«ВОСШЕСТВИЕ ХИРОХИТО[15] НА ПРЕСТОЛ.
Сегодня днем молодой двадцатисемилетний император…»
Я перешел к другой клетке и прищурился. Меня захлестнули воспоминания о студенческих днях со всеми их страхами:
«БОМБЕЖКА АДДИС-АБЕБЫ.
Муссолини празднует победу. Хайле Селассие[16] заявляет протест…»
Я закрыл глаза и постарался отмахнуться от этого давнего ушедшего в прошлое года. Вот когда, значит, перестали шуршать перья и смолкли трели. Я вернулся к кровати и к тому иссохшему, никому не нужному, что лежало на ней. И снова услышал свой голос:
– Вы когда-нибудь включали по воскресеньям утреннюю передачу «Час канареек со Скалистых гор»?
– С органистом? Он играл, а канарейки – их была целая студия – подпевали! – радостно воскликнула старуха, от приятных воспоминаний ее плоть словно помолодела, голова слегка приподнялась, глаза блеснули, точно осколки стекла. – «Когда в горах весна».
– «Милая Сью», «Голубые небеса», – подхватил я.
– О, они были прелестны! Канарейки. Правда?
– Прелестны. – Мне в то время было десять, и я старался понять, как эти чертовы птицы умудряются так верно вторить музыке. – Я тогда сказал маме, что клетки, наверно, выстилают дешевыми нотами.
– Похоже, вы были неглупым мальчуганом. – Голова в изнеможении упала, старуха закрыла глаза. – Теперь таких не бывает.
«И никогда не было», – подумал я.
– Но на самом деле вы ведь пришли, – опять прошелестела она, – не из-за канареек?..
– Нет, – признался я. – Я насчет того старичка, что снимал у вас…
– Он умер.
Я не успел ничего спросить, как она спокойно продолжила:
– Я не слышала, как он возится внизу на кухне, со вчерашнего утра. Ночью тишина мне все объяснила. Когда сейчас вы открыли дверь внизу, я так и знала: кто-то идет с плохими вестями.
– Сожалею.
– Не стоит. Я его совсем не видела, разве только на Рождество. За мной ухаживает моя соседка, приходит два раза в день, поправляет постель, приносит еду. Значит, он умер, да? Вы хорошо его знали? А похороны будут? Там на бюро пятьдесят центов. Возьмите, купите от меня букетик.
Денег на бюро не было. И бюро тоже не было. Но я сделал вид, будто есть и то и другое, и сунул в карман несуществующие центы.
– Приходите через шесть месяцев, – прошептала она. – Я тогда поправлюсь. И снова буду продавать канареек, и… Вы смотрите на дверь! Вам надо идти?
– Да, мэм, – виновато сказал я. – Хочу предупредить – у вас входная дверь не заперта.
– Ну и что? Кому нужна такая старуха, как я? – Она в последний раз приподняла голову.
Глаза вспыхнули, лицо исказилось, словно что-то отчаянно билось у нее внутри, стремясь вырваться наружу.
– Никто больше не войдет в этот дом, никто не поднимется по лестнице! – выкрикнула она.
Голос смолк, словно радиостанция, оставшаяся за холмами. Веки опустились, она медленно выключалась из действительности.
«Господи, – подумал я, – да ведь ей хочется, чтобы кто-то поднялся сюда и оказал ей ужасную услугу! Только не я!» – пронеслось у меня в голове.
Глаза у нее широко раскрылись. Неужели я произнес это вслух?
– Нет, – проговорила она, пристально вглядываясь мне в лицо. – Вы не он.
– Кто?
– Тот, кто стоит у моей двери. Каждую ночь. – Она вздохнула. – Но никогда не входит. Почему?
Она остановилась, как часовой механизм. Еще дышала, но уже хотела, чтобы я ушел.
Я взглянул через плечо. В дверях ветер шевелил пыль, там словно туман клубился, как будто кто-то стоял и ждал. Что-то или кто-то, кто появлялся каждый вечер и стоял в холле.
Я направился к дверям.
– Прощайте, – сказал я.
Молчание.
Надо бы остаться, выпить с ней чаю, пообедать, позавтракать. Но никто не может защитить всех нуждающихся в защите. Верно?
У дверей я задержался.
– Прощайте.
Возможно, она пробормотала это слово в своем старческом глубоком сне. Я чувствовал только, как ее дыхание выталкивает меня из комнаты.
Спускаясь по лестнице, я сообразил, что так и не узнал фамилию старика, утонувшего в львиной клетке с горстью не нашедших применения конфетти от трамвайных билетов в каждом кармане.
Я отыскал его комнату, но толку от этого не было.
Его фамилии там не будет, так же как и его самого.
Все всегда начинается хорошо. Но как редко история людей, история маленьких и больших городов имеет счастливый конец.
Все разваливается, преображается до неузнаваемости. Расползается. Распадается связь времен. Молоко скисает. По ночам в моросящем тумане провода, натянутые на высоких столбах, рассказывают страшные истории. Вода в каналах слепнет от пены.
Чиркнешь по кремню, а искры нет. Ласкаешь женщину, и никакого тепла в ответ.
Внезапно кончается лето.
Зима пробирает до мозга костей.
И наступает черед стены.
Стены, что находится в комнатушке, где от грохота проносящихся мимо больших красных трамваев вы мечетесь, словно в кошмаре, в холодной железной кровати на содрогающемся нижнем этаже своих, вряд ли королевских, Апартаментов Имени Погибших Канареек в доме, номер которого свалился с фасада, а табличка с названием улицы на углу так перекосилась, что указывает не на север, а на восток, и теперь, если кто-то когда-нибудь захочет найти вас, он свернет не туда, куда надо, и исчезнет навсегда.
Но зато у вас есть стена возле кровати. Можно читать ее слезящимися глазами или протянуть к ней руку, но так и не достать: слишком она далеко, слишком глухая, слишком пустая.
Я знал, что, раз я нашел комнату старика, я найду в ней и эту стену.
И нашел.
Дверь, как и все двери в этом доме, оказалась незапертой, словно комната ждала, что в нее забредет ветер, или туман, или какой-нибудь бледный незнакомец.
Забрел я. И замешкался в дверях. Может быть, я ожидал, что найду здесь на пустой койке рентгеновский снимок старика? Его комната, как и комната леди с канарейками наверху, напоминала о распродажах домашнего скарба, когда к концу не остается ничего – за гроши растаскивают все подряд.
Здесь на полу не валялось даже зубной щетки, не было ни мыла, ни мочалки. Видно, старик мылся раз в день в море, чистил зубы пучком водорослей и стирал единственную рубашку в соленых волнах, а потом раскладывал ее на песке в дюнах, ложился рядом и ждал, пока она высохнет на солнце, если, конечно, оно появится.
Я двинулся вперед, словно нырнул в пучину. Если вы знаете, что человек мертв, воздух в покинутом им помещении противится каждому вашему движению, даже мешает дышать.
Я чуть не задохнулся.
Моя догадка оказалась неверна.
Потому что фамилию старика я увидел на стене. И чуть не упал, когда наклонился, чтобы прочесть ее.
Имя повторялось снова и снова, оно было нацарапано на штукатурке в дальнем от кровати конце стены. Снова и снова. Словно человек боялся, что выживет из ума или будет забыт; словно страшась, что однажды утром проснется безымянным, он снова и снова царапал стену пожелтевшим от никотина ногтем.
«Уильям». А потом «Уилли», затем «Уилл», а под этими именами – «Билл».
А потом снова, снова и снова.
«Смит», «Смит», «Смит», «Смит».
А в самом низу: «Уильям Смит».
И «Смит У.».
Эта его таблица умножения плыла у меня перед глазами. Я вглядывался в нее, а она то становилась совсем неразличимой, то вновь обретала четкость. Потому что я представлял себе все те ночи, когда и сам боялся заглянуть вперед, в темную бездну моего будущего. Боялся увидеть себя в 1999 году, одинокого, царапающего ногтем штукатурку, словно скребущаяся мышь.
– Боже мой, – прошептал я. – Ну-ка постой!
Койка взвизгнула подо мной, как потревоженная во сне кошка. Я навалился на нее всей своей тяжестью и шарил пальцами по штукатурке. Там были какие-то слова. Письмо? Намек? Улика?
И я вспомнил любимый детьми фокус. Просишь приятелей написать что-нибудь в блокноте, вырвать страничку и разорвать ее. Потом уходишь с блокнотом в другую комнату, проводишь мягким карандашом по бесцветным отпечаткам на чистой странице раз, другой и, возвращаясь, объявляешь, что было написано.
Это я сейчас и проделал. Достал карандаш и осторожно начал водить тупым грифелем по стене. Проявились сделанные ногтем царапины: обрисовался рот, потом глаз, какие-то полосы и круги, обрывки стариковской полудремы.
«Четыре часа ночи, а сна нет».
Чуть ниже едва различаемая мольба:
«Господи! Помоги уснуть!»
А на рассвете отчаянное:
«Господи Иисусе!»
И наконец под этими словами я увидел то, что будто ударило меня под колени, и я присел. Потому что на стене было нацарапано:
«Он снова стоит в холле».
«Да ведь это обо мне, – промелькнуло у меня в мозгу. – Это же я пять минут назад стоял наверху перед дверью старухи. И минуту назад – перед этой дверью. И…»
Прошлая ночь. Трамвай. Дождь. Огромный вагон грохочет по рельсам, скрипят и стонут деревянные части, сотрясаются потускневшие металлические детали, а кто-то невидимый раскачивается в проходе у меня за спиной, оплакивая похоронный рейс трамвая.
«Он снова стоит в холле».
А тот стоял в проходе у меня за спиной.
Нет, нет, это уж слишком!
Ведь не преступление же – правда? – испускать стоны в вагоне трамвая? Или стоять в холле, глядя на дверь, одним своим молчанием давая понять старику, что ты здесь.
Правда! Не преступление. Но что, если этот кто-то однажды ночью все-таки вошел в комнату?
И занялся своим «одиноким делом»?
Я снова вгляделся в надпись, такую же выцветшую, едва заметную, как объявление о продаже канареек на окне. И попятился, стремясь уйти, вырваться из жуткой комнаты человека, приговоренного к одиночеству и отчаянию.
Выйдя в холл, я постоял, принюхиваясь к воздуху, пытаясь угадать, приходил ли сюда снова и снова в последнее время тот, другой, лицо которого едва скрывало череп.
Мне захотелось вихрем взлететь по лестнице и закричать так, чтобы затряслись птичьи клетки:
– Ради всего святого, если тот человек придет опять, позвоните мне!
Но как? В холле я видел пустую подставку для телефона, а под ней – «Желтые страницы» за 1933 год.
Тогда хотя бы крикните в окно!
Но кто услышит ее голос, слабый, как скрип старого ключа в ржавом замке?
«Ладно, – подумал я, – приеду и буду караулить». Только зачем?
Да затем, что эта словно поднятая с морского дна мумия, эта по-осеннему пожелтевшая, обряженная для похорон старуха, лежащая наверху, молит о том, чтобы к ней по лестнице поднялся холодный ветер.
«Запереть все двери?» – подумал я.
Но когда попытался плотнее закрыть входную дверь, у меня ничего не вышло.
И я слышал, как холодный ветер по-прежнему шепчет в доме.
Пробежав часть пути, я замедлил шаг, остановился и взял было курс на полицейский участок.
Однако у меня в ушах зашуршали сухими крыльями мертвые канарейки.
Они рвались на волю. И только я мог их спасти.
И еще я почувствовал, как вокруг меня тихо плещутся воды Нила, поднимая ил со дна, и он, того и гляди, поглотит и сотрет с лица земли древнюю Никотрис – дочь египетского фараона, которой уже две тысячи лет.
Только я мог не дать черным водам Нила унести ее вниз по течению и засыпать песком.
И я побежал к своему «Ундервуду».
Начал печатать и спас птиц.
Напечатал еще пару страниц и спас старые высохшие кости.
Чувствуя свою вину и в то же время торжествуя, торжествуя и чувствуя вину, я вынул листы из машинки, расправил и уложил в ящик, где из птичьих клеток и речного песчаника слагался мой роман, где птицы начинали петь, только когда вы читали напечатанное, а шепот со дна слышался, лишь когда переворачивали страницы.
И, воодушевленный тем, что спас всех, вышел из дому.
Я шел в полицейский участок, обуреваемый грандиозными фантазиями, безумными идеями, вооруженный невероятными уликами, совершенно очевидными решениями возможных загадок.
Я прибыл туда, чувствуя себя сверхловким акробатом, выделывающим сверхсложные трюки на сверхненадежной трапеции, подвешенной к огромному воздушному шару.
Откуда мне было знать, что сыщик – лейтенант Элмо Крамли – вооружен длинными иглами и духовым ружьем?
Когда я появился, он как раз выходил из участка.
Видно, выражение моего лица подсказало ему, что я готов обрушить на него свои наблюдения, фантазии, концепции, улики. Он поспешно вытер лицо, чуть не нырнул обратно в участок и осторожно пошел по дорожке, словно приближался к бомбе.
– Вы-то что тут делаете?
– А разве от граждан не ждут, что они явятся, если могут разгадать убийство?
– Где вы нашли убийство? – Крамли обозрел окрестный пейзаж и убедился, что трупов не видно. – Что имеете сказать еще?
– Вы не хотите выслушать то, что мне известно?
– Все это я уже слышал. – Крамли прошел мимо меня и направился к стоящей у поребрика машине. – Стоит кому-нибудь у нас в Венеции отдать концы от сердечного приступа или оттого, что наступил на свои же шнурки, на следующий день ко мне являются доброхоты с советами, как распутать загадку, отчего остановилось сердце или запутались шнурки. И у вас на лице написано, что вас одолевают эти сердечно-шнурочные заботы. А я не спал всю ночь.
Крамли говорил на ходу, и мне приходилось бежать за ним, так как, подобно Гарри Трумэну, он делал сто двадцать шагов в минуту.
Услышав, что я следую за ним, Крамли бросил через плечо:
– Вот что я вам скажу, юный папа Хемингуэй…
– Вы знаете, как я зарабатываю на жизнь?
– Все в Венеции это знают. Вы же вопите на весь город, стоит вам напечатать рассказ в «Дешевом детективном журнале» или в «Детективах Флина», и тычете пальцем в эти журналы у газетной стойки.
– Ой! – воскликнул я: из моего воздушного шара вытекли остатки горячего воздуха. Приземлившись, я остановился возле автомобиля Крамли напротив сыщика, закусив нижнюю губу.
Крамли это заметил, и у него сделался отечески виноватый вид.
– Господи Иисусе! – вздохнул он.
– Что?
– Вы знаете, за что я не терплю сыщиков-любителей? Почему они у меня в печенках сидят? – спросил Крамли.
– Но я-то не сыщик-любитель. Я – профессиональный писатель, у меня, как у насекомого, усики-антенны, и они мне хорошо служат.
– Значит, вы просто кузнечик, умеющий печатать, – проговорил Крамли и подождал, пока я проглочу обиду. – А вот если бы вы поболтались с мое по Венеции, посидели бы в моей конторе и побегали в морг, вы бы знали, что у любого проходящего мимо бродяги, у любого еле стоящего на ногах пьяницы столько теорий, доказательств, откровений, что их хватило бы на целую Библию, под их тяжестью потонула бы лодка на баптистском воскресном пикнике. Если бы мы слушали каждого болтуна-проповедника, прошедшего через тюремные двери, так полмира оказалось бы под подозрением, треть – под арестом, а остальных пришлось бы сжечь или повесить. А раз так, чего ради мне слушать какого-то юного писаку, который даже еще не зарекомендовал себя в литературе?
Я снова моргнул от обиды, он снова сделал паузу.
– Писаку, который, найдя львиную клетку со случайно утонувшим стариком, уже вообразил, будто наткнулся на «Преступление и наказание», и мнит себя сыном Раскольникова. Все. Речь закончена. Жду реакции.
– Вы знаете про Раскольникова? – изумился я.
– Знал еще до вашего рождения. Но на это овса не купишь. Защищайте вашу версию.
– Я – писатель. О чувствах я знаю больше, чем вы.
– Вздор. Я – детектив. И о фактах знаю больше, чем вы. Боитесь, что факты собьют вас с толку?
– Я…
– Малыш, скажите мне вот что. Когда-нибудь что-нибудь с вами случалось?
– Что-нибудь?
– Ну да. Что-нибудь. Важное, или не очень, или незначительное. Ну что-нибудь вроде болезней, насилия, смертей, войны, революции, убийства?
– У меня умерли отец и мать…
– Естественной смертью?
– Да. Но одного моего дядю застрелили во время налета…
– Вы видели, как его застрелили?
– Нет, но…
– Ну так вот. Если не видели, не считается. Я хочу спросить: а прежде вам случалось находить людей в львиных клетках?
– Нет, – признался я, помолчав.
– Ну вот видите. Вы до сих пор в шоке. Вы еще не знаете жизни. А я родился и вырос в морге. Вы же сейчас впервые столкнулись с мраморным столом. Так, может быть, успокоитесь и пойдете домой?
Он понял, что его голос стал звучать слишком громко, покачал головой и закончил:
– Почему бы и мне не успокоиться и не поехать домой?
Так он и сделал. Открыл дверцу, прыгнул на сиденье, и не успел я снова надуть свой воздушный шар, как его и след простыл.
Чертыхаясь, я с силой захлопнул за собой дверь телефонной будки, бросил в прорезь монету в десять центов и набрал номер телефона, находящегося за пять миль от меня, в Лос-Анджелесе. Когда на другом конце провода сняли трубку, я услышал, что по радио звучит итальянская песенка, услышал, как хлопнула дверь, как спустили воду в уборной. Но при этом я знал, что там меня ждет солнце, в котором я так нуждался.
Леди, проживающая в этом многоквартирном доме на углу Темпла и улицы Фигуэроя, вспугнутая телефонным звонком, откашлялась и проговорила:
– Que?[17]
– Миссис Гутьеррес! – заорал я. – Миссис Гутьеррес! Это Чокнутый.
– О, – выдохнула она и засмеялась. – Si, si[18]. Хотите говорить с Фанни?
– Нет, нет, просто покричите ей. Пожалуйста, миссис Гутьеррес!
– Кричу.
Я услышал, как она отошла от телефона, как накренилось ветхое, дышащее на ладан здание. Когда-нибудь ему на крышу сядет черный дрозд и оно рухнет. Услышал, как маленькая собачонка чихуа-хуа, похожая на веселого шмеля, затопотала по линолеуму вслед за хозяйкой, словно отплясывала чечетку, и залаяла.
Услышал, как открылась дверь на галерею, – это миссис Гутьеррес вышла, чтобы со своего этажа, перегнувшись через перила в солнечный колодец, крикнуть второму этажу:
– Эй, Фанни! Эй! Там Чокнутый.
Я закричал в трубку:
– Скажите, мне нужно нанести визит!
Миссис Гутьеррес подождала. Я услышал, как на галерее второго этажа заскрипели половицы, как будто могучий капитан вышел на мостик обозреть окрестности.
– Эй, Фанни! Чокнутый говорит, что хочет нанести визит.
Долгое молчание. Потом над двором прозвенел чистый голос. Слов я не разобрал.
– Скажите, мне нужна «То́ска»!
– «То́ска»! – прокричала миссис Гутьеррес во двор.
Снова долгое молчание.
Весь дом опять накренился, теперь в другую сторону, словно земля повернулась в полуденной дремоте.
Снизу мимо миссис Гутьеррес проплыло несколько тактов из первого действия «Флории Тоски». Миссис Гутьеррес вернулась к трубке:
– Фанни говорит…
– Слышу, миссис Гутьеррес. Эта музыка означает согласие.
Я повесил трубку. В то же мгновение в нескольких ярдах от меня удивительно вовремя на берег обрушилось до ста тысяч тонн соленой воды. Я склонил голову перед пунктуальностью Господа Бога.
Убедившись, что в кармане завалялось двадцать центов, я бегом бросился к трамваю.
Она была необъятна.
По-настоящему ее звали Кора Смит, но она нарекла себя Фанни Флорианной, и никто не обращался к ней иначе. Я знал ее с давних пор, когда сам жил в этом доме, и не порывал дружбы с ней после того, как переехал к морю. Фанни была такая тучная, что даже спала сидя, не ложилась никогда. Днем и ночью она сидела в огромном капитанском кресле, чье место на палубе ее квартиры было навсегда обозначено царапинами и выбоинами на линолеуме, возникшими под чудовищным весом хозяйки. Фанни старалась как можно меньше двигаться: выплывая в холл и протискиваясь к тесному ватерклозету, она задыхалась, в легких и горле у нее клокотало; она боялась, что когда-нибудь позорно застрянет в уборной.
– Боже мой, – часто говорила она, – какой ужас, если придется вызывать пожарных и вызволять меня оттуда.
Она возвращалась в свое кресло, к радиоприемнику, к патефону и холодильнику, до которого можно было дотянуться не вставая, – он ломился от мороженого, майонеза, масла и прочей убийственной еды, поглощаемой ею в убийственных количествах. Фанни все время ела и все время слушала музыку. Рядом с холодильником висели книжные полки без книг, но уставленные тысячами пластинок с записями Карузо[19], Галли-Курчи[20], Суартхаут[21] и всех остальных. Когда в полночь последняя ария была спета и последняя пластинка, шипя, останавливалась, Фанни погружалась в себя, словно застигнутый темнотой слон. Большие кости удобно устраивались в необъятном теле. Круглое лицо, как полная луна, обозревало обширные пространства требовательной плоти. Опираясь спиной на подушки, Фанни тихо выдыхала воздух, шумно вдыхала его, опять выдыхала. Она боялась погибнуть под собственным весом, как под лавиной. Ведь если она случайно откинется слишком далеко, ее телеса поглотят и сокрушат ее легкие, навеки заглушат голос, навсегда погасят свет. Фанни никогда об этом не говорила. Но однажды, когда кто-то спросил, почему в комнате нет кровати, ее глаза так испуганно блеснули, что больше о кровати никто не заикался. Страх перед собственным весом-убийцей всегда был рядом. Фанни боялась засыпать под тяжестью своей плоти. А утром просыпалась, радуясь, что еще одна ночь миновала и она благополучно пережила ее.
В переулке возле дома ждал своего часа ящик от рояля.
– Слушай, – говорила Фанни, – когда я умру, притащи этот ящик наверх, засунь меня в него и спусти вниз. И раз уж ты здесь, добрая душа, достань-ка мне банку майонеза и большую ложку.
У входной двери в дом я постоял и прислушался.
Голос Фанни лился с этажа на этаж. Прозрачный, как вода горного потока, он каскадами струился со второго этажа на первый и заполнял вестибюль. Этот голос хотелось пить, такой он был чистый.
Фанни.
Когда я поднимался на первый этаж, она выводила трели из «Травиаты». Поднимаясь на второй, я остановился и заслушался, прикрыв глаза. Мадам Баттерфляй приветствовала входящий в гавань белоснежный корабль и лейтенанта, тоже во всем белом.
То был голос хрупкой японской девушки, лившийся с холма, куда она поднялась весенним вечером. Фотография этой девушки стояла на столике возле окна, выходившего на галерею второго этажа. Тогда ей было семнадцать лет, и она весила от силы сто двадцать фунтов, но с тех пор прошло много времени. Голос вел меня наверх по старой темной лестнице и сулил близкое счастье.
Я знал, что стоит мне подойти к дверям, и пение прекратится.
– Фанни, – говорил я обычно, – по-моему, здесь только что кто-то пел.
– Неужели?
– Что-то из «Баттерфляй».
– Как странно. Интересно, кто бы это мог быть?
Мы играли в эту игру годами, говорили о музыке, обсуждали симфонии, балеты и оперы, слушали музыку по радио, заводили старенький, растрескавшийся эдисоновский патефон и ставили пластинки, но никогда, ни разу за три тысячи дней Фанни не пела при мне.
Однако сегодня все было иначе.
Я поднялся на второй этаж, и пение прекратилось. Наверно, она задумалась, решая, что делать дальше. Может быть, выглянув в окно, увидела, как медленно я бреду по улице к дому. Может быть, угадала мои тайные мысли. Может быть, когда я звонил с другого конца города, мой голос (но это невозможно!) донес до нее печаль и шум дождя прошлой ночи. Но как бы то ни было, в цветущем, необъятном теле Фанни Флорианны всколыхнулась мощная интуиция, и Фанни вознамерилась удивить меня.
Я стоял у ее дверей и прислушивался.
Что-то заскрипело, словно большой корабль с трудом прокладывал себе путь по волнам. За дверью насторожилась чуткая совесть.
Тихо зашипел патефон!
Я постучал.
– Фанни! – крикнул я. – Это Чокнутый!
– Voilá![22]
Она открыла дверь, и на меня, как раскаты грома, обрушилась музыка. Эта необыкновенная женщина сперва поставила тонко заточенную деревянную иголку на шипящую пластинку, придвинулась к двери и, схватившись за ручку, выжидала. Как только палочка дирижера метнулась вниз, она распахнула дверь во всю ширь. Из комнаты вырвалась музыка Пуччини, обволокла меня, повлекла за собой. Фанни Флорианна помогала ей.
Звучала первая сторона пластинки «Флория Тоска». Фанни усадила меня на шаткий стул, взяла мою пятерню и сунула в нее стакан хорошего вина.
– Я же не пью, Фанни.
– Глупости. Ты посмотри на себя. Пей!
Она вытанцовывала вокруг меня, как те диковинные гиппопотамы, что легче пушинок молочая порхали в «Фантазии»[23], и опустилась, как поразительно странная перина, на свое безответное кресло.
К концу пластинки я залился слезами.
– Ну, ну, – зашептала Фанни. – Ну, ну!
– Я всегда плачу, когда слушаю Пуччини, Фанни.
– Да, дорогой, но не так горько.
– Это правда, не так горько.
Я отпил половину второго стакана. Это был «Сент-Эмильон»[24] 1933 года из хорошего виноградника, его привез и оставил Фанни кто-то из ее богатых друзей. Они приезжали сюда через весь город, рассчитывая душевно поболтать, весело посмеяться, вспомнить лучшие для них времена, не думая о том, чей доход выше. Однажды вечером я увидел, как к ней поднимаются какие-то родственники Тосканини, и остался ждать внизу. Видел, как от нее спускается Лоуренс Тиббет[25], – проходя мимо меня, он кивнул. Приезжая поболтать, они всегда привозили лучшие вина и уходили, улыбаясь. Центр мира может быть где угодно. Здесь он находился на втором этаже дома, где сдаются квартиры, расположенного не в лучшем районе Лос-Анджелеса.
Я смахнул слезы рукавом.
– Выкладывай, – приказала великая толстуха.
– Я нашел мертвеца, Фанни. И никто не желает меня выслушать.
– Господи! – У Фанни открылся рот, и круглое лицо стало еще круглее. Глаза тоже округлились и потеплели от сочувствия.
– Бедный мальчик. Кто это был?
– Один из тех милых стариков, что собираются в билетной кассе на трамвайной остановке в Венеции, они сидят там с тех пор, как Билл Санди[26] рассуждал о Библии, а Уильям Дженнингс Брайан[27] выступил со своей знаменитой речью о золотом кресте. Этих стариков я видел там еще мальчишкой. Их четверо. Такое ощущение, будто они приклеились к деревянным скамьям и будут сидеть там вечно. Ни разу не видел никого из них в городе, они нигде мне не встречались. Сидят в кассе целыми днями, неделями, годами, курят трубки или сигары, рассуждают о политике, разбирая всех по косточкам, решают, что делать со страной. Когда мне было пятнадцать, один из них посмотрел на меня и сказал: «Вот вырастешь, мальчик, и, наверно, постараешься изменить мир к лучшему, правда?» – «Да, сэр!» – ответил я. – «Думаю, у тебя получится, – сказал он. – Как по-вашему, джентльмены?» – «Еще бы», – ответили старики и улыбнулись мне. И вот как раз этого старика, что задавал мне вопросы, я и нашел вчера ночью в львиной клетке.
– В клетке?
– Под водой в клетке.
– Ну, знаешь, я вижу, без второй стороны «Тоски» тут не обойтись!
Фанни, как смерч, поднялась с кресла, стремительно, как огромная приливная волна, подкатилась к патефону, с силой покрутила ручку и, как Божье благословение, осторожно опустила иголку на перевернутую пластинку.
Под звуки первых аккордов она вернулась в кресло, словно корабль-призрак, царственная и бледная, спокойная и сосредоточенная.
– Я знаю, почему ты так тяжело это переживаешь, – сказала она. – Из-за Пег. Она все еще в Мехико? Учится?
– Уехала три месяца назад. Все равно что три года, – ответил я. – Господи, я такой одинокий!
– И все тебя задевает, – добавила Фанни. – Может, позвонишь ей?
– Да что ты, Фанни! Я не могу себе этого позволить. И не хочу, чтобы она платила за мой звонок. Остается надеяться, что она сама на днях позвонит.
– Бедный мальчик! Болен от любви!
– Болен от смерти! И что отвратительно, Фанни, я даже не знал, как звали этого старика. Позор, правда?
Вторая часть «Тоски» меня доконала. Я сидел, опустив голову, слезы струились по лицу и с кончика носа капали в стакан с вином.
– Ты испортил свой «Сент-Эмильон», – мягко упрекнула меня Фанни, когда пластинка закончилась.
– Я просто бешусь от злости, – признался я.
– Почему? – удивилась Фанни. Она, словно большое гранатовое дерево, отягощенное плодами, склонилась над патефоном, подтачивала новую иголку и искала пластинку повеселее. – Почему?
– Фанни, старика кто-то убил. Кто-то засунул его в эту клетку. Как бы он сам туда попал?
– О боже! – простонала Фанни.
– Когда мне было двенадцать, моего дядю – он жил на Востоке – поздно ночью застрелили во время налета, прямо в машине. На похоронах мы с братом поклялись, что найдем убийцу и разделаемся с ним. Но убийца до сих пор гуляет на свободе. Это было давно и в другом городе. А сейчас убийство произошло здесь. Кто бы ни утопил старика, он живет в Венеции, в нескольких кварталах от меня. И когда я найду его…
– Ты передашь его полиции, – перебила меня Фанни и с тяжеловесной плавностью подалась вперед. – Тебе надо хорошенько выспаться, сразу почувствуешь себя лучше.
Она внимательно изучала мое лицо.
– Нет, – вынесла она окончательный приговор. – Лучше ты себя не почувствуешь. Ладно, делай что хочешь. Будь дураком, как все мужчины. Господи, каково нам, женщинам, наблюдать, как вы, идиоты, убиваете друг друга, как убийцы убивают убийц. А мы стоим рядом, умоляем прекратить это, и никто нас не слышит. Почему ты-то не хочешь меня послушаться, любовь моя?
Она поставила другую пластинку и осторожно, словно даря поцелуй, опустила на нее иголку, а потом добралась до меня и потрепала по щеке своими длинными розовыми, как хризантема, пальцами.
– Пожалуйста, будь осторожен. Не нравится мне ваша Венеция. Улицы там плохо освещены. И эти проклятые насосы! Все ночи напролет качают нефть, качают не переставая. От их стонов нет спасения.
– Венеции я не боюсь, и того, кто там рыскает, тоже, – сказал я.
А сам подумал: «Того, кто стоит в холлах у дверей стариков и старух и ждет».
Возвышавшаяся надо мной Фанни сразу стала похожа на огромный ледник.
Наверно, она снова вгляделась в мое лицо, по которому можно читать, как по книге. Я ничего не могу скрыть. Инстинктивно она бросила взгляд на дверь, как будто за ней мелькнула чья-то тень. Ее интуиция ошеломила меня.
– Что бы ты ни делал, – голос Фанни звучал глухо, затерявшись в глубинах ее многопудового, вдруг насторожившегося тела, – сюда приносить не вздумай.
– Смерть нельзя принести, Фанни.
– Еще как можно. Вот и вытри ноги, когда будешь входить в дом. У тебя есть деньги, чтобы отдать костюм в чистку? Могу немного дать. Доведи до блеска ботинки. Почисти зубы, никогда не оглядывайся. Глаза могут убить. Если на кого-нибудь посмотришь и он увидит, что ты хочешь, чтобы тебя убили, он пойдет за тобой. Приходи ко мне, дорогой мальчик, но сначала вымойся и, когда пойдешь сюда, смотри только вперед.
– Ерунда, Фанни, бред собачий. Это смерть не остановит, ты и сама прекрасно знаешь. Но все равно я ничего не притащу к тебе, кроме самого себя, Фанни, и моей любви, как все эти годы.
Мои слова растопили гималайские льды.
Фанни медленно повернулась, как большая карусель, и тут мы оба вдруг услышали музыку: пластинка, оказывается, уже не шипела, а давно играла.
«Кармен».
Фанни Флорианна запустила пальцы за пазуху и извлекла черный кружевной веер: легкое движение – и он раскрылся, как распустившийся цветок. Фанни кокетливо повела им перед лицом, и глаза ее зажглись азартным огнем фламенко, она скромно опустила веки и запела, ее пропавший голос возродился вновь, свежий, как прохладный горный ручей, молодой, каким был я сам всего неделю назад.
Она пела. Пела и двигалась в такт.
Мне казалось, будто я вижу, как медленно поднимается тяжелый занавес «Метрополитен-опера́» и окутывает Гибралтарскую скалу, вижу, как он колышется и кружится, подчиняясь движениям одержимого дирижера, способного зажечь энтузиазмом танцующих слонов или вызвать из океанских глубин стадо белых китов, пускающих фонтаны воды.
К концу первой арии у меня снова полились слезы.
На этот раз от смеха.
Только потом я подумал: «Господи боже мой! Впервые! У себя в комнате! Она пела!»
Для меня.
Внизу на улице день был в разгаре.
Я стоял на залитом солнцем тротуаре, покачиваясь, смакуя оставшийся во рту вкус вина, и смотрел на второй этаж.
Оттуда неслась прощальная ария. Мадам Баттерфляй расставалась с молодым лейтенантом – весь в белом, он покидал ее навсегда.
Мощная фигура Фанни возвышалась на балконе; она смотрела вниз, ее маленький, похожий на розовый бутон рот печально улыбался: юная девушка, томившаяся за круглым, словно полная луна, расплывшимся лицом, давала мне понять, что музыка, звучащая в комнате за ее спиной, говорит о нашей дружбе, о том, что на какое-то время расстаемся и мы.
Глядя на Фанни, я вдруг подумал о Констанции Раттиган, запертой в мавританской крепости на берегу океана. Мне захотелось вернуться и расспросить Фанни, что между ними общего. Но она, прощаясь, помахала рукой. И мне ничего не оставалось, как помахать в ответ.
Теперь погода наладилась, и я был готов вернуться в Венецию.
«Ну, держись, лысеющий коротышка, ты и на детектива-то не похож, – мысленно пригрозил я. – Держись, Элмо Крамли, я еду!»
Но кончилось все тем, что я, как безвольная тряпка, переминался с ноги на ногу перед венецианским полицейским участком.
И ломал себе голову: кто же этот Крамли, скрывающийся за его стенами, – Красавица или Чудовище?
Я слонялся по тротуару, пока из верхнего зарешеченного окошка не выглянул кто-то, похожий на Крамли.
И я смылся.
От одной мысли, что он снова раскроет пасть и, как паяльной лампой, опалит персиковый пушок на моих щеках, сердце у меня уходило в пятки.
«Господи, – думал я, – ну когда наконец я решусь встретиться с ним лицом к лицу и выложить свои мрачные догадки, которые копятся у меня в ящике для рукописей, словно пыль на могильной плите? Когда?»
Скоро.
Это случилось той же ночью.
Около двух часов перед моим домом разразился небольшой ливень.
«Глупости! – думал я, не вылезая из постели и прислушиваясь. – Что значит «небольшой ливень»? Насколько «небольшой»? Три фута в ширину, шесть – в высоту, и пролился он всего в одном месте? Дождь промочил только коврик у двери и тут же кончился? Нигде больше не выпало ни капли?»
Вот черт!
Соскочив с кровати, я широко распахнул дверь.
На небе ни облачка. Яркие звезды, ни дымки, ни тумана. Дождю неоткуда было взяться.
Но возле двери поблескивала лужица.
И виднелась цепочка следов, ведущих к дверям, и другая – уходящие следы босых ног.
Наверно, я простоял секунд десять, пока меня не прорвало: «Ну хватит!»
Кто-то стоял возле дверей, мокрый, стоял не меньше чем полминуты, гадал, сплю я или нет, хотел постучать и ушел в сторону океана.
«Нет, – прищурился я. – Не в сторону океана. Океан справа от меня, на западе».
А следы босых ног уходили влево, на восток.
И я последовал за ними.
Я бежал так, словно мог догнать небольшой ливень.
Пока не добежал до канала.
Там следы оборвались на самой кромке берега…
Господи боже мой!
Я уставился вниз на маслянистую воду.
Было видно, в каком месте кто-то вскарабкался на берег и по ночной улице пошел к моему дому, а потом побежал назад – шаги сделались шире. И что?..
Нырнул?
Господи, да кому взбредет в голову плавать в этой грязной воде?
Кому-то, кто ни о чем не думает и не боится заболеть? Кому-то, кто любит появляться по ночам и отбывать в ад то ли ради забавы, то ли в поисках смерти?
Я медленно шел вдоль канала, напрягая глаза, стараясь разглядеть, не нарушится ли где черная поверхность воды.
Приливная волна отхлынула, нахлынула снова, в проржавевшем открытом шлюзе плескалась вода. Проплыла стая мелких тюленей, но оказалось, что это всего лишь плавающие на поверхности водоросли.
«Ты все еще там? – шептал я. – Зачем приходил? Почему ко мне?»
Я втянул в себя воздух и затаил дыхание.
Мне почудилось, будто в выдолбленном в бетоне тайнике, под небольшим цементным бункером, по другую сторону ветхого моста…
Я вижу вихор сальных волос, а пониже лоснящийся лоб. На меня глядели глаза. Это могла быть морская выдра или черный дельфин, почему-то заблудившийся и застрявший в канале.
Голова, наполовину торчавшая из воды, долго оставалась на поверхности.
И я вспомнил, как еще мальчиком читал романы про Африку. Там рассказывалось о крокодилах, обосновавшихся в подводных пещерах по берегам реки Конго. Эти твари забивались в пещеры на дне и лежали там. Они прятались в своих тайных убежищах, выжидая, когда какой-нибудь идиот рискнет проплыть мимо. Тогда рептилии стремительно покидали свои подводные укрытия и пожирали жертву.
Неужели передо мной такой же зверь?
Он любит ночные приливы, прячется в тайниках под берегом, а потом выбирается на сушу и идет, оставляя после себя мокрые следы.
Я следил за черной головой в воде. А она, поблескивая глазами, следила за мной.
Нет. Не может быть, что это человек.
Меня передернуло. Я бросился вперед, как бросаются на что-то страшное, желая его прогнать, как пугают пауков, крыс, змей. И не от храбрости – от страха я затопал ногами.
Черная голова скрылась под водой. По воде побежала рябь.
Больше голова не показывалась.
Весь дрожа, я пошел назад по цепочке темных следов ливня, который наведался к моим дверям.
Маленькая лужица по-прежнему блестела у порога.
Я наклонился и выудил из нее горсточку морских водорослей.
И только тут сообразил, что бегал к каналу и возвращался назад в одних трусах.
Ахнув, я быстро огляделся, улица была пуста. Я вбежал в квартиру и с силой захлопнул дверь.
«Завтра, – думал я, – завтра я потрясу кулаками перед носом у Элмо Крамли.
В правом будут обрывки трамвайных билетов.
В левом – комок мокрых водорослей.
Но в участок я не пойду!
В тюрьмах и больницах я готов сразу грохнуться в обморок.
Но где-то же Крамли живет!
Найду где и потрясу кулаками».
Почти сто пятьдесят дней в году солнце в Венеции не может пробиться сквозь туман до самого полудня.
Почти шестьдесят дней в году оно вообще не может выйти из тумана до четырех-пяти часов, когда ему приходит пора садиться на западе.
Дней сорок оно не показывается вовсе.
В остальное же время, если, конечно, вам повезет, солнце, как в других районах Лос-Анджелеса и во всей Калифорнии, восходит в пять тридцать утра и светит весь день.
Но мрачные сорок или шестьдесят дней выматывают душу, и тогда любители пострелять начинают чистить оружие. Если солнце не выходит на двенадцатый день, старушки отправляются покупать отраву для крыс. Однако если на тринадцатый день, когда они уже готовы высыпать мышьяк себе в утренний чай, вдруг появляется солнце, недоумевая, чего это все так расстроены, старушки морят крыс у каналов и возвращаются к своему бренди.
Во время сорокадневного цикла туманная сирена, затерянная где-то в заливе, безостановочно воет и воет, пока всем не начинает мерещиться, будто на местном кладбище зашевелились покойники. А поздно ночью под неумолчный вой сирены ваше подсознание посылает вам образ какого-то древнего земноводного существа – оно плавает далеко в океане, тоскуя, быть может, только о солнце. Все умные животные перемещаются на юг. А ты остаешься на холодном песке с молчащей пишущей машинкой, с пустым счетом в банке и с постелью, теплой лишь с одной стороны. Ты ждешь, что земноводный зверь всплывет когда-нибудь ночью, пока ты спишь. Чтобы от него отделаться, ты встаешь в три часа ночи и пишешь о нем рассказ, но он лежит у тебя годами, в журналы его не посылаешь, боишься. Не «Смерть в Венеции» следовало назвать свой роман Томасу Манну[28], а «Невостребованность в Венеции».
Правда все это или игра воображения, но умные люди предпочитают селиться как можно дальше от океана. Территория, контролируемая венецианской полицией, кончается там же, где кончается туман, – где-то в районе Линкольн-авеню.
У самой границы района, подвластного венецианской полиции и венецианской непогоде, находится сад, который я видел всего один или два раза.
С улицы невозможно было судить, есть ли в этом саду дом. Сад так густо зарос кустами, деревьями, тропическими растениями, пальмами, тростником и папирусами, что прокладывать себе путь через эти заросли пришлось бы с помощью топора. В глубь сада вела не мощеная дорожка, а лишь протоптанная тропинка. Однако дом там все-таки был, он тонул в доходящей до подбородка траве, которую никто никогда не косил, и стоял так далеко от улицы, что казался барахтающимся в нефтяной яме слоном, конец которого близок. Почтового ящика здесь не было. Почтальону приходилось бросать газеты прямо в сад и удирать, пока никто не выскочил из джунглей и не напал на него.
Летом из этого зеленого заповедника доносился запах апельсинов и абрикосов. А если не апельсинов и абрикосов, то кактусов, эпифиллюмов[29] или цветущего жасмина. Здесь никогда не стрекотала газонокосилка. Не свистела коса. Сюда не добирался туман. Здесь, на границе с вечными в Венеции сырыми сумерками, дом благоденствовал среди лимонов, которые сияли, как свечки на рождественской елке.
Временами, когда вы проходили мимо, вам чудилось, будто вы слышите, как в саду, словно по равнине Серенгети[30], топая, бегает окапи[31]; казалось, что на закате в небо взмывают тучи фламинго и кружатся над садом живым огнем.
Вот это-то место, где природа так мудро распоряжается погодой, и облюбовал себе, ублажая свою всегда наполненную солнцем душу, человек лет сорока с небольшим, рано начавший лысеть, со скрипучим голосом. А работал он у океана, вдыхая туман, и по роду работы ему приходилось разбираться с нарушением законов и таможенных правил, а иногда и со смертями, которые могли обернуться убийствами.
И звали этого человека Элмо Крамли.
Я нашел его и его дом благодаря прохожим, которые, выслушав мои вопросы, кивали и показывали, куда идти.
Все как один они сходились на том, что каждый вечер, довольно поздно, приземистый детектив легкими шагами вступает в эти зеленые джунгли и скрывается там под шум крыльев слетающих вниз фламинго и тяжело поднимающихся на ноги гиппопотамов.
«Как мне быть? – думал я. – Встать на краю этих диких зарослей и выкрикивать его имя?»
Но Крамли окликнул меня сам:
– Господи помилуй, неужто вы?
Когда я появился у его ворот, он как раз выходил из своих райских кущ по тропинке, заросшей сорняками.
– Я.
Пока детектив продвигался по едва заметной тропинке, мне казалось, я слышу те же звуки, которые мне чудились, когда я проходил мимо: вот скачут газели Сетон-Томпсона[32], вот в панике разбегаются полосатые, как кроссворд, зебры, а вот ветер приносит запах золотистой мочи – это львы.
– Сдается мне, – проворчал Крамли, – мы сыграли эту сцену еще вчера. Пришли извиниться? Раздобыли материалы похлеще и посмешней?
– Если вы остановитесь и выслушаете… – начал я.
– Ну и голос у вас, доложу я вам! Недаром одна моя знакомая, что живет в трех кварталах от места, где вы нашли труп, говорит, что ее кошки до сих пор не вернулись домой – так вы напугали их в ту ночь своими воплями. Ладно. Я стою. И что?
При каждом его слове мои кулаки все глубже уходили в карманы спортивной куртки. Почему-то я никак не мог их вытащить. Уткнув подбородок в грудь, отведя глаза, я старался собраться с духом.
Крамли посмотрел на часы.
– В ту ночь у меня за спиной в трамвае кто-то стоял! – внезапно закричал я. – Это он засунул старика в львиную клетку.
– Тише, тише! С чего вы так решили?
Кулаки задвигались у меня в карманах, сжались еще сильнее.
– Я чувствовал, как он протягивает ко мне руки. Чувствовал, как шевелятся его пальцы, словно умоляют. Он хотел, чтобы я обернулся и увидел его. Ведь убийцы все хотят, чтобы их обнаружили?
– Да, по мнению халтурщиков, выдающих себя за психологов. Чего ж вы на него не поглядели?
– С пьяными стараешься не встречаться глазами. Еще усядутся рядом, начнут дышать на тебя.
– Верно. – Крамли позволил себе проявить некоторую заинтересованность. Он вытащил кисет, бумагу и стал сворачивать сигарету, намеренно не глядя на меня. – И что?
– Слышали бы вы его голос! Тогда поверили бы. Господи, да он был точь-в-точь тень отца Гамлета, взывающая из могилы: «Помни обо мне!» Но этот-то просто молил: «Посмотри на меня! Узнай меня! Арестуй!»
Крамли закурил и сквозь дым взглянул на меня.
– Да от его голоса я за несколько секунд состарился на десять лет, – продолжал я. – В жизни не был так уверен, что моя интуиция меня не обманывает.
– Интуиция есть у всех. – Крамли изучал свою сигарету, словно не мог решить, нравится она ему или нет. – И бабушки у всех сочиняют рекламные стишки к пшеничным и прочим хлопьям и долдонят их целыми днями, так что руки чешутся прибить старушек. Каждый дурак воображает, будто он может с успехом совмещать в себе поэта, сочинителя песенок и сыщика-любителя. Знаете, о чем вы напомнили мне, сынок? О том, как целое скопище идиотов атаковало Александра Попа[33], размахивая своими поэмами, романами, очерками и требуя у него совета. Поп в конце концов разъярился и написал «Опыт о критике».
– Вы знаете Попа?
Крамли сокрушенно вздохнул, бросил сигарету и наступил на нее.
– А по-вашему, детективы – это легавые и мозги у них как замазка? Что же до Попа… Господи! Да я еще юнцом читал его по ночам под одеялом, чтобы мои не подумали, будто я спятил. А теперь прочь с дороги!
– Вы хотите сказать, что я зря стараюсь? – воскликнул я. – И даже не попытаетесь спасти старика?
И сам вспыхнул, услышав свои слова.
– Я имею в виду…
– Знаю, что вы имеете в виду, – терпеливо проговорил Крамли.
Он смотрел вдоль улицы, словно видел там, вдалеке, мой дом, письменный стол и машинку на нем.
– Вы зациклились на какой-то удачной мысли, вернее, вообразили, что она удачная. И вас залихорадило. Наверно, вам сейчас хочется только одного: вскочить в большой красный трамвай, поймать этого пьяницу и задержать его. Но если вы и вскочите туда, его там не окажется, а если окажется, то выяснится, что это не тот пьяница или вы его просто не узнаете. Вот вы и сбиваете пальцы в кровь, колотя по клавишам своего «Ундервуда», ведь материал «идет здорово», как говорит Хемингуэй, а ваша интуиция отрастила такие щупальца – чувствительней не бывает! Но все это бредни, и я не дам за них даже трех центов.
Крамли стал обходить свою машину, в точности как во время нашей вчерашней катастрофической встречи.
– Нет-нет, постойте! – закричал я. – Не вздумайте снова удрать! Да вы… знаете… что с вами? Вы просто ревнуете!
Крамли так круто повернул голову, что она чуть не оторвалась.
– Я… что?!
Мне показалось даже, что его рука дернулась к револьверу, которого не было.
– И… и… – совсем запутался я. – У вас все равно ничего не выйдет!
Моя наглость потрясла его. Он вытянул шею и уставился на меня поверх машины.
– Не выйдет что?
– Что бы вы ни затеяли! Ничего не получится! – выкрикнул я.
И сам онемел от изумления. Не помню, чтобы я когда-нибудь так орал на кого-то. В школе я был пай-мальчиком и тихоней. Стоило кому-то из учительниц нахмурить брови, и я замирал. А тут пожалуйста…
– Пока вы не научитесь, – начал я, запинаясь и заливаясь краской, – пока не научитесь прислушиваться к желудку, а не к голове…
– Смотри «Философские советы своенравным сыщикам». – Крамли прислонился к машине, словно без нее он тут же грохнулся бы наземь. Фыркнув, он прикрыл рот ладонью и, давясь от смеха, пробормотал: – Продолжайте.
– Да вы же не хотите слушать.
– Давненько мне не приходилось смеяться от души, малыш.
Губы у меня снова склеились, я закрыл глаза.
– Продолжайте, – уже мягче сказал Крамли.
– Просто, – медленно начал я, – я уже давно понял, что чем больше думаю, тем хуже у меня идет работа. Все считают, что нужно думать целыми днями. А я целыми днями чувствую и запоминаю, пропускаю через себя и записываю, а обдумываю все это в конце дня. Обдумывать надо потом.
Лицо Крамли как-то странно засветилось. Он склонил голову набок, поглядел на меня, потом склонил ее на другой бок – точь-в-точь обезьяна в зоопарке, когда она смотрит на вас сквозь прутья клетки и гадает, что это за диковинный зверь там, снаружи?
Затем, ни слова не говоря, не засмеявшись, даже не улыбнувшись, Крамли уселся в машину, спокойно включил зажигание, мягко нажал на газ и медленно, очень медленно тронулся с места.
Проехав ярдов двадцать, он затормозил, немного подумал, дал задний ход, повернулся, чтобы посмотреть на меня, и закричал:
– Святый Боже Иисусе! А доказательства? Черт вас побери! Доказательства где?
И я с такой поспешностью вытащил из кармана правый кулак, что чуть не разорвал куртку.
Я выставил кулак вперед и наконец-то разжал дрожащие пальцы.
– Вот одно, – сказал я. – Вам известно что-нибудь про это? Нет. А мне известно? Да. Знаю я, кто этот старик? Знаю. А вы знаете его фамилию? Нет!
Крамли положил голову на скрещенные на руле руки и вздохнул.
– Ладно. Выкладывайте.
– Это, – начал я, глядя на комочки мусора в руке, – это маленькие А, крошечные Б и тоненькие В. Целый алфавит, буквы, выбитые компостером из трамвайных билетов… Вы ездите на машине и давно всего этого не видели. А я, бросив ролики, только и делаю, что хожу пешком или езжу на трамвае. Я в этих бумажках по самые уши!
Крамли медленно поднял голову, стараясь не выказывать своего интереса и нетерпения.
Я продолжал:
– Этот старик всегда набивал такими бумажками свои карманы на трамвайной остановке. Он разбрасывал их, как конфетти, в канун Нового года и в июле и кричал: «Счастливого Четвертого июля[34]!» Когда я увидел, как вы выворачиваете карманы этого бедняги, я сразу понял, что знаю, кто это. Ну, что скажете?
Наступило долгое молчание.
– Черт! – Казалось, Крамли молится про себя: глаза у него закрылись, как мои всего минуту назад. – Помоги мне, Господи! Садитесь.
– Что?
– Садитесь, черт побери! Придется вам доказать то, что вы сейчас сказали. Вы думаете, я идиот?
– Да. То есть, я хочу сказать, нет. – Я с трудом открыл дверцу, так как все еще прятал левый кулак в кармане. – А вот эти водоросли сегодня ночью кто-то оставил возле моих дверей и…
– Заткнитесь и возьмите карту.
Машина рванулась вперед.
Я вскочил в нее в последний момент и порадовался, что успел застегнуть ремень.
Мы с Элмо Крамли вошли в пропахшее табаком помещение, где днем всегда было темно, как на чердаке.
Крамли взглянул на пустующее место между стариками – они клонились друг к другу, словно высохшие плетеные стулья.
Крамли шагнул вперед и, протянув руку, показал им слипшиеся буквы-конфетти.
У стариков было уже два дня, чтобы собраться с мыслями и подумать о пустующем между ними месте.
– Сукин сын, – прошептал кто-то из них.
– Если коп, – проговорил другой, блеснув глазами на бумажную массу в руке Крамли, – если коп показывает мне это – значит, он нашел это в карманах Уилли. Хотите, чтобы я его опознал?
Двое других стариков отвернулись от говорившего, как будто он сказал что-то неприличное.
Крамли кивнул.
Старик трясущимися руками оперся о трость и стал подниматься. Крамли попытался было ему помочь, но старик наградил его таким яростным взглядом, что детектив отступил.
– Обойдусь!
Старик с силой застучал палкой по деревянному полу, словно хотел наказать его за плохие новости, и скрылся за дверью.
Последовав за ним, мы очутились в дымке, дожде и тумане, то бишь в Венеции, на юге Калифорнии, где Бог только что выключил свет.
Старику, когда мы входили в морг, было восемьдесят два года, когда выходили – не меньше ста десяти, он даже не мог больше опираться на трость. Глаза погасли, и он не стал отбиваться, когда мы помогали ему добраться до машины. Не умолкая, он причитал:
– Боже мой, боже мой, кто же это его так безобразно обстриг? И когда? – Он нес чепуху, чтобы хоть как-то отвлечься. – Это вы умудрились? – восклицал он, ни к кому не обращаясь. – Кто это сделал? Кто?
Я знал, но ничего не сказал. Мы вытащили старика из машины и подвели к тому месту на холодной скамье, где он сидел всегда и где его ждали другие старики, делая вид, будто не заметили нашего возвращения. Они сидели, устремив глаза кто в потолок, кто в пол, им не терпелось, чтобы мы ушли, а они смогли бы решить, как поступить – отвернуться от изменника, каким стал для них их старый друг, или придвинуться к нему поближе и согреть своим теплом.
Мы с Крамли пребывали в глубоком молчании, пока ехали к дому, где продавались канарейки. К дому все равно что пустому.
Я остался за дверью, а Крамли зашел в комнату старика взглянуть на голые стены и прочесть бесконечно повторявшееся имя «Уильям, Уилли, Уилл, Билл, Смит, Смит, Смит», нацарапанное стариком в надежде обрести бессмертие.
Выйдя, Крамли оглянулся на удручающе пустую комнату.
– Господи боже, – пробормотал он.
– Вы прочли, что написано на стене?
– Прочел все. – Крамли огляделся и с неудовольствием осознал, что так и не отошел от двери и смотрит в комнату. – «Он стоит в холле». Кто там стоял? – Крамли обернулся и смерил меня взглядом. – Вы?
– Вы же знаете, что не я, – сказал я, попятившись.
– Полагаю, я мог бы арестовать вас за взлом и проникновение.
– Но вы этого не сделаете, – нервно ответил я. – Эта дверь и все двери в доме не запираются годами. Любой может войти. Кто-то и вошел.
– Откуда я знаю, что это не вы нацарапали своим собственным ногтем эти чертовы слова на стене для того только, чтобы у меня волосы встали дыбом и чтобы я поверил в вашу абракадабру?
– Почерк на стене дрожащий – ясно, что царапал старик.
– Вы могли подумать об этом заранее и подделать каракули.
– Мог, но не подделал. Боже мой, что нужно, чтобы убедить вас?
– Больше, чем мурашки у меня на коже, вот что я вам скажу.
– Тогда, – я снова засунул руки в карманы и сжал кулаки, водоросли все еще были спрятаны и ждали своего часа, – тогда остальное наверху. Поднимитесь. Посмотрите сами. А когда спуститесь, расскажете, что увидели.
Крамли склонил голову набок, снова по-обезьяньи посмотрел на меня, вздохнул и стал медленно подниматься по лестнице, словно старый продавец обуви, несущий по сапожной лапе в каждой руке.
На площадке он долго стоял, как лорд Карнарвон[35] перед гробницей Тутанхамона. Потом вошел. Мне казалось, я слышу, как призраки старых птиц шелестят крыльями, рассматривая его. Слышу шепот мумии, встающей из речного песка. Но это встрепенулась у меня в душе старая подружка – муза, жаждущая сенсаций.
На самом же деле я слышал, как Крамли ступает по песку, покрывавшему пол в комнате старухи и заглушавшему его шаги. Вот он дотронулся до клетки – раздался металлический звон. Потом я услышал, как он наклоняется, чтобы ухом уловить ветер времени, доносящийся из пересохшего изболевшегося рта.
И под конец я услышал произнесенное шепотом имя, нацарапанное на стене, произнесенное дважды, трижды, как будто старушка с канарейками иероглиф за иероглифом разбирала египетские письмена.
Когда Крамли с усталым лицом спустился, он выглядел так, будто сапожные лапы переместились ему в желудок.
– Бросаю это дело! – заявил он.
Я ждал.
– «Восшествие Хирохито на престол», – процитировал Крамли старую газету, которую только что увидел на дне клетки.
– Аддис-Абеба? – добавил я.
– Неужели это и впрямь было так давно?
– Теперь вы все видели своими глазами, – сказал я. – Что же вы думаете?
– Что я могу думать?
– А вы не прочитали по ее лицу? Не заметили?
– Чего?
– Она следующая.
– Что?
– Да это же ясно по ее глазам. Она знает, что кто-то стоит в холле. Он поднимается к ее комнате, но не входит, а она просто ждет и молит, чтобы вошел. Меня холод пробирает, не могу согреться.
– То, что вы оказались правы насчет бумажного мусора и трамвайных билетов, то, что нашли, где жил старик, и установили, кто он, еще не делает вас чемпионом по гаданию на картах Таро. Вас, значит, холод пробирает? Меня тоже. Только из ваших подозрений и моего озноба каши не сваришь, особенно если крупа отсутствует!
– Вы не пришлете сюда полицейского? Ведь через два дня ее не станет.
– Если мы начнем приставлять полицейского к каждому, кому суждено умереть через два дня, у нас больше не будет полиции. Вы хотите, чтобы я учил моего шефа, как ему распоряжаться своими людьми? Да он спустит меня с лестницы и мой жетон отправит следом. Поймите же – она никто, мне противно это говорить, но так считает закон. Будь она хоть кем-то, может, мы и поставили бы охрану…
– Тогда я сам.
– Думайте, что говорите. Вам ведь когда-то понадобится поесть или поспать. Вы не сможете торчать здесь неотлучно. В первый же раз, когда вы побежите за сосиской, он, кто бы это ни был, если он действительно существует, войдет. Она чихнет, и ей конец. Да не приходит сюда никто! Просто ветер по ночам гоняет комки шерсти и волос. Сначала это услышал старик, теперь – миссис Канарейка.
Крамли перевел взгляд на длинную темную лестницу, туда, где уже не пели птицы, не было весны в горах, бездарный органист в незапамятном году не аккомпанировал своим маленьким желтым певцам.
– Дайте мне время подумать, малыш, – сказал Крамли.
– И дать вам время стать соучастником убийства.
– Опять вы за свое. – Крамли с такой силой распахнул дверь, что петли взвыли. – И как это получается, что вы мне почти что нравитесь и тут же я злюсь на вас, как черт?
– Кто же в этом виноват?
Но Крамли уже ушел.
Крамли не звонил двадцать четыре часа.
Стиснув зубы так, что они чуть не начали крошиться, я взнуздал свой «Ундервуд» и стремительно загнал Крамли в каретку.
«Говори!» – напечатал я.
– Как получилось, – отозвался Крамли откуда-то изнутри моей чудесной машинки, – что вы мне то нравитесь, то я злюсь на вас, как черт?
Потом машинка напечатала: «Я позвоню вам, когда старушка с канарейками умрет».
Как вы понимаете, я еще много лет тому назад липкой лентой приладил к своему «Ундервуду» две бумажки.
На одной значилось: «ПРИЕМ СПИРИТИЧЕСКИХ ПОСЛАНИЙ», на другой крупными буквами было выведено: «НЕ ДУМАЙ!»
Я и не думал. Я просто давал возможность приспособлению для приема спиритических посланий стучать и клацать.
«Сколько еще мы вместе будем биться над этой загадкой?»
«Загадка? – ответил Крамли. – Загадка – это вы».
«Согласны вы стать персонажем моего романа?»
«Уже стал».
«Тогда помогите мне».
«И не рассчитывайте. Дохлое дело».
«Черт побери!»
Я вытащил лист из машинки. И тут зазвонил мой личный телефон на заправочной станции.
Мне показалось, что до будки я бежал миль десять, думая: «Это Пег!»
Все женщины, с которыми меня сводила жизнь, были либо библиотекаршами, либо учительницами, либо писательницами, либо продавали книги. Пег совмещала по крайней мере три из этих профессий, но сейчас она была далеко, и это приводило меня в отчаяние.
Живя все лето в Мехико, она занималась испанской литературой, учила язык, ездила в поездах с коварными пеонами и в автобусах с безмятежными нахалами, писала мне пылающие любовью письма из Тамазунхале и скучающие – из Акапулько, где солнце было яркое, а умы местных жиголо яркостью отнюдь не поражали, во всяком случае не поражали Пег – поклонницу Генри Джеймса[36] и консультантшу по Вольтеру и Бенджамину Франклину[37]. Она повсюду таскала корзинку для завтрака, набитую книгами. Я часто думал, что, наверно, за ужином вместо сэндвичей она закусывает братьями Гонкур[38].
Пег.
Раз в неделю она звонила мне из какого-нибудь заброшенного городка, славного своей церковью, или из большого города, то только что выбравшись из катакомб с мумиями в Гуанахуато[39], то едва успев отдышаться после спуска с Теотихуакана[40], и мы в течение трех быстро проносящихся минут слушали, как бьются наши сердца, и твердили друг другу все те же глупости – это была своего рода литания, всегда сладостная, сколько бы раз мы ее ни повторяли и как бы долго она ни тянулась.
Каждую неделю, когда Пег звонила мне, над телефонной будкой сияло солнце.
И каждую неделю, как только разговор заканчивался, солнце скрывалось, наползал туман. Мне хотелось бежать и скорее натянуть на голову одеяло. А вместо этого я насиловал свою машинку, выстукивая на ней скверные поэмы или рассказы – например, про марсианскую жену, тоскующую по любви и воображающую, как с неба сваливается землянин, чтобы увезти ее с собой, а его, перенесшего ради нее столько злоключений, убивают.
Пег.
Несколько недель, учитывая мою бедность, мы разыгрывали с ней старый телефонный трюк. Телефонистка, звонившая из Мехико, вызывала меня по имени.
– Кого? – спрашивал я. – Что, опять? Оператор, говорите громче!
Я слышал, как где-то далеко дышит Пег. Чем больше я нес всякую чепуху, тем дольше длился разговор.
– Минуточку, оператор, повторите, кто нужен.
Телефонистка повторяла мое имя.
– Сейчас посмотрю, здесь ли он. А кто его спрашивает?
Из-за двух тысяч миль быстро откликался голос Пег:
– Скажите, это Пег. Пег.
Я делал вид, будто ухожу и возвращаюсь.
– Его нет. Перезвоните через час.
– Через час! – эхом отзывалась Пег.
Щелчок, гудок, шум, она исчезала.
Пег.
Я вскочил в будку, сорвал трубку с крючка.
– Да? – завопил я.
Но это была не Пег.
Молчание.
– Кто это? – спросил я.
Молчание. Но кто-то там был, и вовсе не за две тысячи миль от меня, а совсем близко. Я ясно слышал, как у кого-то, кто молчал на другом конце провода, воздух посвистывает в ноздрях и во рту.
– Ну? – потребовал я.
Молчание. И звук, который слышишь, когда кто-то ждет у телефона. Кто бы там ни ждал, рот у него был открыт, он дышал в самую трубку. Шепот, шелест.
«Господи, – подумал я. – Ведь не мог же тот хриплый из трамвая вызвать меня в телефонную будку. В телефонные будки не звонят. Никто не знает, что эта будка служит мне личным телефоном».
Молчание. Вдох. Молчание. Выдох.
Клянусь, холодный воздух от шелеста из трубки заморозил мне ухо.
– Ну спасибо, – сказал я.
И повесил трубку.
Не успел я перейти через дорогу, а я бежал, закрыв глаза, как телефон зазвонил снова.
Я застыл посреди улицы, уставившись на будку, боясь дотронуться до трубки, боясь снова услышать лишь чье-то дыхание.
Но чем дольше я стоял, рискуя, что меня задавят, тем больше звонки из телефонной будки казались мне звонками с кладбища, похоронными звонками, сулившими плохие вести, как зловещие телеграммы. Пришлось вернуться и снять трубку.
– Она еще жива, – услышал я чей-то голос.
– Кто? Пег? – взвыл я.
– Спокойнее, – сказал Элмо Крамли.
Я привалился к стене будки, ловя ртом воздух. Наконец успокоился, но разозлился.
– Это вы только что звонили? – задыхаясь, спросил я. – Откуда вы знаете этот номер?
– Да каждый в этом проклятом городе слышал, как заливается этот телефон, и видел, как вы к нему несетесь.
– Ну и кто же еще жив?
– Старушка с канарейками. Я проверил вчера поздно вечером.
– Так то вчера.
– Но, черт побери, я звоню вам не поэтому. Вечером приходите ко мне домой. Я сдеру с вас шкуру.
– Почему?
– Что вы делали возле моего дома в три часа ночи?
– Я?!
– Лучше позаботьтесь о хорошем алиби, вот что. Не люблю, когда за мной следят. Буду дома около пяти. Если быстро оправдаетесь, может быть, получите пиво. А будете таращить глаза, выгоню под зад коленкой.
– Крамли! – взвыл я.
– Извольте явиться. – Он повесил трубку.
Я медленно побрел к дому.
Телефон зазвонил снова.
Пег!
Или тип с леденящим дыханием?
Или Крамли издевается?
Я со страхом распахнул дверь, вбежал в квартиру, захлопнул за собой дверь и тут же с мучительной тщательностью вставил в «Ундервуд» чистый белый лист, предназначенный для Элмо Крамли, и заставил его говорить мне только приятное.
На Венецию опустилось не меньше десяти тысяч тонн тумана, он подступил к моим окнам и проник ко мне в комнату сквозь щели под дверью.
Каждый раз, когда у меня в душе наступает сырой и безрадостный ноябрь, я знаю: пришло время уйти подальше от океана и найти кого-нибудь, кто бы меня подстриг.
В самой стрижке есть что-то успокаивающее кровь, умиротворяющее сердце и исцеляющее нервы.
И потом, у меня в мозгу все еще звучал голос старика, с трудом выбирающегося из морга: «Боже мой, боже мой, кто же это его так безобразно обстриг?»
Разумеется, в этом безобразии был повинен Кэл. Так что у меня имелось несколько причин нанести ему визит. Кэл – самый плохой брадобрей в Венеции, а может быть, и в целом мире. Но дешевый! Он так и влечет к себе сквозь волны тумана, ждет, бряцая своими тупыми ножницами, грозно размахивая жужжащей, словно шмель, электрической машинкой для стрижки, от которой бедные писатели и другие ничего не подозревающие заходящие к нему клиенты теряют дар речи и впадают в шок.
«Кэл, – думал я, – откромсай-ка эту тьму.
Покороче спереди. Чтобы все видеть.
Покороче на висках. Чтобы все слышать.
Покороче на затылке. Чтобы чувствовать, как ко мне подбираются сзади.
Покороче!»
Но к Кэлу я сразу не попал.
Когда я вышел из дома в туман, по Уиндворд-авеню как раз двигался парад громадных темных слонов. То есть, точнее говоря, медленно плыла процессия тяжелых черных грузовиков с громоздящимися на них гигантскими кранами и еще какими-то механизмами.
Оглушительно грохоча, они направлялись на пирс с намерением снести его до основания или хотя бы начать сносить. Слухи о скором конце пирса ходили по городу уже не один месяц. И вот час пробил. А может быть, пробьет завтра утром. Самое позднее.
У меня еще оставалось время до того, как нужно будет идти к Крамли.
Да и Кэл не был самой соблазнительной приманкой.
Грохоча и гремя железом, слоны, сотрясая землю, двигались по пирсу, чтобы пожрать аттракционы и лошадок с карусели.
Ощущая себя старым русским писателем, неизлечимо влюбленным в свирепые зимы и бешеные метели, как я мог поступить? Только последовать за машинами.
К тому времени, как я дошел до пирса, часть грузовиков уже сгрудилась на песке, готовая двинуться к самой воде и подбирать там мусор, который будут перебрасывать через ограждение. Другие по гниющим доскам направились в сторону Китайского квартала, поднимая тучи древесной пыли.
Я шел за ними, чихал и вытирал нос бумажным платком. С моей простудой следовало бы остаться дома, но перспектива лежать в постели, думая только о дожде, мороси и тумане, пугала меня.
Дойдя до середины пирса, я остановился, меня вдруг поразила собственная слепота: здесь собралось столько людей, которых я постоянно видел, но, оказывается, совсем не знал. Половина аттракционов уже была заколочена свежеоструганными сосновыми досками. Кое-какие еще оставались открытыми и ждали непогоды, когда посетители снова примутся швырять обручи и сбивать молочные бутылки. Возле нескольких киосков толпились молодые люди, казавшиеся постаревшими, и старики, которые выглядели старше своих лет. Все они не сводили глаз с грузовиков, рычавших в конце пирса у самой воды, готовых добросовестно и с полным рвением уничтожить шестьдесят лет прошедшей жизни.
Я смотрел по сторонам и ловил себя на мысли, что редко заглядывал за теперь уже упавшие и валявшиеся на земле двери и не заходил в скатанные палатки, прикрытые досками.
У меня снова возникло ощущение, будто за мной следят, и я обернулся.
Большой завиток тумана плыл вдоль пирса, он проигнорировал меня и поплыл дальше.
Верь после этого своим ощущениям!
Здесь, на середине пирса, стоял потемневший домишко, мимо которого я ходил лет десять, но ни разу не видел, чтобы шторы на окнах были подняты.
Сегодня впервые за все время окна оказались не занавешены.
Я заглянул внутрь.
«Боже, – изумился я, – да тут целая библиотека!»
Я быстро подошел к окну, думая о том, сколько еще таких библиотек прячется на пирсе или затерялось на старых улочках Венеции.
Остановившись под окном, я вспоминал вечера, когда за шторами горел свет и мне чудились призрачные очертания чьей-то руки, листающей страницы невидимой книги, слышался голос, шепчущий какие-то слова, читающий стихи, рассуждающий о тайнах Вселенной. Мне казалось, что это писатель, боящийся сказать все, что думает, или актер, докатившийся до амплуа привидений, король Лир, почти выживший из ума, но зато имеющий двойной комплект подлых дочек.
Но сейчас, в полдень, шторы были подняты. В комнате еще горел слабый свет, в ней никого не было, я разглядел письменный стол, кресло и старомодную, довольно большую кожаную кушетку. Вокруг кушетки, со всех сторон, до самого потолка громоздились горы, башни, бастионы книг. Наверно, их было здесь не меньше тысячи, распиханных и наваленных повсюду, где только можно.
Я отступил от окна и стал рассматривать вывески на дверях и вокруг дверей. Я видел их и раньше, но лишь скользил по ним глазами.
«КАРТЫ ТАРО», – гласила выцветшая надпись.
Вывеска ниже извещала: «ХИРОМАНТИЯ».
На третьей печатными буквами было выведено: «ФРЕНОЛОГИЯ».
А под ней: «АНАЛИЗ ПОЧЕРКА».
И рядом: «ГИПНОЗ».
Я осторожно приблизился к самой двери, там висела совсем маленькая визитная карточка, прикрепленная чертежной кнопкой над дверной ручкой.
На карточке значилась фамилия владельца: «А. Л. ЧУЖАК».
А под фамилией карандашом, более четко, чем о продаже канареек, была нацарапана приписка: «Практикующий психолог».
Ничего себе! Специалист сразу в шести областях!
Я приложил ухо к дверям и прислушался.
Вдруг до меня донесется, как между отвесными, покрытыми пылью книжными полками Зигмунд Фрейд шепчет, что, мол, пенис – это всего лишь пенис, а вот сигара – это дело стоящее? Или вдруг я услышу, как умирает Гамлет, увлекая всех за собой, как Вирджиния Вулф[41], словно утопившаяся Офелия, растянувшись на кушетке, чтобы обсохнуть, рассказывает свою печальную историю? Услышу, как шелестят карты Таро? Как скрипят перья? Увижу, как ощупывают головы, словно дыни-канталупы?
«Загляну-ка еще раз», – решился я.
И снова посмотрел в окно, но увидел только пустую кушетку с вмятиной посредине, оставшейся от множества тел. Это было единственное ложе. Значит, ночью на нем спал А. Л. Чужак. А днем, выходит, на него ложились посетители, оберегающие свои души, словно хрупкое стекло? В моей голове это не укладывалось.
Однако прежде всего меня занимали книги. От них не только полки ломились, ими была битком набита даже ванна, которую я смог разглядеть за полуоткрытой боковой дверью. Кухни не было. А если и была, то в холодильнике, без сомнения, хранились бы «Пири[42] на Северном полюсе» или «Бэрд[43]: Один в Антарктиде». Видно, А. Л. Чужак мылся в океане, как многие в наших краях, а пировал в сосисочной Германа, находившейся поблизости.
Поражало меня, правда, не столько это скопище книг – девятьсот, а то и тысяча томов, – сколько их названия, их темы, мрачные, роковые, устрашающие имена их авторов.
На верхних полках, где всегда царила полночная тьма, угрюмый Томас Харди[44] соседствовал с «Закатом и падением Римской империи» Гиббона[45], злобный Ницше[46] – с не оставляющим надежду Шопенгауэром[47], а бок о бок с ними стояли «Анатомия меланхолии»[48], Эдгар Аллан По[49], Мэри Шелли[50], Фрейд, трагедии Шекспира (комедий видно не было), маркиз де Сад[51], Томас де Куинси[52], «Майн кампф» Гитлера, «Закат Европы» Шпенглера[53] и так далее, и тому подобное…
Были здесь и Юджин О’Нил[54], и Оскар Уайльд – но только его горькие воспоминания о тюрьме[55]: ни тебе благоухания сирени, ни соловьиного пения. Чингисхан и Муссолини подпирали друг друга. А на снежных вершинах этих книжных Гималаев теснились книги с такими названиями: «Самоубийство как ответ», «Темная ночь Гамлета», «Лемминги в море». На полу лежала «Вторая мировая война», а рядом – «Кракатау[56] – взрыв, прогремевший на весь мир». Тут же я увидел «Голодающую Индию» и «Встает багровое солнце».
Если пробежать глазами все эти названия, задуматься над ними и, не веря себе, перечитать их еще раз, то выход остается только один. Как в случае с плохой экранизацией пьесы «Траур к лицу Электре»[57], где самоубийство нанизывается на самоубийство, убийство – на убийство, инцест – на инцест, на смену шантажу приходят отравленные яблоки, герои падают с лестниц или наступают на гвозди, смазанные стрихнином, а вы, наглядевшись на все это, в конце концов фыркаете, закидываете голову и разражаетесь…
Хохотом!
– Что вас так рассмешило? – раздался голос у меня за спиной.
Я обернулся.
– Я спрашиваю, что вас так рассмешило?
Он стоял позади меня, его узкое бледное лицо оказалось дюймах в шести от кончика моего носа.
Человек, спящий на кушетке психоаналитика.
Владелец всех этих книг, предрекающих конец света.
А. Л. Чужак.
– Ну? – потребовал он.
– Это ваша библиотека? – запинаясь, пробормотал я.
А. Л. Чужак выжидательно смотрел на меня.
К счастью, я чихнул – это стерло с моего лица смех и позволило скрыть замешательство за бумажным носовым платком.
– Простите меня, простите, – заторопился я. – У меня самого всего четырнадцать книг. Не часто доводится увидеть на пирсе в Венеции Нью-Йоркскую публичную библиотеку.
В маленьких ярко-желтых лисьих глазах А. Л. Чужака погас гневный огонь. Тощие, словно проволочная вешалка, плечи обмякли. Жалкие кулачки разжались. Моя похвала подтолкнула его заглянуть в собственную комнату, он увидел ее чужими глазами, рот раскрылся.
– Ну и что? – удивленно произнес он. – Да, это мои книги.
Я смотрел сверху вниз на этого человечка, росту в нем было не больше пяти футов, а без башмаков, наверно, и того меньше. Мной овладело ужасное искушение проверить, не носит ли он ботинки на трехдюймовых каблуках, но я удержался и, не опуская глаз, глядел на его макушку. А он даже не заметил моего взгляда – так возгордился множеством литературных чудовищ, расплодившихся на его мрачных полках.
– У меня пять тысяч девятьсот десять книг, – объявил он.
– Вы уверены, что не пять тысяч девятьсот одиннадцать?
Не отводя внимательного взгляда от своей библиотеки, он холодно спросил:
– А почему вы смеетесь?
– Названия…
– Названия? – Он снова подался к окну и окинул взглядом полки, стараясь обнаружить веселого предателя, затесавшегося в это собрание книг-душегубов.
– Скажите, – нерешительно начал я, – а нет ли в вашей библиотеке чего-нибудь летнего, чего-нибудь о ясной погоде, свежем ветерке? Нет ли у вас каких-нибудь веселых книг, счастливых находок? Ну, скажем, «Солнечные скетчи о маленьком городке» Ликока[58] или, например, «Солнце – погибель моя», «Добрым старым летом» или «Июньский смех»?
– Нет! – воскликнул Чужак и даже привстал на цыпочки, потом спохватился и опустился на всю ступню. – Нет…
– А как насчет «Усадьбы Гриль» Пикока[59], «Гека Финна», «Троих в лодке», «Как зелен был мой отец», «Записок Пиквикского клуба»? Нет ли Джеймса Бенчли[60], Джеймса Тёрбера[61], С. Дж. Перельмана[62]?..
Я выпаливал эти названия и фамилии, как пулемет. Чужак слушал и как-то съеживался от моего веселого перечня. Но не прерывал меня.
– А как насчет «Шуток Савонаролы[63]» или «Анекдотов Джека Потрошителя»?.. – Я осекся.
Черный как туча и холодный как лед А. Л. Чужак отвернулся.
– Простите, – сказал я и впрямь почувствовал себя виноватым. – Чего бы мне, по правде сказать, хотелось, так это как-нибудь заглянуть к вам, полистать ваши книги. Если вы, конечно, позволите.
А. Л. Чужак взвесил мои слова, решил, что я раскаиваюсь, сделал шаг и взялся за ручку двери своего заведения. Дверь мягко подалась. Он повернулся, оглядел меня своими узкими и блестящими янтарными глазками, его тонкие пальцы судорожно подергивались.
– А почему бы не сейчас? – предложил он.
– Не могу. А вот позже, мистер…
– Чужак. А. Л. Чужак – консультирующий психолог. Нет, не Чудак, как вы могли бы подумать и как у нас называют психиатров. Просто Чужак, добрый доктор, лечу заблудших.
Он подражал моей дурашливой интонации, только его жалкая усмешка по сравнению с моей была как жидкий чай. Я понимал, что она тут же исчезнет, стоит мне, в свою очередь, замолкнуть. Я посмотрел поверх его головы.
– Скажите, чего ради вы оставили на дверях старую вывеску насчет карт Таро? И еще ту, насчет френологии и гипноза?..
– А мою вывеску насчет анализа почерка вы почему не упомянули? Кстати, знаете, за дверью у меня еще одна, о нумерологии. Хотите взглянуть? Будьте моим гостем.
Я уже шагнул вперед, но остановился.
– Заходите, – сказал А. Л. Чужак. – Заходите. – Теперь он улыбался во все лицо, только улыбка была холодная, как у рыбы, а не дружелюбная, как у собаки. – Входите!
При каждом из этих мягких приказов я делал маленький шажок вперед, не сводя иронического взгляда с вывески о сеансах гипноза, висевшей над головой тщедушного человечка, и не скрывая своей иронии. Чужак смотрел на меня не мигая.
– Входите, – повторил он, кивая на свои книги, но не глядя на них.
Я чувствовал, что устоять не в силах, хотя и знал, что каждый из томов повествует об автомобильных авариях, горящих дирижаблях, взрывающихся минах и умственных расстройствах.
– Иду, – отозвался я.
И в этот самый момент весь пирс содрогнулся. Вдали, там, где конец его тонул в тумане, по нему ударило какое-то громадное чудовище, будто кит столкнулся с кораблем или «Куин Мэри» напоролась на старые сваи. Притаившиеся у самого океана железные твари принялись отдирать доски.
Пирс трясло, тряска, круша доски, вгрызалась в наши тела – в мое и А. Л. Чужака, – напоминая о бренности и обреченности. Толчки проникали в кровь, сотрясали кости. Мы оба дергали головами, стараясь сквозь туман рассмотреть вершащееся вдали разрушение. Мощные удары чуть оттеснили меня от двери. Вокруг все тряслось и колыхалось. А. Л. Чужака подкидывало на его пороге, как забытую игрушку. И без того бледное лицо сделалось еще бледнее. Он выглядел как человек, застигнутый землетрясением или обрушившейся на него приливной волной. Гигантские машины в сотне ярдов от нас снова и снова наносили сокрушительные удары по пирсу, и на молочно-матовом лбу и щеках А. Л. Чужака, казалось, множились невидимые глазу трещины. Война началась! Скоро черные танки с грохотом двинутся по пирсу, уничтожая на своем пути толпу спешащих на сушу беженцев с карнавала, и А. Л. Чужак не успеет оглянуться, как окажется среди них, когда рухнет его домик, сложенный из зловещих карт Таро.
Мне улыбнулась возможность скрыться, но я не сумел ею воспользоваться.
Чужак снова обратил на меня свой взор, словно я мог спасти его от этой атаки на пирс. Казалось, он, того и гляди, даже схватит меня за локоть, ища поддержки.
Пирс ходил ходуном. Я закрыл глаза.
Мне почудилось, будто я слышу, как звонит мой заветный телефон. Я чуть не закричал: «Телефон! Мне звонят!»
Но тут на нас набежала компания мужчин и женщин, с ними было и несколько детей, все они мчались к берегу, торопились к упиравшемуся в море концу пирса. Бегущих возглавлял крупный мужчина в черном плаще и честертоновской шляпе.
– Последний полет! В последний день! В последний раз! – выкрикивал он. – Последняя возможность! Вперед!
– Формтень! – прошептал А. Л. Чужак.
Это действительно был он, собственной персоной – Формтень, единоличный владелец и управляющий старым венецианским кинотеатром, стоявшим в самом конце пирса. Не пройдет и недели, как его театр сотрут с лица земли и останется от него только целлулоидное крошево.
– За мной! – донесся до нас из тумана голос Формтеня.
Я взглянул на А. Л. Чужака.
Он пожал плечами и кивнул, отпуская меня.
Я бросился в туман.
Несмолкающий рев, гром, грохот, медленно нарастающий лязг, скрип, скрежет, будто чудовищная сороконожка-робот в кошмаре взбирается на гору, на вершине чуть медлит, переводит дух и тут же, извиваясь, стремительно низвергается вниз под крики, вопли, визг перепуганных пассажиров, летит в бездну и сразу, еще стремительней, приступом берет новую гору, потом еще одну и еще, чтобы снова в истерике ринуться в пропасть.
Вот они какие, «русские горки».
Я стоял, задрав голову, и глядел на них сквозь туман.
Говорят, через час их уже не будет.
А ведь они составляли часть моей жизни с тех пор, как я себя помнил. Почти каждый вечер отсюда неслись смех и визг, когда люди взлетали вверх на так называемую вершину жизни и стремительно падали вниз навстречу воображаемой гибели.
А теперь, значит, предстоял последний взлет, перед тем как взрывники прикрепят заряды к ногам гигантского динозавра и он рухнет на колени.
– Прыгайте! – крикнул какой-то мальчишка. – Прыгайте! Это бесплатно!
– Да пусть бы мне хоть приплатили – по-моему, это сущая пытка!
– Эй, да вы только взгляните, кто здесь сидит впереди! – крикнул кто-то еще. – И сзади!