Читать онлайн Бродячая Русь Христа ради бесплатно
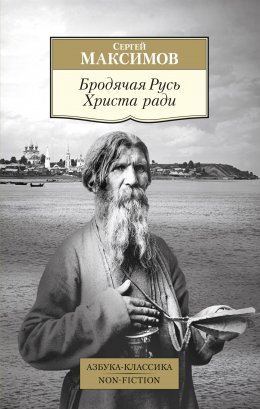
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
* * *
Часть I
Прошаки и запрощики
Посвящается
Ивану Федоровичу Горбунову
…И дают ему прохожие.
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы Божии
По лицу земли родной.
Некрасов
Глава I
– Пожертвуйте, православные, на церкву Божию, на каменное строение!..
Следуют различные указания имен святых: Спаса, Пречистой, всего чаще Николы-угодника.
Выкрик довольно резок и смел, нараспев и только на два тона. Кричит синий или черный армяк мещанского покроя, круто запахнутый и высоко подпоясанный по-праздничному, с претензией на солидность и некоторого рода торжественность. Голова и под дождем, и на солнечном припеке, безразлично – непокрытая и всего чаще лысая.
Прошак всегда почти пожилой, неизменно с книжкой, обернутой в тафтяную черную тряпичку, с нашитым крестообразным позументом. На книжке лежат медные гроши и пятаки. Книга прошнурована. Шнур припечатан казенной сургучной красной печатью, и на последней страничке прописано свидетельство какой-нибудь консистории.
Кто этого крика не слыхивал? Кто поклончивой, смиренной фигуры этого ходатая за нужду церковную не видывал? Это люд, коротко всем знакомый и великому большинству всероссийского человечества любезный.
Везде он: на столичных дворах, на сельских ярмарках, на деревенских базарах, на церковных праздниках, и в народной толпе, и около лавок, и на церковных папертях на почетном месте, впереди нищей братии при выходах, в ожидании тех крупиц, которые остались от сборов внутри церкви. Неизбежен он в самых темных уголках православного царства и невидим разве только в инородческих улусах, где еще до сих пор плохо веруют или совсем не веруют в Бога, да в тех несчастных местностях, где у самих нет ни гроша ни на соль, ни на деготь, ни на подати – словом, на то, что составляет денежный расход крестьянина. Зато в местах сытых, в городах купеческих и церквах соборных этого люда – длинные шеренги из целых десятков. А потому в разных местностях для них – самые разнообразные прозвища: называют их сборщиками, прошаками, запрощиками, кубраками, лаборями и т. п. Много в рядах этих монахов, еще того больше монахинь, но мы выдвинем на внимательный осмотр на первый раз только армяки, круто запахнутые и высоко подпоясанные, то есть сельских и деревенских выходцев и землепроходцев.
На петербургских дворах таких сборщиков (то есть мещан, крестьян и отставных солдат) перебывает ежегодно больше четырехсот человек[1], и в этом числе первое место занимают крестьяне. Монахини ходят редко с послушницами, но в таком случае непременно с двумя. Послушницы же собирают всегда вдвоем; монахи ходят без помощников; крестьяне также предъявляют для свидетельства книжки, выданные на одного человека.
Сколько же перебывает этих сборщиков в торговой, богатой, тароватой, православной Москве? И, утроив петербургское число, не ошибиться бы!
Почтенный количеством своим даже и в не совсем богомольном и православном городе, класс сборщиков подаяний на церкви – и именно из простонародья – поучителен и любопытен во многих отношениях.
Конечно, прежде всего это остаток очень почтенной древности: это выходцы из отдаленных времен нашей истории, воспитанники и подражатели первых наставников наших в вере и религиозных обычаях – греков. Появление этого оригинального типа, несомненно, относится к той эпохе, когда паломничанье было в общем обычае, когда выходил на промысел всякий пешком, когда, бродя на своих доморощенных ногах, справлял работы своего досужества, умения и знания всякий ремесленник, когда пешком ходила даже самая торговля. Ходил из конца в конец православной Руси и странник за усердным подаянием, «апостольским способом в подвиге добром подвизался», и притом с таким сердечным убеждением, что способ этот глубоко укоренился и в следующих поколениях и в нетронутом виде дожил до наших времен. Проторили с тех пор пошире дороги, покрепче укатали их, облегчили пути конным, а прошаки (кое с кем из ремесленников и торговцев) все еще на своих на двоих ходят пешими. Где присядет он Христа ради на облучке попутной телеги, где воспользуется пароходом или перевозом, а то все больше пешком по окольным дорогам, которые, как и он, все еще во множестве мест в том же первобытном историческом виде. Столько же и теперь труден его подвиг по безлюдью и бездорожью, как и тогда, когда заветшали церкви на погостах, выстроенных удельными князьями в своих отчинах и дединах по примеру первой христианки Ольги, уставившей погосты по рекам Мсте и Днепру, и когда, собственно, впервые и проявился на Св. Руси этот почтенный класс деятелей и делателей.
И теперь ученый историк, любознательный археолог сумеют распознать в лице прошака любезные признаки почтенной древности в простоте и краткости просительного стиха, не обладающего разнообразием и избытком жалобных слов (хотя бы по примеру арестантов, которые выучились вымаливать доброхотные подаяния целой складной песней). В самом напеве в два тона по образцу всех духовных стихов, старин и былин, распеваемых старцами и слепцами, – тот же археологический признак, указывающий на почтенное время бедности мотивов и отсутствия мелодий: речитатив с пригнуской. Не дальше стоит он от выкриков нищих, и далеко еще ему хотя бы и до того вычурного крика, на который, например, здесь же, в Петербурге, раздаются припевы приглашающих купить «цветы… цветочки» и т. п. Одна только книжка в руках – продукт новейшего времени, слабо верующего чужой совести, среди соблазна медными, серебряными и бумажными деньгами (очень часто довольно крупными). Кое-кто и писать умеет, стало быть, не поленится и записать, а письменному человеку (секретарю консистории) легко проверить, все ли донес, что записано в книге: прошнурованных же и занумерованных листов вырвать нельзя – засудят за то.
Конечно, и в наши дни, как и в далекие времена седой старины, сзади сборщика-прошака – разрушающаяся деревянная или каменная церковь. Расползлись или выветрились углы ее; стали сквозить венцы, начало дуть из-под пола, – коченеют ноги молельщиков, руки священников затрудняются сдерживать святые дары, осенний дождик врывается в храм Божий ручьями.
– Да, хорошо бы и старый колокол подменить новым: звонарь с пьяных глаз разбил – дребезжит и не дает ясного гулу. Я на себя обет такой положил, что в гроб не лягу, пока не заведу на помин души моей грешной красного звону.
– Ризы обветшали, с плеч лезут. Книги грамотеи наши все поизмызгали, да закапали, да оборвали, да растеряли: ни петь, ни читать!..
– Мало ли и в самом деле всякой нужды церковной?
– Оскудело благочестие, много народа в раскол уходит, стал народ от церкви отбежен.
– Еще больше уходит его от своей великой домашней нужды на чужую сторону; о серебряном ли кадиле для сельской церкви думать ему, когда он сам ушел кормиться под чужие звонкие столичные колокола?
Как в давнюю старину народ, обманутый холодной землей и обиженный бесхлебьем и голодовками, брел врозь после Юрьева дня осеннего искать нового приволья и лучших мест, так и теперь все больше и больше тянется он из-под погостов с могилками родителей туда, где охотнее дают деньги и сытнее кормят. А остальцам на старых пепелищах и теперь, как и в старину, не под силу класть новые заплаты на старые широкие прорехи, а «матушка-церква» стала требовать коренной перетруски от глав до основания.
Все, словом, по-старому. Изменилось лишь одно: с каждым годом число прошаков уменьшается. Скоро может случиться так, что этот коренной народный русский тип исчезнет с лица земли нашей (уничтожить его очень легко, большого труда не стоит) и, сделавшись достоянием истории, станет предметом догадок и исследований археологов.
Поспешим всмотреться в них, хотя с той целью, чтобы и совсем распрощаться, довольно они пожили, довольно походили по свету. Впрочем, мы с той целью и начинаем со сборщиков, что предполагаем говорить о тех, которые еще ходят в то время, когда другие ездят; еще поют о том, о чем можно давать ведение иными многочисленными облегченными способами; глупо толпятся там, где мешают входу и выходу других и смешивают свои выкрики с предложениями настоящих торговцев, – словом, еще живут и действуют приметной силой, хотя на место ее может встать другая сила, гораздо помоложе. Вообще, запоздалые целым веком прошаки отстали от нашего мудреного времени настолько, что кажутся одетыми в гробовой саван, от которого веет сыростью, как от старого пергаментного фолианта, как из монастырских беспросветных погребов.
Поспешим присмотреться. Сначала, впрочем, попробуем прислушаться.
Сколько бы однообразен ни был покрой платья, употребляемого сборщиками, умеющими на этот раз сделать так, как говорит пословица, что все волки ночью серы, тем не менее опытное ухо, прислушавшееся к народному говору, не затруднится отгадать, приблизительно с какой стороны Руси пришел этот незнакомец. Иногда нет нужды прибегать к продолжительному с ним разговору, чтобы наловить много признаков, характеризующих родину.
Одно даже слово, неизбежное в его просительном припеве, – «церковь» – сумеет указать, откуда вылетела птица. «Церковь» – так, как мы это слово пишем и произносят его люди образованные, принадлежит говору Центральной России, выросшей под влиянием Москвы. Новгородчина, так сказать, глухая лесная Русь, умудрилась выговаривать это слово «церква». Затем если из ближайших к Москве жителей кто выговорил «черковь», то это, несомненно, тверяк или вообще житель Верхней Волги, всего вернее – из города Торжка. Если же сумел отчеканить так, что стало «тшерковь», то смело говорите ему, что он вязниковец или из тех владимирцев, которые живут ближе к Оке. За Окой, в южной части Нижегородской губернии, говорят уже «черква» – не по закону, а по обычаю той новгородчины, которая любит изменять «ц» в «ч» – чвакать (и, наоборот, словно насмех) во всей обширной местности от псковского Порхова до Ладоги и отсюда до Белоозера на Вологду и на Вятку. В отличие от всех и на удивление всем, владимирский переяславец выговаривает даже «цчерква».
Тут и там Древняя Русь настроила монастырей и церквей в таком обилии, что какой-нибудь маленький олонецкий Каргополь владеет 2 монастырями и 22 каменными церквами при 2 тысячах жителей; Вологда – с 51 церковью и 2 монастырями при 18 тысячах и т. п. Наследие прадедов, от различных невзгод ушедших за Урал в качестве первых поселенцев Сибири, досталось в таком размере, что 100 человек должны содержать причт и поддерживать церковь. А так как весь Север значительно опустел и год от году пустеет народом все более и более оттого, что плохо и неуверенно кормит, держит в постоянной проголоди и гонит вон на чужую сторону, – то, само собой, и «матушка-черква» нуждается в таком ходатае, который походил бы от нее, помолил бы за нее доброхотных дателей.
Откуда бы ни сошлись сборщики подаяний, одному-двум из полуголодной Северной России между ними неизбывное место.
Еще прислушаемся:
– На чье имя собирает, какие имена чествует и поминает?
– Николу-угодника.
Мало: слаб этот признак, несмотря на то что угоднику большое уважение на Руси за то, что расселялась Русь по рекам, по озерам, много плавала, подвергалась многим опастностям от воды, а епископу Мирликийскому приписывается покровительство пловцам и мореходам. Особенно чествуют его при самых реках, морях и озерах. По безлюдью Белого моря – «от Холмогор до Колы тридцать три Николы», по словам местной поговорки, да и то, должно быть, довольно старой, потому что на самом деле подлинным счетом их 40 (впрочем, по самому берегу моря попадается много пределов Клименту, папе римскому, полагаемому вторым покровителем мореходов). По Зап. Двине, по Вилии и по Неману, где православие всего больше подвергалось гонениям, народ успел, однако, выстроить 109 церквей (губ. Витеб., Вил. и Ковен.) в честь св. Николая, и из наиболее чтимых святых: Петру и Павлу – 20, Георгию Победоносцу – 38, Параскеве Пятнице – 22, Илье-пророку – 30 и т. д.
Вот и еще новые признаки в выкрике сборщика, на которых весьма поучительно становится, – признаки очень почтенные по времени и по историческому значению.
Ушедшие язычниками по богатым системам рек, с юга на север, славяне в те времена, когда вышли к нам для проповеди святого Евангелия греки, владели уже укрепленными местами и имели возвышенные пункты и особые места, посвященные народным божествам и религиозным обрядам. Византийские греки, с помощью князей и под защитой их дружин крестя народ и знакомя его со святыми предстателями за человеческие нужды, сумели сделать так, что на всех возвышенных местах, командующих окрестностями и круто оступающихся в воду (обыкновенно в реку), где славяне предпочитали избирать места для богослужения Перуну, – очутились храмы во имя Илии. Точно так же при рудниках, в низинах и оврагах, при источниках рек – явились храмы Параскевы Пятницы с непременным деревянным изваянием св. мученицы.
На выгонах городов, где пасется скот местных жителей, вверенный охранению Велеса, встали христианские церкви во имя священномученика Власия и т. д. Факты эти чрезвычайно очевидны и последовательны во всех местах древней языческой Руси: на западе и севере ее, в Киеве, в Чернигове и Мстиславле – словом, во всех местах, спопутных движению проповедников из Византии, по Днепру и его притокам: Десне, Сожу, Припяти и т. д., первые городские церкви посвящены имени св. пророка Илии. Только когда выяснились между укрепленными пунктами центральные и главные, к которым тяготел народ, как вся Греция к Византии, – появились храмы Господней Премудрости (Софии), по примеру великолепной и знаменитой византийской. Софийские соборы, посвященные Софии, то есть Премудрости Слова Божия, под которою разумеется второе лицо Святой Троицы, воздвигались постепенно там, где устанавливался центр народной колонизации: в Киеве на Днепре, в Полоцке на Двине, в Новгороде на Волхове, в Вологде и Соликамске (даже в Тобольске в Сибири) – словом, во всех тех городах, которые были первыми на Руси и начальными и коренными центрами народной защиты и управы[2].
При дальнейшем переселении народа, уже окрещенного в христианскую веру и действовавшего в делах ее самобытно, а в трудах переселения по голодным необитаемым странам не перестававшего испытывать громадные лишения и трудности в непролазных лесах, среди безнадежных болот, – являлась единственная надежда, а за ней и горячая молитва Всемилостивому Спасу. Его имени воздвигался первый храм, лишь только нога людская ощущала под собою твердую и сухую почву и глаза видели обнадеживающее приволье. Так поступила полоцкая княжна Ефросиния в первые христианские времена на Руси (1160 г.) на р. Западной Двине; точно так же поступили и позднейшие, самые дальние и смелые выселенцы Савватий и Зосима, основавшие обитель на морском острове (Соловецком), в 60 верстах от берега и жилых мест, в 1436 году. Встали Спасы: в Холмогорах (первый на Северной Двине), в Тотьме, Вологде, Ярославле, Суздале, Нижнем, Костроме, то есть почти во всех северных городах, известных своею древностью. В той же стране, северо-западной Руси, враждебной православию, до сих пор – 77 Спасов (из них 46 Спасов Преображения), тогда как только 51 Троица, 17 церквей Св. Духа. Надежда на предстательницу христиан, скорую помощницу и молитвенницу Матерь Спасову, не замедлила, в свою очередь, выразиться во множестве храмов, посвященных Пречистой, но уже в те времена, когда переселения, от векового опыта, стали легче, и страны оказались наиболее гостеприимными.
Сборщик подаяний, в перечислении имен упоминающий храмы Пречистой (всего чаще Успения и Рождества ее), вернее запрашивает на село из московской Руси (восточной и центральной), чем тот, который указывает на храмы Спаса, в наибольшем числе находящиеся в западной и самой северной России. В этом для нас определительно выражается этнографический признак заселения северной Руси двумя путями: на северо-восток – по землям рязанским, муромским, владимирским и московским с именем Пречистой и первыми храмами в честь Богоматери; на север же и восток – по заволочьям, заозерьям и за камнем по Сибири новгородскими людьми с именем Спаса.
Во вторых и третьих именах, сказываемых сборщиками, всегда возможно, помимо повсеместно чтимого Николы, встретить такие, которые прославились в позднейшие времена, когда явились отечественные угодники, местночтимые иконы, боготворимые известными окрестностями в определенной поставленной во взаимные близкие отношения местности: Зосима, Тихвинская Божия Матерь – для севера и северо-запада Великороссии, Феодосий Тотемский, Кирилл – для северо-востока ее же, Макарий – для Поволжья, от Калязина до Нижнего и от Костромы до Вологды, и т. д. Точно так же как Знаменье указывает на Новгородчину, имена Бориса и Глеба, несомненно, укажут на те древние русские поселения, которые находились в тесной религиозной связи с Киевом, – на Чернигов, Полоцк, Ростов и проч., – а местночтимые имена без всяких догадок, очевидно, выразят тот город или ближайшее к нему село, откуда вышел прошак и где проявилась церковная нужда, выискивающая в толпах народных сердобольных и христолюбивых жертвователей.
Вышел прошак прямо с северо-запада, если просит на Спаса и Николу, да при этом окает и придзекивает да прибавляет Илью либо Параскеву Пятницу. Идет он, несомненно, с коренного Севера, если к Николе и Спасу присоединяет либо Знаменье, либо Зосиму с Савватием, либо Тихвинскую Богоматерь и при этом окает. Если же упоминает он Кирилла, то и место родины его где-нибудь в Белозерском или Кирилловском уезде, в коренной Новгородчине.
Отсюда, как известно, преимущественно уходит народ, и на вечные времена, и на временные отлучки для заработков, на столичные и городские соблазны, на отвычку от родины и на полузабытье всего в ней заветного, считая в том числе и приходские церкви. Остается дома кое-кто: немощные да старые, очень малолетние и несмышленые, походившие и уставшие, ничего не выходившие и умеющие высиживать кое-что и дома. Все это хорошо всем известно. Известно всем также и то, что в той же Новгородчине и в срединной московской Руси церковная обрядность, религиозная внешность всегда играли столь сильную роль, что из-за них издавна ведется непримиримая тайная и явная борьба, выразившаяся многоветвистым расколом.
Там, где устояли от соблазнов раскола, православие стало твердо. Приверженность к церкви выражается самыми многоразличными признаками; любовь к обрядовой части наполняет добрую долю в целом году домашней и общественной жизни и в некоторых случаях доведена даже до крайностей. Приезд архиерея волнует целое население околотка от мала до велика; бросаются полевые работы; за архиерейской каретой бегут толпами; на архиерейском служении захлебываются народом церкви, паперти и ограды. По отъезде долго гудят басистые голоса в торговых рядах, на полях и улицах под увлечением «толстоголосого» и красивого протодьякона. Церковные ходы представляют толпы длиною в целую версту, и в течение лета таким крестным ходам, поднятиям местных икон, обходам полей и молебнам на них трудно подвести счет. Голосистых дьяков, не найдя в своей, ищут по другим епархиям; красноречивых священников переманивают предложением добавочного содержания; биографии священников знают до подноготной и скажут не только, кому кто племянник или дядя, но и кто кому доводится свояком или сватом и т. п. Приверженность к сельскому храму и его служителям, едва утолимая страсть к церковным обрядам представляются поразительными особенностями не только отдельных личностей, но сплошь и рядом всего населения, за малыми и едва уловимыми исключениями.
Само собою разумеется, что изо всех выделяются неизбежно такие, которые уходят дальше других и доводят свою ревность до самопожертвований, даже до фанатизма. В разряд этого рода ревнителей поступают, разумеется, люди наиболее оригинального жизненного склада с некоторыми особенностями характера.
Глава II
Внешние особенности людей подобного рода выражаются наглядно тем, что они раньше других, с первым ударом колокола, являются в церковь, занимают места ближе к алтарю, всего чаще становятся на клирос и не остаются здесь в рядовых и заурядных подголосках, а спешат заявить себя видимым образом. Дьячки и пономари не в праздничные дни, когда нет у них обыкновения надевать на себя стихари, не прочь угождать этим ревнителям тем, что дают прочесть им часы, выпускают на средину церкви для произнесения Апостола и, уходя раздувать в алтаре кадило, предоставляют им читать псалом после заамвонной молитвы. Более заслуженные из них допускаются помогать священнику в алтаре. Они первыми прикладываются ко кресту. Они беспокойны на клиросе, сходят с него в северные двери и выходят из них по нескольку раз во время обедни. Их тревожит всякая нагоревшая свеча, всякая на полу соринка. Они стараются быть всегда впереди и, оставаясь на виду, все-таки служат образцом для молельщиков. Установка их на колени, земные поклоны и т. п. служат сигналом для прочих, не твердо знающих церковную службу. Для бестолковых баб, приносящих детей к причастию, они являются указчиками и руководителями, и во всяком случае вмешательству их церковная служба обязана значительной долей своего благолепия и порядка.
Таковы они дома, в своей сельской церкви.
В гостях, в чужих селах, посещение которых в храмовые праздники эти церковные ревнители считают своей священнейшей обязанностью, они всегда поспешат обозначиться (становясь в толпе, а не на клирос) своим вмешательством: вслух и докучно поют; с воздыханиями предупреждают возгласы и молитвы; сказывают довольно громко и свои придуманные, и по книгам затверженные. Во время праздничных всенощных поражают они твердым знанием наизусть не только ирмосов двунадесятых праздников, но и стихирь на «Господи воззвах» и на «Хвалитех».
Таких людей церковный причт коротко знает, уважает и охотно придерживает около себя, позволяя с готовностью, по их желаниям, всякое невинное поползновение вроде переходов с книгой с клироса на клирос, чтения шестопсалмия и т. д. Иные доводят свою ревность до того, что начинают ходить вместе с причтом с праздничною «славой», не в качестве паевщиков, а безвозмездных из любви к искусству подголосников. Ходят затем лишь, чтобы подпевать, и глазами ищут случая выслушать приказание от священника или дьякона, с тем чтобы немедленно его исполнить. Смело и сильно расталкивают народ в церкви, больно толкают в бока эти ревнители, бегающие либо затем, чтобы позвонить, либо за угольями, за ладаном в кладовую. Доверие к таким людям полное, и, допущенные до крайних интимностей духовного звания, они считаются уже «истинными сынами церкви». Ее интересы встают для них впереди всех других, и в конце концов они отдаются своему сельскому храму всей душой и всеми помышлениями.
Разряд людей этих представляет собою либо богомольных стариков, довольных своим хозяйственным и домашним обеспечением, когда при сыновьях и внуках осталось только молиться и благодарить Бога, либо людей среднего возраста, но уже совершенно особых. На них возлагаются надежды церковного причта. Когда клиросная помощь их окажется для церкви малопособляющей ввиду более существенных, материальных нужд ее, самого лучшего из них избирают для того, чтобы возложить на него трудную задачу сбора подаяний в чужих людях, вдалеке от родного села и бедного приходского люда.
Этот лучший, рожденный спившимся ли с кругу отцом или изнуренной, измученной на тяжелых, неустанных работах матерью, дряблый с младенчества, болезненный в отрочестве от мякинной пищи, бессильный в работах тотчас же, как их потребуют от него. Он никуда не поспеет, ничего не доделает; много зато бит пинками и толчками заколочен, крутой бранью домашних и неустанными насмешками чужих забит до пугливости. Если по каким-либо случайным обстоятельствам он не превратился в идиота, известного под деревенским названием каженика (или боженика), то, во всяком случае, он ненадежен в работе, не способен к усидчивому труду. Живет в родной семье, словно в пасынках, в родной деревне обзывается таким насмешливым прозвищем, какое только может быть хуже и обиднее всех. Нелюбимый, преследуемый, он делается угрюмым, замкнутым в себе. Всякие игры ему чужды: он при городских условиях мог бы сделаться самоубийцей. При недостатке характера, но при мягком, впечатлительном сердце он делается религиозным, утоление печалей находит в церкви, в ней только он живет и дышит свободно. После адских недель праздничные дни для него – эпохи. С лихорадочным нервным нетерпением начинает он с пятницы ждать воскресенья: перед заутреней, после бессонной ночи, бежит на колокольню – сначала смотреть, как после первого удара колокола полетят с земли черти в преисподнюю, потом просто звонит или благовестит.
Холодной зимой, ненастной осенью занятие это пономарь беспрекословно и нераздельно передает ему. После обедни на целый день он ищет темных углов и укромных местечек, где бы его и найти было нельзя. В этом случае несколько праздников сряду представляют ему время величайших продолжительных наслаждений.
Неменьший восторг и радость ощутил он в своем сердце, когда батюшка поп заметил его рвение и поручил ему какую-то работу на себя. Сделал он ее охотно и даже лучше, чем сделал бы для своего дома.
Заслуги его не остались без награды и поощрений, вроде таких, что на Пасхе, например, бездетный дьякон ставил его в конце заутрени сзади себя с лукошком собирать яйца, в Крещенский сочельник его посылали к чанам и поручали помогать при раздаче богоявленской воды. Это произошло уже в то время, когда алтарная горнушка с угольями и кадило поступили в полное его распоряжение, когда стоять в алтаре дозволялось ему невозбранно и ходить по церкви взад и вперед сколько угодно.
Затем он приготовлял проруби на Богоявление, прилаживал плоты и обсаживал их елками на иордани в Спасовку и Преполовение; в крестных ходах носил правую хоругвь и пр. Таким образом, вполне прилепившись к церкви, сделался он необходимым членом ее причта и, будучи постоянным посетителем церковных служб, стал незаметно для себя понятливым и памятливым ко всему, что поют, и пытливым на расспросы. Духовенство готовно разъясняло ему все, что само знало. Мало-помалу выбирался он на дорогу начетника и не сделался таковым лишь только по безграмотству, о котором заныло и заболело его сердце, когда увидел он исчезающую впереди для него целую массу высоких наслаждений.
От родительского дома он отбиться не мог, но, если бы явилась возможность, ни минуты бы не медлил. Когда настало для него время, когда бить и сечь дома перестают и право это переходит к высшему сельскому начальству, он в семье оказался уже совершенно лишним. Не только за неделю, но и за целые зимы – ни в избе, ни на дворе нельзя было найти ни одного следа его пребывания, ни одной работы, на которую можно было бы указать как на полезную и пригодную. Скворечники ставить, сети плести для ловли рыбы и птицы он первый охотник и мастер. Легкую работу он склонен исполнять целый день, и не огорчит его, что за целые сутки в итоге у него дыра в горсти. Зато его и домашние, и соседи прозвали «кутьей», «дурьей породой», насмехаться над ним не упускали ни одного случая. Но теперь это мало его трогает – он уже обтерпелся. Против крупных обид и глубоких оскорблений на защиту его, само собою разумеется, становился весь причт, и даже сам батюшка не задумывался нарочно прийти к нему в избу и усовещевать родителей и родных домашних. Кто хочет увидеть дела его, тот может пойти к церкви и в церковь – там он предусматривал работу, сам исполнял ее отчетливо и рачительно. Надрывающаяся от слезь бедность всегда находила в нем бесплатного могильщика с заступом, топором, лопатой, даже зимой. Ни одного поминания усопших, если поручат ему, он еще ни разу не забыл, ни в одной просьбе по церкви он никому еще не давал отказа и переданную желтенькую восковую свечку не ставил зря, а именно к тому самому образу, который ему был указан.
Если пристальнее всмотреться в окончательно сложившийся характер этого человека – перед нами одна из честнейших натур, беззаветно добрых и преисполненных самоотвержения до последней крайности, смиренных и послушных до безответности. Этого сорта люди иногда возбуждают жалость и сострадание к видимой ненадобности их существования, как бы к людям лишним, но первые же шаги знакомства с ними не замедлят показать, что это самые симпатичные люди в среде нашего простонародья. Бесполезные во всю свою жизнь, они являются подлинными избранниками по призванию, когда придет час их служения, и творят чудеса при энергии, когда откроется благоприятный случай. Очень часто они отыскивают сами этот случай; конечно, всего чаще отыскивают их самих те, кому они нужны. Обоюдным рвением и взаимной поддержкой ставится дело на ноги и пускается в ход. За нуждами, порождающими начинание и питающими энергию в сельских церквах, конечно, не стоит дело там, где не выищется тароватого благотворителя. А такие благотворители большей частью проявляются по несчастным случайностям там, где всего менее настоит в них нужда.
Золотятся заново позлащенные иконостасы; украшаются опрятные, чистенькие церкви стенными иконами доморощенных, неискусных богомазов, отливаются вторые экземпляры больших колоколов и полиелеев; нашиваются новые ризы в таком количестве, что на пасхальной заутрене, во время пения канона, на всякую из 9 песней, священник и дьякон выходят кадить в новых переменах риз. Это в наших купеческих городах.
Глава III
Белеясь на горе, стоит каменная церковь в бедном селе, лаская издали приветливым красивым видом, но поражает вблизи всеми неблагоприятно сложившимися обстоятельствами для выгодного положения ее, именно на этой красивой горе и в этой, пожалуй, даже и густонаселенной местности. Давно запущенная, долго стоявшая без починки в нашем северном лесном краю, обильном снегом и дождями, обездоленном дороговизной железа и камня, приходская церковь обрешетилась крышей, лишилась значительной связи в куполах, сводах и полах. Деревянные рамы сгнили так, что и гвозди не держатся, и дует немилосердно в холодные зимы, потому что число вывалившихся кирпичей и на окнах, и на углах, и всюду даже сосчитать невозможно. Засырел и почернел не только иконостас, но облупились и святые иконы; в зимние стужи намерзают священнические руки до такой степени, что с трудом сдерживают потир на великом выходе. Про деревянные церкви уже и говорить нечего.
Вот тот укор на прихожанах, непрестанная боль в сердце причта, которые еще виднее выделяются из толпы доброхотных радетелей церкви. На них останавливаются мысли и желания настоятелей.
– Зайди-ка ко мне, о больно важном и нужном деле мне с тобою, Божий человек, поговорить надо по душе и в настоящую.
Светленький домик священника, который во всяком русском селе уверенно и успешно рассчитывает на то, чтобы выделиться из крестьянских изб и походить на городской дом, гостеприимно приглашал болезного человека за этот палисадник с сиренями и рябинами, на это крытое крыльцо и в чистый зал батюшки, увешанный картинками духовного содержания и портретами архиереев, из которых один находился даже в отдаленном родстве с владельцем этого зала и этого дома.
Священник ждал. Вошедшего приветливо принял, осенил большим крестом и дал поцеловать ему загрубелую на полевых работах и сильно загорелую руку. Велел сесть на плетеный камышовый стул с прямой и высокой спинкой, и когда вошедший неладно уселся на самом кончике его, священник удовлетворился.
– Посягаешь ли?
Вошедший не сразу понял и глядел безответно.
– Согласен ли принять послушание и ревновать о Божьем храме, где тебя крестили, где за упокоение душ родителей твоих возносятся молитвы и об утолении собственных грехов твоих приносится бескровная жертва?
– Это вы насчет того, ваше благословение, чтобы идти мне за сбором?
– Поревнуй! Прошу я тебя за себя и за весь приход. Никому не соблюсти церковного даяния лучше тебя. Благоприятнее было бы именно избрать тебя и поручить нарочито святое дело это.
– Не привычное мне дело просить, ваше благословение, сумею ли?
– Время покажет.
– Куда пойду и где сбирать буду?
– Господь управит стопы твои.
– Без денег-то не двинешься с места, чем питаться буду в дороге-то?
– Святые апостолы как ходили? Колосья пшеничные срывали по пути и ели, а во всю землю изыде вещание их и в концы вселенные глаголы их. Господь тебя пропитает.
У батюшки на текстах язык был перебит, и хотя последние слова выговорил он едва уловимой и удобопонятной скороговоркой, слушатель его понял и глубоко вздохнул и на умелых словах человека, которому он привык вполне верить и в котором приучился глубоко уважать сан, умилился сердцем до прямого ответа на согласие.
– Послезавтра я, ваше благословение, хоть и в дорогу готов.
– Одобряю.
– Пойду по деревне, попрощаюсь со всеми: пусть простят, кому досадил, – большое дело-то.
– Намерение твое похваляю. Теперь надо испросить благословение владыки.
Священник продолжал дальше:
– Приуготовься одеждою, облекись и иди в путь твой твердо. Мирское даяние найдет тебя, Господь тебя взыщет. Я вот съезжу в консисторию, выправлю книжку, с ней никто не дерзнет обижать тебя во все время пути твоего.
Священник вынул из киота принесенный из церкви маленький образ того праздника, которому посвящен главный престол. Благословил он им своего гостя и надел образ на веревочке на шею; снабдил даже и готовым блюдечком. Осталось теперь действительно немногое, именно: попрощаться, что и сделал новоставленный путник, обойдя все избы в селе, прося у всех отпущения грехов и милости – не помнить зла и лиха. Вместе, на одной лошадке, отправились они со священником в губернский город в консисторию.
Во святые ворота, украшенные наверху большим образом, с подвешенным к нему на толстой веревке фонарем с толстой восковой свечкой, вошли путники в ограду старинного монастыря, где «архиерейские покои» ярко отделялись от братских келий светлыми окнами, парадным крыльцом, по лестнице которого разостлан был старательно выколоченный ковер. Священник потолковал с заспанным монахом, попавшимся навстречу, о том, как попасть к владыке: по тому ли идти крыльцу, где лежит ковер, и благоприятно ли время для принятия у него благословения и изложения просьбы? Вызван был архиерейский келейник, удовлетворен был с почтением дачей двух двугривенных, и путники введены были задним крыльцом в длинный коридор с большими окнами налево, с маленькими направо, в переднюю, а оттуда в обширный приемный зал. Полы были паркетные; на них положен был ковер еще лучше и наряднее; в углу стояла старинная изразцовая печь; по стенам висели портреты бывших архиереев: прежних – писанные масляными красками, ближайших по времени – фотографические. Чистота убранства остановила и священника, и его провожатого у самой притолоки при входе и пригвоздила их тут. Владыко долго не выходил. Старик-священник имел довольно времени успокоиться, прийти в себя, оправиться еще раз, поднявши повыше пояс подрясника и огладивши обеими руками волоса на голове и бороде. Победил он в себе робость до такой степени, что имел смелость, указывая товарищу на портрет одного архиерея, в сущности очень похожего на других (такая же борода, клобук, панагия, много орденов на груди, и в руках книга), заметить шепотом:
– Епископ Самуил. Рукополагал меня, недостойного. Редкий был владыко.
В воображении старика зароились воспоминания, и все разом: грубые пинки сильного протодьякона в шею и по плечам, когда нужно было кланяться архиерею, и в бока, когда нужно было идти в ту или другую сторону; и поддьяконы, которые потребовали угощения после посвящения… Поют «аксиос»… Припомнился и сам Самуил. Приехал он неожиданным (любил ездить по захолустьям, по бедным приходам, без всякой свиты, с одним протодьяконом). Опрометью бежал новоставленный священник на звон с поля в рубахе; подрясник схватил с гвоздя дома, а рясу-то, что получил от тестя в приданое, полинялую и оборванную по подолу, но парадную, потому что была суконная ряса-то…
– Господи, куда угодить придется?!
Поберегая как единственную и последнюю, он вешал рясу в алтаре. А архиерей-от прошел прямо в церковь: не пробежишь мимо.
Так в подряснике одном и предстал и в землю повалился.
– Не громи, не сокрушай, владыко святый, яви милость, прости столь великую мою вину и злое деяние мое ради малых детей и великой моей бедности!
– Встань, – говорит, – радуюся, видя тебя на добром деле, снискивающим хлеб свой… угости-ка!
Нашлась водочка. Выпил владыко две рюмочки и мне велел. Покушал, что нашлось молочного да хлебного: яичницу ему из 40 яиц сам сделал. Певчую орду ублаготворил из сельского кабака целым ведром водки. Велели они напечь им в дорогу яиц – напек; да полопали всю сметану, да поели почти все запасы, которые заготовлены были на целый год, – и за щеку клали, и с собой набрали. Уехали наконец, слава Богу!
А вот и Евгений с большой бородой – резолюции на прошениях стихами писал; к семинаристам на рекреациях приезжал с пряниками. В лапту с ними играл и ставил такие свечи (так высоко прямо бросал мяч палкой), что никто не мог его лучше шибнуть. Не прочь был и от городков: подберет полы, снимет рясу и, как теперь вижу, колотит палками по городкам.
Вот Виталий с толстым лицом: служить не любил, певческий хор запустил, никуда не выезжал, мало кого принимал, по епархии не ездил, умер от водяной.
Владимир – певчих любил и служить любил, в дьяконах поощрял хорошую выходку. Сам из себя был такой сановитый, красивый, волоса каштановые, рясы голубые бархатные. Служил долго и торжественно; протодьякон у него что хотел, то и делал: большой был человек при архиерее и алчный. Нашему брату тяжело при их объездах было, ездили все по бойким и богатым местам. Проповеди любил Владимир сказывать и исторгал ими слезы, а когда напечатал их – в чтении были слабы: произносить умел. Едет когда из монастыря в город, по всем церквам звон идет – любил торжество и благолепие. Отъезжал в другую епархию – многие плакали по нему, а духовенство отшествию его радовалось.
Павел: ничего про него припомнить нельзя; отъехал в Сибирь, а на другой день въехал новый владыко, вот этот – очень похож на портрет.
Вот и он вживе сам – отворил дверь и остановился в дверях, на пороге.
Как увидел священник его, «правящего право слово истины», так тут же, где стоял, пал в землю. Сделав еще шаг, опять поклонился в ноги, и в третий раз также скоро, не поднимаясь и не поправляясь. Волоса все упали на лицо.
Слышится грозный голос:
– Поди сюда!
Дал владыко благословение. Поцеловал старец руку. Рука – архиерейская, настоящая: мягкая, пухлая, розовой водой пахнет. Стали перебирать эти руки янтарные четки, которые тихо и приятно шелестели. Стал он, выслушав просьбу, говорить:
– Твоя вина. Твое опущение. Небрег о храме. Не умел внедрить в сердца прихожан чувства благотворительности. Плохой пастырь. Не могу одобрить.
Горечь приступила к сердцу священника. Хотел говорить – язык не послушался.
Строгий, резкий голос опять послышался ему, а четки в руках владыки все играли.
Панагию на груди архиерей поправил и опять говорил:
– По приходам яйца собирать. Печеный хлеб телегами вывозить. У купцов сахар выкланивать попадьям на варенье – все на себя. А о доме Господнем нет рачения: и ста запустение на месте святе. Кем это сказано?
Перебрал ответчик в старческой памяти подходящий ответ на вопрос, не нашел, повалился опять в ноги: пощадите немощную старость, изношенную память.
Понравилось.
– Встань! Говорил ли поучения? Возлюби Господь благолепие дому своего.
– Творил все по силе моей! – удалось-таки выговорить священнику.
– По епархии в объезд поеду – поверю. А теперь полагаюсь на твою священническую совесть.
Обратился владыка к прошаку и его подозвал:
– Намерение твое похваляю: благую часть избрал. Помоги немотствующим, нерадивым и небрегущим.
При последних словах даже кивнул головой в сторону священника.
Сказал маленькое поучение и благословил вновь обоих, промолвив в заключение:
– Теперь ступайте с миром!
Чрез несколько дней священник наведался к секретарю: разрешение вышло. Да еще что-то понадобилось: повременить-де еще надо. Но старик был зверь травленый: он привез с собою мешочек крупы, сотню яиц, горшок топленого коровьего масла, бурак со своим медом. По дороге он заходил в городской винный погреб, где купил бутылку рому ямайского.
Те из продуктов, которые были послаще и подороже, пошли на потребу и усладу секретаря консистории. Яйца и несколько медных пятаков ушли на ту голодную братию, которая, небритая и неумытая и хорошо непроспавшаяся, стоит голодной ордой в передней консисторской комнате и в той, где скрипят перья и нехорошо пахнет и за которой находилась комната секретаря и присутствие.
Секретарь велел приходить, назначил время, приказал приводить и прошака с собой. Оба отправились в консисторию, пристроенную в монастырской стене, но разбитыми загрязненными окнами смотревшую наружу, на большую дорогу, на которой начинался дальний путь нашего странника. По обтертой и исшлепанной кирпичной лестнице поднялись они наверх, в консисторию: священник в сотый раз на своем горемычном веку после получения когда-то своей ставленой грамоты, мужичок в первый раз в жизни.
Свежего деревенского человека на первых порах поразило в передней непонятное дело. Несколько немытых и небритых ребят суетились около чего-то, которое то показывало между ними свою голову и плечи, то скрывалось из глаз. Суетня кончилась восторгом ребят и появлением в руке одного из них синего платка и в нем пирога, из которого сыпалась гречневая каша. Ребята быстро, с волчьей жадностью, разорвали на части пирог; синий платок исчез в кармане одного из них. Нечто оказалось священником либо дьяконом, быстро бросившимся из передней на лестницу и на улицу без палки и шапки: консисторские поспешили отобрать все, что могли. Недаром про присутствия эти такая слава.
Невольно передернулись плечи зрителя при виде всего этого, и заботливо сложились черты на лице, как бы в чаянии подвергнуться тому же испытанию и при готовности перенести его, если только за одним этим стоит дело. Ребята, однако, по-видимому, удовлетворились. Разорвавши и сглотавши пирог, разбрелись они в разные стороны.
Секретарь новоприбывшего священника велел позвать к себе прямо. Вызвал он и его товарища, дал ему наставление с указанием на то, что вручаемая книга – большая святыня; посоветовал завернуть ее в чистый лоскут и спрятать за пазуху; свел его в присутствие, выпросил ему благословение у присутствовавших членов и отпустил вместе с батюшкой. В прихожей ринулся и на них один молодец прямо грудью, но предварительно спросил о том, зачем приходили и о чем просили. Получив ответ и увидев сборную книгу, махнул рукой и отмахнул ею же другого товарища, выглянувшего из-за дверей отекшим лицом с тупым, но сластолюбивым взглядом.
Батюшка сказывал потом, что секретарю он сверх деревенских запасов дал немножко денег, объяснив при этом, что без подмазки-де и колесо скрипит и плохо вертится, пожалуй, того и гляди загорится. На постоялом дворе, где они ничего не потребили, а извозчики сытно и много ели, товарищи распрощались. Священник не только крепко благословил своего спутника, но крепко и горячо поцеловал его и даже прослезился.
Книжка выдана была на год и на разные губернии, даже на обе столицы: недаром батюшка похвастался своим приношением и говорил о несмазанных колесах.
Неловко было на первых порах в новой роли: как в ней и ноги переставлять и куда идти? Словно бы хомут какой на шею надели. Но эти впечатления только на первых порах – по пословице: «Первую песенку, зардевшись, спеть». Он и спел ее, лишь только очутился на первом базаре, спел, подражая тем прошакам-сборщикам, которых где-то прежде видел и когда-то слышал. «Порадейте, православные», – спелось в первый раз так ладно, что самому стало любо; и пригнуска откуда взялась, и вышло совсем наподобие того, как коростель-птица во ржи кричит. А главное: выкрик останавливал кое-кого из прохожих и не звучал на базаре напрасно: давали деньги, давали яйца, чайку дали. Так говорил и советовал батюшка: съестное дадут тебе на потребу твою; памятуй то, что два вас ходят: один живой человек, которому есть хочется, другой, и все ты же, это – который на церковь Божию сбирает. Так и люди разумеют; иной, пожалуй, и сам про то скажет.
Встречи с людьми подобного же занятия, встречи, неизбежные при первом выходе в бойкие торговые места и в людные селения, несомненно, отметят дорогу, выучат распознавать колеи и рытвины и отыскивать прямые и нахоженные тропы. Зависти, тайных недоброжелательств, подвохов и подкопов между подобного рода конкурентами не бывает; монахини ходят даже по трое, по четверо вместе. Бывает лишь то, что монахи смотрят на простых сборщиков свысока и стараются не смешиваться с ними в толпе; а во всем прочем у всех одна участь, одни испытания и широкая торная дорога во все стороны. Иди вперед, иди, сколько понесут ноги; там впереди – добро. Но его пока еще не видно.
Глава IV
Темные свинцовые тучи нависли на небе, и сыпался из них тот неустанный настойчивый дождь, который бывает только осенью, когда дорожный человек, обиженный им до последней нитки и раздраженный до отчаяния, не рассчитывает уже на то, что вот тучи перемежатся, и если не солнышко, то ветер посушит намокшее платье, а думает о том, как бы добраться до первого жилья и не у солнышка, а у родной матери – горячей печки просить помощи и защиты. И всегда в таких случаях, на пущую беду, вздумается это гораздо раньше, чем предстоит к тому возможность, и затем минуты удлиняются в часы, и одна верста кажется несравненно больше целого десятка их.
Каково чувствуется и думается нашему путнику, идущему пешком в то время, когда и обогнавшая его тройка с почтой едва выдирала ноги из расплывшейся грязи, встряхивая по временам колокольчиком? Налипшая глинистая грязь на лаптишки набрала в попутном лесу осыпавшейся листвы и еще крепче обессилила ноги, когда пришлось им выбираться с полевой тропы на худой чрез овраг мост, также залитый грязью и пригодный лишь к тому, чтобы околотить и очистить о перила его отяжелевшие ноги. Да и с очищенными ногами не лучше – на свежей глине, которая лоснится по тропе, как зеркало, ноги скользят и разъезжаются врозь, а в спине и плечах жгучая боль усиливает прежнюю, уже раньше нахоженную истому. Вот и деревушка виднеется, низенькая и черная, словно приниженная к земле тяжестью вылившегося воздушного моря – рукой бы до деревни подать, а дойди-ка! Вот налилась такая лужа, что обходить надо. На обходе бешеный ручеек вырвался из нее и покатил во всю шаловливую мочь, кажется, без конца; перепрыгнуть его не берет сила: ноги давно как свинцом налиты, а на той стороне залысилась колдобинка – поймаешь на ней леща и ребер не сосчитаешь.
– Ох, донеси, Господи! Только бы как на задворье попасть – вон и бани, знать.
Собаки не лают, и бродячей коровы не видать: все в затуле. Один странный человек в беззащитной обиде от осенней распутицы и ненастья. По деревне грязь еще вдвое гуще и невылазнее.
– Пустите Христа ради погреться.
Назяблый голос дрожит из простуженного горла и сиплым звуком врывается в первую избу на околице.
– Войди, добрый человек, тепла нам про тебя не жаль. Обсушись, обогрейся.
– Видно, велика твоя неволя – накось! – есть ли на тебе сухая нитка?
– Ты, дедушка, не мочи тут, дождя нам в избу не надо, а клади все свое на печь.
Сильно натопленная печь пышет таким жаром, что и вдали от нее чуется стариковым костям та отрадная теплынь, о которой за час тому и мечтать не смел наш странник, а теперь для него в ней единственное спасение и угрева.
Старик потянулся, поохал, лаптишки распустил, и слов нет, кроме одного: «Спаси вас Бог».
– С поштой сельской, что ли?
– Нет, родимые люди, со своей, с нуждой.
– Велика нужда, надо быть!
– Своя нужда небольшая. Велика нужда церковная – так бы надо говорить вам.
– Сбираешь? Со сборной, значит, памятью?
– Не сбирал еще, только вышел.
– Наш приход ты хоть и не пытай! Вовсе в нужде живем, в такой нужде, как вот и ты же теперь весь в воде сидишь. Что господа из Питера сошлют, тем и церковь наша жива. Поп лошадьми торгует, дьякон с гряд капусту продает: и возами, и сотнями – как кому; пчел водит, медком поторговывает. Дьячки… чем они живы, и само-то веденье наше сказать не сможет. И детвы у них на ту беду. И, Господи! Сенька-пономарь стал уже бабам гадать на псалтири. Как-то ее на ножницах прилаживает, разопрет ножницы, повесит и качает ее, псалтирь-то. А вскроет да прочитает по псалтири-то, ладно у него выходит. И предсказывает. Бабы ему – которая яиц, которая брусники…
– Есть у нас неподалечку Спас-Угол, село. Спас-от батюшка у них на сосне проявился. Много народу приходит болящего. Целение подает. Прежде чудеса делал; по деревням икону носят, и в нашем селе гостит когда. В селе том попам хорошо. Попадья намеднясь проехала, словно барыня, и шляпку городскую на голову надела. Все вот Спасы-то прошли – хорошо бы тебе у них на паперти постоять! Поп Мартын – мужик покладистый, слова бы тебе не сказал, пустил бы постоять.
Между тем на столе появилась большая деревянная чашка, каравай, солонка, жбан с квасом. Никто не приказывал, сама хозяйка молча слезла с палатей, молча прошла за перегородку, отворила заслонку, нащупала ухватом горшок, вынула, налила, поставила, поклонилась и остановилась у косяка, подгорюнившись.
– Садись-ка, добрый человек, отведай. Не ждали гостя – не паслись, а что есть.
– Берешь ли точивом-то? У меня холста новины кусочек остался; прими Христа ради.
– Отопри-ка сундук, вынь пятак, что сдачи на базаре дали. Отдай, баба, с новиной твоей вместе.
– Яичек на дорожку-то захвати. Дай-кось сюда кису-то твою, я тебе хлебушка положу в нее.
– Молочка бы ему принесла. Не хочешь ли? Яишенку ему состряпайте.
Затрещало сухое полено – лучину щеплют, затрещала лучинка – сковородка нагревается, налили масла, завизжало оно отчаянным визгом – яйца вылили. Стала яичница-верещага, глазунья, исправница тож, мать – покровительница странников на всяком месте и во всякое время. Придумал ее народ, спознавший нужду переселений и странствований, и за великую ее и неоценимую службу в качестве спорого и дешевого кушанья никогда и никому предложить ее не скупится: не купленая снедь, курочка напиталась, ходя кое-где по задворьям, на Божьем продовольствии и нанесла этих яичек.
– Вот, батюшка-странничек, покушай горяченького да сказывай, что видел, что слышал. Больно мы странных захожих людей любим: живем в лесу, молимся пню.
– Сказывает про чудеса Божьи бывалый человек, в голове словно что зашевелится, на сердце слаще меду станет. Помоги тебе Господи с нашей легкой руки!
– Назад пойдешь, сделай Божескую милость, яви свою любовь: не обходи двора нашего.
– Мы тебе за то, чем прикажешь.
Обогрелся странник и повеселел, не столько от теплой избы, жаркой печи и вкусной яичницы, сколько от ласковых слов, от первого спопутного привета.
– И в самом деле затеял ты, должно быть, хорошее дело, когда тебя все ласкают, а бабы даже завидуют тебе. Первый встречный лаской встретил – земская в том помощь неопытному новику. Как вышел, так и «Бог на помощь»! Теперь и путь-дорога – словно укатанная и несмелые ноги – точно смазаны, ходчее пойдут на неизвестное дело.
Думал прямо на волчье стадо попасть, а вышел прямо-таки на свет Божий, народ православный. Почин был страшен, а вот он каким задался. Про худую дорогу и про ненастье думать привычному трудовому деревенскому человеку в голову не приходит. Лихих людей велит опасаться житейский опыт, а они перед тобою и двери настежь. Теперь с легким сердцем и в мокрых лаптях можно путь править.
Опять дорога. Опять несмолкаемый, докучный дождь, бедовые тропы, лихие беды. И от собак не отмахаешься, и волчьего воя послушаешь, и лихой человек надсмеется.
– Монашеское ты дело выдумал, на полях-то у тебя в деревне не сами ли пироги-то растут? Эдакие-то ходили – исправник изымал, всех в острог посадил.
– Да ведь то греки, сказывали, – заступится болезный человек.
На брань озорного человека ответа нет. Один ответ, как учил батюшка, как сказывают в церкви по Евангелию, – молчание с кротким терпением в сердце и без упреков на поносителя. Не учить вышел, а как бы сторонкой, бочком, успеха ради пройти мимо этих строгих учителей. Иной сердце срывает от своих напастей домашних; другой подсмеивается от веселого нрава на бездельях: «Всем на здоровье!» Велика хитрость на первых порах воздержаться, а потом само собой дело скажет, что смиренному и приниженному просителю крепче верят и больше дают. Сегодня перетерпел, завтра не отгрызался, день за день и угомонилось кипучее сердце. Отмалчивание в привычку вошло, а привычка все переносит – так и сказано.
Другим вздумается кстати при встрече с прошаком порассказать друг другу про худые дела сборщиков, про утайку денег, про плутни, какими они выдумали обходить шнуровую книгу, и т. п., дурному человеку можно и урок взять, кое-чему выучиться, – благочестивый прошак наш, хотя понял, что этот разговор затеян на его счет и намечен ему прямо в глаз, погнушался в сердце худым делом и еще крепче утвердился в необходимости в чистоте и правде довести до конца свой подвиг и с крепостью выдержать все испытания.
– Сами более яйцами собираем, да разумен староста – измыслил продавать их после литургии, в церковном притворе. «Нет тебе у нас места!» – говорил священник спопутного села, у которого прошак попросил позволения постоять у выходных дверей.
– Я бы, батюшка, только ту крупицу взял, которая от старостиных сборов осталася.
– И крупица та подлежит алтарю. Если принес деньги в церковь – обетные то деньги. Не положил – значит в мечтаниях суетных мысли погружены были, не заметил просящего и забыл положить. В другой раз принесет. Не предуготовано тебе места в храме нашем – не торжище. Что Господь сотворил с таковыми во Храме Иерусалимском?
– Ну, спаси тебя Бог! Прости великодушно, я так попытал. Шел мимо, звон к утрени слышу, попытаюсь, мол. Прости меня, грешного: рассердил я тебя глупым спросом перед обедней-то.
Отмолился прошак зауряд со всеми; ни блюдечка, ни книжки не вынимал из-за пазухи. После обедни, чтобы вконец очистить совесть, одним из первых подошел он под благословение сердитого священника и опять попросил не памятовать огорчения и отпустить его с миром.
С тем разошлись и расстались оба.
– Мир ти, старче. На благое дело я скорый помощник. Не оставайся празден во храме нашем, возьми от изволящего на нужду вашего храма. Ступай за нашим старостой, когда пойдет он за сбором. У нас тут за ним вдова-дьяконица Иоанна Предтечи на блюде для сбора носит. Ступай за ней и собери даяния, – говорил прошаку второй священник в другом месте. – Не мне устранять, – продолжал он, – чтобы ты во зло не употребил религиозный обет и пожертвования христиан. Совесть твоя пред лицом Всевидящего ока, да благословит тебя Оно.
Прошак приформился: туго середь груди опоясался запасным новеньким кушаком, надел кожаные личные сапоги, книжку сборную обернул лоскутком тафтички с нашитым мишурным крестом. Лысая голова его во время обедни, когда прошуркала приспущенная сверху лампадка перед пением «Причастна», беспрестанно кланялась, словно плавала среди голов, смазанных до лоску топленым маслом и наполнявших церковь до последнего нельзя. Новому человеку охотно подавали, не разбирая того: на колокол ли он просит, на неугасимую ли лампаду, на построение ли нового храма или починку старого; а может быть, где-нибудь проявились новые мощи – так на раку либо на покрывало.
Не обходил прошак на пути и монастырей, которые нет-нет да и выбелеют в лесу на богатом приволье, при всяких угодьях, в стороне от большого тракта, но на своем хорошо проторенном и всему краю известном. В монастырях настоятели на благословения не скупятся, памятуя, что нет из них ни одного, из которого бы не вышло на Святую Русь монаха с послушанием «сборной памяти».
Попадая на праздники, обставляемые всегда большими сходами и съездами народа, прошак становился в целом ряду других, ему подобных. Успевал он собирать и на больших, длинных и широких монастырских крытых и расписных переходах, и у часовен, выстроенных у св. колодцев или на местах, прославленных местным угодником: здесь «он лапотки плел и продавал прохожим и тиим удовлялся», тут «благословенную им просфору прохожий человек уронил, собака хотела есть, но огонь, исшедший из просфоры, опалил собаку»; в третьем месте угодник утомился до кровавого поту от сердечной молитвы – и явилась ему Матерь Божия с апостолами. После церковных служб толпы богомольцев обязательно посещают эти места: в колодцах пьют воду, в других купаются, умиляются духом и с умягченным сердцем щедры на милость, подают не только на подставленные блюдечки, но бросают деньги на дно самих источников. В непраздничные дни в монастырях известных и уважаемых всегда находятся молельщики, и всегда с подаянием. Нет лучше монастырей на эти доброхотные дачи, ввиду того что приезжает люд разночинный, преимущественно купечество, а не одна только заплатанная сермяга, сама живущая на медные деньги. К тому же монастыри сумели с древнейших времен обзавестись большими ярмарками, из которых, как известно, самые богатые не имеют иного происхождения, кроме подобного схода на молитву к св. месту, а потом, кстати, и для обмена залишков на недостающее и крепко нужное (все эти Коренные, Макарьевские, Нижегородские, Крестовские, Ильинские и т. п. ярмарки).
На ярмарке хорошо прошакам по рядам, по трактирам ходить; тут купец подает по воле и поневоле: либо от барыша, либо на барыш.
– Прими Христа ради! – говорит вслух.
«Может, копейка-то эта взыграет рублем!» – думает про себя и в начале ярмарки не решается отвечать прошакам сухим поклоном и не говорит: «Не прогневайся!»
Ярмарками сборщики подаяний на церкви заручаются всего вернее и щедрее; тут даже и науки никакой не надо и сноровки не требуется.
– Прими Христа ради!
По ярмаркам прошаки гудят как шмели, наладив напев в октаву и толкаясь в одно время в различных местах без разбору: и там, где пробуют лошадей среди плутов-барышников, вооруженных кнутами, – на конной; и там, где туземная мещанская голь приладила обжорный ряд и кормит ярмарочных гостей вареным горохом, вареным судаком, из жесткого полена превращенным в нечто податливое на зубы и съедобное, и поит можжевеловым квасом.
Не ходят прошаки лишь в те места, где засела нищая братия над своими тарелочками. Затем ничем уже не стесняются: и в красных рядах ходят, и в людных притонах кланяются и купцу бородатому, и барину усатому. На ярмарках самые просьбы их высказываются резче и грубее, самые поклоны короче, пение посмелее – точно они тут главные хозяева.
В самом деле, невозможно вообразить себе ни ярмарки, ни торга, ни даже базара, где бы не было этих лысых и смиренных стариков.
В летнее время, в жаркие дни, лысым головам прошаков большие испытания.
– Голова болит, как свинцом налитая.
Впрочем, в эти времена прошак около сел и лесных монастырей не держится, а старается выбрести в ближний большой город, из которого хотя и выбирается жертвователь вон, за город, но народу живет все еще так много, что подставлять лысую голову под солнечный припек небезвыгодно.
– Вот подвезу! – кричит лихой почтовой ямщик с обратной тройкой. – Привезу я тебя в такое-то место, где всего тебя золотом обсыплют.
Привез баловень-шутник на почтовую станцию, одиноко поставленную середь поля или на проталине в глухом лесу, нарочно для нее вырубленной, именно потому, что от предыдущей станции до нее двадцать с небольшим верст, а не тридцать.
– Присядь, дедушка, на телегу-то, – предлагает дальше по пути проезжий мужичок, сваливший кладь в указанном ему месте и едущий назад порожним. – Мне очень по душе, как экого человека довезти приводится, садись!
Присядет он и сам в ту же пустую телегу и с простодушием, с откровенностью и готовностью сумеет подсказать, где по соседству можно на сбор надеяться, где базар, где ярмарочка, где чудотворная икона, где новый колокол подымают, и народ соберется туда непременно во множестве, и на богатых тароватых купцов укажет охотно.
Прошакам в дорогах не теряться стать, на пути надежных сборов немудрено попадать, и на выбитых колеями и ямами торговых площадках они не споткнутся: здесь их сила еще не находила соперников и противников.
«Если человек из дальних трущобных стран вышел пешком, шел впроголодь и ко мне пришел, значит велика его нужда и я ему нужен, для меня он пришел. Надо разом два дела делать: и ему помогать, и спасать свою грешную душу. Дареные гроши на построение храмов Господних хоть и такие же коротенькие, как всякий базарный грош, да тем они хороши, что горячи очень и сильны; эти жертвы на церковь окупают и замаливают самые большие и тяжкие грехи, какие содеял и за которые и попова молитва, и твое собственное покаяние не всегда сильны и действительны. Чем больше и чаще даешь на церковь, тем больше и вернее смертных грехов откупаешь» – так думают верующие люди.
Богатые из них по таким делам совершают изумительные подвиги: строят не только обширные церкви, но и целые новые монастыри.
– Дашь одному, не откажешь другому: сколько за тебя молельщиков-то в разные стороны по православному миру разойдется?
– Чем тяжеле у купца лежит грех на совести за обиду мужичью, – замечает народ, – тем он звончее льет колокола, тем выше кладет колокольни и шире строит церкви. У таких и на подаяния скорые руки, и на такой конец выбран в году день, да и не один, а у хорошего до десятка. В такие дни всякий входи к нему смело и принимай милостыню.
Принимают и такие, что из ворот милостивца да прямо противу его дома – в кабак. Впрочем, не судите, да не судимы будете.
Плечо о плечо, тесной стенкой в строго вытянутую прямую линию, не толкаясь и не ссорясь, как нищая братия, но со смиренным видом, эти положительно смиреннейшие люди на всем лице земли русской стоят на всех главнейших пунктах народных сходок. Скрипучие голоса их резко выделяются монотонными звуками среди певучего речитатива о двух Лазарях слепой нищей братии и время от времени осиливают крикливый говор тысячеустого базара, который любил говорить с откровенностью громко и вслух и очень шумлив, потому что всегда спорит о крепко нужной и дорогой копейке, которую стараются выторговать у него владеющие тысячами рублей. Протискиваясь между телегами, ныряет своей непокрытой головой в волнистом, неустанно колеблющемся море базарных голов прошак наш, разыскивая ту сдачную копейку, которую на церковь Божию никому не жаль отдать, так как она пойдет молить Бога за укрепление сил трудового рабочего люда, большей частью тогда, когда эти силы изнемогли и следом за ними напал неизбежный страх бессилья. Осенью, когда загудят сельские базары после костоломных летних полевых работ, обязывающих русского человека сделать в пять месяцев то, что другие, счастливее обеспеченные природой, народы делают в двенадцать месяцев, – осенью прошаки счастливее. Это время считается ими наиболее удачным и урожайным. В это время на храмы Божии поступает помощь прямо из народа, непосредственно из его трудовых честных рук.
Итак, осенью на базарах, зимой по домам, летом и весною в больших городах и на столичных дворах: вот немудреная программа задачи всякого прошака.
- …И дают ему прохожие.
- Так из лепты трудовой
- Вырастают храмы Божии
- По лицу земли родной, —
скажем словами поэта.
Глава V
Походил прошак, повидал свету, с людьми ознакомился. Если бы идти снова, наверное, теперь он собрал бы больше, многих ошибок не делал бы. Впрочем, надо отдохнуть, посмотреть, что станут делать на собранные им деньги, за которыми сам архиерей к себе приглашал, благодарил, благословил иконой и книжкой своего сочинения. Есть чем и на селе похвастаться.
Впрочем, и без этого он несет к своим на себе и в себе много такого, вследствие чего теперь ему другая цена. Прежний человек вдруг преобразился, стал казаться на глазах соседей совсем другим. Не возобновлялись насмешки. Озорных стали останавливать те самые, которые прежде их натравливали. Домашние, привыкшие поглядовать искоса и исподлобья, теперь поворотились прямым и открытым лицом и сделались приметно ласковее.
– Ты теперь всю землю прошел, как нам с тобой и говорить-то?
– Сподобил его Бог великое дело сделать! – разъяснял недоразумение священник.
– Свят стал, блаженным мужем сделался! – поддакивал причт.
– Надо быть, он теперь не нам чета.
– Надо, видно, ему шапку снимать и низко кланяться. И умудрил его Господь на такие слова и чудесные рассказы, что по соседству у нас таких и не сыщешь! – толковали вслед за другими деревенские соседи, отпустившие ему грех бесполезного житья в качестве земледельца и тяглового человека.
На селе и по деревням ему почет пошел.
Почет увеличивался и уважение возрастало по мере того, как вычинивалась церковь, украшались ее внешность и внутренность. С окончанием работ торжество прошака самое полное. Искренно же и простодушно торжествовал он сам, внутренне. Ему самому почувствовалось собственное обновление и перемена внешних условий жизни прямо на лучшее.
Явилась солидность в движениях, сдержанность и рассчитанность в речах. Много переговорил и наговорил он, много видел от своих рассказов: и непритворные вздохи, скорые и легкие бабьи слезы. Этим он всем угодил и, заставив забыть прошлое, вынудил глядеть на себя совсем другими глазами. Когда все улеглось в обычную и обыденную колею и жизнь поволоклась медленными и тяжелыми шагами от воскресенья до воскресенья, наступило время поверки самого себя.
Что оказалось?
Скучно стало дома. Приволье и разнообразие чужих мест со всякими диковинками и разными неожиданностями снуют в воображении неустанно и надоедливо. Первая чарка вина выпита, и вина такого вкусного, что руки тянутся к нему опять и неудержимо. Снова бы сходил, снова бы пошатался! Ни к чему теперь, и в самом деле, не годен стал, кроме этого хорошо и доточно охоженного и понятого до подноготной дела.
– Но как и куда пойти?
Над этим не заставят задумываться те, которые видели результаты трудов и хлопот. Починки церквей всегда и везде найдутся. Слухом земля полнится. До прославленного человека немудрено дойти: хваленого все укажут.
– Не возьмешься ли?..
– С полным моим удовольствием, радостно и охотно.
Опять путь-дорога, и опять все сначала, как бесконечная сказка про белого быка.
Раз попавшийся на эту зарубку – не соскакивает и очень часто всю жизнь свою изнашивает на подобных странствиях, пока не подломятся ноги и хвороба или дряхлость не уложат на печь прислушиваться к чуткому звону церковного колокола, вылитого его усердием и бескорыстным и неустанным стяжанием.
Глава VI
Кроме православной Руси, существует еще, как известно, Русь староверская или, вернее сказать, старообрядская, широко распространенная и несравненно более многочисленная, чем обыкновенно привыкли о том думать. Не столько, в сущности, старая вера, сколько в действительности старый обряд в ней держится на двух главнейших основах: с беглым попом и без попа.
Поповщина с церковным обрядом и зависящими от него общественными обрядами и обычаями не слишком далеко отошла от православной обрядности, особенно в том ее виде, в каком является она в старинных и глухих лесных местностях.
Беспоповщина, принужденная урезать и сократить церковную обрядность в контраст прочим, дошла во многих случаях до полного сокращения ее и удержала за собою только те обычаи, которые глубоко вкоренились в быт и издавна составляли народную русскую особенность.
В то время, когда влияние прогрессивно развивавшегося духовенства и развитие самого народа, не стесненного строгими претензиями и ревнивыми правилами секты, изменяло обычаи, упрощало и сокращало обряды в средине православия, – старообрядство полагало все свое спасение в том, чтобы удержать завещанное предками и пережитое веками. Отсюда в жизни старообрядцев и их верованиях с верным и наибольшим успехом можно находить остатки языческих времен и языческого культа, бережно сохраненного уставщиками одной крови и плоти с народом. Беглый поп, являвшийся крадучись изредка гостем, на короткое время, вполпьяна, с главной целью – за совершение обрядов получить поскорее плату, не пользовавшийся никаким уважением и доверием и допускаемый с приметным оттенком презрения, не имел никакого влияния на религиозную, общественную и домашнюю обрядность и мог лишь вредно действовать на церковную. В беспоповщине и это вредное влияние устранено: церковная обрядность ослабела даже до Спасова согласия, характерно прозванного также нетовщиной, а семейная и общественная жизнь еще больше удержалась на основах старого доисторического народного быта.
Обе гонимые, но первая несколько успокоившаяся в единоверии, обе принужденные забегать в глухие леса и там скрываться. Сверх сплошных поселений в ближайшем соседстве, обе обрядные веры приобрели на свою голову отдаленные, разрозненные пункты. Они требовали общения и, мало того, даже простого заявления о своем существовании в виде небольших селений в десяток изб или в образе скитов – одиноких лесных жилищ, в большинстве случаев в таких неблагодарных северных местах, где наличные слабые человеческие силы изнывали в борьбе и ничего не могли сделать с гигантскими силами первобытной природы. Приходилось подавать о себе слухи к богатым милостивцам, успевшим при известной трезвости и бережливости (характерных особенностях старообрядцев) нажить в больших городах и около них крупные капиталы. Приходилось давать о себе знать из непролазных корельских болот с рек Выга и Лексы, с Топ-озера, из мезенских тундр, из скитов Онуфриевского, Керетского, Игнатьевского, Амбурского, с реки Мягриги, из чернораменных керженских лесов, из лесов уральских и т. д. Естественным образом на деревянные лесные избушки с рукописными церковными, старопечатными книгами, с иконами, источенными тараканами, для полуголодных скитников и скитниц надобился особый ходатай. Он-то и держал общение и крадучись пробирался к благодетелям под видом такого же прошака, сменившего лишь название у старообрядцев на запрощика и, конечно, без внешней формы и без атрибутов, не крикливый, но молчаливый, осторожный и искусившийся высматривать беду и выслеживать ее издали верхним чутьем и настороженным слухом.
Сбором людей этих исключительно держались все эти большие сотни старообрядских скитов, и вмешательством их поддерживалось твердое стояние староверства в своем деле и упорство его против всех поползновений к нарушению его целости и численности.
Волей и неволей запрощики одновременно совершали два дела: кроме роли сборщика, обязательно исполняли они должность проповедников, и, конечно, с бо́льшим успехом, чем удавалось это делать прошакам из православных. Порассказать им было что.
Из наиболее голодных и сильно ревнующих скитов выходил очень умелый и искусный запрощик. Выбирался не только грамотный и строго безупречной жизни, но и важный видом, сановитый. Большая широкая борода по чресла и длинный ус в таких случаях в глазах простодушных милостивцев много значили и для пущего успеха непременно требовались. Удовлетворяли эти телесные красоты без особенных затруднений. Успевали запрощиков подбирать и так, что складная речь, умелая находчивость, знание ими Писания, на медоточивых устах обилие священных текстов являлись неизбежными принадлежностями такого идеального ходатая и усиливали соблазнительную красоту его личности. Истовому крестному знамению, налагаемому им по «начале», следовало подражать; указаниям его на исправление служб надлежало бесспорно следовать; довести до ареста такого бесценного человека было бы большим несчастьем для всех, твердо держащихся древнеотеческих преданий. Непосвященным людям таких дорогих людей видеть было невозможно, а слышать удавалось только исправникам и судьям в коротких ответах на казенные вопросные пункты, и то в звании бродяг, отлучившихся от места жительства без указанного вида.
Тип такого рода прошаков неуловим, а потому и очень малоизвестен и в народе, и в литературе, а тем не менее следы его деятельности громадны по сравнению совершенно одинаких обрядов выгорецких скитов с уральскими, архангельских с керженскими и казачьих с сибирскими. Со времен знаменитого запрощика, инока Корнилия, ходившего по скитам и богатым городам за сбором еще во времена патриарха Никона, таких людей прошло в старообрядстве тысячи, и на этих тысячах крепилось и зиждилось все это громадное и многознаменательное явление русской народной жизни – раскол.
За это долгое время могли изменяться физиономии людей и самые люди, но едва ли изменились приемы и способы ведения дела. Как инок Корнилий, как Аввакум-протопоп и братья Денисовы могли в старинные времена рассказывать о жестокостях никониан и о стойкости мучеников, творившей чудеса, достойные удивления и благоговения, так и современные запрощики могли порассказать многое, не слишком отдалившееся от старины, без риторических рутинных приправ, а со всей голой истиной и при возможности указывать и опираться на живых и очевидных свидетелей.
Рассказы этого рода на успех сборов, конечно, имели самое существенное влияние.
Керженский, например, запрощик мог рассказать:
– Жил в лесах старец. Жил – укрывался. Видели его только те, которые приходили из дальних мест за благословением и наставлением. Жалел он их и допускал к себе. Дорога к келье известна была только немногим. Прознала полиция. Заподозрила в старце денежного монетчика. Собрали понятых, оцепили землянку. Сбежалось народу великое множество: с лесных промыслов, с гонок смолы и дегтю. Ждали отчаянного сопротивления: шли осторожно, оглядываясь. Впереди шел проводник, припал к землянке ухом и гнусливым голосом запел в трубу: «За молитв отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Сказал старец «аминь» – значит дома. Проводник спустился в землянку. Стал звать начальство: смирный-де старец, как голубок.
– Нет, лучше пусть сам старец выйдет.
Старец не пошел; велели вязать и тащить. Оказалось излишним: проводник вынул его, как перышко, и положил на камень. Дряхлый старик и сидеть не мог.
На допрос ответил охотно, что он – беглый дворовый человек, что спасается в келье 70 лет.
Были товарищи, да все перемерли. Другие разошлись; 30 лет живет совсем один, питается ягодами да грибами. Набожные люди приносят изредка мучки – колобки печет.
Пошли чиновники в землянку за вещественными доказательствами.
Вот и доказательства: стоит почернелая осиновая колода – гроб: это-де постель. У образов священные книги: это духовная пища и душевное утешение. Вот и телесная пища: в кадушке с полпуда муки; на деревянном крючке связка сушеных грибов. Еще на нарах кочадык, лыко да заплетенные лапти – вот и вся монетная фабрика.
Чиновники осматривали. Старец изловчился усесться на камне, перебирал лестовицу, читал молитву и старческим видом своим возбудил в зрителях почтение и благоговение.
На вопрос его: оставят ли его умереть под этими деревьями, вместе с ним состарившимися, – отвечали тем, что начали ломами щупать землю в стенах и на полу, велели вынести гроб, поставить его на обрушенный потолок и зажечь этот гроб и землянку.
Не скоро двинулись понятые исполнять приказание. В толпе любопытных послышался громкий ропот, и, когда вспыхнула землянка, полились слезы у свидетелей. Когда же пронесся между ними шепот: «Гроб-от занимается», старец вышел из забытья, очнулся, встал, оправился, твердыми шагами подошел к землянке и начал спускаться вниз, говоря: «В гробе сем испущу дух мой!»
Опаленного и дымящегося, его оттащили и посадили на камень.
Он пал на колени, шепотом читал молитвы и наконец припал к сырой земле.
Когда залили головешки и обратились к старцу, он оказался мертвым.
Никакая брань и угрозы чиновников не могли остановить бросившийся к трупу народ, набожно целовавший усопшего и отрывавший лоскутки одежды его себе на память как святыню.
Таких рассказов много могли разносить даже в недавние времена с реки Керженца и в особенности с злополучных рек Выга и Лексы эти живые свидетели и действующие еще рачители староотеческих преданий, осторожные и красноречивые запрощики. Да в этом, само собою разумеется, и заключается основная сила их дела и успеха. Для этих путешественников пути хотя и были длинны, но дороги узки и скользки. Хотя они не спотыкались на них, но попадали в сети, расставленные неискусной, но крепкой рукой.
Вместо добровольных путей для таких прошаков указывались потом пути подневольные, казенные, и притом совсем в другую сторону, где уже приводилось весь остаток жизни сбирать только на себя. На Сибири кончались их странствия. В глухих ссыльных местах умолкал их голос.
Часть II
Кубраки и лабори
У Голенкиной рощи
Проявилися мощи:
Дайте на покрывало!
Белорусское присловие
Глава I
Странствуя по невеселым захолустьям Могилевской губернии, ехал я из города Горки, замечательного только тем, что в нем некогда существовал земледельческий институт, превратившийся в очень скромную земледельческую школу, и в самом деле имеются две-три горки.
Не крупными впечатлениями наделил меня городок этот; без особых приятных воспоминаний остался он теперь назади, заслоненный густым лесом. С трудом пробивается узенькое полотно дороги посреди непролазных трущоб этого белорусского леса, веками выраставшего на сочной почве без всяких помех, и выходит в поле, закиданное камнями, под защитой которых ютится тщедушная рожь.
Затем опять лес и опять – не всегда – луг и поле, а вернее, болота, которыми, как известно, и в самом деле, несомненно, с сокрушительным избытком засыпана эта мокрая, лесистая страна Белоруссия.
Навстречу нам в одном месте вышло такое болото версты на четыре поперек, верст на десять в длину, с неприятным кислым запахом. Это не багна (топь), не багниво, или нажма (топкое место), не наспа (болотная росль, болотный лесок) или нимяреча (заваленное валежником мокрое место), а подлинное болото, как мы привыкли понимать его в России, с одной лишь разницей в произношении, болото не только с дрягвами – вечно дрожащими топкими местами, трясовинами и нетрами – совсем непроходимыми местами, – но и с тванями, иловатыми топями глубиной иногда до трех аршин, на которых уже ничего не растет и из которых продолжают сочиться подземные ключи. Там и аржи – места с накипевшей ржавчиной болотных руд и железной окиси, и мшары – места, поросшие мохом и кочками, и крутеи – водовороты, и иная болотная благодать и разновидность, на названия которых белорусское наречие настолько же по закону необходимости богато, насколько богаты, например, названия видоизменений приморских берегов на севере, лесистых местностей в средине России, разновидностей гор, долин и уступов на востоке России и в Сибири и т. п.
Местами спопутное нам болото успело просохнуть и превратиться в луговины, на которых поставлены стога с сеном и растет ситник (трава, похожая на мелкий тростник), охотно употребляемый белорусами на постели. На лугах маленькие ростом белорусы – мужики и малые ребята – убирают сено: мечут не в стога, а в копенки; большие ворочают, мальчики возят домой. Подпоясавши рубашку веревочкой и обвязав голову полотенцем, жнут рожь бабы, еще более маленькие ростом, чем мужчины.
Дорога наша кое-где идет гатью, но всего чаще по свеженабросанным ветлам. Вместо мостов встречаются лишь признаки таковых, и вопреки правилу русских почтовых дорог, словно торжествуя победу, дорога взбирается на мельничную плотину, выстроенную частным лицом про себя, вовсе не для подобных неожиданных целей. Маленькие мужички на маленьких лошадках и телегах могли проторить дорогу лишь очень узеньким полотном (сравнительно с общерусскими). Малое движение на нем с редкостным встречным обездолило дорогу еще тем, что проложило только одно узкое полотно, и делаются два лишь там, где надобятся объезды. Во многих местах битая дорога совсем заросла травой, и давно. В иных местах, среди самой дороги, выросли густые кусты – могучая сила природы одолела бессильного человека. В отчаянии он опустил руки, опустился сам и запустил все кругом себя, время от времени просыпаясь только для мелких и ничтожных починок и поправок, а не для энергической коренной перестройки, как бы следовало. Вот на том месте, где произошли растани, то есть встретились две дороги, по древнему русскому обычаю на таком крестце выстроилась часовенка с неизменным резным распятием.
На этот раз около него поставлены две резные из досок фигуры, имеющие изображать двух Марий; одну перегнуло ветром – и никто не поправит. Нарисованному распятию и признаков нет; дожди загноили и ветры зачернили все фигуры до такой степени, что лучше было бы, когда бы их совсем тут не было. Запущенность и уныние на каждом шагу навязчиво бросаются в глаза и наводят на сумрачные думы, для которых много простору. Белорусский ямщик не развлечет: он не поет песен и не разговаривает, он весь углублен в себя и, разбуженный настойчивыми вопросами, является плохим толкователем виденного.
– Отчего трудные работы делают у вас бабы, а легкие – мужики?
– Мужики к жнитву непривычны. За бабой у нас еще кросна, пряжа. Потому ей и цена такая малая.
– Да ведь она, стало быть, больше мужика работает?..
– Ну так ведь она и податей не платит.
Затем опять, помолчав очень долгое время, говорит белорус:
– Баба хороша тем, что, когда мужик придет в избу, изба теплая: баба вытопила.
Он замолчал надолго: тряхнуло нас так, что он чуть не соскочил с козел. Меня метало из стороны в сторону еще очень долго все по той же ломаной дороге, которая то брела по оврагу, то поднималась на гору и награждала тут и там толкотней по болотистым накатам и бестолково разбросанному фашиннику. Вот наконец и станционный домишко, до невозможности безобразный. При этом он так стоит под крутой горкой, что разбежавшихся лошадей трудно остановить у крыльца, а шальная дорога то и дело заворачивается, вертится, кубарем бежит под гору. Для того чтобы попасть на станционное крыльцо, надо проехать его мимо и опять вернуться назад на гору.