Читать онлайн Отрадное бесплатно
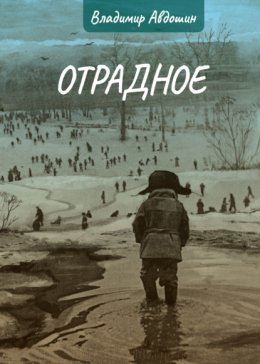
© В. Д. Авдошин, 2024
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024
Отрадное
Часть 1. Три улицы детства
Глава 1. Из Басры
Увидеть Индийский океан с его прямо-таки фиолетовым волнами и победить. С ленд-лизом американцев и англичан, конечно. Но все-таки победить и вернуться на родину и к своим личным планам. По железной дороге через Иран, быстро, войсками генерала Толбухина, поставленными сопровождать и охранять лендлизовские орудия и студебеккеры. Наша задача была – охранять их от иранских бандформирований. Вот странные! Их правительство подписало с нами мирный договор, а местные царьки игнорируют решения власти и нападают на наш конвой. Приходилось отстреливаться на полном ходу. Один, опытный, и зацепил меня.
Конечно, Сталину хотелось оставить за собой эту дорогу от Басры, что на Индийском океане, до нашего Каспия, но союзники стукнули кулаком по столу. Вам помогли? Убирайте.
Димка молод, у него свои планы: жилье, хорошая работа и реализация таланта. Да, голос у него – бас. Редкость. Все говорят – редкость, надо воплощать. Отлежал в Намангане в госпитале по ранению, да и мотнул в Москву их воплощать.
Всё ему досталось тяжело – доехать, устроиться, сообразить, что куда. А вот Лидка досталась даром. Он её в парке на танцах при госпитале нашел. Правда, её подружка к нему клинья подбивала, говорила, что модельером хочет быть, талант у нее, не хочет зарывать его. Так как она из Харькова, она хотела вернуться туда учиться. А Димка подумал – возьму-ка попроще, а то еще не поймем друг друга. А какая молодая девушка с образованием четыре месяца хлопкового лаборанта в Узбекистане откажется от предложения бравого солдата? Лидка и не отказалась.
Домой в Кубинку Димка ехал с пожилым евреем из Ташкента. Абрам Моисеевич (так его звали) был эвакуирован из какого-то науч но-исследовательского института и, хоть и с задержкой, возвращался туда после войны. Они познакомились и, обговорив все бытовые подробности дороги, приступили к обсуждению главного тогда во проса – кто, где был в войну и кто что получил.
Димка рассказал, что воевал и возвращается из госпиталя, а Абрам Моисеевич – что в эвакуации было терпимо. Разве в тылу можно жаловаться? В любом случае это не передовая. На том с войной и покончили. Конечно, его не надо было долго упрашивать, чтобы он рассказал о себе. Абрам Моисеевич относился к тем людям, которые беззаветно любят свою науку и могут рассказывать о ней кому угод но. И будет даже интересно и даже немного понятно.
Рассказывал он о Басре. Это такой город в Иране у слияния двух великих рек – Тигра и Евфрата. Рассказывал о его средневековой жизни, которую он изучал там на раскопках. Из его рассказов выходило, что это красивый и богатый мирный город, в котором жили поэты и музыканты, росли прекрасные сады, где поэты читали свои стихи на арабском и музыканты играли на музыкальных инструментах.
Димка то слушал, то отвлекался. Мы ж в этой Басре южный конвой военной технике союзников обеспечивали, нападавших на конвой местных басмачей разгоняли. Это была особая война. Они были вроде как неофициальным врагом. Или начальству было удобно так представлять в официальных сводках, чтобы обходиться малыми силами? В общем, положение было сложное. То мы их побьем, то они нас побьют, а конвой должен идти до Каспия. Там все должны погрузиться на корабли, пройти Каспием, подняться Волгой – вот Сталинград зачем Гитлеру был нужен, да мало кто об этом знает. Подняться Окой и Москвой-рекой к Западному фронту и выдать ему технику. Ну а с России чего взять? Только пушечное мясо и на том спасибо. Где бы мы были без союзнической техники?
– Абрам Моисеевич, ну а самый-самый лучший поэт – кто у них в арабской литературе? – опять включаясь в разговор, спросил Димка.
– Абу Нувас. Значит, вы – как бы не желая отпускать солдатика, своего собеседника – отвоевали на этой земле, а интеллектуальных цветов её не вкусили?
– А что он такое сказал?
– Ну, много чего.
– Это я понимаю. А главная, главная какая-нибудь мысль есть?
– Да.
– А какая?
– Что больше всего на свете он любит вино и женщин.
– Надо же! И для меня любовь и вино – самое главное, – восхитившись своему разумению, обрадовался Димка. Ну и еще, конечно, тому, что может на равных с научным сотрудником разговаривать.
– Иногда, – спокойно возразил Абрам Моисеевич, – как, важнее того, о чем говорится. – И прямо и жестко посмотрел на собеседника.
– Да как же это? – удивился Димка, не ожидая в таком простом вопросе дополнительных объемов.
– Ну вот, например, общеизвестно: Пикассо в юности рисовал женщин салона. До бесконечности. И вдруг стал рисовать африканских женщин. В Париже вознегодовали. Как это? Вместо наших салонных женщин? А вы как думаете?
– Я тоже думаю: нельзя парижанку сравнивать с африканкой.
– Вот видите, вы тоже не готовы к тому, чтобы воспринять открытие художника.
– Да в чем же открытие?
– А подумайте, молодой человек, подумайте! Сдаетесь? В известной теме любви он открыл вот что: что женщина другой расы – тоже женщина и тоже достойна любви. Или вот еще пример: художник Шагал впервые стал рисовать свою возлюбленную только на фоне своего еврейского местечка Витебск, в Белоруссии, где она родилась. И картина опять приехала в Париж. И опять, как с Пикассо, все не понимали открытия художника. А через годы понравилось. Ну вот ответьте с трех раз: в чем открытие?
– Нет уж вы лучше сами.
– А открытие в том, что любовь нерасторжима с национальностью. В ней присутствует очень много глубоких верований и привычек народа, которые, если хочешь любить свою возлюбленную, ты должен фоном нести с собой. Как на картинах Шагала, где яр кий букет цветов, как символ молодости и любви, всегда в самом центре. По краю – подслеповатая темнота этого Богом забытого местечка, еврейский маленький оркестрик, играющий на свадьбах и похоронах.
– И что? Это открытие?
– А разве нет?
– И что? Это много?
– А разве мало? Главное – старое сопоставлено с чем-то новым, никогда до этого с ним не сопоставлявшимся.
– И что же нужно, чтобы это понимать?
– Нужно только одно – учиться. Другого пути нет. И саморазвиваться.
– Согласен. А что всё-таки Абу Нувас про вино и женщин сказал?
Абрам Моисеевич скромно улыбнулся:
– Вы делаете успехи. – И начал цитировать. – Но имейте в виду, что это в переводе:
- Если б дали вместо хлеба мне весёлое вино,
- То до разговенья мною было б выпито оно.
- В нём – блаженство! Пейте ж, люди, пейте всюду и всегда,
- Если ж даже угрожает вам от Господа беда.
– И что ж, вы нигде не учились? – спросил Абрам Моисеич.
– Да, кроме пулеметных курсов в Термезе – нигде.
– Что не учились – жаль, ведь вы еще молодой человек.
– А уж теперь некогда. Жизнь надо догонять. Ведь война украла у нас четыре года. Их надо наверстать каждому в личной жизни, если он хочет чего-то добиться.
Услышав такие серьезные речи, Абрам Моисеевич не стал оспаривать идеи молодого человека. Он сказал: «Это да, это да» и опять погрузился в свое.
Запустить механизм мирного существования Димка хотел в Ташкенте, но ему не совсем это удалось. Теперь он ехал в Москву, чтобы попробовать начать жить в мире, а не воевать в войне. Но всё это были зыбкие и грустные мысли. Может быть, он и хотел о них с кем-то поговорить, ну уж явно не с седым стариком в очках. Таким, скорее, жаловаться нужно. А жаловаться он тоже не хотел.
Остальной народ, кроме научного работника, был мелкий и неразличимый – русские, узбеки, казахи, случайные и регулярно ездившие по этому неблизкому маршруту. С небольшой своей правдой внутри, которую никакими клещами из них не вытащишь. А Димку распирало, он не мог усидеть на месте. Это ничего, что не удалось в Ташкенте. Надо повидать родню, посоветоваться с братом и начинать в Москве. Ну и куда от любви денешься, если уж вина нет? Лежа ночью на второй полке, вспоминал он Лидку, которую полюбил с первого взгляда там, в Намангане, где лечился в госпитале. В городском парке, на танцах, у большой клумбы стояла она с подружкой Риткой, эвакуированной из Харькова. Вот могла бы быть хорошая интрижка. Интересно, в Басре есть такие цветы? Сильные, крупные, с прямым стеблем и огненно-красным, как его рубаха, цветком. Он даже не помнил, где он взял эту рубаху, чтоб не идти в гимнастерке. Надо у Абрама Моисеевича спросить – есть ли в Басре такие ярко-красные цветы?
Глава 2. Кубинка и Фифа
Я с Южного фронта! Я в Москве! Мать честная! Ауфвидерзеен, Тегеран, Басра и Ташкент! Теперь рулить на Кубинку. Писали мне в госпиталь, что немец ее не взял. Подойти – подошел, а взять – руки коротки.
Теперь обнять мать, переговорить с братом (он с западного фронта вернулся) и помянуть отца. Жаль, что не дожил. Увидел бы своего младшего бравым солдатом, подивился бы его выправке. Всё остальное – потом. Сейчас – сесть за стол солдатом Победы, выпить за нее. Остальное потом. Сначала выпить и поговорить по душам.
Однако дома Димку ждала неожиданность. За столом сидела Фифа. Она просто ошеломила его своей красотой. Нет, он, конечно, вывернулся и позвал брата покурить и поговорить на завалинке о работе, чтоб сбить впечатление от неё. Когда они вернулись, покурив (старший-то не курил из-за сердца), младший опять сел так, чтобы лучше видеть Фифу. Да, это была просто заморская штучка, теперь он разглядел. Светловолосая, с милым русским лицом, стильная, тоненькая, с хорошими манерами. Безупречно одета во всё иностранное, трофейное, должно быть, немецкое. И главное – прическа сороковых, так шедшая ей, лучшая в XX веке, будто корона на голове. Лицо очень белое, черные брови очень тонкие, губы очень яркие. И всё это оправлено дорогой, возможно, даже иностранной косметикой. Лицо небесной красоты в глазах солдата.
Правда, глаза слишком призывные, чтоб можно было сказать, что она счастлива. Скорее натура ищущая и многое претерпевшая в этой жизни. И где он только взял ее, старший брат?
Видно было, что ей не место в слободском домике от обувной фабрики, который получил в тридцатых годах парторг фабрики, его отец, где выросли оба брата на руках матери-вдовы, тянувшей их двоих на одну зарплату. Место её там, в Москве, блистать в салонах. Очень амбициозная, со старшим братом разговаривает покровительственно.
Димка сразу захотел произвести впечатление на нее, для чего начал с братом мужской спор, специально заготовленный для первого политического разговора за столом: какой из фронтов – западный или южный – важнее? Не по масштабу военных действий, кто тут спорит, а для будущего? По масштабам вовлечения народов в эту бойню? Иран и Америка – масштабы планетарные.
Рассказав, как они в Иране воевали, как гонялись за бандами и охраняли союзнический конвой, он быстро перешел на свои и своего взвода геройства. Какие были случаи, да как его ранило. Надеялся, что они так же, как и он, раскроются и расскажут о себе – как старший воевал на западном фронте, как встретил Фифу. Димка всё взглядывал на нее, и получилось не слишком убедительно про тегеранское депо советских паровозов, про то, что до 1946 года их не выводили оттуда и что тегеранская встреча – в политическом смысле – самая важная.
Брат недоуменно и высокомерно посмотрел на него. Чего, мол, такое Димка буробит? Всё решалось и будет решаться в Европе, где был он и где все разведки сложили оружие и перешли на нелегальное положение – в Чехии. И ему предлагали после войны остаться агентом там. Да он, как дурак, не остался. Как же! На родину надо! А что тут ни жрать, ни работы – ничего нет, он об этом не думал. А сейчас жалеет, да вернуться уже нельзя. И что говорить? Да и не положено.
Но то ли Димка до смешного перевозбудился, то ли водка подействовала на него как-то не так, то ли вообще его посыл своей откровенностью вынудить их разговориться, был неверен, только они выслушали его молча и как-то странно переглядываясь.
Словом, тему он не вытянул. Из-за пикировки с братом смутился и на их молчание сказал:
– А я вот демобилизовался и познакомлюсь с кем-нибудь.
Это было провально, но еще как-то логично для беседы. А дальше он ляпнул что-то уж совсем несуразное и обидчивое: «У меня с женщинами не только знакомства были, у меня от одной и ребенок есть».
Как будто и не было четырех лет войны. Старший брат опять оказался сильнее, а он опять младшим и играющим от старшего. И в детстве, и в подростках, когда он проваливал с братом спор «кто-кого», так и сейчас он решил достать Фифу уже совершенно невозможным – другими похождениями, чтобы не думала, что он какой-нибудь мальчик, что и у него есть победы на любовном фронте и даже были серьезные отношения. И даже такие, что дальше некуда: у одной даже ребенок от него есть.
Но тут, путая все его построения, из-за печки вылетела мать и коршуном накинулась на него.
– Какой еще ребенок?
– Ну, мой ребенок, – потупился он.
– Так вот вернись и забери его. Нечего по миру свои семечки разбрасывать.
– Ну куда же я поеду? Я только что приехал.
– Пиши – пусть она привозит. Ребенок должен быть в дому.
И мать опять ушла за печку, где готовила и не мешала мужскому разговору двух выросших сыновей, а переживала свои материнские радости – «Вон Мотя Выпхина – двоих послала на войну – двое и вернулись. Живы-здоровы. Повезло ей».
Утром Мотя опять пристала:
– Ну что, написал?
– Да напишу!
И он написал: «Выезжай с ребенком. Дима».
Лидка читала это письмо и ей виделось: «Люблю, люблю, люблю». Побежала, схватила ребенка, схватила белье с веревки и начала засовывать в какую-то сумку. Бельё не влезало. Отец ей:
– Ты куда?
– А я в люди. Ты же говорил – чем быстрее в люди уйдешь, тем быстрее настоящим человеком станешь.
– Да как же это? Может, я такое и говорил, а теперь жалею.
– Не надо жалеть. Мне некогда. Зайди на хлопковую станцию, скажи, чтоб они мне переслали трудовую книжку. А если не пришлют, то и Бог с ней.
Схватила ребенка – и на поезд.
Мать много раз мне рассказывала, как она приехала в Кубинку. Но до сих пор я не пойму, как у нее в руках всё уместилось? В одной – деревянный чемодан с маленьким накладным замочком. В другой – матрас. В поездах матрасы не выдавали – только личные. А еще я и сетка с виноградом.
Выйдя из-за печки и увидев нагруженную Лидку, Мотя сказала:
– Фу, какую нечесаную взял.
А Фифа на следующий вечер шепнула:
– А он тут с одной женщиной познакомился.
Но Лидка этого как бы не услышала и ничего никому не сказала. В ней звучало его письмо – «Люблю. Люблю. Люблю». С него она хотела начать свою жизнь.
Вот Димка, зараза! – досадовал старший брат. – И всегда-то он растеребит душу. Нет, я, конечно, выдержу. Что можно сказать, когда тебя вербовали в агенты и ты сглупил? Оказался вновь на родине, голодный, разут-раздет. Только одна армия одета с иголочки. А в Германии, невзирая на прошедшую войну, люди сразу взялись за хозяйство. В 1947–1948 годах уже прилично всё наладили. Чего бы мне там не остаться? И куда пойдешь? И какое твое образование? Никакого. Всё война съела. Надо было думать там, в Чехии, а ты думаешь здесь – это нелепо! Ну вот, не хотел непыльной работы агента. Тыр-тыр-тыр – иди в монтеры в гарнизон. Там хоть какие-то деньги платят. Не в колхоз же! Вот теперь лазай по столбам!
После войны вышел Сталинский указ – всем командирам вернуться в семьи. Генерал получил копию сталинского письма, где говорилось: после официального окончания войны весь комсостав возвращается в свои семьи, иначе будут разжалованы. Поэтому задачи начальства были – довести до всего комсостава – вы едете домой. А этих женщин, кто обслуживал это, – по возможности пристроить. И он вызвал Выпхина.
– Можно, Георгий Ильич?
– Да, да, входите, Выпхин. Что вы думаете про свою жизнь дальше, Выпхин? Я вот почему вас вызвал. Знаете, вы всё время что-то молчите. А ведь начальник гарнизона – ваш родной отец, он заботится о вас.
Выпхин сел на присутственное место в кабинете. Генерал посмотрел на него из-под лампы своего письменного стола.
– Я должен знать ваши мечты, направление ума. Как вы считаете – я правильно говорю или нет? Словом, мне кажется, вы – человек перспективный, ответственный. Можете сделать карьеру и – даже, даже! – быть совестливым партнером для хорошей женщины. Вы не думали о женитьбе? А я вас тут женить собрался. И женщина такая хорошая, достойная. Как раз вам под стать будет. Я ведь как понимаю – ваша трудность на данный момент в том, что вы хотите учиться и сделать карьеру, но боитесь, особенно первое время, делать самостоятельные шаги. Хозяйственный институт по дойдет вам? А эта женщина поможет вам учиться. У нее три курса плехановского. Ей это как семечки. Вам бы за нее уцепиться. А я бы вам помог. Только не спрашивайте, кто она и какая ее биография. Это к делу не относится. Встретитесь, посмотрите друг на друга, потом мне скажете. Уверяю вас: это ваш шанс выбиться в люди. А потому подумайте хорошенько и не спешите с ответом. Я вам плохое не посоветую. Это статусная женщина и вы должны это знать.
Да, Фифа досталась по случаю, от генерала. Теперь надо делать быстро карьеру. Задумки есть. В Кремле есть друг отца, который его помнит. И если к нему обратиться, всё может получиться. И он обратился и получил. Теперь надо за пять лет выучиться. И в этом ему помогла Фифа, которая кончала такой же институт во Львове.
Пожив в Кубинке, они переехали в министерские дачи на Клязьме. Алексей не мог допустить, чтобы свекровь драла Фифу за косы. Он же работает и учится.
Глава 3. Спортивная
Ход мысли Димки был такой: работа на войне – стой, не пускай, отстреливайся. А мирная жизнь должна быть с такой работой, которая давала бы пищу телу и душе. Телу надо так работать, чтобы хватило на съемную комнату с отдельным от хозяев входом. Но главное, конечно, не сразу, но в обозримом будущем, лет через пять-семь – получить свою.
Город ничего не строил или строил очень мало. Строили только министерства. Поэтому работа должна быть от сильного министерства и желательно в головном предприятии. В нем строят больше и места хорошие для домов выделяют.
Вот он и пошел в типографию одной из крупнейших газет государства печатником, а потом бригадиром смены.
Мать потом говорила – работа тяжелая. Спецовка – приедет – вся в масле, недостираешься. Уставал, встать иногда не мог, не добудишься, а если проспит – одна дорожка – беги в поликлинику и уж как ты можешь – краснобайничай или за шоколадку – проси бюллетень. С опозданиями и прогулами было строго. Могли и шесть месяцев тюрьмы дать.
Ход его мысли шел дальше. Если работу за квартиру нашел – надо грамотно себя расположить. В городе снимать дорого. Значит – надо отъехать. Типография, как и все крупные производства в городе, находилась рядом с железной дорогой. И это была железная дорога, на которой жил его род. Таким образом, он мог проститься с корытцевым детством под Можайском, но не до конца, а слыша объявления, что поезд идет до Можайска. Оставить подростковую Кубинку, а в расписании на станции видеть это название. То есть выехать за город по своей дороге, пропустив «три ласточки» – три дачных станции, на которых почему-то никогда не останавливаются поезда.
Первый городишко – Подгородний. И электрички пока ходили только до него. Далее только паровики дальнего следования. Вот тут и расположиться. Рынок предложений был достаточно большой и устойчивый.
Сначала сняли комнату за прудами на Верхней Пролетарской, за деревянной двухэтажной школой, крашеной коричневой краской, вся в зелени. За ней – деревянный дом с деревянными часами, комната с отдельным входом со двора. Большая комната с двуспальной кроватью.
Вроде устроились – отец, мать и ребенок. Но тут приехала свекра – Мотя. Её положили на кровать, а сами в одночасье оказались на полу. И когда муж ночью приставал с известным делом к жене, она говорила:
– Не спит свекра. Чего ты делаешь?
– Да спит, спит, я слышу, она храпит.
– Ну нет, Дим, ищи другую съемную, мы должны отдельно жить, – тихо ему ночью.
И громко днем: «Надо думать!»
Вот он и пошел искать квартиру на другую сторону Подгороднего, где построили стадион и улицы Спортивные. Ходил и спрашивал – комнату не сдаете с ребенком? – Нет. – Не сдаете? – Нет. Подождите, а сколько вашему? – Полтора. – А тогда сдадим, у нас как раз Игорек – ровесник вашему. Друзьями будут, гулять вместе будут. Повезло, в общем, ребенок притянул.
А Мотя не стала без них снимать. Тоже сбежала. Ей одной дорого. Сняла на Коммунистической койку, чтоб поближе к Димочке быть и жаловаться на свою жизнь. С ребенком не сидела ни дня. Всё время работала на «Дукате».
Мать взялась за хозяйство и стала гулять с детьми через день. Один день она, на следующий день гуляла с двумя детьми бабушка Игорька. Маленькое, но всё-таки подспорье.
Года три прошло.
Мать, когда собиралась в ташкентский текстильный техникум, училась раскрашивать платки. Как надомница она и в Подгороднем начала с платков, как с известного для себя. Потом отказалась из-за того, что в одной комнате краски и ребенок.
Взялась погоны и петлицы клеить. На картонку наклеивают материал, а потом на противне сушат. Но у нее было много брака, непонятно, почему. Спросила – почему, а говорят – у вас простая печка, сушит, как Бог на душу положит. Вы ничего не заработаете так.
Тогда она согласилась пойти на курсы кройки и шитья.
Это была моя первая книга – «Кройка и шитье женской одежды», которую я листал с удовольствием. И мать ходила на курсы с удовольствием. Разрисовывала юбки, каждую проклеивала папиросной бумагой.
Но когда она начала реально шить юбки, то столкнулась с тем, что нужно подобрать тон, нужно уговаривать заказчика, делать вид, что ты очень дешево шьешь, а в другом месте будет дороже, уметь льстить. Но ее доконало, что отец запросто сказал – «Матери сшей юбку, ты же курсы прошла».
– Старшая сноха с опытом, пусть и сошьет.
– Она с ней рассорилась, они друг друга недолюбливают.
Да, Мотя за волосы Фифу таскала, приговаривая: «Я тебе покажу, кто такая свекровь, ты у меня попляшешь». Мотя была патриархального воспитания и если уж дожила до свекровиного возраста, то считала, что может бить провинившихся и таскать за волосы почем зря.
Ну, мать-то ей не далась, уговаривать и льстить не стала, раз у нее была такая швея, а она не столковалась с ней. Передала она меня в муниципальный садик на недельное содержание, а сама пошла на такую же сменную работу, как и отец, только на железной дороге. Плакала, конечно, что отдает меня на неделю. Но что делать?
А тут перед седьмым ноября их и порадовали, что не далее, как первого мая, будет закончено строительство дома и всем дадут квартиры согласно количеству членов семьи.
Отец рассчитывал, что он возьмет себе Мотю, в том числе и для дополнительных метров, и прямо сказал жене:
– Давай без резинок поживем. Как раз будет беременность к первому мая. Набежит четыре человека – двухкомнатная квартира обеспечена.
Конечно, трезвый бы человек сплюнул через плечо, говоря это, а он уже давно занимал свой оптимизм у водки, и бахвальство стало у него одним из качеств характера.
Глава 4. Поездка в Клязьму
Ох, и любил же папенька мой романтические планы! Особенно те, которые им придуманы в электричке, везущей его в гости. Особенно любил их тут же в гостях обнародовать. Натура у него была такая артистическая. Никак он без этого не мог. А так как других гостей, кроме старшего брата, не было, именно брату все они и доставались.
Так и в тот раз. Не успев еще раздеться и сесть к столу, и, как водится, по одной выпить за седьмое ноября, он уже воскликнул:
– Леш, возьми к себе мать. Ей плохо одной, она плачет. Вот у тебя тут две комнаты. А весной, когда я получу квартиру, я её к себе возьму.
Старший брат терпеть не мог его романтических завихрений. Он был практик до мозга костей. А потому он парировал:
– Тебе надо – ты и возьми. А мне не надо.
Правда, не без некоторой издевочки. Мол, ты хорошо подумал, что предлагаешь, или как всегда? Все родственники мира, объединяйтесь во имя моей большой идеи? Я ими сыт по горло! Сколько тебя знаю – ты всё одно и то же талдычишь. Мол, есть идея – всех расселить. Нет такой идеи! Всё уже перепробовано.
Справедливости ради нужно сказать, что дядька пробовал пожить с Мотей. Но у него ничего не вышло. Только он за порог, на работу – свекра хвать молодую невестку за волосы и таскает: «Я тебе покажу, как свекру не слушать!» И это Фифу! О ней дядька мечтал, работая монтером в гарнизоне. Многие офицеры завидовали ему. Поэтому, как ни жаль ему было дедовой квартиры, пришлось оставить ее и съехать. Да так, что и адреса никто не знал. В надежде, что Клязьма, где находились дачи министерства сельского хозяйства, от Кубинки далеко, и никто туда не поедет.
Но надо было знать отца, до какой степени тот был привержен своим проектам. Он не мог пропустить ни одного праздника, чтобы не приехать и не осчастливить свою родню очередным шедевром.
К сожалению, кто-то из них – дядька или тетка – проговорился: «А… едем в Клязьму». И этого оказалось достаточно, чтобы 7 ноября утром папенька встал, оделся, собрал меня, зашел на вокзал с шикарным буфетом пропустить кружечку пива и поехал в эту самую Клязьму.
Мы сели с ним в поезд и сразу почувствовали: да, это праздник – 7 ноября. Все едут праздничные, бодрые, к своей родне на застолье. Еще не поют, но уже кое-кто, как отец, и кружку пива выпил. Потом было фантастическое московское метро со сказочно украшенными остановками от Белорусской до Комсомольской. Там еще коридор, в котором чудится дневной свет, а откуда он – не видно.
Потом к нам присоединились бабушка Мотя с Коммунистической (она снимала там койку) и мать с ночной смены. Все сели на вторую электричку и минут сорок пять ехали в другую сторону от Москвы. На остановке «Клязьма» все начали думать, где же взять адрес дядьки. Всех это поставило в тупик, кроме отца. Он сказал: «Пойдем в милицию, у них все адресные данные жителей этого го рода».
Довольные, мы пошли в жарко натопленную милицию, а там нам выписали квитанцию, взяли деньги и сказали, куда идти. Мы туда и пошли.
Большой двухэтажный деревянный особняк в соснах. А у нас в Одинцове – всё ёлки да ёлки. Мы зашли на второй этаж. Нас уже ждали или кого-то ещё? Нам адреса никто не давал, а другие гости не приходили, значит, они подкоркой чувствовали, что мы приедем? Никто не удивился. Тетка Аня – большая мастерица сервировки стола: только водочка и только из графина. Только салатики, но обязательно нескольких сортов. Безупречно одетая тетка с фантастически ухоженным лицом: и пудра, и губная помада – всё-всё лежало так, как надо. Это казалось невероятно красиво, не говоря уже о замысловатости прически. Мать никогда ни тем, ни другим не пользовалась.
Дядька – крупный, высокий, начальнического руководящего типа – прошел к столу и сам сел. Мать с отцом и бабку по правую руку от себя посадил. С другой стороны подошла тетка, села.
– Ах, да, пирожки-то, – беря три-четыре пирожка и подойдя ко мне, тихо сказала она:
– Пойдем, я тебя с девочками познакомлю, ты с ними на площадке поиграешь, ладно? А это с собой возьми, там съешь.
И мы пошли с ней к соседям. А там две девочки в немыслимой голубизны платьях. Они согласились взять меня играть на горку.
Не знаю, пирожки ли мне понравились или младшая девочка или и то, и другое, но только я играл восторженно и самозабвенно. Шутка ли! Четыре пирожка – и никто не попросил откусить! Играют без драк и обид, а не так, как у нас, на Мурмане. Я же не знал, что они дочери большого начальника НКВД.
Мы играли «в знамя»: один должен забраться на горку со знаменем, а другие его не пускают. Вырвавший знамя будет знаменосец. Большой чин.
А тут бежит растерянная мать: «Пошли скорее, мы уезжаем!» Я не посмел ослушаться, понимая, что там, у взрослых, что-то произошло. Ведь мы ехали с ночевкой.
Когда мы вошли в предбанник между несколькими квартирами, потасовка между отцом и дядькой уже закончилась. Дядька в два раза его крупнее, пару раз ответил отцу на удар в ухо, и они вместе свалились в проем между столом и стеной, окончательно сдернув все праздничные яства со стола. Отец, конечно, бросил мелодраматическую фразу: «Ах, ты так!» на попытки дядьки сдержать его, а растаскивали их уже женщины. Мотя всё кричала: «Не трогайте Лешу! У него сердце!»
Отец стоял в предбаннике в помятой шляпе, лицом к стене, несколько покачиваясь, с большим изумлением в глазах. Он хотел только сообщить роду радостную весть, которую ему сказали вчера в типографии. Сказало начальство в качестве праздничного презента, что к 1 мая на улице «Правды» для очередников будет сдаваться дом, и он входит в этот список. Он хотел этим сообщить роду, что выход есть. Через полгода он заберёт мать к себе в новый дом. И не естественно ли роду поднатужиться и поселить её у себя в эти полгода? Чтобы она не плакала и не жаловалась, а потом уже никаких проблем не будет. Он её берет. А вышла драка, потасовка. Он не понимает, почему ему не доверились, не сделали, как он думает.
Тетка Аня зло и яростно выбрасывала в открытую дверь пальто.
– Вот вам ваши манатки! И проваливайте отсюда! Уехали мы, ничего не сказали. Нет, они приперлись и устроили скандал! Больше чтоб вашей ноги тут не было!
Мать одела сначала меня, выдернув из кучи пальто, потом, тоже выдернув из кучи, кое-как напялила на отца пальто и шляпу, и мы, как каторжники или прокаженные, пошли по тропинке в противоположную сторону от станции, в надежде не нарваться на милицию.
А там откос, а спросить некого, а по откосу отец уже не мог идти, покатился вниз, а мать в ужасе кричала, потому что думала, что так он докатится до рельсов и его задавит поезд.
А я узнал, что поезд не задавит, потому что рядом с рельсами, чтобы их не захлестнула дождевая вода, проходит специально вырытая канава. Но это я узнал только через семнадцать лет, когда пошел работать на железную дорогу, а сейчас мы с матерью не знали это, и она истошно кричала: «Вернись, а то попадешь под поезд!»
Ну, кое-как, кое-как на четвереньках он все-таки выбрался, неприятно для своего лица лыбился, говорил: «А? Что? Испугались, что папка под поезд попадет? Нет, папка еще выберется».
Так мы его подняли, взяли под мышки и пошли, как могли, трюх-трюх, трюх-трюх. Минут сорок с косогора спускались к следующей железнодорожной станции. Тут нам подфартило: поезд подошел, втащили его в вагон, и он отключился. Теперь через сорок пять минут будить его в Москве. Просыпаться он не хотел, а когда все-таки пошли – в метро нас не пускала билетерша. Мать говорит:
– Ну, пустите!
– Нет, не пущу, он пьяный.
– Ну, пустите, у нас через двадцать минут последняя электричка отходит от Белорусского вокзала, нам негде будет ночевать!
– А я за вас, если он упадет с платформы на рельсы, в тюрьму не пойду. Меня ругать будут за то, что я вас пустила.
– Ну, девушка, ну, пожалуйста, пустите, нам правда, негде ночевать в Москве. Я его за руку держать буду, он не упадет!
Ну, пустила. Все станции, как куль с овсом, отец проехал молча, отключенно, а на Белорусской сел в поезд: «Давай с тобой споем, сосед, что-то скучно в вагоне!»
А мать мне говорила, что он работает типографщиком за квартиру, на второй работе телемастером за проживные деньги, а третья его работа – участвовать в хоре Дома культуры типографии.
Он не слабо начал:
- «Постой, выпьем, ей Богу, ещё,
- но кто так бессовестно врет,
- что мы, брат, пьяны?
- Постой, постой,
- а Бетси нам снова нальет!»
Отец не делал различия между репертуаром хора и домашними песнями и в любой компании пел репертуар хора. Это была обработка Бетховеном народной шотландской песни.
Мать просит: – Брось! А он не унимается. А приехали, вышли на платформу – все стали плясать молдовеняску. В два часа ночи. Её к нам война принесла, синкопированную. Участники войны из Западной Европы принесли её, и здесь она пошла после русской «Барыни» как новый музыкальный шаг.
Чудом с помощью матери отец доехал до дома. А в следующий раз, через полгода, он оказался в дороге один и так же пьян. К нему подошли и сказали: «Вот у тебя чемоданчик хороший, дай-ка нам, он нам понравился» – «Что? – отец с трудом встал на ноги. – Да я сейчас тебя на бокс сделаю» – «Ха-ха-ха! Ты? Меня? А ну-ка, ребятки, вынесем-ка мы его, да выбросим в дверь. А то он еще и дерется, вон мне губу разбил, нахал какой».
Тогда автоматических дверей не было. Его выкинули, а чемоданчик забрали. И больше я папеньку не видел. Умер папенька, безвозвратно ушел.
Дальше меня водила в садик только мать и забирала тоже она. Много плакала, много рассказывала, какой он был, что еще месяц пролежал в больнице на Беговой.
Глава 5. В палате Боткинской больницы
В палате отец лежал с пастором. Теперь мать считала, что это утешение отцу послало провидение.
Когда пациенты узнали, что это немец и по-русски ни бум-бум, да еще к тому же пастор, то разговаривать с ним никто не захотел. Только десять лет как война закончилась. У них раны, и память, и убеждения не дают согласия с ним. Все молча занялись своими делами. Кто записку домой писал, кто пуговицу крутил от недоумения, а кто форточку закрывал и открывал.
И только у отца не было никаких дел, потому что он был обездвижен. У него оставалась только речь. Да и потом он в той войне не против немцев воевал, а против их союзников, иранцев. Отгонял их и сопровождал ленд-лизовский конвой от Басры до Каспийского моря.
Вот он и заговорил с пастором о Боге. А о чем еще с ним говорить? Да, с этого началось, а уж русский язык помочь осваивать пастор сам его попросил. Пока, мол, тут бездельничаем, лежим, чтобы время даром не терять. А для отца это оказалось единственной и последней занятостью в жизни.
«Бог – это Гот, а верить – глаубен. Народ – лёйте. Теперь: научить народ вере. Понимаешь? – сказал пастор. – Потому я здесь. Нет, я сюда не приехал. Я отбывал плен, а потом остался. Остался искупить вину немецкого народа. Показать им нашего Бога. Без Бога жить нельзя никакому народу. Это – сверхзадача в жизни – проповедовать русскому народу. Да вот поскользнулся, не знаю как, и лодыжку-то и вывернул. Теперь сказали – лежи. А пастору проповедовать надо. Он не должен, не может молчать. Он должен проповедовать благую весть. Без этого для пастора жизни нет».
«Конечно, по делу-то пастору этому темную бы устроить, – считали палатские мужики. – За все их злодеяния на нашей земле». Но их предупредили, что у него дипломатическая неприкосновенность. За темную можешь в каталажку попасть. А вот если какую-нибудь случайную пакость подстроить – и виноватых не будет. Только вот какую? Может, пищевое отравление случайное? Или неосторожное обращение с колюще-режущими предметами? Ведь где-то он шел и оступился. Кто-то ему уже отомстил?
Общим собранием коридора решили так и действовать.
Отца предупредили об операции:
– Завтра, готовься.
Отец в ночь перед операцией раздумался. Как же я жил и не видел, что в мире нужно быть только скромным странником? Ходить и молиться Вседержителю за то, что он даровал нам этот мир, а вовсе не торопиться, не рвать на себе одежды, не ломить через «не могу», переделывая и перекраивая мир. Ходить, славить, довольствоваться корочкой хлеба. И больше ничего. Ничегошеньки.
И всю ночь после таковых слов, обездвиженный, он молча, чтобы не будить никого, учился складывать молитвы, частично вспоминая, чему его учила в детстве мать, и приплюсовывал их к своим пробам.
«Господь великий! Всемогущий! Спаси меня! Даруй мне свой мир, в котором мы так бездарно торопились».
А утром пришли за ним на операцию и больше в палату не привозили.
Был переполох, пошла молва, почему допустили смерть на операционном столе? Медсестры бегали, врачи оправдывались. Потом пастора убрали из палаты, и русские мужики успокоились.
Через пятьдесят лет, будучи уже старым человеком, я прочел в газете, что один итальянский врач догадался, как можно сваривать кости и тогда можно будет оперировать перелом шеи. Но про костный мозг там ничего сказано не было. Может быть, его соединить – еще лет пятьдесят учиться надо.
На похоронах отца объявился впервые друг отца с работы, которого позвали на поминки. Но на поминки он не поехал. Не хотел увеличивать своих отношений с Лидкой до родственных.
На поминках весь род был в сборе. От родительской семьи – Мотя, от семьи старшего брата – дядька Алексей и тетка Аня, а от нашей – мать и я.
А вот потом дядька с теткой обвинили мать в гульбе, нежелании оформлять отношения с мужчинами и подвергли ее остракизму.
Мотя, не возражая против наказания, имела свое отдельное мнение и приводила в пример себя: хорошо бы отдать вдовий долг, хранить преданность мертвому мужу и жить одной, как она.
По одной версии её муж испугался быка и умер, а по другой – перетрудился на партийной работе и получил инфаркт. В те еще, тридцатые годы.
Мать оспаривала это мнение. В тридцать лет лишиться партнера, как она, или в сорок пять, как свекровь? Читай: в тридцать лет посвятить себя вдовьему долгу или в сорок пять?
И мне кажется, года три они не общались. Матери пришлось одной во враждебном окружении догадываться, на кого она наткнулась. Никак она не могла понять ход мысли Ловеласова, в том числе и потому, что это был друг отца в свое время. Ей долго казалось: что было с отцом – то будет и с ним. Полюбили друг друга, распишемся и будем жить, как люди.
Глава 6. Переезд на Народную
После похорон отца мы жили на Спортивной. Мать ходила на работу, а меня сдавали на круглосуточную неделю в Немчиновский садик. Я привычно уезжал в садик и так же привычно играл по воскресеньям с хозяйским сыном Игорем. Рядом с нами обрабатывала центральную клумбу, готовя ее к лету, бабушка Игоря. В своем грубом сером халате с белоснежной марлей на голове и огромными глазами, усиленными очками, как у волка в «Красной шапочке», она высаживала георгины – разноцветные и мои любимые – темно-бордовые.
И вдруг в воскресенье к нам в комнату вошел Борис, отец Игоря, – мужчина в безупречном, дипломатическом, темно-синем глаженом костюме, с пробором на голове, выбритый и надушенный до невозможности. Он стал говорить матери чудное: «Муж ваш, к моему огорчению умер, а вы принимаете у себя в комнате, будучи семейной и с ребенком, юридически не оформленного мужчину. Я прошу вас, как хозяин, от себя и своей семьи, расторгнуть договор о съеме комнаты и подыскать себе другое место для проживания».
– А в чем дело? – спросила мать грубо, единственное, что она могла сейчас артикулировать. Когда у нее умер муж и ей труднее всего, когда надо бы пожалеть, а может и скинуть из-за ситуации цену, ее, видите ли, выгоняют?
– Понимаете, Лидия! – ласково погладив свою руку об руку, сказал он ей, – ваше экстравагантное поведение бросает тень на нашу семью и наш дом. Нас могут ославить по улице как разгульное место, и нам будет трудно сдать комнату после вас. Так деловые люди не делают. Мы ни в коем случае не вмешиваемся в ваши дела, но не можем такого допустить и просим подыскать себе другое место.
Раздумалась Лидка в электричке, дорога у нее до весовой площадки была дальняя: «А я-то считала, что он тайно симпатизирует мне. Не своей же женой любоваться – толстой, бесформенной и в очках? Конечно, его карьеру делает она, почему он с ней и живет. Из командировки в Прибалтику привезла его и устроила в Академию внешней торговли. Куда ж он от нее денется? Вот ни за что он сам бы мне это не сказал! Это все она его научает! Разве я не хочу, чтобы мы жили расписанные? Я все время ему талдычу об этом. А он – «Уй, некогда, ой, потом, я еще не готов». Я же не могу человека торопить. Это ж непростое решение. Нет, никогда бы Борис мне это не сказал, всё она торопит. Ревнует, наверно. Мы никогда не пропускали выплат – а это один килограмм сливочного масла в месяц. Вот бы в семью его. Ан нет! Вынь, да отдай! Хорошо вам, когда родители успели в тридцатые годы с соседом-милиционером дядей Ваней на паях дом себе поставить да детям приготовить для брака.
И съемная хитро так поставлена. Постучал в калитку, вошел – тут тебе сторож квартиры. Ты к кому, ты зачем? Квартиранты отвечают. Это – раз. Ты вошел на террасу, а дальше прихожая, она отапливается нами, квартирантами. За дровами в лес ходим, сушняка набираем. Это – два. Плюс деньги за комнату. Съемная комната справа и не мешает хозяевам в их пятикомнатной слева.
А разве наши дети не дружат? И красногрудые снегири зимой сына занимали. Как-то я организую свою семью, зачем же меня выбрасывать?»
Лидка заплакала, вышла из электрички и пошла через Комсомольскую площадь на работу. Вернувшись после смены, она увидела в комнате рукой Бориса исписанный листочек: «Под собственное честное слово (вживе я не могу вам этого сказать) я договорился с женой, чтобы вы пожили у нас до первого сентября и не более того. С уважением, Борис».
Ей стало невыносимо. Она выбежала в сад и села на лавочку под рябину. Потом, сжав кулаки, с сердитым лицом, воинственно пошла на станцию, где вокзал, магазины, много людей, а на столбах наклеены объявления. Она стала читать всё подряд, намереваясь вычитать что-то себе. Нашла, записала и пошла по адресу.
Новая съемная оказалась через две улицы, на Народной. Вышла невзрачно одетая украинка в платке.
– Я по объявлению. Вы сдаете комнату? – пересиливая себя, на конец, спросила она.
– Да, проходите, смотрите.
Когда посмотрела – ну, примерно то же самое – договорились о цене.
– А вот ко мне мужчина приходить будет.
– А мне что? Плати деньги – а кто к тебе ходит, меня не касается.
Глава 7. Разрыв с Ловеласовым
Лидка шла и удивлялась разнице ответов. Потом поняла. Наверно, счастливые семьи, у кого всё в ажуре, не могут сочувствовать. Несчастным посочувствовать могут только люди с проблемами. Вишь, как сказала: «Мне всё равно». Что-то там не так. Ну ладно, позже разъяснится. Сейчас я переломила себя, нужно выезжать. Боялась-боялась, а выезжать уже впритык. Был муж и нет мужа, как корова языком слизала. Должна ехать, хватит, наупрямилась. Слава Богу, всё устроила. Теперь постель и два узла – один с посудой, другой с бельем – и два стула перевезти.
Мать переехала на Народную, всё еще мечтая о росписи с Ловеласовым. Как все молодые женщины, она была наивна и полагала, что он поживет с ней, увидит, какая она замечательная и сам предложит расписаться. Но время после переезда шло, Ловеласов обосновался у нее, и все шло по накатанной, как и прежде: встречал её после работы, они шли в ресторан, там выпивали, танцевали, беседовали на разные темы, потом ехали к ней, на её съемную (но так, чтобы под укладывание сына, к десяти часам) и ночевали.
А на работе старшая напарница растравляла душу.
– Чего ты такая смурная?
– Сама знаешь.
– Еще бы. Такой ловелас достался да чтоб без проблем? Я говорила тебе – такого быть не может. С ловеласом все хорошо, так хорошо, что и оторвать от себя невозможно. Я говорила-говорила – ты не слушала. И рестораны за его счет и в постели просто прелесть. А вот в семью-то не дается. В женскую душу не залазит. Даже не понимает, зачем туда залазить. А умеет, стервец, воспользоваться трудной ситуацией женщины. Всякие красивые любови разыграет, при том ни одной крошки женских возможностей не пропустит. И говори ему – не говори – он так и останется самим собой и толку с него будет, как от козла молока. А зацепилась – тащи за двоих.
– Ты прям так говоришь, как будто сама пробовала.
– А нешто нет?
– Не поверю.
– Да нет, милая, всё было. Это только мужу даешь в тряпочку, а уж хахелю-то – как давать, как стоять, будет ли потом аборт или не будет – ни о чем не думаешь. Иди потом, ноги задирай. А и не жаль. Потому что он – ловелас и никогда ничьим не будет.
– А что ж тогда с ним будет?
– А ничего, умрет один на старости лет. А мне-то что? Я с мужем живу. Вот так и ты должна сделать: сначала мужа найти, семью организовать, детей, квартиру, а потом о хахелях и ловеласах думать. Всегда знай: твой муж всегда с тобой, а ловелас – праздник. И нечего о нем переживать. Всегда найдется следующий ловелас. А муж всегда один. Даже если он и переберет по части водочки, и ты его сама на собственной спине тащишь, это твой муж, его и береги. А ловелас – красивая картинка. Брось его. Никогда твоим не будет.
После таких речей старшей подруги Лидка побежала со всех ног в свою новую комнату, после работы, разумеется, прибралась в ней, твердя одно: «Я не могу его выгнать, я должна еще раз объяснить ему, что мы нужны друг другу и нам не надо расставаться, раз мы любим друг друга».
Когда Лёня пришел вечером, Лидка выпалила ему самую главную свою увертку. Её научила женщина в очереди, ну, к слову пришлось. Она ей расскажи, а та ей и посоветуй.
– Вы знаете? Брак – очень большой для мужчины шаг. А вы понемножку. Есть у вас проблема с ребенком?
– Да, он у меня в школу в этот год должен пойти.
– Вот это и возьмите на вооружение. Попросите его, чтобы он отвел вашего ребенка в школу и делал так в те дни, когда может. Приближайте его к большому социальному поступку – браку. А сразу у вас не получится.
Ну, раз женщина в шляпке – почему ж не прислушаться? В шляпках только интеллигентки, значит, понимают в жизни. Если интеллигентная женщина ссудила такой умный маневр, то положительный ответ обеспечен.
И Лидка вечером сказала Ловеласову:
– Первого сентября у меня рабочий день. Отведи ребенка в школу.
А он, рассмеявшись, возразил:
– А в чем проблема? У тебя есть напарница. Поменяйся с ней сменами. Она отработает за тебя, потом ты за нее, и отведешь ребенка в школу.
Тогда Лидка поняла – права была старшая напарница. Никогда ей не удастся ловеласа переупрямить.
– Ну тогда уходи.
А он вдруг изумился:
– Как? Я так далеко ехал и я так тебя люблю, что этого не может быть, чтобы я так просто уехал, ничего не получив. Может быть, мы все-таки возляжем и я тебе расскажу, как я тебя люблю?
– Нет, нет, уходи.
– Да позволь же, я тебя люблю.
Потом у Лидки прокручивался, как на пленке магнитофона, их разговор. Но как-то странно: отдельно ее реплики, отдельно – его реплики. А потом они все-таки возлегли. И тут она поняла, что более – ни при каких обстоятельствах нельзя с ним общаться. У нее на этого мужчину нет тормозов. И если она хочет в будущем выстраивать свое поведение, ей надо раз и навсегда понять, что с такими мужчинами надо быть на железной дистанции. Не позволять себе приблизиться. А когда он все-таки утром ушел, она проплакала весь день и опять со всех ног побежала на работу, к своей напарнице и подруге, весовщице со стажем, мириться.
– Найди мне мужа, я сама что-то запуталась.
Напарница рассмеялась, польщенная ее бесхитростным обожанием, ей всегда нравилось быть наперсницей в любовных делах младшей неопытной весовщицы.
– Мужья на дороге не валяются. Но и унывать не стоит, что их дефицит. Они есть, надо подождать случая. Я сама дам тебе знать, когда кандидат в мужья приплывет к нашим берегам по реке жизни. Дам знать!
В юности Ловеласов очень любил правду. И на улице всем девушкам говорил правду: «Я вас люблю». Ему казалось, что этого волшебного слова вполне достаточно для обрисовки его чувств. Он быстро увидел, что девушкам нравится это слово, но они ждут чего-то еще, каких-то дополнений или попросту говоря – бонусов – от их встреч. И он страстно захотел работать на таком месте, где такие бонусы давались бы. Остановился на магазине «Радиотехника», то есть продавал телевизоры и приемники. Об успешности этой работы говорил тот факт, что только за очередь на покупку радиотехники в этом магазине платили триста яиц. Эта работа полностью отвечала его доктрине больших бонусов. А получив большие бонусы, он стал первую часть (про любовь) – опускать. Стало неважно – любит он или не любит. Важно, чтобы были бонусы в отношениях. А Лидка вновь вернула его к началу, когда женщине важно – любят её или нет. И он понял, что она – непроходимая провинциалка. От таких бегут, сломя голову, а он с ней чуть ли не восемь месяцев про валандался. Бежать от нее надо и побыстрее. Конечно, жаль, есть один момент – с женщиной с ребенком можно безбоязненно жить без резинок. Если она беременеет, она делает аборт. Пока он на ней не женился – она ни за что не родит. Жаль, но уж, видимо, придется её оставить.
Таких нервомотаний я не заслужил. Не нравится – не встречайся. Кто тебя принуждает? А чтобы меня переделывать? Уволь. Я – игрушка дорогая. Ты сама на это пошла и этим пользовалась. Я никогда бонусы не зажимал – всё тратил на ресторан. Ведь рестораны денег стоят, ты сама не могла их позволить. А если у тебя ступор в голове, зацикленность на браке – я тебе не помощник.
Привык я к ней, но ничего, старые телефончики возобновлю. Может, чего нового попадется. Конечно, с резинками придется первое время. А здесь я, видимо, сильно перетянул. Надо было раньше уходить, когда она закапризничала на той съемной. Да, я не няня её ребенку! Не няня! Да, я хахель в постели и неплохой хахель. Женщин не обижаю, по ресторанам вожу. Но чтобы по-серьезному повесить женщину с ребенком на свою шею? Это будет такой хохот в отделе! Представляю.
– Лёня-то наш влип!
– Да не может быть! Он же такая продувная бестия – пробы негде ставить.
– Нет, точно влип! Говорит – не мог женских слез видеть.
– Ха-ха-ха! Скажи кому-нибудь другому! Что бы Лёня женщину за что-то считал? Это ты, брат, заврался!
Да, всё-таки бонусы – лучше, чем женщина. На бонусы можно купить женщину. А вот бонусы на женщину – нельзя.
А Лидка думала: «Я-то надеялась, что он друг мужа, понимает мою ситуацию, что мы полюбили друг друга в совершенно невозможной обстановке, когда муж был в больнице. А он, оказывается, и раньше не хотел жениться. А как я могу жить одна? У меня работа, ребенок, за съемную плати. Кто-то мне должен помочь? Я считала: понимающий муж – вот выход. Да, образования у меня не хватило москвича понять. Но раз любви нет – значит – уходи. Без любви я не могу».
За восемь месяцев Лидка сумела доказать себе, что любит его. А люди натолкнули её на проверку его чувств. И выяснилось – да, никаких чувств у него нет. И в этот провал хлынули воспоминания о муже. Как бы в отместку Ловеласову она рассказывала мне, как они шли с отцом по улице Горького, главной улице Москвы, как зашли в кафетерий, и она рукой полезла за солью, а муж ей сказал: «Вот видишь – специальная ложечка для этого есть». Она удивлялась, как все москвички хорошо одеты, и сказала ему: «Наверно, много получают?» А он в ответ: «Ну да! На чаю сидят – не хочешь? Экономят на всем, чтобы внешний лоск был. Это ж столица! Тут выделиться надо, иначе пропадешь». А она тогда не поверила.
Да, славно мы провели матерью почти целый месяц вместе. По вечерам, за вычетом смены, когда ей в ночь работать.
Глава 8. В первый класс
Мать вывела меня, упирающегося, в переулок. Подождав проходящих девочек чуть постарше, она толкнула меня в их руки и сказала жестко:
– Отведите его в школу. Только когда дорогу будете переходить, возьмите за руку.
Не обращая никакого внимания на меня, развернулась и ушла, не дожидаясь рецидивов несогласия.
Девочки подобострастно обещали, что доведут. Ну, такой у них возраст в десять лет, ответственный. Утирая слезы, я поплелся за ними. Всю дорогу они радостно трещали, как это здорово – встретиться со всеми, а на участке школы вдруг растерялись, не зная, куда меня приткнуть. В недоумении немного постояли со мной, взвешивая все «за» и «против», а потом бросили и понеслись в свое счастливое, школьное, хоть и на один день, празднество. Вроде однодневной весны осенью, когда все радостные, цветущие, никого ни о чем не спрашивают и не дают задания, единственный день, когда можно ощутить с приятностью свой социальный статус школьника.
Забили барабаны, зычно заголосили горны. Главная пионервожатая, взойдя на сцену, громко и радостно вещала праздничные реляции: «Школьные ячейки – это будущее нашего общества, её надежда, её творчество, её основа».
Дважды обманутый, я заревел вовсю там, где стоял, и, видя, что никто не обращает на меня внимания, отошел тихонечко к заборчику и уже держась за штакетник, всласть продолжил свои слезы. Ужас охватил меня без поводырей-взрослых от такой громады незнакомых людей. Неподалеку от меня в такой же примерно позе и так же держась за штакетник, взапуски рыдал еще один мальчик. Плача, я почему-то подумал, что, если всё кончится более или менее нормально, я обязательно с ним познакомлюсь.
Праздник продолжал бесчинствовать. Бегал, кричал, толкал друг друга. Ему были не интересны слезы. Наконец, всё стихло. Начали зачитывать пофамильно первоклассников. Не нашли двоих. Всем классом начали искать, нашли, утерли слёзы, дали пару в попарном строю и повели в помещение. Большое, светлое, с партами, где меня посадили чуть дальше середины, почти у окна, и забыли на четыре месяца, а может и побольше.
Я не чувствовал большой разницы с круглосуточным детсадом в этом помещении. Здесь, как и там, было публичное одиночество. Никто ни о чем не спрашивал лично, а все движения были по общим командам: «Урок начат! Садитесь! Урок закончен! Можете идти!» Я и не ожидал ничего личного по отношению к своей персоне. Да и зачем, и когда такую плаксу учителю спрашивать? У него план занятий, тридцать пять человек в классе, а на первых партах девочки-чистописаки, которые тянут руку на любой вопрос и родители которых приходят справляться о своих чадах едва ли не ежедневно и подарки дарят обязательно.
Наверное, у других на этом месте было узнавание мамой учительницы. Узнавание от учителя, что такое «урок»: тебе задают вопрос, ты думаешь или ищешь ответ в учебнике. А завтра учительница тебя спрашивает – вы меняетесь местами, и ты должен отвечать. В этом весь смысл тогдашнего урока. И если не пропускать уроки – всё объяснит учительница. А я на уроках молчал.
Матери было не до меня. Ей было до Ловеласова, который разбил все ее родительские планы. Она думала – попросит его водить и он согласится, потому что ночует у нас. А он не согласился, он вывернулся. Для меня это был урок номер один.
А урок номер два был такой: мать стояла перед заведующей детским садом и уговаривала её оставить меня еще на год в детском саду. Я вертел пальцем её ладонь, а она мужественно не обращала на это внимание.
– Не могу! Муж умер, другого нашла, а он упрямится в школу водить. Думала – распишемся – он будет водить. А он спать со мной согласен, а ребенка водить в сад ему стыдно. Води, говорит, сама или с напарницей меняйся. Я и подумала: может, еще разок вы мне разрешите его в сад на неделю сдавать?
– Ну что вы, Лидия Васильевна! – встрепенулась заведующая. – Я и так вам уступила в прошлом году, когда ребенку месяца до семи лет не хватило. Там хоть какая-то зацепка была. А тут – ничего. Да меня в тюрьму за это укрывательство ребенка посадят! А я – ветер ан войны. Заслуженный гвардеец. – Пыхая «Беломором» в лицо матери, взволнованно говорила заведующая. – Второго раза я не допущу.
Поэтому всё решилось для меня в школе, в классе, быстро и без проблем. Большим опытом учительницы. Она меня ни о чем не спрашивала. Даже о том, чего это я в школьном дворе целый час ревел белугой, а посадила к дальнему окну.
И я оцепенел от комфорта. Для других это были уроки, а для меня – панорама жизни улицы.
Каждое утро за окном шла лошадь. Примерно на втором уроке. Она везла в синей фанерной кибиточке хлеб в соседнюю деревню. Понуро и исполнительно. А рядом с ней, пешком, с вожжами, шел в большом защитном халате возница. На третьем уроке в обратную сторону шли от семи станционных магазинов домохозяйки с сумками. На четвертом уроке никаких движений по дороге не было. Правда, зимой на школьный пруд приезжали рабочие колоть лед для тех семи магазинов. Аккуратно складывали его на манер простых кирпичей и ближе к весне увозили на станцию в подвалы магазинов. Там выкладывали стопочками и засыпали опилками. На удивление – льда хватало до сентября месяца.
Поэтому я прожил первое полугодие не густо, но без нервотрепки, наивно полагая, что и дальше так будет. Ну, рассказали у доски про какую-то одинокую уточку – единственное, что я услышал, – и достаточно. Но я ошибся. В январе месяце к нам перевелся один шебутной мальчик.
Неприкаянные одноклассники на переменках по одному, по двое стали выходить в коридор, где приезжий рассказывал им необыкновенное: как он с ребятами в Раменском все вечера играл в казаки-разбойники и прятки.
Подождав некоторое время, я и сам пошел посмотреть на этого залихватского мальчика. Фамилия ему была Крезлапов. А сам себя он звал Крезлап.
Меня обидело, что он поглощал всех, кто подходил к его орбите. Мог бы хоть одного друга для меня оставить – с таким неудовольствием я вернулся сторожить свое окно, лицезреть жизнь безмолвно, тогда как в коридоре её хватали живыми руками и не отпускали никуда. Меня это обидело и возмутило, но я предпочел вернуться в свою келью у окна и просидеть там вторые полгода, пока нас не выдернул из школьной обыденщины поход с географом.
Глава 9. Пигалица Танька
Мы опять стоим у входных дверей дома. Щуримся на осеннее, всё укорачивающее свидания солнце. И мать опять говорит хозяйке, не вынеся моего настроения:
– Опять неприкаянный сынок.
И хозяйка опять благодушно говорит:
– Ладно. С Танькой познакомлю его.
Старуха этажом выше на своей веранде всё так же бездвижна и молчит, вперив свой невидящий взор на солнце. А мы впервые уходим с хозяйкой за дом, где у нее «полкоровы». Так говорит хозяйка, а я недоумеваю – как это можно? Это ж не кусок хлеба. Не понимаю, у меня башки не хватает.
За домом оказался простой, но добротный сарай из бревен в две секции. Мы вошли в первую. Там на широкой кровати картинно полулежала молодая женщина. Оказывается, в комнате был включен телевизор, так что поза её в известной степени была оправдана. Она посматривала телевизор, но не возражала и поболтать с товаркой, не сменяя позу.
Она была разведенная, без мужа, но не согласная с таким положением вещей. И пока для поддержания своего статуса и финбаланса держала пополам с нашей хозяйкой корову. А найти верную напарницу на полкоровы – дорогого стоит.
Своими живыми глазками она сразу начала разглядывать меня. Такие характерные женщины обычно любят прикидывать – кто такой, чей такой, что ты из себя будешь представлять в будущем, в прямом смысле супружества с дочерью. Я от такого объема потерялся и стоял молча, пока хозяйка не объяснила:
– Вот товарища твоей дочери веду.
– А хочешь мы тебя парным молоком угостим? – спросила женщина и глаза её загорелись. Она не считала свое семейное расследование законченным.
Я не знал, что это такое. В детском саду такого не было, мать делала сырники, но не часто. И я опять смутился, не мог это в себе провернуть и молчал. Но она опять не дала разговору зайти в тупик и обратилась к своей надежной напарнице – нашей хозяйке – дружелюбно и даже подмигнув, мол, знай наших:
– Ну сейчас мы его всё равно угостим.
Встала и открыла вторую дверь, тоже добротную и очень широкую. Победоносно прошла в нее, а оттуда пахнуло коровой и навозом. Меня это смутило. Люди с коровой вместе что ли живут?
Она торжественно вышла обратно с большой кружкой молока, а корова недвусмысленно сказала: «Му-у!»
– Пей! – поднесла мне бокал женщина.
Я отхлебнул немножко и больше не смог. Они обе засмеялись.
– Чего не пьешь-то? Не понравилось?
– Не могу сказать.
Саму Таньку хозяйка окликнула ещё на участке: «А мы к матери твоей, пойдешь с нами?», и всё это время Таня стояла сзади, что меня тоже смущало. Ей было шесть лет, до обидного мало. А мне-то – семь с половиной. Не знаю, как со всем этим быть?
– Да он детсадовский, не знает жизни еще, – ободрила меня хозяйка.
Товарка согласно кивнула. Потом они еще некоторое время разговаривали о корове, и мать Тани величаво отпустила нас:
– Идите, поиграйте там во дворе.
И мы пошли.
«Так я и знал, – рассердился я во дворе. – С девчонками играть – это совсем не то, что с мальчишками. Ни машинки их не интересуют, ни прятки, ни догонялки, а интересует то, что она сама будет заказывать. И это – не игры. Это – игра в отношения. Или не игра. Постоянно им надо быть среди других, пикироваться, нравиться, обзываться, настаивать на своем, демонстративно уходить».
Да, Таня была большая мастерица затесываться в гости. Даже тогда, когда на горизонте никого не было, она умела составить себе компанию. Она никогда не оставалась одна, а если была со мной, то вляпывала меня в неблаговидные дела.
Так было и в первый раз, когда она, оглядев пустой двор, с легкостью сказала:
– А полезли на соседний участок? Там другая улица, другие люди, может, кого встретим?
Нет, не подходила она мне. Но одиночество, наверно, было сильнее.
Глава 10. Безумная старуха
Я совершенно забыл безумную старуху на втором этаже, безмолвно смотрящую в одну точку далеко перед собой в надежде увидеть солнце. Приходя из школы, я пробегал участок, опустив глаза, чтоб не думать о ней. И вдруг к нам постучались.
– А вы не знаете Генриетта Павловна дома? А то я подошел к входной двери, а там замок.
Мы с матерью не знали, как ответить.
– Вы знаете, она не выходит. И не слышит ничего, и не видит.
– А я тут важные бумаги ей привез. Хотел бы передать.
Мы с матерью:
– Ах, жаль, сейчас ни хозяйки, ни хозяина дома нет. Вы бы им передали.
– О нет, только не хозяйке и хозяину. Они оба – её враги.
– Ну тогда мы не знаем, как вам быть, – потупились мы с матерью. – Мы сами снимаем комнату, мы не родственники.
– А это ничего. Главное – что вы люди этого дома. И, пожалуй, вам я эти бумаги и оставлю. Сами прочитаете, потомству передадите. Глядишь – через пару десятков лет государство и поумнеет. И вы со спокойной совестью отдалите их в музей. Заранее благодарю. А я потороплюсь в Переделкино. Тут недалеко. Кое с кем из писательской братии встретиться надо. А там мне и на родину поспешать надо. Срок жизни моей истекает, хочу на старые места посмотреть да поговорить с теми, кого знал еще тогда.
И не прощаясь, человек исчез.
Мы с матерью стояли в растерянности. Остались только его тяжелые всепонимающие глаза, линялая одежда и отточенность разговора. С первого до последнего слова. Слова, произнесенные, как стихи.
Дорожил он, видно, этими словами, нес их сюда, как цветы, и не разрешил нам уклониться от такого подарка.
Разволновавшись из-за незваного гостя, мы легли очень поздно. Всё строили догадки, всё обсуждали, как нам поступить. Так в этих разговорах я и уснул.
А мать взялась эти бумаги читать. И за ночь все их прочла, это у нее бывает. Молодец, конечно, мне бы такое не одолеть. Когда я узнал об этом, я стал её просить рассказать. Про что там?
Она долго отказывалась.
– Это взрослое, про любовь молодой девушки к одному студенту, молодому человеку, тебе это будет не интересно. И это всё по справкам, бумагам, каким-то доказательствам. Связного текста никакого нет. Да я и рассказать близко к тексту не смогу.
А меня вдруг жор разобрал: расскажи, да и всё.
– Ну хорошо, – сказала мать. – У нас вот какие дела: мне на работу сходить, тебе в школу, потом уроки, потом я приду, и мы с тобой поужинаем. Вот вечером я тебе расскажу.
Я говорю:
– Только не забудь!
– Но ведь ты будешь помнить? Мне и напомнишь.
На этой дружественной ноте мы и расстались до вечера. А вечером она села, отвернувшись от меня, перед огнем печи, чтобы сосредоточиться. Вкуса к историческим деталям и писательским красотам она не имела. Вынула из этих документов историю любви молодой девушки, да и рассказала, как могла. А я слушал и силился понять – про что же всё-таки рассказ?
Был на Украине крепкий хозяин Пантелеймон Нефедович Шибка. Участвовал в организации на Украине голодомора. Вовремя послал в Россию разведать отступные, если что. А когда это «если что» наступило и их поперли оттуда, он быстренько списался со своим кумом и тот ему ответил: «Да, самое время. И в комитете говорят то же самое, что и ты: пора кадры упаковывать и пересылать сюда. Место тебе в исполкоме я уже нашел. Так что приезжай, не думай, всё будет нормально. Концы там пора бросать в воду». Словом, не подвел товарища по революционной борьбе с кулаками на Украине, выручил.
Он приезжает сюда, действительно получает место в исполкоме, а жить – негде. Он идет к главному – как мне быть? Главный исполкомовец радушно знакомится с ним и говорит:
– Знаете что? Жить-то тут есть где. У нас тут много недобитых контрреволюционеров еще находится. Вы бы разработали одного из них? Они же все в подполье. Нам бы его предоставили, мы бы его в Сибирь упекли. А сами бы его жилплощадью воспользовались. Ну, дерзайте, не мне вас учить. По рукам?
Пантелеймон Нефедович сразу понял, что органы здесь работают хорошо и доверительно, и ему это очень понравилось. И он в свободное от непосредственной работы время стал захаживать в следственный отдел и разрабатывать самостоятельно кандидатуры определенного толка.
Нашел. Разработал. Упек. Переехал. Казалось бы – живи себе в свое удовольствие в рабоче-крестьянском государстве. Но он не учел одного: у этих белогвардейцев, оказывается, была такая мелодраматическая штука, как любовь.
Ну, в рабоче-крестьянском обществе нет таких понятий, поэтому он долго не мог сообразить, почему мадам со второго этажа его, нового жильца первого этажа, ненавидит. Мало того – пошла жаловаться, что он въехал в нарушение всех законодательных норм и что она этого не потерпит. И если они не примут надлежащие меры, она будет жаловаться дальше, и пусть они имеют в виду – она работает при Крупской и в покое их ни за что не оставит.
Генриетта не властна была вытащить любимого человека из огульно состряпанного дела, но его жилусловия, из которых он временно, по отбывании срока в Сибири, был взят, занять не допустила.
Тогда он пошел советоваться с кумом, который его сюда устроил. Тот сказал:
– Да, надо сигнализировать, чтобы его как-нибудь шлёпнули по-тихому наши люди, да и закрыть дело по убыванию преступника.
Ну что сказать? Они знали друг друга очень давно, со второго съезда РСДРП и дальше. Симпатизировали друг другу, прошли большой путь вместе, честно признались друг другу, что хотели бы осуществления революции в её демократическом крыле.
А исполкомовские прислали отписку, что он при несчастных обстоятельствах, немного пожив, умер там, в Сибири. Уведомили испрашивающую сторону. Тогда она ради своей любви и правды людской поклялась доказать, что жилусловия куплены Пантелеймоном на незаконные деньги, полученные за аферы. Она предъявила иск и просила суд о суровом наказании. Конечно, документы она достала не без связей, раз работала в Наркомпросе у Крупской. Ей разрешили познакомиться с документами, и она воспользовалась такой возможностью. Да, она не смогла вернуть свою любовь из Сибири, не смогла доказать, что он не виновен. Попутчики компартии в один период вполне легальные, в другой период оказывались врагами народа. Да, она не смогла ни вернуть его себе, ни вернуть его жилусловия. Но человека, воспользовавшегося его жилусловиями, она смогла посадить туда же, в Сибирь, на пять лет.
Глава 11. Хозяин и хозяйка
Когда хозяин вернулся из мест заключения, сразу обнаружилось, что хозяйка продала половину нижнего этажа, и он вне себя от ярости кричал: «Как ты могла поступить так? Я столько сил потратил, чтобы оприходовать дом, а ты за фу-фу продала?»
Хозяйка: «Я не знала, что так будет». – «Ну ты бы хоть мне написала, посоветовалась бы» – «Я не знала, что так будет», – флегматично говорила она, может быть, как и многие коровницы, перенимающие у своих любимиц флегматичный взгляд на мир.
– Я сел в тюрьму за эти метры, а ты их спустила на фу-фу.
– Ну хорошо, – сказала она так же флегматично, как он яростно топал ногами. – Ну, хорошо, я пойду на работу и отработаю тебе эти деньги.
– Да не нужны мне эти деньги. Мне нужны метры! У меня сын взрослый и дочка уже на выданье. На каждую молодую семью там как раз места хватило бы. А куда я их теперь поселю?
Но деньги, оказалось, всё-таки нужны. Он сам их преспокойно нашел. Догадался, как провернуть следующую аферу. Выписал себе из Украины свою родную сестру. Она продала по его письму свой дом и приехала жить к нему, как он и писал: «Нечего нам, родным, сестре и брату, порознь жить. Что ты там живешь одна? Приезжай ко мне на полный пансион». И она, хроменькая, приехала к нему и вручила деньги за дом своему брату, получив за это комнату вместе с женой его, считай – общежитие. Ни ухода, ни денег, которые он положил на свою книжку.
В размере месяца брато-сестринская любовь испарилась. И она уже в нашей комнате со слезами на глазах всё это нам с матерью рассказывала. И про то, что у хозяина с хозяйкой получилось, и про то, как брат обманул сестру, забрал денежки за дом, а ей вручил койку. А у нее такой дом был! Такой дом! Как выйдешь – сразу речка Каменка. И все-то соседи добрые и услужливые. И чего она польстилась сюда ехать? Не иначе как черт попутал. И место здесь только одно хорошее – у вас, Лида, где я могу всё это рассказать.
А матери очень нравилось, как Мария умеет меленько-меленько шинковать капусту в украинский борщ. Она всё хотела выучиться так же делать – меленько-меленько и аккуратно-аккуратно. Ну а так как сама она здесь была одинока, то и терпела, и слушала разговоры. Может быть, не по своей теме и не по своему возрасту, но раз других нет. И вдруг Мария, принесла совершенно другие разговоры.
Глава 12. Поп
Хозяин, как и каждый глава семьи, не всё ругал свою жену за полдома, который увели из-под её рук, пока он был в тюрьме. Как супруг он откровенничал с ней ночью (когда же ещё), конечно, о том, как он там был, в мордовских лагерях пять лет и как осознал, что вряд ли у него, здорового и крепкого мужика, хватит сил эти пять лет одолеть. Мужчина он был представительный, а других в исполком, где он до тюрьмы работал в политическом отделе, на такие должности и не брали. Потому как нужно много выступать с трибуны, а это далековато от людей и нужно хорошо смотреться. Крупные и характерные всегда хорошо смотрятся.
А там, в тюрьме, казалось бы, да? Он потерялся, скис и не выдержал бы ни за что, если бы не один поп. Он ли к нему стал держаться поближе или поп, видя, что человек расположился к религиозным разговорам, но только они сошлись. И поп внушал и внушал ему, что это всё временно, что это пройдет, что надо укрепить свой дух, и что, наконец, есть другой мир, где другие люди и другие ориентиры.
Первую половину – назидательную – он выслушивал по утрам, когда ходил на арестантскую работу. А вторую – про других людей, про другой мир – любил слушать по вечерам. И тем отвлекся, может быть, даже от своих суицидальных мыслей. Мысль, что есть другие люди, нестяжатели, которые думают о других мирах, так отвлекала его, так успокаивающе действовала на его душу, что он попривык к общению с попом, его словам и оборотам, давно не употребляемым в общественной лексике, а потому, дотянув с его помощью свои пять лет и освободившись, он оставил попу адрес и настойчиво приглашал к себе в гости, если у того будет на то желание и возможности. И называл его исключительно – «мой благодетель». А поп обещал ему приехать и благодарил заранее. И вот теперь, на днях, откровенничал хозяин, пришло ему письмо, что поп, освободившись, направляется в Москву, в патриархию, по делам своего нового назначения и заедет к нему погостить.
– А мне что? Нужно – пусть приедет, – всё еще обижаясь на мужа за историю с половиной дома, сказала жена, – ты – хозяин, твой друг к тебе едет – ты и решай.
Хозяин не стал переупрямливать жену в её отчуждении от его тамошних друзей. Как человек оборотистый по старой своей профессии в исполкоме, он взял её мнение за основу, встретился и общался с попом, не разыгрывая из себя и жены каких-то неофитов, готовых прийти к вере. Встретился, накормил, напоил и спать уложил. Выслушал, что и как у того в дальнейшем выходит. Оказывается, приход ему дают очень далеко. Какой-то Салехард. Его посылают принять паству и служить там.
Восстановив себя на свободе, хозяин очень удивился, что после принудительного заключения, в котором они вместе были в Мордовии, поп легко и непритязательно, с легким, что называется, сердцем, уезжает теперь в добровольную ссылку. Этого он никак не мог понять. Ведь человек в свободном проявлении всё-таки желает построить свой дом поближе к лучшим местам, столице, например, снести туда некоторые ценности, запасы сделать. А он, наоборот, как будто его всё это не касается. Миру ли он делает вызов, власти ли, обрекая себя на сиротство? Неужели и правда – тот, вымышленный мир, о котором поп говорил в тюрьме, и рассказы о котором спасли меня, неужели он в него так верит, что может отринуть всё присущее обычному мужику и ради каких-то миражей поехать добровольно в ссылку? Разве не ясно, что Салехард – это ссылка?
Этого хозяин никак не мог понять, вернув себе свободу и свое волеизъявление по жизни. Он даже начал сдерживать себя, чтобы не переубеждать этого человека, что тот неправильно себя ведет по отношению к своему естеству, которое должно обустраиваться на лучшем месте. Но с каждым днем это доставалось ему всё тяжелее и тяжелее. И в последние дни гостеванья попа, невзирая на подчеркнуто дистанционные отношения, он уже понял, что он обязательно вызовет его на откровенность и начнет переубеждать. Как вдруг сам поп заговори с ним о совершенно ином. И потребовалось всё его мастерство, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю. Поп попросил ни много ни мало свести его с соседкой на предмет женитьбы на ней и увоза с собой в качестве матушки в Салехард. Один он в Салехард поехать не может.
Хозяин сразу рубанул, как привык на своей политической работе – поставишь тезис партии во главу доклада и далее разминай и переворачивай его до приемлемого состояния.
– Понимаешь, – сказал он, – этой соседке хозяйка сдала без меня. Все отношения у них друг с дружкой. А у меня сейчас с хозяйкой напряг. Ну, словом, проблемы с недвижимостью, я не буду в них входить сейчас. Поэтому ни мне, ни жене сватать её за тебя не с руки. Уж ты меня извини, я знаю, что говорю. А вот если мою сестру сделать свахой – это будет на все сто. Она и сватать горазда и собеседница хорошая, подготовит.
Пока хозяин в память о высоком в этом человеке пытался не задевать его религиозных чувств, не демонстрировать свою успешность и раздражение от самого себя, не едущего ни в какой Салехард, как сам поп возжелал такого, что и он подумал: «Ну, у попа губа не дура! Надумал взять в матушки молодую соседку!» Но тут же у него возник план действий, и он опять почувствовал себя в своей тарелке, ибо все люди грешны, а его оборотистость – это хорошо. Да, он кует деньги на себя и свою семью, проваливается и опять кует, и надо с попом мирно расстаться.
– А вот и сестра моя, – представил он попу Марию, выставив это как примирительный презент сестре. – Вот, пойди и сосватай ему молодку. Мало ли, что твои деньги у меня на книжке. Ты ничем не обделена. А сходи и сосватай – вот общее наше дело. Каждый на достаток и на рейтинг семьи должен работать. И ты поработаешь. А что это за семья – кто в лес, кто по дрова?
И Мария опять пошла к молодке, только уже не на свою жизнь жаловаться, а сватать.
– Ой, Лида, соглашайся!
– А что такое?
– Поп тебя себе в матушки назначил. Меня сватать при слал. Какая жизнь у матушки! Вся женская половина у нее в под чинении. И мужская половина – молодые мужики – тоже в подчинении. Все любовные истории ты будешь знать. Все семьи как на ладони. Всеми будешь управлять. И сыта, и одета, и дом, как игрушечка. Всё прихожане сделают. А уважение – истинный мёд. В любом дому будешь в чести. И денег полная кубышка. Про таких люди говорят – «Чего ж тебе еще? – А спасибо, всё есть». Вот какая жизнь. Соглашайся. Это всё равно, что в лотерейный билет выиграть. Кто и когда еще в матушки позовет? А тут уже готово. И мальчонка при строен будет.
А в Лидке любовь клокотала. Да ещё вот с партнером разорвала. Оно по морали-то хорошо, что разорвала, а куда свое личное девать, которое наружу просится? И Лидка вдруг обмерла, представив, как со стариком-то ложиться в постель. Он, поди, холодный весь. А у нее жар любви. Да что ж это будет?
– Нет-нет, Мария, даже и не говори. Не могу, не могу, даже и не говори мне!
Но Мария сказала что-то невнятное: «Ну что ты? Ну как же это?»
– А если он тут один, если ему компания нужна – пусть Акима возьмет да в баню сходят вместе.
Ну, Мария всё и передала, как было, до чего договорились. Ну а сам-то поп – не юноша. Не прибежал, не объяснялся в любви, не дышал жарко в ухо, не выдумывал слова, не хлопал дверью за отказ, не паясничал в коридоре, не грозился ничем. Принял смиренно и тихо, что сказала Мария. А с ребенком в баню пройти не отказался.
Мы пошли с ним – маленьким, тихим, странно одетым, юбка не юбка, в общем, платье до самых пят. Так ничего, молчаливый, улыбчивый. Он хотел со мною в баню, а я не хотел. У меня в бане – проблемы. Когда я был маленький, я дома мылся в бельевом баке, а теперь мать сказала – ты уже большой, коленки вон в бак не вмещаются, как я тебя мыть буду, иди в баню.
А в бане, как и в школе – кирпичники. В школе – дети кирпичников с кирпичного завода. А в бане – и дети, и отцы их, кирпичники. Раз они дали на баню кирпич со своего завода, то считают её своей вотчиной. Так же как дали кирпич на поликлинику. Хотели и её считать своей вотчиной, но врачи не дались. А здесь один банщик. И он – кирпичник. Поэтому КПП в бане для меня – труднопроходимый. То родители, то их дети лезут без очереди. Но это моя проблема, я с ней сжился. А если я появлюсь с попом в юбке? Обхамят, обсмеют на всю жизнь.
Не знаю, но почему-то этого не случилось. Я даже не помню, как мы с ним ходили. Мучительнее всего было то, что на середине дороги он спросил меня: «Ты что-нибудь о Боге знаешь?»
Глава 13. Галя, дочка хозяев
Перед Новым годом проблистала наша встреча с красивой девушкой Галей, дочерью хозяйки. Юной, тонкой, с приятным лицом и с чертежами в руке. Она училась в десятом классе. У нее была большая туба и много карандашей.
Мать дала ей ключ от второй половины дома. Мы включили на столе лампу. Она вычерчивала свою работу, а я рядом делал уроки. Мне чудилось, что мы сидим с ней при свече в какой-то келье, нас окружает таинственная тьма. Я не хотел ни о чем думать, а уж тем более об уроках, а только хотел смотреть на нее и слушать, что она говорит. Но не вслух. Говорило лишь её красивое оживленное лицо, как бы отражая какие-то важные слова, какие-то неизвестные мне впечатления. Эти слова относились не ко мне. Смотреть на это было приятно, но и мучительно. Она, наверно, влюблена в прекрасного принца и у них будет прекрасный танец, какой я видел в «Лебедином озере» по телевизору, когда при жизни отца попросился к нему в кровать, чтобы смотреть этот балет.
– Это не для детей, – сказала тогда мать.
Я настаивал, и мать пустила. Правда, я ничего не понял. Медленно танцуют и машут руками друг перед другом. Но в перспективе времени этот эпизод виделся мне таким прекрасным, таким притягательным, что я вновь и вновь вглядывался в ее лицо и не мог насмотреться.
Раз у нее такая большая работа и во дворе лежит снег, я надеялся, что мы будем ходить во вторую комнату много-много раз и так вот сидеть друг против друга. Но материн солитер всё перебил: на четыре дня её положили в больницу за то, что ела сырую свинину.
Я говорю ей: «Как же ты ела сырую?»
А она: «Так, не знаю, привыкла дома есть, в Ташкенте. Ела и ела. Никогда ничего не было».
Ну вот, а теперь нужно четыре дня лежать в больнице под присмотром. И так как мать проверяла мои домашние задания, перед больницей она попросила хозяйку, чтобы каждый член её семьи по одному дню проверял мои уроки.
Первый, к кому я попал, был сын хозяйки. Сын был несколько моложе матери, но пытался ухаживать за ней. Это был балованный шалопай – любил мотоциклы и вино. И хотя хозяйка время от времени сбрасывала реплики, вроде: «Это ничего, что помоложе и немного шалопай. Зато наследник, при доме, в перспективе будешь хозяйкой здесь», мать честно сказала:
– Нет, Вить, у нас с тобой ничего не получится. А ты мне вот в чем помоги. У тебя ребята знакомые. Привези телевизионщика, пусть посмотрит мой телевизор – можно еще сделать что-то или на детали продать?
Тот привел телевизионщика. Не берусь квалифицировать его анализ, но он сказал: «Только на детали» и сам же отдал матери двадцать пять рублей.
Так вот. Витя, когда я вошел, жарил себе макароны на сале. Я к нему с тетрадочкой. Проверьте, говорю. Он взял в руки тетрадь. Я ему так робко: «Дяденька Вить! У вас руки вроде как в масле, на тетрадке пятно будет».
– Где пятно? – убрал он большой палец со страницы. – Никаких пятен. Вот, смотри на свет.
Через день учительница на весь класс устроила мне выволочку:
– Как это возможно? Как это кощунственно – делать уроки такими грязными руками! Нет, вы только посмотрите! – и она опять поднесла злополучную страницу на свет. – Это же слоны ходили по тетрадке.
Ничего себе начало, подумал я.
Вторым был глава семьи, хозяин Пантелеймон Нефедович. Он молча сел, как садятся в президиум большого собрания, и задрал голову, как большой начальник. После паузы он сказал: «Хм, знаешь что? Ты всё, что меня хочешь спросить, у жинки моей спроси, ладно? А мне некогда».
Но я был не так прост. Так как меня не особо звали в верхние комнаты, пока он раздумывал, я смог разглядеть вырезанные из дерева невероятные розы, которыми был украшен низ буфета. По большой розе на каждой створке. Как это было здорово сделано!
Я согласно кивнул и вышел.
В третий раз я пошел к хозяйке. Не помню, в тот день или в следующий? Она что-то варила на керогазе в большой кастрюле.
– Аксинья Степановна! Не проверите ли?
– Ой нет, милок! Зорьке пойло варю. Иди к дочке. Она всё-всё тебе расскажет, что надо. У неё ведь десять классов. Не зря училась.
И Гале пришлось отдуваться за всех, чему я был очень рад, потому что мог провести с ней целый вечер. Это была первая встреча в моей жизни с девушкой «на выданье», которая цветет в ожидании своего жениха. Я чувствовал особость ее, но не мог это осмыслить. Только хотел, чтобы она одна проверяла мои уроки. Меня всё устраивало, другого я не хотел. Но, к сожалению, когда у нее началась чертежная практика, она её проходила вне дома. А потом мы уехали, так что большой привязанности, на которую я рассчитывал, не получилось, и место наше в большой комнате разрушили.
Глава 14. Шляпная мастерская
К двенадцати часам я приходил из школы. Каждый четвертый день мать была дома. И хозяйка любила постоять, опершись на косяк входной парадной двери, с нами, постояльцами, и поглядеть на то самое солнце около двенадцати часов. Потом она пару часиков перебалтывалась с напарницей по корове и забегала то к одной, то к другой соседке узнать новости.
Весь этот круг свободного времени хозяйка собрала в один кулак, чтобы выслушать, разобраться и вновь привыкнуть к мужу, вернувшемуся из тюрьмы. Она сидела и слушала с отвращением и ужасом, желанием и волнением его разъяснения. Мужской нрав вновь принять – тоже не просто.
Ночное время для нас, постояльцев, состояло исключительно из бу-бу-бу за стеной. Я по-детски спал безмятежным, крепким сном и ничего не слышал. А матери досталось.
– Ну что ты наделала? Глупая ты баба! Ты соображала или нет, когда это делала? Я сел за этот дом в тюрьму, отбыл там пять лет. А ты продала! Ты в своем уме?
Голос хозяйки:
– А мне-то на что было тебе посылки посылать? Вот я и продала.
– Ты что, глупая баба, не понимаешь, что это несопоставимо? Посылки – и продажа дома?
– Я только часть продала.
– Да, но в ней тридцать пять метров, в этой части. В ней я собирался поселить наших выросших детей. Ну что мне теперь делать, глупая баба? Что я теперь детям скажу?
– Ладно, пристал как банный лист, – голос жены, – отработаю я тебе эти деньги.
– Нет, должно быть, ты не понимаешь, что мне не деньги нужны, а неприкосновенность дома. Чтобы я своим домом мог сам распоряжаться. Не ясно, да?
«Теперь понятно, – подумала мать, – когда я пришла сюда по объявлению и как дурочка с переулочка спрашивала, более извиняясь, чем спрашивая: «А если ко мне мужчина будет приходить, ничего?». Хозяйка фыркнула: «А мне какое дело, кто там к тебе ходить будет? Плати деньги, пусть ходит. Меня это не касается». Она хотела во чтобы-то ни стало сдать конфликтные метры, чтобы запутать процесс деления, по-женски думала, что это может остановить раздел. А я решила, что это участие ко мне, к моей сложной ситуации с Лёней.
– Отработаю я тебе, если ты такой зануда, не беспокойся, – опять слышался голос хозяйки. – Раскудахтался, как курица какая из-за своего яйца. Пойду в шляпную мастерскую сторожем. Там объявление как раз висит.
И после долгой паузы:
– Ох, грехи наши тяжкие. И спать нам на твердом всю жизнь, как на нарах.
Сказать-то она мужу сказала, а сделать это было не просто. Сидеть в шляпной мастерской практически одной – тяжело. Соседку, хотя бы на случай, не позовешь. А ребенок – вот он, ничем не занят. Он даже с охотой пойдет.
В шляпной мастерской, куда мы пошли вместе с хозяйкой, я открыл свою вторую сущность. В школе нам читали книгу «Приключения Незнайки». Вообще-то она мне понравилась. Смешная. Но невзаправдашняя. А вторая – серьезная, про бродячих актеров кукольного театра – понравилась очень, до слез. Их жизнь мне понравилась. Они ходят по дорогам от села к селу, разыгрывают спектакли перед собравшимися селянами. Спектакли разные: и печальные, и смешные. И жизнь их была такая же: немного печальная, немного смешная. И я вдруг почувствовал, что смогу любить это долго-долго, может быть, всю жизнь. И никогда не разлюблю.
Как только мы вошли на первый этаж шляпной мастерской, я страстно захотел овладеть тем инструментом, что лежал на верстаках мастеров, и научиться мастерить кукол.
Я-то – слабохарактерный, приживальщик. Прилепиться к взрослым, крепко стоящим на ногах – лучшее и наиболее комфортное для меня состояние, когда я могу и человека увидеть и его положительные качества оценить и подучиться у него чему-то полезному.
Первый этаж шляпной мастерской был мужской – там делали болванки для шляп всех конфигураций. Они напомнили мне лица кукол. Мастеров не было. Висел инструмент. Казалось бы – бери и твори. Они делают болванки с голову человеческую, а ты попробуешь с меньшим размером. А болванки позади у стенки будут твоими судьями, будут оценивать, получилось у тебя или нет.
А тут хозяйка возьми и скажи: «А на втором этаже шляпки делают». Я зашел и обмер: вот где кукол-то наряжать! Мастерицы всяческими ухищрениями – зеркалами, иголками, тряпочками, шнурками – раскрашивали в радостные цвета летние и осенние шляпки. Здесь можно было бы сшить платье Мальвине и костюм Пьеро. Была бы веселая примерка театральных костюмов.
Но болванки молчали. Я не догадался, откуда берется речь. Это же была шляпная мастерская, а не театр кукол. Мне надо было понять, где их учат говорить. И я понял. Такая штуковина есть, что учит говорить языком театра. Это – обычная школьная библиотека. Хотя бы в нашей школе. Значит, надо идти в школу и брать книги в библиотеке. А для начала – не пропустить предложение учительницы, сказавшей перед январскими каникулами:
– У кого на каникулах родители работают и не с кем остаться, приходите в школу, мы будем читать интересные книги.
Она прочитала нам про Незнайку и начала книжку про итальянских кукольников, о чем я вам уже рассказал.
Трудность была в том, что учительница была молодая, с озорными глазами, мне она была симпатична, но она вела класс кирпичников, моих врагов. Нет, они меня не трогали, ходили всё время гурьбой. Но на пути у них – не становись! Разговор бы не получился ни на улице, ни в коридоре. Все они жили компактно на краю городка при своем заводе. Заносчивые, все из деревни, не нуждающиеся ни в каких отношениях с местными.
Общий каникулярный класс закончился, и научить кукол говорить с помощью учительницы мне не удалось. Во втором полугодии я вернулся в свой класс, а там – кто её только выдумал, эту «Серую шейку»? Одна тоска, печаль, депрессия. Не хочу я такое слушать. У меня самого такого очень много. А учительница наша – пожилая, некрасивая Клавдия Петровна – спрашивает только девочек-всезнаек с первой парты.
Нет, я не против. К ней родители приходят в школу, узнают, как ребенок учится. Дарят подарки к восьмому марта. Чем еще учителю ответить?
А про меня никто не узнавал, у меня на лице написано, что меня лучше не трогать.
А вот что мне подошло: наша учительница дала мне два с половиной года на акклиматизацию в классе. Я включился в общую жизнь класса во втором полугодии третьего года учебы. И идею кукольного театра пришлось немного отложить. Жаль, конечно, что канула моя мечта разговаривать с учительницей из первого «Б» языком той книги, тех кукол, того театра итальянских комедиантов. Но я всё равно выкрутился. В школьное окно, которое было для меня альтернативой уроку, въехала бригада ледокольщиков. С ними у меня пошел сюжет о ледяном дворце Анны Иоановны, который я услышал, не помню от кого.
В общем, они кололи лёд на ледяные кирпичи, а я планировал быть архитектором дворца, представлял, какой новогодний бал был у Анны Иоановны в 1741, что ли, году. Потом пришел гофмейстер-прораб и приказал погрузить ледяные кирпичи на машину, отвезти на привокзальную площадь городка и там зарыть под неизвестным магазином, чтобы никто и никогда их не нашел, а тайну их захоронения знал бы только он.
И всё оставалось для меня неизвестным ровно два месяца. Я не знал, где рабочие, где Миних, не открыл ли кто их тайну или мне придется её открывать? И вдруг мартовское солнце вперилось в окно школы, да так ярко и тепло, что перебороло этот интерес, как я ни старался удержать его в себе и повесить газеточку на окно, чтобы концовка моего сюжета о ледяном дворце не провалилась, чтобы она была мною додумана.
Все мальчишки опрометью побежали в совершенно противоположном направлении. Через колхозные поля к сухой, кроме ранней весны, Самынке. Она бурлила, крутилась, все тыкали в неё палками, как в львицу, а она рычала и разевала пасть. Всем было страшно, что она проглотит их, что они утонут в ней, рыжей, косматой и вертлявой.
Это мальчишек так заводило, что они кричали, тыкали дальше рыжую воду и не слушались останавливающих их взрослых, убеждавших: вас может утащить течением, захлебнетесь в холодной воде! Лишь избранные могли в какие-то моменты оседлать её на поваленном дереве или на каком-нибудь выступе берега, рядом с которым она грозно двигалась по руслу. Конечно, в первых рядах был Крезлап. Так что удерживать свой сюжет я уже не мог и тоже побежал на Самынку.
А потом матери встретилась одна чумовая женщина, ну, немножко с приветом, знаете, такие, что всю правду на улице скажут. А так же ведь никто не делает!
– Как? Муж умер, а ты не ходишь получать квартиру по потере кормильца? Срочно иди в исполком и добивайся! Тебе положена комната по потере кормильца! Это твой долг перед ребенком и перед собой, как матерью!
Глава 15. Хождения за комнатой по потери кормильца
«Да, сколько мужиками не занимайся, – проснувшись, сказала мать сама себе, – а за комнатой по потере кормильца надо идти самой. Никто за тебя не сходит. Давно не девочка, а всё хочется, чтобы пришел жених, сделал предложение и всё семейное уделал сам. Вроде бы это там, где исполком, где большими серебряными буквами написано: «Исполнительный комитет трудящихся». Каждый день прохожу. Да, собирайся, Васильевна! Что-то будет здесь, что-то будет. Надо просить, требовать хоть какую-то комнатку государственную».
– Вам что, гражданка? – спросила секретарь, когда она вошла в исполком.
Она путано ответила. Но секретарь – опытная рыба. Дала бланк: «Заполняйте!»
Она не смогла сама заполнить грамотно. Записала только свою просьбу: «Прошу выделить мне комнату по потере кормильца» и села в конце очереди ждать приема к инспектору по жилфонду, стараясь не расплескать настроя, а войти и складно всё сказать. По-культурному.
Когда она вошла кабинет, за большим двухтумбовым письменным столом сидел пожилой представительный мужчина. Совершенно лысая, как старое завалявшееся яйцо голова, коричневое лошадиное, с массой морщин лицо.
Он устало, то ли от значимости своего положения, то ли по особой вежливости исполкомовских (кто их знает, этих начальников) тихо сказал:
– Садитесь.
Когда она села, он так же тихо и отрешенно спросил, сцепив руки:
– Что у вас?
Она вдруг заволновалась, забыла всё, что приготовила, суетно не знала, куда деть руки, и начала вываливать всё без плана. От себя и своих чувств.
– У меня муж умер, – начала она, чувствуя, как поднимается давление, – вернее погиб, то есть не погиб, а его сбросили насмерть с электрички. Не знаю, как это одним словом сказать.
– Да. И что? – тихо, не расцепляя рук и не меняя позы, спросил инспектор.
– Он работал, и я работала. И мы тут в Подгороднем снимали комнату в надежде, что он получит квартиру. А теперь, когда он умер, погиб, я не могу тянуть съемную.
– Приехали? Вы ведь приезжие? – перебил он её рассказ-монолог.
– Да, – выпалила она и сама почувствовала, что излишне торопится, а он своим тихим голосом и вкрадчивостью прорежает её речь. Но она всё равно продолжила.
– Да, я приехала. У меня тут работа и ребенок от него.
Она хотела ещё что-то сказать, потому что запал был на большее, но он опять перебил её тихо и вкрадчиво:
– Мы не строим.
– Что-что? – не поняла она.
– У меня для вас ничего нет. – И повторил: – Мы не строим.
Но она не смогла удержаться. Она должна была сказать всё, что у нее накопилось в душе после смерти мужа, после остракизма хозяев съемной, после отчуждения родни мужа. Она должна была обязательно кому-нибудь это сказать. И она сказала:
– Вот я и хотела. Мне бы хоть какую-то маленькую комнатку. Правда, хоть очень маленькую.
Но он, не повышая голоса, повторил:
– Мы не строим.
Но она не могла остановиться. Как это? Столько мучений сюда прийти, отсидеть очередь и для того, чтобы тебе это сказали?
– Ну, правда, поверьте, мне очень надо, ну хоть самую малюсенькую, – попросила она.
– Мы не строим, – не повышая голоса, сказала человеческая фигура, напоминающая невозмутимую статую.
Тут её кинуло в жар.
– Что же мне тогда делать?
– Обратитесь на свою работу, – всё так же невозмутимо и тихо продолжал инспектор.
Ей хотелось сказать ещё много чего такого, что таилось в её душе и что до этого она не хотела говорить. И как ей было тяжело хоронить молодого мужа и как ей невыносимо теперь жить одной и что сын её неизбежно оказался в одиночестве. Но она вдруг поняла: вот, правильно говорили девки – в исполком ходить – сколько нервов нужно, а итог всегда один – ты разговариваешь со стеной.
И она, забыв про заявление на столе и его голову как залежалое яйцо, пошла разъяренная, как лев, и сраженная, как лань, в своей жажде социальной помощи. И шла домой после исполкома долго, специально не напрямки, а по шоссе, чтобы выпустить пар, так сказать. Подойдя к дому, решила не сдаваться. Какой черствый человек! Надо ехать на работу, просить там комнату. Не сдаваться.
Ну и поехала к себе в депо.
Там, в кабинете начальника, как-то по-особому пританцовывая, маленький человечек с улыбчивым лицом и детской лопаточкой на рабочем столе сажал на противень рассаду помидоров.
– Вы ко мне? Слушаю. Говорите. – Не отвлекаясь от работы и не смотря на нее, произнес он. – Слушаю, слушаю, не тратьте свое и мое время.
– У меня муж был, а потом он погиб. А свекровь на меня взъелась и хозяйка на съемной попросила меня выехать, а мужчина, с которым я начала жить для помощи и воспитания ребенка не захотел мне помогать социально, и мы с ним расстались.
– Да? Муж умер. Дальше, – напомнил он, прорыхляя канавку между двумя грядками.
– А мы с ним снимали комнату.
– Да. Снимали. Дальше. – Так же не глядя в её сторону, но восхищенно на саженцы. – Вопрос! Вопрос!
– Что-что? – не поняла она.
– В каждой ситуации должен быть вопрос. У вас какой вопрос ко мне?
– Теперь я одна, снимать не могу. Что мне делать?
– Вот. Видите? Вы дозрели до вопроса. Это уже хорошо. Но у вас он поставлен некорректно. Нельзя начальника ошарашивать глобальным вопросом «Что вам делать?» Вы должны, прежде всего, сузить его до своей теперешней ситуации и добавить некоторых деталей для совместного решения со мной.
Она ничего не поняла, но, глубоко вздохнув, выпалила про вчерашнее:
– Я написала заявление в исполком с просьбой дать мне комнату по потере кормильца.
– Вот видите, как хорошо вы поступили. Вопрос сузили, ввели свои реалии и подали в письменном виде. Ну, вы просто молодец! Вы успешный ученик!
Это матери уже не понравилось, и она его перебила:
– Знаете, что они сказали?
– Я слушаю, слушаю.
– Они сказали, что не строят. Они сказали, чтобы я ехала к вам и у вас подала такое заявление.
– А вот это они молодцы! Надо же как лихо завернули! – и он впервые добродушно посмотрел ей в лицо. – Да они у вас просто бюрократы, я смотрю. Знают, что ответить, не подкопаешься.
Это ей опять не понравилось. Она опять перебила его:
– Так какой же будет ваш ответ?
– А вот это, милая женщина… Кто вы у нас по штатному расписанию?
– Весовщик с Ржевки. Выпхина.
– Ну, так вот. Мы ведь тоже не строим, как ни огорчительно бы это не звучало.
Она задохнулась от возмущения, хотела что-то пальнуть, но он её перебил.
– Ну правда, не строим. Ну вот честное слово. Хотите я вам выпишу машину угля? Антрацита? Будете всю зиму печку топить. Это самый лучший уголь. И вам положено.
– Я даже не знаю, – смешалась она.
– А что не знать-то? Есть склад у вас? В вашем городе паровозы есть?
– Есть.
– Значит и отпускной пункт есть. Берите квитанцию, я вам выпишу. И до свидания.
Так мать взяла меня на угольный склад. Там меня посадили рядом с шофером. Кран насыпал уголь, дежурная взяла накладную, и мы поехали к хозяйке. Ехать было недалеко. А после того, как остановились на хозяйкином участке, я, как и все взрослые, залез в кузов и кухонным совком тоже пытался сбрасывать уголь наземь.
Ночью мать не могла решиться ни на что. Но утром пошла в исполком, ворвалась, невзирая на бунтующую очередь, в кабинет и выпалила инспектору по жилому фонду:
– Они не строят!
Инспектор так же невозмутимо обернулся к ней и возразил, как будто они не прерывали своего позавчерашнего разговора, как будто это шахматная партия и каждый обсуждает свои варианты вслух:
– Но ведь мы тоже не строим.
Тогда вся кровь бросилась ей в лицо, и она, заревев, выбежала вон из кабинета. Фурией сделав несколько кругов по приемной, она нашла в дальнем углу стул, села на него и начала в голос реветь.
Несколько раз секретарша пыталась приструнить её, подействовать своим непререкаемым тоном, очередники жались к двери инспектора, пытаясь дистанцироваться от нее, а она ревела, ревела, но всё слабее и слабее.
Кроткое зимнее солнце в окошке ушло за горизонт, и в приемной осталась одна женщина, одетая, как религиозница, в платок и длинную юбку. Она подошла к ней, села рядом и стала говорить таким голосом, каким, может быть, в её детстве могла бы говорить добрая фея.
– Не плачь, моя сладкая. Я помогу тебе. Я знаю одного человека, который все твои проблемы как рукой снимет. Но только ты должна быть очень твердой и выполнить все условия. А они такие: нужно встать ни свет, ни заря и на первой электричке – слышишь? На первой электричке в 4.12 поехать в Кунцево. И там, сойдя с электрички, идти в промзону в сторону телезавода. Идти придется пешком, потому что автобусы ходят только с шести утра. А в шесть часов запись прекращается. Тебе, следовательно, надо пешком до шести утра подойти к приемной этого человека. Когда ты придешь туда – там будет стоять постовой милиционер у стола с раскрытой книгой, на которой написано: «Прием посетителей». Но он может принять только пятнадцать человек. Если твой номер будет до пятнадцати – то ты записана. Если пятнадцать уже записались, то ты должна будешь поехать ещё раз. Впрочем, – заметила религиозница, – сам постовой закрывает эту книгу после пятнадцати записавшихся, кладет эту книгу в несгораемый шкаф рядом с собой и закрывает на ключ до того дня, когда наступит день приема. Обычно это две недели. И если ты это сделаешь – твои проблемы будут решены. Он – всё может.
Может быть, мать слишком долго искала платок, чтобы утереть слезы, но она не заметила, как религиозница исчезла. Выйдя из исполкома и насухо вытерев глаза, мать сказала себе: «Я сделаю это».
Она поехала на первой электричке в 4.12 и прошла за сорок минут безо всякого транспорта до площади перед заводоуправлением. Милиционер записал её на прием к депутату Подгороднего района Московской области и лаконично сказал:
– Свободны. Теперь ждите повестки. Когда придет, вновь приедете сюда.
И мать вернулась домой ждать и подготовиться, как сказать кратко и содержательно. Постоянно она шептала про себя: «Я воссоединилась с мужем в Московской области в Подгороднем. Приехала из провинции с ребенком. Чтобы ездить в Москву на работу сняли в комнату в Подгороднем – тогдашней последней станции электричек. С дальних станций невозможно ездить в Москву – там останавливаются только поезда дальнего следования, а работы нет. Муж устроился в типографии одной из центральных газет и ему вскорости обещали квартиру. А в Подгороднем мы снимали частную. Но мужа сбросили с электрички. Я потеряла кормильца и очередь на квартиру мужа. Я потеряла прожиточный минимум, из которого я платила за частную. У меня нет денег ехать обратно. Я здесь работаю. Одна треть моей зарплаты уходит на съемную. Я пошла в исполком и попросила комнату по потере кормильца. А приемщик заявлений (не знаю, как его назвать) сказал, что исполком не строит и мне надо обратиться по месту работы. Я обратилась, и там объяснила свою ситуацию, что я потеряла мужа, что половина зарплаты уходит на съемную, а еще и за садик платить, а начальник сказал, что может мне лишь дать угля как железнодорожнице, а насчет комнаты помочь не может, потому что они не строят. Я не знала, что делать, но одна сердобольная женщина подсказала, что можно обратиться к вам. Ни от приемщика заявлений, ни от ее секретаря я такого не слышала. И потому, если я обратилась не по адресу, то извините. А если по адресу – то прошу помочь».
На прием к главному инспектору по жилвопросам мы поехали вместе. Когда мы сели в электричку, мать стала подговаривать меня сказать ему, если он будет спрашивать, как я делаю уроки, что я их делаю на чемодане. Мать сменила тактику взаимоотношений с властями и подготовилась серьезно. А я не понимал, что в нашей ситуации надо просить на бедность, и недоумевал. Ну да, пару-тройку раз я делал так уроки, получилось ситуативно, но зачем же незнакомым людям в каких-то там кабинетах весь наш реальный быт выворачивать? Она настаивала, а я возражал, должно быть, стесняясь перед взрослыми дядями говорить свою семейную правду-матку. Но, заведенный ею, пообещал, а сам еще три остановки до кунцевской – большой кусок земли земного шара – стал против воли вспоминать, как это пару-тройку раз я делал уроки на чемодане и почему.
Оказывается, когда хозяин попал на пять лет в тюрьму, в Мордовские леса или в Сибирь, точно не знаю, то хозяйка пожаловалась какой-то женщине, что у нее нет денег на посылки мужу. И вроде бы та женщина посочувствовала ей и сказала (а после выяснилось – схитрила) такую фразу: «Я тебе дам денег под роспись». Хозяйка подумала, что она дает по доброте душевной и деньги взяла. А теперь, и это совпало с приходом хозяина домой, эта женщина подала в суд, чтобы отношения с ней были четко квалифицированы судом как отношения купли – продажи недвижимости и оформлены незамедлительно, даже если хозяйка дома и будет оспаривать это и трактовать отношения как передачу денег в долг.
Еще когда муж был еще в тюрьме, хозяйка о чем-то догадывалась. Но ни с кем не посоветовалась, а про себя подумала: «Сдам эту комнату жильцам, а когда придут делить и увидят, что тут живут люди, то истице скажут – нет, как же, мы не можем жилье отделять, здесь люди живут». И хозяйка успокоилась такими соображениями, что при людях дом ломать не позволят. Когда была пустая комната, тогда – да, а при жильцах – как же ломать? Она дала объявление, и мы приехали жить на съемную. А суд решил иначе. Суд подтвердил, что отношения были отношениями купли-продажи и истица имеет право выделить свою долю в этом доме в соответствии с этой бумагой, и предупредил хозяйку, что такого-то числа будет произведен раздел.
Хозяйке пришло извещение, что такого-то числа состоится раздел недвижимости, обязываем быть дома во избежание конфликтных ситуаций. Хозяйка сообщила нам. Мы с матерью напряглись.
Ровно в десять часов нелицеприятный стук в дверь. Мать открывает – на нее как хоругвь угрожающе движется решение подгороднего суда о разделе недвижимости. Его держит решительная женщина средних лет и громко повторяет в устной форме письменное решение суда, пытаясь продавить наши ряды.
Позади нее стоит полк верных: cудебный исполнитель, сладкий и упитанный молодой человек, юрист, смотрящий вбок и не говорящий ничего, и четверо рабочих с плотницкими инструментами, понуро опустившие головы. Их дело – работа, и быть пушечным мясом в перепалках хозяев им не по нутру. Но работу дают люди, которые должны отладить свои отношения. И если затеется драка, то они вынуждены будут своими телогрейками оттирать работодателя от ответчиков по суду. То есть истица пришла вооруженная до зубов.
Мы молча потеснились, видя, что оппозиция не подготовилась к достойной встрече. Истица сразу убрала в карман решение и громким четким голосом воскликнула: «Так! Где ключ от следующей двери? Дайте ключ от следующей двери!»
Воскликнула, не поворачиваясь, удерживая нас взглядом. Напряжение ослабло, но не ушло. Хозяйка не появилась, но ключ поплыл по рукам. Старый, огромный, ветхозаветный. Когда им с лязганьем открыли следующие двери и быстро, буквально косметически обежали взглядом большую комнату метров тридцати, истица ещё раз воскликнула:
– Ну вот! Теперь меряйте и отрезайте! Ставьте стену, а я пошла. Мне некогда!
Когда рабочие смерили, оказалось, что половина дома – это как раз комната за нашей стенкой и половина нашей. Рабочие провели по нашей комнате жирную меловую черту. Видя, что никаких эксцессов нет и новая хозяйка ушла, незаметно исчез и судебный исполнитель, а мы с матерью начали переносить все вещи из одной половины комнаты в другую, искать старые тряпки, плащи, пальто, что там было в сенях ненужного, и этим закрывать вещи от пыли, побелки и опилок, которые сейчас посыпятся в нашей комнате.
Рабочие сменили без истицы свое настроение. Молча помогали всё подпихнуть, минимизировать свое рабочее присутствие, которое разразится вот сейчас. А хозяйка даже предложила переехать на это время к ним в гостиную, где стоял такой купеческий сервант с огромными розами на дверцах и лежали такие блюда-полотенца дореволюционной работы, что я всё время, когда заходил к ним, удивлялся: какие же были люди в своем ремесле хитрованы. Даже непонятно, из чего эти блюда-полотенца под пирог на двенадцать персон сделаны и из какого-такого дерева такие большие розы и чем вырезаны? Вот бы посмотреть и узнать и познакомиться с такими людьми?
Рабочие, наконец добравшиеся до своей работы, оставив за скобками нас и новую хозяйку, привычно и вожделенно начали пилить доски пола по отчеркнутой линии и даже довольно благодушно ответили на наш с матерью вопрос: если вы распилите пол, а за окном снег – мы сможем ночевать в этой комнате или нет? Мать никак не хотел ютиться в гостиной у хозяев.
– Да нет, а чего? Я думаю, мороз небольшой. Семь-десять градусов будет. Стены выдержат.
Мать сказала:
– Ну тогда я ночую здесь.
– Да мы быстро сделаем. Всего два-три дня. Только выйдите, мы стену сломаем, пыли много будет. А дальше – отпилим пол, прокопаем фундамент под стену и её кирпичную, да без двери, поставим максимум за три-четыре дня и уйдем.
– Ну тогда я вообще никуда не пойду, здесь пережду. А ты сядешь на стул и на чемодане сделаешь свои уроки.
Вот как всё было. Рабочие через пять дней ушли. Мать всё вымыла, и я сел за стол. Зачем теперь рассусоливать про чемодан главному инспектору по жилвопросам района? Нескромно как-то.
Глава 16. Человек, который может всё
Оказывается начальство нашего Подгороднего сидит в Кунцево, при заводоуправлении, перед огромной цветочной площадкой из огненно-красных цветов. И каждое перо цветка – как язык пламени.
Нас провели лестницей, вроде дворцовой, с коврами и двухъярусными пролетами в холл, тоже с коврами. Немного подождав, мы прошли в кабинет, который больше напоминал дворцовый зал с огромным окном, открытым на ту самую площадку с цветами, предупредительно политыми утром и сейчас благоухающими на всю приемную.
Зал был аккуратно разделен банкетками на две половины: на собственно кабинет и зал заседаний, в котором могло поместиться человек двадцать-двадцать пять без всякого нажима.
За столом в летней рубахе апаш сидел отдохнувший мужчина с приятным черноморским загаром. На него приятно было взглянуть. А когда он начал говорить, то был еще симпатичнее. Голос – ровный, располагающий, безо всякого нажима. Мать села напротив него, а мне предложено было сесть сзади на банкетку.
Поскольку он не походил на моего отца-смоленца (деревня отца находилась у Шевардинского редута), а походил на работника на шей хозяйки – воронежца дядю Лешу, я никак не мог к нему примениться.
– Приветствую вас, Лидия Васильевна! Разрешите предложить вам стул и узнать от вас имя вашего сына. Здесь в документах его нет.
– Акимушка, – польщенная, сказала мать.
– Садитесь, пожалуйста, и расскажите, что привело вас сюда?
Оторваться от него взглядом было невозможно. Невозможно было оторваться от его мягких слов, доверительной интонации человека, кровно заинтересованного во всех нюансах твоей жизни, с олимпийским спокойствием выслушивающего все и всяческие жалобы, истории, просьбы и просто разговоры.
Мать вкратце объяснила нашу ситуацию. Из нового она ввернула-таки чемодан, на котором я делаю уроки, как совершенно невозможное для матери, и что она просит хотя бы угол для ребенка. А он переспросил меня, действительно ли я делаю уроки на чемодане? И мне подумалось, что мать, наверное, не так уж неправа, как мне казалось вначале. Надо выучиваться просить на бедность. Люди и слушать тебя не будут, если ты не в аховом положении. Но согласиться с этим мне всё равно было неприятно, и я отвернулся к окну. Боже! Какие каллы за окном на светлой лужайке площади. Огромный квадрат пурпурных калл шеренгами и рядами торжествовал свое существование.
Он умел слушать жалующихся. Отвечая, он вежливо, спокойно, четко ставил слова, но я не мог уловить смысл его ответа. Оказалось, и мать не поняла и переспросила по завершению его речи:
– Так что же? Вы дадите нам комнату по потере кормильца или нет?
Ответ поразил нас обоих:
– Решаю не я. Я только даю рекомендации по уже решенному делу и высылаю их по месту разбирательства. Решают всё равно они.
Мать, ничего не поняв, рухнула в настроении. Как не дали – так и не дадут! Рекомендации… С жалобами надо заканчивать. Такую уйму времени и сил потратила. Все они хороши. С чего бы им друг другу глаза выцарапывать?
А меня всю дорогу распирала мысль: как это может быть, что хозяйский работник очень похож на этого начальника? Я не знал, что это называется просто: оба они – воронежцы.
В размере месяца почта прислала его ответ. Мать вызвали. Она опять оказалась в своем исполкоме перед инспектором с лошадиным лицом, и он, инспектор по жилвопросам Подгороднего, стоя зачел ей ответ кунцевского начальника: «Просим более внимательно рассмотреть решение по поводу жилвопроса гражданки Выпхиной».
В присутствии секретаря лошадиное лицо изрекло: «Мы, посоветовавшись, решили оставить свое решение без изменений. Без изменений потому, – повторил он, – что на изменение решения нет никаких оснований». Тогда мать, вдруг взорвавшись, соскакивает со стула, молниеносно подбегает к столу лошадиного лица и что есть силы ударяет своим кулаком по столу с воплем: «Долго вы еще будете мучить меня своими проволочками?!» Лошадиное лицо отпрянуло, побледнело и потопталось на месте.
Потом я читал, что за границей, когда нападают на банк люди с пистолетами, есть ножная сигнализация и надо потоптаться. Для нападающих этот непонятное движение, а для охранников – это звонок. Но, я думаю, что у нас всё это было допотопным. Наверное, секретарша незаметно кнопку нажала на вспомогательном столе, и в кабинет ворвался милиционер.
– Что тут у вас?
– Да вот гражданка буянит. Не согласна с выводами комиссии. Выведите её отсюда.
Мать с высоко поднятой головой, как политзаключенная, прошла следом за милиционером, красная и безмолвная. Милиция находилась в доме, примыкавшем к исполкому, и все ходили туда в обход по улице, кроме экстренных случаев, для которых всё-таки была потайная дверь в стене, так что её не сразу и заметишь. Милиционер выскочил из нее и повел мать по улице как арестованную. Тут она успела прийти в себя, и когда в милиции он выписывал ей штраф за асоциальное поведение в общественном учреждении – 50 рублей, – уже резанула: «Какого преступника нашли!»
Зло схватила квитанцию, вышла на улицу, дошла до почты, оплатила её, тут же разорвала и пришла домой очень воинственная.
Глава 17. Воронежский мужик
На дворе – минус сорок три градуса, Курская битва, вечер.
Алексей пролежал весь день в траншее, отстреливаясь, и сам пришел в лазарет.
«Как вы сегодня поступили – сказал военврач, откусывая щипчиками по одному пальцы левой ноги, предварительно разрезав сапог, – видно, что вас ждет нелегкая жизнь. Но вы пройдете её полностью и до конца. От рук матери до последнего «прости». А это ведь самое главное – пройти жизнь до конца. Всё, что тебе отпущено, испытать и обдумать. Это самый главный подарок жизни – прожить жизнь до конца.
У вас это получится. Вы – не фортунистый человек, не доверяете случаю, а отвечаете за сущность. Вы не завидовали разведроте. Вот уж кто фортунистые. Вы не ставили на случай, и, пройдя две войны, достойно проживете. Но – повторюсь – не надо играть с фортуной».
Когда Алексей оказался у Любки дома, он вспомнил, что ему говорил военврач в 1943 году. Любка с проходной наболтала своему мужу – мол, это брат мой, пусть он у нас ночует, сколько хочет, пока не оклемается здесь как приезжий. И тот ушел на работу, ни чего не сказав, то есть схавав эту фигню про брата.
А когда муж ушел, они возлегли, и у них было то, что положено, и он засобирался на работу, она и говорит ему:
– Вот видишь, всё нормально. Он у меня ручной. Будет так, как нам надо. Вечером тебя жду. Как брата! Ха-ха! Бутылку можешь не брать, он и сам на работе найдет, наклюкается, я больше чем уверена.
Алексей, бреясь, ответил: «Да-да, конечно», но уже что-то у него в душе поднималось. А когда он закрыл дверь её квартиры, то опрометью побежал из этого дома, из этой ситуации, вспоминая совет врача: «Ты проживешь свою жизнь, если не будешь вручать свою жизнь случаю».
Однако три дня его всё равно мутило. Через проходную-то мимо Любки идти. Брал другие заказы, на её площадку не ездил. А когда приперло поехать на Рижскую, решил отболтаться, мол, сейчас выгружусь и подойду, а после выгрузки опять её обмануть – мол, опаздываю, подойду завтра.
Пока он так по-детски, бездарно, сопротивлялся Любке, его и подхватила Катя Тимохина, старшая подруга матери. Углядела из окна дежурки весовщиц и попросту предложила серьезный вариант на дальнейшую жизнь. Без обиняков, как бы даже чувствуя его запарку в этой смешной ситуации, когда Любка фонтанировала. Да и трудно было не фонтанировать на таком месте: машина подъезжает, шофер Любке кланяется, даёт документы, она проходит в служебку, ставит печать, что он привез груз на грузовой двор, и возвращает документы. Что это за работа? Одна болталогия и флирт.
– Ты, Лёш, человек серьезный. Ты пойми, она ведь, шалава, и тебя подставит.
– Да я и не думал ничего особенного.
– Мне не жаль, что ты с ней гульнешь, но тебе надо серьезное что-то. А у меня женщина есть. Вон она сидит. Познакомься, приглядись. Конечно, она нашего поколения, не с небес свалилась. Ребенок есть. Хочет составить семью. По-серьезному. Я бы вышла из весовой, как бы по делам, а ты бы поговорил с ней. Мнение-решение мне сообщишь. Но не сразу, подумай, спешка тут тоже, знаешь, не нужна. Говорят, при ловле блох она нужна. И ручаюсь – здоровая, серьезно настроенная и хочет семьи. Ага?
– Может, присядете? – Лидка вежливо обратилась к Алексею, – хотя я знаю, вы в кабине насиделись. Стоя разговаривать неудобно.
– Ну я что? Я и присесть могу, – засмущался он. – Я что хотел сказать вам? Я сейчас ехать должен. Всё-таки это рабочее время. А вот, скажем, на днях, как у меня с Клином командировка сложится, мы бы утром с вами встретились? Утром, рано, чтоб к обеду мне успеть в Клин доехать, вы бы сели ко мне в кабину, и мы бы там обо всём, обо всём переговорили? Но вперед этого я хочу сказать, что вы мне понравились. И я надеюсь на продолжение знакомства с вами.
– Да, но как же мне быть с ребенком?
– Да, с ребенком… Вам его оставить негде? А вы возьмите его с собой. Если это мальчик – ему понравится. Мы будем ехать и разговаривать про нашу жизнь. А он будет рулить понарошку. Всё получится. Договорились? И привет Катерине Ивановне.
Захлопнув за собой дверь кабины и поехав в сторону проходной, Лёша всё повторял: «Бежать, бежать, скорее бежать, как я мог вчера согласиться на это? Это же черт знает что могло случиться. А убежать в серьезный брак – самое лучшее».
Поэтому когда Любка вышла на помост забирать документы, он не стал вытаскивать заготовленную фразу «Я спешу, потом приеду», а сказал ей радостно, в лоб, отомстил за вчерашнюю вакханалию с ним, серьезным человеком. Сказал ей в два слова:
– Женюсь, Люб.
– Как? – опешила та и посмотрела в сторону весовой. Так-так. Тимохина меня обскакала. Ну, я ей задам. Матушкой грузового двора быть? Распоряжаться чужими мужиками? Ну, я тебе задам, ишь, прыткая какая!
Глава 18. Алексей выписывается из общаги
– Что, Леш, поздно? – спросил Егорыч. Его все в автоколонне звали Егорычем и никто по имени.
– Работал, выписываться приехал, – скупо, по факту, ответил Алексей.
– Жаль, а я с тобой пожить собрался.
Алексей удивился, ведь никакой горячей дружбы между ними не было. Егорыч да Егорыч. Ни к радио, ни к газетам не пристрастен. Ничего особенного за ним не припоминалось. Хотя и плохого от него не было. Так что он не нашелся, что ответить. Наоборот, Егорыч за него ответил на свой же вопрос.
– Часто ведь горлопанов поселяют, людей несдержанных, пьющих. Сразу по приходе в общежитие норовят в женщин и вино окунуться. Тяжело с ними, хлопотно. А ты ни в каких пороках не замечен, в дебоширстве не участвовал. Я сам спокойный, тихий человек, и ты человек выдержанный. И оба мы – ветераны. Этим всё сказано. Ты – военный да две войны прошел – Финскую и Отечественную. Я, считай, тоже две – Халхин-Голл – Монгольская и Отечественная. Так что я тебя сразу приметил, и ты мне понравился. Что мне с ними? Я с тобой бы хотел продолжать жить. Мы ведь научились одному на войне: по-солдатски выживать. И нас уже не переделать.
И в мире мы будем жить, как на войне. Потому что все силы жизни мы оставили там и нас на мир уже не хватает. Прав ли мир в мире или не прав – я не знаю. Я привык только к одной правде и к одному порядку – по-солдатски выживать на войне. И всё. Мир для меня слишком шумен и бестолков в своей жажде жизни. Мы так никогда не жили. Мы были скромны в своей солдатской доле и в смерти. Когда лежишь в окопе перед атакой, ты знаешь, что тот, кто рядом с тобой лежит, не брат и не сват и даже не знаком тебе, но чувству ешь кожей: он родной мне, как ты сейчас, он поднимется и пойдет. И никакие слова не нужны были. Без них всё чувствовал. Вот и с тобой я, как на войне, не хотел бы разлучаться. Ведь на войне – с кем своевался, того и держишься.
– Но есть ведь и другие.
– Нет, они – люди мира. Они себя в нем хорошо чувствуют, пусть беспутные и шумные и разбрасывают себя. Но это – не по-моему. По-моему здесь – только ты. И мир, и война не прощает не последовательности. Мы три месяца с тобой прожили, даже не знакомясь. Нам это было не нужно. Мы знали друг друга и так. Ты хорошо подумал, куда ты пойдешь? Решил – иди, конечно, псковский ты или ярославский. Я привык к тебе, хотя по мирным меркам мы всего каких-то три месяца вместе. А на войне в три месяца вся жизнь могла уместиться. Тогда оба – солдаты, сейчас оба – шоферы. Ну, решил – иди, конечно. А куда?
– Я встретил хорошую женщину, почти ровесницу мне (мне – сорок), и она мне очень понравилась. В том числе и потому, что очень похожа на мою старшую сестру, которую я и всегда-то уважал, а после смерти матери считал, что теперь в моей жизни она – заступница. Она совершенно так же, как в детстве, взяла недавно меня за руку, посмотрела мне глубоко-глубоко в глаза и сказала с расстановкой: «Я знаю, ты одинок в жизни и душой. Тебе обязательно нужна женщина. Хорошая, серьезная, не гулёна и не пьющая, желающая создать семью». И у меня теперь есть такая хорошая женщина, это я знаю точно. Правда, у нее ребенок.
Напарник по общежитию долго и опасливо молчал, напрягая себя и краснея, будто получил похоронку, но всё-таки сказал:
– Женская душа – потемки, а чужой ребенок – и вообще мрак. И мне странно, как ты – опытный солдат, так легко поддался на уговоры. Сколько я видел после войны переломанных мужских судеб, переломанных именно из-за женщин. Спокойно ходили в атаку на войне, но их трясло в отношениях с женщинами. Они не хотели понять, что мы свое оставили на войне, у нас нет сил строить мир. Мы можем только в одиночестве, держась за однополчанина, доживать. Сколько я видел таких судеб мужских! Польстившись на семейное счастье и получив от женщины зуботычину, они быстро сгорали, спиваясь от произошедшего ужаса. Его, орденоносца, уважаемого всеми за подвиги, как мальчишку выставлять на улицу? Срамить при всех и вообще глумиться над его жизнью и личностью, и судьбой? Давить, травить, уничтожать морально? У нас нет сил на это – ты понимаешь, Алексей? А женщина – она этого знать не хо чет. Ей дай деторождение, хозяйство, достаток. Другого она ничего знать не хочет. А у нас на это нет сил. Но если решил, конечно, иди.
Собрав простыню, одеяло и наволочку в один узел, всё общежитское, а в другой – свои вещи, Алексей вышел, несколько обескураженный разговором.
Кастелянша Капитолина Ивановна – полная, приятная и разговорчивая женщина, всегда в новом хрустящем халате, сидящем на ней, как мундир, по моде 40-х годов, когда военное было и нуждой и модой жизни, встретила его опытно и умягчающее.
– Белье принесли? Ага, давайте! Бельё сдавать – хорошо. Алексей Михалыч, ведь, говорят, вы женитесь? Сознайтесь ведь, правда? Как это достойно и романтично! Белье сдавать общежитское, менять его на свой дом и семью – хорошо. Говорят, она хорошая женщина? Правда, говорят, у нее ребенок? Но вы же солдат, Алексей Михалыч, вы же солдат! К детям нужно относиться только с одной точки зрения – мужественно. И любая женщина будет в ваших руках. Знаете, Алексей Михалыч, женщины любят мужественных, но большинство мужчин почему-то пасует перед детьми. А ведь это неправильно, Алексей Михалыч! Вот спросили бы меня – какую бы женщину я выбрала? Ах, ну не буду, не буду, вы смущаетесь. Пожалуйста, ставь те узел сюда и – где ваш бегунок? Я подпишу и всего хорошего вам в семейной жизни. И знайте: мы, общежитские, существуем только для того, чтобы помочь всем одиноким мужчинам обрести семью. Я очень рада и горжусь, что вы один из них. Дом и семья всегда лучше, чем наше убогое заведение. Позвольте сказать вам «Прощайте! Не возвращайтесь сюда. Дом и семья всегда лучше!»
«Из огня да в полымя», – отирая вспотевшую вдруг шею и выходя на воздух, сам себе проговорил Алексей. Он не ожидал, что его обычная послевоенная история – прибиться к какой-нибудь вдовушке – для женщин будет как сладкое к чаю, а для мужчин – как горький наезд на их, мужчин, права. Всё общество тогда было расколото на одиноких мужчин и женщин, которые заново, далеко не юными, должны были вновь найти друг друга.
Глава 19. Поездка в Клин
Утром мать сказала:
– Дядя Леша хочет тебя прокатить в Клин на своей машине. Ты как?
А я догадался, что он хочет прокатить до Клина её, а я уж как довесок. Хочешь – не хочешь – придется брать. Но я даже не предполагал, что это будет грузовая бортовая машина, с двумя контейнерами в кузове, для государственной и гражданской перевозки.
Мне дядя Лёша купил книжку про козлика в соседнем ларьке, а я ведь уже первоклассник, но зато доверил ручку боковой двери, которая поднимает и опускает стекло сколько хочешь раз. А ещё мне можно было пользоваться бардачком перед собой – положить туда свои вещи и эту книжку, чтоб не мешали смотреть в окно.
Потом мы поехали, и я до одури глазел на проскакивающие дома, машины, зелень. А они разговаривали между собой про всякие дела на весовой площадке, где работала мать.
Часа через полтора мы остановились у больших заводских ворот, минут на двадцать, пока он выгрузится. Потом доехали до городской столовой, перекусили и обратно в Москву.
Это было единственное за последнее время моё путешествие, и оно меня вдохновило. А за Клином, когда я попросился нарвать букет барашков, то увидел, что они целуются в кабине, и подумал: нравится мне или нет, но отца не вернешь, а взрослые и дети не могут одни жить. Почему-то все они живут парами. Придется это принять.
Через день мать сказала:
– Дядя Леша будет у нас ночевать.
Я подумал: ну ладно, я уже принял это там, у Клина, хотя мне хотелось получить что-то не такое бестолковое в качестве знакомства. Да, дядя Леша улыбался при встрече, но как-то неестественно. Подарком он хотел показать, что будет со мной дружить, а за весь день ни одного слова мне не сказал. И в глазах что-то колючее. То ли неприязненное, то ли виноватое.
Поздно вечером он тихо вошел в плаще, теплой кепке, молча разделся, умылся, поел и лег спать, отвернувшись к стене. Без единого слова.
А в меня закралось впечатление, что это хозяйка наняла работника что-то по дому делать, но не захотела своих домашних ущемлять в их праве спать отдельно и пихнула к нам, в нашу комнату. Раз вы квартиранты, то и семейный работник с вами.
Человек пришел на место отца, в семью и молчит? Не сказал «здравствуй», за руку не поздоровался, не спросил – понравилось тебе в тот раз? Не сказал: «Мы с тобой еще съездим». Ничего.
И так он приходил каждый раз, каждый вечер. Каждый вечер раздевался, мылся и ложился спать. И так было всю нашу жизнь на Народной. Мало того – когда собрались переезжать в Отрадное, мать сговорилась с ним, а мне сообщила на следующий день, чего никогда не было.
Я обиделся. С момента смерти отца все хождения за положенной комнатой, все события с хозяйкой – обо всём мать советовалась только со мной. И вдруг как отрезало. Я не знал, что думать. А уж как действовать – по малолетству совсем не представлял.
Много позже я понял, что это был человек, остановившийся в своем развитии. Но не по своей воле, а по воле двух войн. После них этот человек, выживший в двух войнах, отдал столько сил и здоровья государству, что не смог себя связать ни с какой женщиной для семьи, для продолжения рода. Это же сколько сил требует!
Он вернулся в Москву как демобилизованный, поступил на курсы шоферов, а потом в Мосуктек – возить контейнеры по государственным надобностям.
Он проведал семью, вернее свою сестру в родной воронежской деревне и опять приехал в Москву, потому что невесты у него в деревне не было. До войны – потому что он был еще мальчиш ка. А теперь деревня не подходила ему по кругозору: и в Финляндии он воевал, и на Курской дуге в окопах лежал при минус сорок трех градусах. И единственное, чего он теперь хотел – это сменить деревенского коня на городской грузовик.
Ему положено было общежитие, где он – ну, радостью это не назовешь – испытал теплые чувства к тем, кто, как и он, воевал и окончил войну. Но вместе с войной окончились и их силы.
Они добросовестно выполнили свой социальный долг. Работали и обходились минимумом общения, в размере дружбы по интересам. Интересы ценились ими только одни: не курить и не пить. Потому что шоферу нужны глаза и выдержка. Рулить-то по десять часов. Все, кто не режимил, – дисквалифицировались. Его же начальство отмечало за терпение и давало поздравительные грамоты к празднику, что было приятно. Но ценней всего были путевки в профильный санаторий в Железноводск. В долину нарзанов. Он был там не раз, и знакомился там с женщинами два раза.
В Железноводске он выбирал тихих и спокойных женщин, в годах, и гулял с ними на балюстраде с чугунными орлами, объясняя им, что хотел бы дружить, переписываться, а семью заводить ему поздно. Такие женщины – не те, что яркие, которые ищут мужа в два дня, говорили ему: «Да, будем дружить. Мы согласны. Возможно, вам и не нужна семья. Будем переписываться». Но когда они расставались и ему на общагу приходило письмо, он его выбрасывал, зная, что это никуда не ведет, что он не сможет завести семью. Он остался там, на войне, выложил все нервы и силы. Он не сможет ни с кем ничего разделить. Ну да, ходил на экскурсии вместе с женщинами, а потом выбрасывал их адреса. Женщина никогда не сможет понять – как это он отдаёт всё не ей? Ей всё равно нужен супруг.
Глава 20. Благословение сестры
Приехав к Лидке, Алексей быстро выкинул все мысли про других и про государство, а занялся своими непосредственными делами, из которых первое было – идти в ЗАГС расписаться. Решили идти без ребенка, чтобы не дразнить гусей общественности.
После, как мать и обещала, мы поехали на главную улицу Москвы, в студию фотографии, делать семейное фото.
Какой-то вертлявый человечек сначала предлагал варианты:
– Вам коричневые или черные?
Потом повел в черную комнату, рассадил всех, как манекенов, меня в середину, по-семейному. И мы получились отвратительными муляжами самих себя.
А на главной улице города мне было совсем не интересно. И угловой гастроном, куда пару раз заходили мы с матерью за живой рыбой, когда ездили к ней на работу, на весовую площадку, – не по нравился. Не сам по себе, а потому, что дядя Леша не захотел туда заходить, и у меня испортилось настроение. Я в расстройстве даже любимое свое здание вокзала с его башенками и с большим витражом в одном из павильонов не рассмотрел.
Дома мать стала рассказывать, зачем эти фотки нужны: это будут верительные грамоты в обеих семьях, удостоверяющие ее как жену – в дедовой семье, а его – как мужа – в его семье. В деревнях принято дарить такие фотки, чтобы люди рассказывали друг другу, кто с кем в каком родстве состоит. Понятно?
А потом были письма к дядилёшиной сестре в Воронеж с просьбой принять их. И опять мать объясняла, что перед росписью в роду бывают смотрины. Потом еще, правда, свадьба положена. Но для нашего второго брака мы с дядей Лёшей решили ограничиться смотринами у его сестры. Она после смерти матери стала для него самым близким человеком, с ней он в больших делах всегда советуется.
Потом мы ждали две недели ответ. Сестра ответила, что она всегда рада видеть своего брата:
«Всегда хорошо, если ты приедешь в деревню и обойдешь всех родственников. Но сейчас, раз это случилось в конце мая, когда в деревне большая запарка – посевная, и все люди в полях, приезжать неблагоразумно. Такие дела в деревне делаются осенью, после сбора урожая, как ты знаешь. На это седьмое ноября есть, государственный праздник. Уже намечена свадьба племянника и хорошо бы вы подстроились со своим приездом, как почетные гости на свадьбе молодых. На деле же пройдут смотрины твоей жены. Пользуясь случаем, передаю тебе привет от дяди твоего, Николая Анисимовича, от тетки твоей, Варвары Петровны», – писала сестра и дальше шло перечисление тех, кто хотел бы послать ему привет – с полдеревни. Их он быстро пробежал глазами с хорошим чувством, что побывал на родине. Уделав все дела, он опять погрузился в работу по двенадцать часов через день, а иногда и на сутки.
Я спрашиваю мать:
– А где же дядя Лёша?
– Он много работает и копит на синий двубортный костюм, чтобы поехать осенью к сестре.
– А в чем же вы тогда ходили расписываться?
– Так, кое в чем, – уклончиво ответила мать.
Я, не умея выдвинуть другую версию, просто обижался на него. Вот отец так бы не поступил. А дядя Лёша исчез! Работа у него-не работа, а он исчез! А нам так нужна помощь. Мы сидим и избываем свое одиночество тем, что мать вышивает «Девушку с кувшином» – выкройку ей дали на работе, а я сижу рядом и выпиливаю. И конца края этому не видно. Что делать – я не знаю. И кто нам поможет – я не вижу. И я молчу, молчу вглухую, чтоб не расстраивать мать и самому не расстраиваться.
А действительно, благословение сестры подействовало. «Вот уж никогда не думала! – удивлялась мать. – Всё так умно сестра рассчитала».
Осенью молодежная свадьба племянника оказалась очень хорошей нишей для представления роду их позднего второго брака. Без шума, без назойливого внимания сестра устроила тихие смотрины: брат и Лида. На его вопрос: «Как тебе моя супруга?» – сестра ответила: «С такой женщиной хоть в пир, хоть в мир, хоть в добрые люди».
Лидка была польщена велеречивостью выражения и высотой смыслов. Такие слова не стыдно будет и внукам повторить через много-много лет. Вот какая я была! Вот как обо мне говорили!
После таких окрыляющих слов она, как молодица, влетела в их свадебное действо – в знаменитую воронежскую матаню. Всю ночь кругом стола ходят, держась за руки, друг за другом, поют и топочут. Сначала в одну сторону топочут, потом в другую. Потом перерыв на выпивку, тосты и здравицы жениху и невесте, родителям, родне, гостям и всем пришедшим, и опять поют и топочут, поют и топочут. И так – всю ночь.
Мать с отчимом ехали обратно в Москву возбужденные и настроенные на семейную жизнь. Они так наэлектризовались свадьбой и гостями, так переполнены были праздничными, легкими впечатлениями от деревни и людей, впечатлениями, представляющими весь цикл человеческой жизни, что уговорились жить дружно, сообща, во всем помогая друг другу. Обещали не иметь тайн друг от друга, а ребенка воспитывать трудолюбивым и ответственным перед семьей. Сговорились родить себе общего ребенка и завести хозяйство, то есть достаток в доме. Ему – как мужчине – завести поросенка, а ей – курей.
– Да-да, – отвечала она в поезде, радуясь. – Так и начнем. И про себя: «К гинекологу только схожу и начнем».
Глава 21. Инспекция
Когда всё наладилось, мать написала дядьке Алексею письмо, что она восстановила семью. Опустила письмо в ящик и стала ждать. Я не понимал: чего можно ждать? Но оказалось, я ошибся. Через некоторое время к нам пожаловала с инспекцией Мотя, узнать, действительно ли всё так, как написано в письме?
– У нас законный брак, – вынула мать свидетельство. – И нормальное воспитание ребенка. Мальчику ведь мужское влияние нужно.
Мать сказала, что дядя Леша, к сожалению, на работе, и накормила свекровь обедом. После этого Мотя, по своей привычке, отерла двумя пальцами губы, поблагодарила за обед и попросила дать ей внука на один день.
Мать немного опешила, но сдержалась и разрешила ей взять меня с собой. Ведь помимо всего она хотела помощи.
– Хорошо, пусть поедет с тобой, – сказала она несколько натужно, но в правильном направлении.
По детской наивности я ужасно обрадовался. Ведь в моем окружении не было опекающих бабушек. Вот у Крезлапа какая-то Кока какие-то конфетки привозит. Но я слышал о городских бабушках, которые берут внуков, чтоб свозить их в цирк или зоопарк, покупают сладкое. Мотя приехала из города – почему бы ей не быть такой же опекающей бабушкой?
Но как только мы дошли до станции и сели в полупустой по случаю воскресенья вагон – все пригородные сидят дома, это на буднях они шастают работать – она тут же, снова отерев двумя пальцами рот, спросила:
– А что, Акимушка, отчим бьет тебя ай нет?
Я вдруг понял, что правду говорить нельзя. Наверно, из-за резкой смены её настроения. Когда мать говорила, что живет с новым мужем, Мотя была благостная, со всем согласная, а тут её вдруг что-то взволновало. Я понял, что подведу мать, если пожалуюсь на отчима, и я сказал:
– Нет, что ты, бабушка!
Она опять, отерев пальцами губы, сказала:
– Да? Ну ладно.
А через некоторое время произнесла еще одну фразу, печально: «Вот такие дела, Акимушка». И больше в электричке не сказала ни слова.
Я надеялся – вдруг мы поедем в цирк или в зоопарк? Но мы почему-то вылезли на Беговой и пошли в гору к Ваганьковскому кладбищу. Не спрашивая меня ни о чем и ничего не говоря, она вошла в во рота и обогнула двухэтажный барак посреди кладбища. Там нелепо и совершенно невозможно шла обычная людская жизнь. Потом на этом месте поставили колумбарий, и все, кто радовался сносу дома, сразу опечалились, потому что убирать могилки стало некому. Весь дом специализировался в этом направлении и этим жил. А кто другим жил – здесь не удерживался.
От дома мы пошли к могиле моего отца.
Место неудачное, матерью не любимое. С ней никто не советовался про это место и вообще, она считала, это были даром выброшенные деньги, в угоду рейтингу деверя: своих министерских он не мог пригласить на поминки куда-то за Москву. А с документами и того хуже: захоронение было без права позже туда захоранивать.
Мотя что-то рассыпала по могилке, говорила мне, что я должен навещать её, что здесь похоронен отец. А мне было неприятно и отвратительно. Я и так знаю, кто тут лежит. Я только не знаю, зачем в 1955 году меня сюда привозили? Зачем вынимали из машины гроб с каким-то мертвым человеком, похожим на изуродованного отца? Весь какой-то синий, опухший, да еще в пиджаке, когда тут и в пальто замерзнешь. Морозина-то был жуткий. А потом эта белая тетка с крыльями в какой-то клетке. Как вцепится своими глазами, когда гроб к могиле провожали. Все взрослые чинно стояли, а Мотя заорала: «Иди с отцом прощаться!» С каким отцом? Я видел только смерть и больше никого. Что она ко мне пристала? Я схватился за соседнюю ограду руками и рыдал. И пауза тянулась долго, пока мать истерично не крикнула: «Да оставьте вы ребенка в покое!»
Но могилкой всё не окончилось. Конечно, Мотя повела меня в кладбищенскую церковь, где так же лежала смерть в гробах, ожидая своего отпевания, и люди отвратительно не замечали, что рядом с ними смерть, а ходили, как будто это их не касается, какие-то свечки покупали. Но как же? Это же смерть! На нее нельзя смотреть! Все должны бежать вон отсюда, а она меня сюда привела и тоже со свечками какими-то путается – что за здравие, что за упокой. Когда уж мы отсюда выйдем?
Когда мы вышли из церкви, то в ее глазах я не увидел ужаса встречи со смертью, что меня удивило. Я увидел желание на это смотреть, раз она сюда приехала.
– Бабушка, а что же будет с теми, которые в гробах лежат?
– Отпевать будут, а потом захоронят, – как об обычном деле сказала она.
«Но это же смерть! Как же ее отпевать будут и как же ее захоронят? Она же не птица, её ведь сеткой не поймаешь?» – так я думал, но спросить не решился. Потому что она старше меня, потому что мало знал ее, буквально два-три раза видел. А у чужого человека не спросишь.
Мне кажется, после кладбища я уже не мечтал о дальнейшем общении. Так разнился её план с моим. Но вот подошел трамвай, мы сели в него и проехали несколько остановок. Она, взяв меня за руку, вышла со мной как будто к себе домой. Сейчас мне кажется, это где-то на Шмитовском, недалеко от кладбища. Мы куда-то немного прошли и позвонили в какую-то квартиру.
Нам открыла очень полная, в большой белой кофте, женщина, похожая на Мотю, но больше, чем она, и сказала менторским тоном:
– Ну что? Привезла внучонка? Ну, покажи, покажи!
Но смотреть на меня не стала, повернулась и пошла в чайную комнату, затылком обинуясь к Моте: «На улице холодно, иди чай пить, а мальца пусть Катя Валерке подбросит. Он все равно следователем хочет быть, ему надо уметь вопросы задавать, пусть потренируется».
В проеме стоял чайный столик, чайный сервиз на четыре персоны и три пожилых женщины принялись разливать чай и беседовать. Меня, как заключенного, повели в противоположную сторону. Подневольно и молча. И пихнули в комнату с пятнадцатилетним подростком, который сидел за столом в позе грозного следователя. Перед ним был чистый лист бумаги, а справа учебник «Основы криминалистики».
Он вежливо, как взрослый, протянул мне руку, слегка приподнявшись на стуле, и сказал:
– Проходите, проходите, – сказал с той вежливостью, с какой шипят змеи, чтобы укусить потом насмерть.
– Да, я вас слушаю, – и он потянулся в кресле. – Ой, извините, извините, это из другого учебника, – вдруг перебил он сам себя. – Это из учебника «Основы юриспруденции». Это у нас необязательный предмет. Обязательный – «Что должен знать следователь НКВД по поводу своей работы». – Да, начнем. Так. Откуда вы?
Я назвал место.
– А папа и мама есть? У нас беседа, беседа! Энергичней! Дружеская беседа!
– Да. Есть.
А потом, сбившись, говорю:
– То есть мама есть, а папы нет.
– А кто есть вместо папы?
– Сначала никого не было. Дядя Леша ходил.
– Дядя Леша? Это кто?
– Дядя Леша – это папин друг.
– Папин друг? А что же папа?
– А папа погиб.
– Да? Погиб? А потом что?
– А потом появился дядя Леша-два. Наша соседка просила звать его папой.
– Да. А ты что?
– Я вижу, что это не папа. Я не могу его звать «папа». Поэтому я и спросил, нет ли еще какого слова, если «дядя Леша» – не подходит. Может, какое третье слово есть?
– Да, и что?
– Соседка сказала, что третьего слова нет. Но потом оказалось, что оно все-таки есть. Правда, я узнал это через полгода, случайно. Соседка спросила, имея в виду именно дядю Лешу, но назвала его третьим словом. Отчим – третье слово.
– И что теперь?
– Теперь мне стыдно за те полгода, когда я насильно называл его папой. Я никак его не называю. А другим говорю – отчим.
На этом дверь открылась, и Мотя позвала меня. Честно, если бы она не позвала, со мной случился бы коллапс. Я больше не мог в допросительном тоне разговаривать с человеком старше меня на восемь лет. Я постарался побыстрее перебежать к бабке.
– Ну, хорошо, хорошо, – потирая руки, как взрослый, удовлетворенный беседой, сказал Валера. – Хорошо поговорили. Вы заезжайте, заезжайте, еще поговорим.
Я зарылся от ужаса в свое пальто на вешалке и копался в нем столько, чтобы в открытую бабкой дверь сразу выскочить на улицу. Как мы ехали обратно – совершенно не помню. Зато я понял, что у нее было две задачи: узнать насчет брака матери и показать меня своим родственникам. Больше ее ничего не интересовало.
И больше мы не встречались.
Глава 22. Курганы
Отчаянно жаркий май первого года школы был торпедирован объявлением в предпоследний день: не учимся, идем в поход. И полетели наконец-то в тартарары и теплая форма, и набитый портфель. Налегке, в домашнем, как взрослые – руки в карманы, пришли мы загодя к школе и бурно стали обсуждать, куда нас поведут.
Одни говорили, что на север, там колхоз в деревне Акишево, а в колхозе конюшня и в ней лошади. Вот их и поведут смотреть. Другие возражали, что никаких лошадей, кроме одной старой клячи там нет. Всех татарам на мясо сдали, они едят конину. Третьи говорили, что нет, поведут на юг по главной – Интернациональной улице – до аэропорта, смотреть, как садятся самолеты на Внуковский аэродром. Четвертые говорили – ничего интересного там нет, поведут на запад, где кирпичный завод и огромные печи. Там машина кирпичей въезжает в печь и их обжигают. А пятые говорили, что нет, поведут, как и всегда по праздникам, только на восток, где у нас правительственный поворот на правительственные дачи. И там мы увидим, возможно, своих вождей и будем махать им рукой.
Потом подошли учителя. Наша – уныло пожилая первого «А» и их – первого «Б» – озорно молоденькая. Позже подошел географ – высокий представительный мужчина в шляпе. Он у нас даже не преподавал. Он в средних классах уроки вел.
Нас построили. Впереди нас встали учителя, позади – пионервожатая, и мы пошли. Ни на север, ни на юг, ни на запад, ни на восток – никуда из перечисленных мест в нашем споре. А сразу за школу, по тропинке, поросшей бурьяном, в направлении деревни Красная Горка, в поля. Не доходя до деревни метров триста, остановились в ничем не примечательном месте. Ну, может быть, только трава тут была как-то особенно зелена.
– Остановиться! – передали по цепочке.
И еще:
– Осторожно, не замочите ноги!
И мы в недоумении остановились.
– Для нормальной жизни человеку нужно надежное место и устойчивая дорога, – начал географ. – Место нужно для строительства дома и ведения хозяйства. А дорога, чтобы обмениваться с соседями товарами, навыками и мыслями. О месте вам будут говорить в четвертом классе, а о дороге мы будем говорить сейчас, – географ не разбирался в возрастах, как и все географы, и начал читать нам, первоклашкам, лекцию, как привык читать в среднем звене, без скидок на возраст.
– Место было найдено нашими предками в двадцати пяти километрах отсюда, в Москве. А дорога – вот она. Старый Смоленский тракт, в километре отсюда. Начиналась она так: выправляли и связывали охотничьи тропы от Москвы до Смоленска. При дороге стали появляться ямские деревни, где можно было нанять лошадей. Около одной из них мы сейчас и стоим. Это незамысловатое болотце впереди – главная ценность ямской деревни. Здесь бьют родники, и вода по канавкам сбегает в общественный деревенский пруд. Лошадь не может без овса, сена и чистой воды. Ни из какой мутной лужи она пить не будет.
Географ выглядел, как волк: седые волосы, крупный нос и узкое лицо. Бр-р-р.
– Далее, до следующего пруда идет сухое русло. Но это только летом. Следующий пруд весной наполняется талой водой. Его мы тоже сегодня увидим. Это так называемое Решетниковское озеро. Да, кроме воды для лошадей нужны овес и сено, и по первости крестьяне вырубали лес и сжигали его, чтобы получить поля для посева. И только со второго пруда начинается собственно река Самынка, местная достопримечательность. Протяженностью 8 километров, впадает в Москва-реку неподалеку от деревни Барвиха. А сейчас, с заходом на лесную поляну для игр, мы будем двигаться к Решетниковскому озеру. Да, мы будем проходить правительственное шоссе, так что, если проедет милиционер на мотоцикле или правительственная машина – не лыбиться, не делать рожицы, не показывать пальцем и вообще не своевольничать! А идти гуськом, смотря впереди идущему в затылок!
Самозабвенно любя свой предмет, географ не делал никаких скидок на возраст, а говорил, как по-писанному, одно содержание. Нам, первоклашкам, это было непривычно. Мы построились, ошеломленные.
Получалось, что из какого-то маленького болотца, он, как землекоп, но без лопаты, одними словами выкопал что-то такое большое и непонятное, которое назвал патриотизмом и что призвал иметь при себе всю жизнь, как одну из неукоснительных в жизни обязанностей.
Нас опять построили, опять приделали нам голову из учителей и хвост из вожатых, и мы пошли. Неожиданно поход понравился, хотя и не сразу. Идти по набитой устойчивой тропке рядом с шоссе, в тени больших дубов-гекатонхейров, обдуваемых легким, как морской бриз, ветерком, было приятно.
А вот игра на лесной поляне как-то не задалась. Как только вошли – стало парко и душно. Сухие опавшие листья таили под собой непросохшую влагу. Ни волейбол, ни штандер девочек, ни их букетики медуниц и желтых цветов вроде куриной слепоты, а равно как и мальчиковые залезания на упавшие деревья и перепрыгивания, не заняли никого надолго. То один упал и промок, то второй упал и испачкался.
Учителя и вожатые, начав с предупреждений, быстро перешли к запретам, а потом и сами поняли, что надо уходить, если они не хотят, чтобы дети вывозились, как поросята. Надо возвращаться на тропку. Собрали, утихомирили, построили, вышли. Пересекли шоссе, полюбовались у плотины, как маленькая плотвичка, смешно и задорно сверкая на солнце, перекатывается из озера по лотку, а дальше в речку и в туннель под шоссе, между ветлами плотины.
Прошли берегом озера, обходя хозпостройки, и вышли к старому выезду, он же въезд в усадьбу. Большая зрелая еловая аллея, еще аж с ХIХ века, конечно, уже никому не нужная, тогда как шоссе проложено в 30-х годах ХХ века. Все ахнули, увидев впереди под собой большое, чистое и гладкое зеркало воды. Спустились к нему бочком, увидели на холме большой двухэтажный усадебный дом, крашеный синей краской, большой квадрат лугового партера, спускающегося к озеру, и две колоннады больших зрелых елей, обрамляющих партер.
Мы впервые видели величественное и не знали, как к этому отнестись. Как к нецелесообразному? Как к страшному, если ночь, или как к отжившему, непонятному? Ну а дальше – как всегда в серьезных походах бывает. После трех четвертей похода кончаются силы, последняя четверть – тянись, как хочешь. Нотациями старших или противностью ко всему на свете, потому что ты устал, да еще под палящим солнцем, да еще по заливному лугу, да еще в город до первых домов под старыми липами… И потом повалиться в траву у изгороди и видеть, как побежали вожатые за водой. А после паузы, напившись, девчонки начали трещать, что им так и не дали по-настоящему, как следует поиграть, а сырость в лесу не помеха…
Мальчики долго молчали. Позже и у них возникло несогласие. Как же так? Во всем походе единственное достойное мальчиковое событие – курганы. И те мы прошли мимо, даже не остановились. И географ нам ничего про них не сказал, что бы там могло лежать.
Потом, еще немного посидев, пять человек из нашего класса хотели отчалить. Оказывается, они тут живут, счастливчики, рядом с лесной тайной: Шум, Зуб, Пригож, Гордеев, ну и конечно Крезлап.
Кстати, он – единственный, кто не согласился, что мы действительно ничего больше не можем сказать по поводу лесной тайны. У него было еще кое-что. Например, гипотетически предположить, что там могло лежать. И он сказал:
– Должно быть, в курганах остались лежать немецкие автоматы.
Все мальчики разволновались и воспряли.
– И замурованы там немецкие пулеметы. И где-то сбоку патронов много, – наяривал Крезлап.
Мальчики уже готовы были бежать к географу и просить вернуть их обратно.
– А каски и наградные кресты – обязательно, – не унимался Крезлап. – А без карт взятия Москвы и дензнаков диверсантам, помогающим немцам, курганов не бывает.
Тут уж, видно, он пересолил, так что все засомневались и решили пойти спросить у вожатых.
– Нет, – сказал вожатый, – немецкого там ничего нет, скорее там от первой Отечественной войны предметы.
– Какой-какой? – не поняли мы.
– Ну, с немцами мы дрались в ХХ веке во вторую Отечественную. А первая Отечественная была в девятнадцатом, с французом. Ну, Наполеона знаете?
– Так это еще лучше… – не сдавался Крезлап. – Там, значит, сабли, кремниевые ружья, кивера, барабаны, наградные звезды. Упряжь для боевой лошади. А еще франки.
Мол, всё равно есть смысл идти с лопатой и копать. Все вновь очень заинтересовались. И вновь от пересола охладели. Ну заливает! Как в кино! И все потихонечку начали расходиться.
Пожав плечами, вожатый пошел к себе. Пусть лежит то, что хотите.
Пять человек, живущих здесь, уже ушли, а мне еще переть и переть домой. А они рядом с тайной живут.
После отчаливания нижнеотрадненских, а именно так называлось это место поселка, идея курганов, такая большая и бурная, вдруг истончилась и стала заунывной точкой внутри меня.
Да-а-а, им-то хорошо жить с лесной тайной. Им-то хорошо всем вместе… А каково мне, восьмилетнему мальчику, одному на всю улицу? Да еще идти туда два часа. Короче, завидовал я им, шлепая по неизвестной пока мне местности: птицеферма, стог сена, конюшня с одной-единственной лошадью и густым запахом конского пота, школа. А потом известно – школьный пруд и наша улица.
Глава 23. Получение смотровых
Когда через два месяца пришла бумага явиться в исполком Подгороднего, мать была так обессилена и так устала ходить по учреждениям, что не могла взять в голову, зачем её вызывают? Еще что ли мучить? Я этого больше не выдержу. Но сила государственной бумаги все-таки заставила ее идти.
Она хотела было опять занять очередь к Брикетову, с которого всё начиналось и которого видеть она уже не могла, но секретарша вдруг расторопно завернула её и затараторила:
– Гражданочка, гражданочка! Вам сюда! Ко мне! Вот вам три смотровых! Одну из них выберете, две других нам верните.
Она пошла. Барак у железной дороги. А мужа ночью сбросили с поезда. Нет, я не могу на это смотреть каждый день.
Вторая – четыреста метров от правительственного поворота. Ах, какой домик! Вот бы мне такой! И с участком! Да, как раз он мне и записан.
Но когда вошла – печка развалена. Но мать не сдалась. Думает – замажу глиной, начну жить. Взяла лопату, вышла, начала огород копать. Слышит – смешок. Не придала этому значения. Копает дальше. Опять смешок. Оглянулась – никого. Копает дальше. Опять явственно – молодых ребят. Не может понять, откуда. Ясно – её спина их возбудила, она же разнагишалась. Поднимает глаза в сторону шоссе – а там, не знаю, как это называется, в общем, хитренько поставлена дежурка с кроватями. Вся в стекле. Трехэтажное стеклянное здание на взвод солдат – расширенный патруль на правительственной дороге.
Ну нет! Со зрителями она жить не захотела. Пошла к школе, забрала меня, и мы пошли по третьему адресу. Я был поражен. Мы идем сначала мимо деревни, пересекаем Самынку. Правда, я не понял, почему она сухая. Географ в походе говорил, что она вроде как течет. Я не сообразил, что воду забирает пруд, вокруг которого стоят дома. Нижний хозяйственный пруд забирает воду. Так что на лето русло остается сухим и по нему ходят в Нижнее Отрадное. А в Решетниковское озеро вода собирается ниже по течению ручьями и притоками. А уж весной вся уйма воды со всех полей, ломая плотины, заполняет всё русло.
А сейчас мы приходим с матерью на место, что рядом с домом Крезлапа в Нижнем Отрадном. И я так обрадовался, что буду теперь жить рядом с курганами и Крезлапом. Завтра же взять лопату, зайти за ним и бежать открывать тайну курганов!
На следующее утро я сходил в школу за аттестационным листом. Мда-а, так себе отметки, между тройкой и четверкой. И стал ждать мать у школьного пруда, потихоньку сосредотачиваясь на том, что она вчера сказала про переезд, и всё больше и больше раздражаясь по этому поводу.
Это что же такое получается? Такое важное, даже главное в нашей семейной жизни событие, как переезд, совершается без меня? Силами только взрослых – матери и дяди Леши с машиной? А я, вы ходит, никто? Я – ребенок? Я – ребенок, да. Но наполовину. А вторая моя половина – заместитель умершего отца в партнерских беседах матери. Почему-то мать раньше понимала это, уважала это и гордилась этим. И восхищалась этим. И жила этим, как и я. Без этого мы бы не выжили после смерти отца. А тут вдруг она проигнорировала меня как своего партнера, оставив меня только как своего ребенка. А мне этого мало. Я с этим не согласен.
И я так себя накрутил, что, когда мать пришла за мной, от обиды я и глядеть на нее не мог. Молчал и на все ее детские вопросы ко мне по поводу отметок отворачивался. На все ее попытки пойти напролом – «Ну что такое, Акимушка? Что случилось?» – я отмалчивался, дул губы. Потом она поняла, что напрямую не пролезет и догадалась сыграть в партнерство. Я никогда не мог противиться этому, был рад и признателен.
– Ах, это! Подумаешь событие! Кровать да два узла перевезти! Один с посудой, другой – с бельем. Тоже мне событие! А вот нас ждет событие настоящее, и мы поедем туда всей семьей! Ты, я и дядя Леша!
– Что-что? – спросил я обескураженно.
– Я прочитала на днях на столбе объявление, что продается шкаф. В воскресенье мы поедем за ним. Вот это будет настоящее семейное событие! В шкаф мы переложим в кои-то веки всё-всё, что постоянно лежит на подоконнике да на стульях, положим по полочкам, повесим, куда надо. И даже одну полочку я тебе выделю для твоего лобзика и фанерок.
Разговор как с партнером, как с заместителем отца – вот это мне всегда нравилось в матери и всегда окрыляло. Я признательно взял ее за руку, и так за руку мы и пошли в новый дом, в новые жилусловия. В семиметровую комнату. Но свою, а не съемную.
Глава 24. Шкаф
Сначала мне казалось, что дядя Леша – с материной работы. Один раз он приглашал нас с матерью покататься на машине в Клин, познакомиться. Потом он стал приезжать к нам на Народную поздно вечером, раздевался, умывался, молча ел, что мать подаст, и ложился спать. Со мной он уже не заговаривал, а утром уезжал к себе на работу, так что мне стало казаться, что он не с материной работы, а хозяйский работник, которого хозяйке некуда поселить, и она попросила мать, как свою жиличку, поместить его как-нибудь у себя.
А когда мать сказала, что нам дали комнату семь метров по потере кормильца и мы скоро уезжаем отсюда, я надеялся, что поедем мы с матерью, а его оставим здесь.
Утром я взял мать за руку, и мы пошли на железнодорожную станцию, в центр Подгороднего, где всё магазины, продукты, промтовары, керосин, и ходят электрички до го рода.
Мать шла, как это всегда в ней было перед большой семейной покупкой, заранее волнуясь, и потому молча и не мешала мне думать про себя.
Понятное дело, плохо столько лет не иметь женских хозяйственных полочек из-за неимения собственного жилья. Наконец его дали – семь метров в полуподвале, экая роскошь! С окном на корни георгинов, посаженных теми, кто живет выше. Зато свое, как говорит мать.
На переходе через шоссе, которое в Подгороднем идет параллельно железной дороге, мать остановилась:
– Сейчас дядя Леша подъедет, подождем.
Я согласно кивнул, не выпуская руку из руки матери. Так мы и стояли, держа друг друга за руки, в ожидании машины.
Когда машина подъехала – большая грузовая с контейнером за бортом, из нее вышел пожилой мужчина, усталый, в брезентовом халате и поношенной большой кепке. Я сначала даже не понял, что это дядя Леша. Так разительно он отличался от того дяди Леши двухмесячной давности, дяди Леши первой встречи в городе, в апреле. Мы вот так же с матерью стояли и ждали его на тротуаре. И он как-то залихватски подъехал, будто на тройке, на своем грузовике, молодцевато выскочил из машины, в темной робе, но улыбчивый, с чубом из-под кепки, и начал нас дружелюбно подсаживать в кабину, как будто это была, по крайней мере, какая-нибудь легковушка. Он широко улыбался, а мать скромничала и пунцовела, довольная. А мне он совал книжку-распашонку про козленка из киоска «Союзпечать». Мы тогда ездили, как мне сказала мать, кататься на машине в Клин, а вышло по взрослому – знакомиться.
Теперь, в Подгороднем, спустя два месяца, он вышел к нам буднично и рассказал, как трудно ему было получить путевку именно в эту сторону. У них в колонне с этим делом строго. Меня вот здесь на пятачке милиция проверила. Мать сказала ему в ответ: «Вот сюда, Лёш, езжай» и махнула в сторону железнодорожной станции, до которой мы не дошли метров пятьсот. А он возразил ей, не глядя на нее, распутывая какую-то веревку в руках:
– Видишь – знак висит? Проезд запрещен, придется в объезд.
– В объезд? – с недоумением проговорила мать, никогда не пользовавшаяся личным транспортом, а только электричкой «Ржевка – Подгородний». Ей было обидно, но он не стал ее утешать. Он был с ночи.
Потом мы усаживались. Сначала он обошел машину и сел за руль. Нагнувшись в кабине, открыл нам дверцу. И в кабину сначала полезла мать, в середину, потом полез я, чтобы сесть с краю, у бардачка – единственное, что я выучил из той клинской поездки на машине, с его подачи, конечно. Потом все захлопывали мою дверь.
В конце концов, это даже неплохо, что мы объедем весь Подгородний и увидим его с той стороны, увидеть которую никогда раньше не доводилось.
Железная дорога делила Подгородний примерно пополам, и мы всегда от железной дороги ходили только в свою правую сторону и никогда на противоположную. Посмотрим, что там за народ ходит, какие дома стоят, думал я, когда мы поехали. Но когда мы обогнули Подгородний, оказалось, что там, к моему разочарованию, ничего интересного, что там все то же, что и на нашей стороне. Всё те же заводские серые бараки кирпичного завода, и всё те же люди в телагах и кирзе. Поэтому, когда мы подъехали к какому-то серому, видавшему виды забору с глухой некрашеной калиткой, я и не ждал ничего примечательного, тем более что навстречу, на наш стук, дверь открыл маленький пожилой мужчина, почти старик, в серой телаге. Правда, вместо кирзы на его босых ногах были почему-то галоши. С первых его слов меня удивила в нем учрежденческая городская любезность, с которой он, непонятно почему, ласково встретил нас, обращаясь преимущественно к матери, молодой, здоровой, крупной тридцатипятилетней женщине.
– Да, да, проходите, пожалуйста, через участок и направо. Я сделал так, как мы с вами условились. Шкаф ждет вас. Нет, нет, дальше, в коттедж проходите. А это моя жена, она сейчас занята, – показал он на пожилую женщину, копающуюся в грядках и не обращающую на нас никакого внимания.
Мы прошли тропкой посредине участка, оставляя справа небольшой трехоконный, почти игрушечный, очень старый деревянный дом в деревенском стиле. Прошли почти до конца к новому, в функциональном стиле, никогда не виданному еще в Подгороднем коттеджу – легкому дому из струганных досок, с большими во всю стену окнами на южную сторону, где каждый сантиметр – только для отдыха. И вошли в дверь под навесом в дальнем от калитки углу.
Мать шла, немного волнуясь, как и всегда, когда большое дело вынуждало ее встречаться с новыми незнакомыми людьми. Мы трое вошли в коттедж и остолбенели. На нас смотрела (тоже виденная впервые) большая зеркальная стена во всю заднюю стену коттеджа. Она отражала во всю ширь (и это было самое непереносимое и восхитительное) голубое пространство неба в июньских облачках. В середине картины высокие мачтовые сосны величаво покачивали на ветру свои кроны, а внизу цвели роскошные бордовые и белые пионы. По всем-всем грядкам, что были на участке. И всё это заливало яркое, безудержное, задорное солнце.
От такой картины у нас захватило дух. Мы не могли ни слова сказать, ни шага сделать. Нам вдруг показалось, что вот она – семейная надежда, которую мы алкаем, вот что мы хотим построить и вот как должно выглядеть реальное семейное счастье уже сейчас, раз мы все трое хотим и согласны жить семьей.
А рядом у стены неуклюже и сумрачно, как бы вне теперешнего времени, стоял громоздкий и темный, никому не нужный шкаф и в новом времени остро ощущал свою ненужность. Всем своим жалким видом он как бы подталкивал нас к последней, самой дерзновенной мысли – вот где вам размещать свое семейное счастье. И оттого, что зрительный образ настоящего семейного счастья был нам только что явлен сейчас и здесь, мы не могли пошевелиться и стояли, как завороженные, будто перед каким-то откровением.
Пожилой мужчина, почти старик, в серой телаге и галошах на босу ногу и подскочившая к нему вплотную жена, некрасивая, потная, в безобразно домашнем, вылинявшем платье, с испачканными навозом руками, вдруг уловили свой промах, глядя на нас, наивных. Поскаредничали, не вынесли старый шкаф до калитки, а впустили людей сюда, в свое тайное. И пожилой мужчина употребил всё свое красноречие, чтобы сбалансировать ситуацию.
– Ну что вы расстроились? – заговорил он негромко и медоточиво, подвигая нас в обход горки свежих стружек посреди коттеджа – последнее усилие перед въездом. – Это ценой всей жизни получается. Выучиться, отработать в заводоуправлении, что напротив, получить участок, перевести жену из машинисток заводоуправления в семейные садоводы и десять лет, не разгибаясь, сажать, руки в навозе, цветы и продавать их на рынке. И только тогда … А вы еще в самом начале, как я понял? Вам еще над достатком трудиться и трудиться.
Он довел нас до вдруг ставшим неприятным шкафа, который еще утром был пределом нашего мечтания, и продолжил, положа руку на шкаф и похлопывая его легонько по боку, как верного конягу.
– Этот шкаф – отличный помощник. Верой и правдой служил нам всю жизнь, добротен и надежен, и мы никогда бы не решились с ним расстаться, если бы не новые времена и возможности. Думаю, он и вам сослужит верную службу. Для начала это очень хорошее приобретение. Здесь есть и зеркало, и отделение для одежды, и посудные полочки, и большой обувной ящик. Вот, вот, смотрите…
С его слов мы вдруг опамятовали. Нам стало стыдно за свои наивные, неуправляемые и ни на чем реальном не основанные мечтания. Мы застыдились, будто захотели чего-то чужого и будто нас даже уличили в этом. А мы ведь ничего плохого не хотели. Мы не знали, как это с нами получилось.
Поэтому мы быстренько-быстренько осмотрели шкаф и, положив его с хозяином на бочок, поспешили вынести. Взгромоздили в контейнер и, согласившись с хозяином, что да, на всякий случай надо колом закрепить его в контейнере, чтобы он не «гулял» при поездке, раскланялись и поехали. Хозяйка за калитку так и не вышла.
Дорога перемалывает всё. Дорога втягивает тебя в свое натужное ощущение пути, выпотрашивая из тебя горячее, остужая его, вводя в норму собственную суть. Пережив непрошенный эмоциональный подъем, пережив и виноватость за него, каждый из нас предался своим излюбленным на то время предощущениям начала новой семейной и обязательно счастливой жизни.
Может быть, каждый из нас арьергардно немножко понедоумевал, как это мы так, не сговариваясь и всё такое, были все трое зачарованы? Но накатил смешной грибной дождь, когда хочется крупные теплые капли хватать руками, заулыбалось промытое солнце, и на небо выпряглась царственная, ни с чем не сравнимая радуга.
В виду ничейной (таким образом и его) радуги, дядя Леша, руля, думал: «Что предложила Любка, привратница на Ржевской-товарне? Жить якобы братом, с ней и с ее мужем в их комнате, но в разные смены с мужем? Когда муж уходит на работу – мы с тобой занимаемся любовью. Это чистейшей воды авантюра. Авантюра замешана на обмане. А на обмане долго не проживешь. Не крестьянское это дело – обманом жить. Крестьянин должен не менее как на год свой севооборот рассчитать. И не менее чем на сто лет рассчитать дом. И на вечность рассчитать род. А она что? Вот такие они, городские, им бы урвать сегодня, а что завтра – их не волнует. Я ее спрашиваю – а завтра-то что? Смеется. Я говорю: рожа битая, задница поротая? А ей плевать. Ничего, говорит, проморгаемся. Ну, раз-другой по бьет, а раз-другой так побранится, да и отстанет.
Нет, разве это дело? Во всем нужна основательность, а тем более в таком деле, как брак. Вот Лидка. Я ей муж, она мне жена, мы вместе хотим поднимать свое хозяйство. Всё на законных основаниях. Никто шушукаться в подворотне не будет, нелицеприятные разговоры вести. Пусть и с ребенком она. Что ж, мужское дело я знаю. Опыт солдатский передам. Мальчонке это всегда пригодится. Хозяйством основательно займемся, как положено. Чтоб людям не стыдно в глаза посмотреть и себя показать. Хочу степенную жену и достаток, а не какие-то зазаборные шашни. Я уже не молодой».
Мать, глядя с надеждой и умилением на красочную, невесть откуда взявшуюся дугу, думала: «Я-то попалась, считала – раз друг мужа, значит во всем равен ему. А он – оказалось – полная противоположность мужу. Муж открытый, широкий и нерасчетливый человек. Всё бы ему с компанией. Всех бы ему веселить, радовать, устраивать праздники. А этот – нет, этот себе на уме. Муж всё совместные планы строил, общие с партнером, любил о них рассказывать. А друг мужа – нет, у него только свои планы и никогда о них не рассказывал и как ты будешь дальше жить – его абсолютно не интересовало. Он ни в чем помогать партнеру не будет и никогда не скажет, как поступить. А спросишь – или выкрутится или впрямую нагрубит – отстань. Разве это муж? И чего я, дура, с ним целый год проваландалась? Всё чего-то ждала. Правильно, что я с ним порвала. Конечно, в постели хорош. И себе хорош, и тебя не забудет. Поискусней и мужа будет. Тот горяч, но разбрасывается, а этот опытен и терпелив. Но забыть придется. Это не муж, которого помнишь всегда, хотя он и мертв.
А теперешний дядя Леша – прост и неискушен. Без любви, зато надежен, зато сообща своим горбом достаток добывать будем. А мне привыкать что ли? С детства отец к работе приучил. Да и мальчонке мужская рука нужна. Устала я одна с ним. И работай – я, и воспитывай – я, и хозяйство – я. Пусть мужчина тоже свою ношу семейную несет».
А я взирал, как и все дети взирают на радугу, как на нерукотворное чудо, которое никем не создано, но радует всех. Это же тебе не город, где сколько хочешь впечатлений: вышел на вокзале – вот тебе трамвай, поехал в парк Горького – вот тебе колесо обзора. Непредсказуемая радость, которой так мало в Подгороднем. И ничем не хуже, чем их американский пейзаж.
Да, я хочу дружить, но в садике не получилось. Был на Спортивной друг, но много ли надружишь, если ты в садике шесть дней, а один день дома? Всё спехом. А на Народной с хозяйкой все дома прошли – ни одного мальчика. А с девчонками я не хочу. Ну их, какие-то они не такие.
Да-а, вот бы здесь, на новом месте, ребят было много и мне бы друг заветный нашелся, чтобы дружить всегда-всегда, и ссоры, и невзгоды сообща и честно преодолевать.
В пути все молчали, и каждый говорил себе: «Ну я ведь не хотел чужого счастья, не хотел и своего даром. Почему же я так, как к чуду, прилип к виду чужого счастья?»
Ответа не было ни у кого. Реальность семейного счастья как процесса, который рисовался бы пошагово, была вдруг перечеркнута видением семейного счастья как итога. И мы не знали, что бороться с этим бесполезно. Подобное можно было только изжить со временем или вытеснить чем-либо другим. Молчали до поворота на свою дорогу. Молчали и до второго поворота.
Потом мы свернули с Красногорского шоссе – это дачная правительственная дорога – на Верхнеотрадненскую бетонку. Дальше правительственные и академические дачи до самого конца, до спуска, никак не оформленного. По нему ездили только в сухую погоду. И тут пошел сильный дождь, над нами высоко в небе и одновременно рядом (всегда как-то на большом бугре высокое рядом с то бой) висела черная туча, а позади кабины угрожающе нависал контейнер. Единственное, что можно было сделать, – это быстро и опытно спуститься в надежде, что земля еще не промокла, промок только верхний слой, и нам всё-таки удастся удержать машину в приемлемых рамках. То есть надо было проявить мужское и шоферское геройство. Дядя Леша напрягся, начал быстро перебирать руками всякие ручки, мы с матерью молчали, затаив дыхание, а машина медленно, но неуклонно начала ползти вбок и в яму.
Благополучно спустившись в зеленый дол с колодцем и дикой яблоней, который я сразу же узнал по походу с географом, мы перевели дыхание и весело погнали по ровному месту до Мурмана с большими липами, питьевым колодцем и лавочкой, на которой спорили о курганах.
Я помечтал тогда: «Вот бы здесь жить! И ребят много и тайна курганов в лесу интересна». Оказалось, именно здесь и дали матери комнату. Теперь как-нибудь дружбу изловчиться завести. Но я это не додумал.
Мы боком проскочили Мурман, потом дом одноклассника и вплотную подъехали к высокому холму, на котором стояла Донецкая дача. Нам надо было брать этот холм. Дорога сузилась до тропинки, дождь не переставал, и земля всё глубже и глубже промокала. Дяде Леше пришлось второй раз геройствовать, пришлось быть центром, опорой и властелином ситуации. Как это должно быть приятно мужчине, почетно и ответственно. Им можно было залюбоваться. Он опять напрягся, что-то быстро сделал руками, поджал ногами какие-то педали, машина взревела, пошла медленно, но неуклонно вверх, как бык, надрываясь, но таща себя, поклажу, ситуацию и взгляды всех ротозеев, которые с ужасом смотрели в окна, как машину болтало по тропинке, как колеса пытались ухватиться хотя бы за боковую траву, что зовется «гусиные лапки», то угрожая левому забору с кустами сирени у террасы, а то как бы страшась упасть в картофельную делянку и застрять там насмерть.
«Не лопнет ли от натуги мотор? И выдержит ли дядя Леша ту ноту, которую он взял?» – вот мысли, которые колом встали у нас в голове во время – не скажу работы, а священнодействия шофера. Потом машина бултыхнулась и въехала на поляну перед домом – Донецкой дачей.
Что-то сильно хлопнуло перед этим и сверкнуло сзади нас, но мы этого не слышали и не видели, мысленно помогая машине в её непосильном труде. Только почувствовали, что в лицах соглядатаев, с любопытством облепивших окна, отразился ужас произошедшего.