Читать онлайн Солнцедар бесплатно
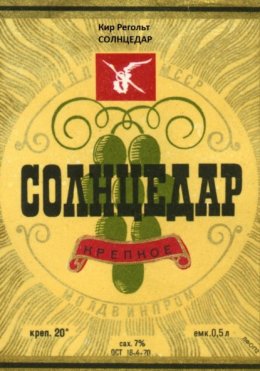
В 1988 году я зашел на почту за пенсией и случайно разговорился там с одним приезжим инженером, который ждал междугородный звонок. Зовут меня Григорий Даркин, я 1900 года рождения, уроженец Псковской губернии Российской империи. Упомянутая почта находилась в маленьком городке Алга под Актюбинском в северном Казахстане. Городок этот образовался в 1934 году, когда советская власть обнаружила там месторождение фосфоритоносных руд и начала строить в этом месте Актюбинский химический комбинат имени С. М. Кирова. На этот-то комбинат и приезжал мой инженер по обмену опытом. Мы разговорились и продолжили нашу беседу на улице, на скамеечке под деревьями. Все, что рассказал мне этот сорокалетний человек про свою жизнь, потрясло меня. Но потрясло не как представителя рода человеческого, а как меня, лично. Дело касалось моей личной биографии. Я услышал в его рассказе продолжение своей жизни. Той жизни, которая прервалась в 1939 году в подвале Псковского окротдела НКВД. Но обо всем по порядку.
Сибарит.
Была ли тогда биржа? Была! Именно тогда, в год моего рождения, в 1900 году в столице России Санкт-Петербурге министр финансов Витте узаконил стихийно формировавшийся уже как сорок лет фондовый отдел Санкт-Петербургской Биржи. Тогда Россия наконец-то постигла диалектику смыслов капиталистической экономики и семимильными шагами устремилась к 1913 году – году своего наибольшего процветания.
После войны с Наполеоном европейский капитализм стал быстро просачиваться в деловой оборот российских хозяйств. По земле расползлась проволока железных дорог, по рекам поплыли белые пароходы, фабрики и заводы обзавелись кирпичными стенами, паровым оборудованием и машинами. Параллельно с материальным самовоплощением капитализм насадил в головах российских предпринимателей идеи частной собственности, рыночного ценообразования, свободы предпринимательской воли и договора. Изделия он превратил в товары, товары обезличил в искомые количества меновой стоимости, от меновой стоимости отклеил юридическое право потребовать, а уже это требование в свою очередь объективировал в массовую доступность – в ценные бумаги.
Произошло так благодаря разделению труда и появившимся из-за этого технологиям: все стало на поток. Много раз повторяющиеся операции в хаосе мириад всех операций вообще, обрели искусственные формы и отвердели. Искусство – я напомню – это борьба с энтропией. Эти затвердевшие формы оторвались от личностей субъектов рынка их использующих, и обрели самостоятельную безличную жизнь на просторах Восточно-Европейской равнины. Такая объективация стала возможной только благодаря скоростям. Быстро проводимая операция во множестве одинаковых повторений требует массовой штамповки быстрых решений. Но как принимать решения в условиях недостатка информации, неизвестности, незнакомости, зыбкости. Как? – на доверии! Доверие – сила социального трения. Именно отсутствие доверия всегда создавало и создает по сей день невыносимое трение, затрудняющее осуществление сделок на Руси. Но жажда наживы сильнее страха потери. В те годы доверие преодолело силу земного притяжения, и рыночный волчок завертелся на полную катушку.
Товар, деньги, товар. Кредит, ссуда, гонорар. Вексель, фрахт и божий дар. Мыло, чай и самовар. Скупали, производили, обрабатывали, продавали. Банки, заводы, газеты, пароходы. Кто хотел торговать, тот торговал. А он – нет. Не мог или не хотел или не умел… Хотя здесь надо хорошенько подумать, чтобы не обидеть человека. Ведь «он» – это мой отец: помещик Васильев. Да, так уж вышло, что я сын дворовой девки Дарьи, прижитый ею от молодого барина, сына заройского помещика Васильева. Отсюда и фамилия моя – Даркин, то бишь сын Дарьи. В моём контексте было бы благозвучней – «Подаркин». Но вышел по фамилии только Даркин, по имени – Григорий, по отчеству – Васильевич. Конечно, Васильевич только по отчеству! Ну, не по фамилии же! Это не шутка! Для русского человека нет ничего важнее дела крови и всех остальных несуществующих сакральных смыслов. Это право (право крови) легко доказать. Следовательно, легко и наследство получить. Правда также легко наследство и промотать, но это, как вы поняли, не про меня.
Итак, заройский помещик Васильев! Чем бы он мог заниматься в жизни? Ну, например, торговать льном. Псков – это льняное царство. Лён выращивают везде. В Псковской губернии в 1890 году имелось 45 льнотрепальных предприятий. Далее – кожевенное производство. Далее – лесопилки и кирпичные заводики. Ну и совсем мало известковых и стекольных заводов. Плюс нерадивое сельское хозяйство. По сегодняшним меркам, наверное, мог открыть магазин, парикмахерскую, ресторан и гостиницу, мог заняться перевозками. Мог служить в министерстве, на таможне, на железной дороге. Мог уехать в столицу на заработки. Мог работать учителем, почтальоном, полицейским. Но не работал. Зачем? Русскому человеку не нужны деньги. От них одни проблемы. Деньги требуют от человека поступков. Они зовут. Манят. Они дают свободу, о ужас! Деньги – это открепительное удостоверение от земли в самодостаточность, от природы в искусство, от инстинкта к разумной жизни. Другое дело без денег. В мире где есть только натуральное хозяйство ничто не нарушает сложившийся статус кво. Ванька тут, Манька там. Это – барин, это холопья. Куда пошел, стоять! Ась, не слышу? Оплеух с утра нараздал, теперь и поспать можно. И холопья довольны: каждый по затрещине получил, считай утренняя планерка состоялась. Что барин хотел мне сказать, то уже сказал. Впереди свободный постный трудовой день. Без денег никуда не убежишь, в кабак не пойдешь, в карты играть не сядешь. И к тебе никто не придёт. Кому ты нужен, без денег-то. Без денег ты никому не интересен. Нет денег – нет забот. Свободна голова. Отсюда покой и здоровье.
Когда я родился, моему отцу было не более 25 лет. Мою мать с младенцем держали какое-то время при дворе, но через несколько лет отселили в ту же деревню, где стояла усадьба. Дали избушку, земельный надел, потом подженили к одному вдовому чухонцу, да и в общем по жизни никто нас не обижал и мать со мной не чурались. Так я и стал крестьянствовать. Чухонцы очень любят землю, скотину (особенно коров), имеют тягу к инновациям. Сепаратор, поилки, скирды, риги, сушилки для табака – это всё у них голове, это их мир. У моей матери пошли новые дети. А я пошел работать в поле, чем был очень доволен. Часто, проходя по делам, видел молодого помещика – моего отца, и наблюдал за ним. Я тогда не очень понимал, что он мой отец. Отцом моим был чухонец. Но какая-то внутренняя тяга заставляла меня обращать внимание на помещичий двор, внимать рассказам знакомой дворни про молодого барина, накапливать в памяти те картины и сюжеты, сопоставлять и склеивать их зачем-то. Наверное, для того, чтобы потом вот так вот, на бумаге, закольцевать это поток крестьянской жизни сквозь революционный угар и всю последующую белиберду из своего бастардского сознания родного сына чужой страны.
Старый помещик, как рассказывали мне придворные, часто склонял своего отпрыска (моего отца) к государственной службе и к участию в дворянском собрании. Он дал ему обычное для того времени домашнее образование, которое, как он считал, позволяло юноше быть участником общественной жизни. Он хотел, чтобы его наследник избрался в местное самоуправление, либо в судебные органы. Но тот находил для своего папаши постоянные отговорки от сих докук. Для работы в суде, говорит, нужно закончить университет по юридическому профилю, а заниматься разбором помещичьего произвола у него нету ни каких моральных прав в виду молодости лет. Попечение образованию, медицине, обеспечение армии продовольствием и сукном, также не привлекало будущего хозяина поместья, ибо там и без него неплохо справятся. Сам же он, конечно, одобряет всё творчество государственных служащих и по судебным делам и по линии образования, хотя и мог бы им дать предостаточно дельных советов, если бы они его спрашивали. Ну, а коли не спрашивают, то пущай всё движется далее, как заведено, а мы не будем ему мешать.
Впрочем, иногда молодой барин сверялся у своего камердинера, а мог бы он повести за собой народ? Мог бы он предложить людям свою идею? Пошли бы люди за ним, если бы он вынул из груди своё пылающее сердце в надежде осветить людям путь? Но сам же и отвечал себе, что не мог. И что идей у него нет, и кому они вообще нужны, и сердце у него простое, мясистое, и никакого света не излучает. Что может он предложить каким-то чужим людям? Он даже соседской дочери предложить конную прогулку не может. Впрочем, этой-то клюкве он всё может предложить, просто она сама – корова деревенская и ему нет до неё никакого дела. Другими словами до самоуправления ему нужно еще подрасти, обзавестись семьёй, укрепить доход, и уже потом, когда будут сделаны все дела для себя, можно будет подумать о людях и об уезде.
А пока он обратит взоры на свое поместье и займется мелиорацией и механизацией, учитывая все последние научные разработки и достижения современной химии. Давно уже пора повысить удои и понизить простои. Крестьяне совсем разболтались! Порядку нет! Аренду не платят, налоги не собраны! Далее, в сердцах, он делал несколько точных замечаний о нашем сельском хозяйстве, что говорило в пользу его наблюдательности и острого ума. Но столкнуться с проблемой – это не значит её преодолеть. Все эти замечания об истощённости почвы, удаленности пригодной земли, неумении применять удобрения, вырождение семенного фонда, отсталости технологии, применение ручного труда в купе с обессилевшим скотом, неграмотность и отсутствие правовых форм и обычаев делового оборота, все его замечания, подчеркиваю я, отпускались верно и со знанием дела. Но дальше разговоров это самое дело не двигалось. Он чувствовал бездну, даже переживал, но ничего поделать не мог. Не знал, как к ситуации подступиться. Ведь нужна инициатива, разбег, прыжок – нужны знания и решительность, уверенность в результате, вера и самоотверженность. А если бы у меня была решительность, думал он, то я бы лучше тогда в земскую управу пошёл, там простору больше и работа посолиднее, чем тут в навозе ковыряться. Так дальше разговоров в столовой дело и не шло. Всегда конец был о том, что самое правильное оставить крестьянам самим решать вопросы села, а ему – получать свою арендную долю деньгами и больше натурой, и в этой точке сбора дохода начинать прилагать своё творчество.
Другими словами он переходил к планам по торговле зерном, овощами, мясом, шкурами и кожей. Брался за это также с наукой, пылко. Быстро расширял горизонты, строил риги и холодильники, налаживал сбыт. На том коммерческий прилавок и ограничивался. Для закупки зерна нужен был оборотный капитал, для строительства складов-построек требовались инвестиции, а земля к тому времени оказалась уже заложенной в банке. Ипотека обслуживалась с трудом, и имение в ближайшие годы разорилось бы совсем, но тут неожиданно случилась революция, и усадьба вместе с помещиками приказала нам долго жить, а сама растворилась в тумане смутного времени, и даже камня на камне не оставалось от барского дома к 1920 году – тому самому году, в котором я обзавелся семьёй.
Революция.
Да, я женился в 1920 году. Жену свою, Кузьмину Марию Кузьминичну, я привел хозяйкой в свой отдельный домик на краю деревни Ильина Гора. У меня уже была своя лошадь, плюс сбережения на покупку коровы, за мной числились три десятины земли, и еще очень большой участок на правах аренды мы обрабатывали сообща с чухонцем, с детьми моей матери и с их новыми чухонскими родственниками. Они-то мне и продали корову, овец, курей, и я зажил своим хозяйством молодо и весело.
Зачем я вам рассказал о маниловщине в голове своего отца, о его неслучившихся занятиях, о бесцельном времяпровождении, спросите вы меня? Сделал я это намеренно, для того чтобы обозначить уже в начале своего рассказа отсутствие точки опоры в сознании людей того времени. Они не при советской власти потеряли вкус к жизни – это случилось раньше. К началу 20 века у основной массы активного населения нашей страны были утрачены цели. Дух вожделения, влекущий индивида в драку за сбычу его желаний, покинул нас. Никто ничего делать уже тогда не хотел. Апатия. Образование – есть. Здоровье – есть. Инфраструктура: рынок, деньги, банки, биржи – всё есть. Но цели нет, инстинкт наживы испарился. Уже в то время моему отцу можно было бы задать этот пикантный вопрос: «Если Вы такой умный, то почему Вы не богатый?». И конечно, он ответил бы: «Потому, что меня много!». Меня много – это значит, что я не знаю, за что мне хвататься. И поэтому ни за что не хватаюсь. Всё знаю, всё умею, а сделать ничего не могу. Считаю эти дела ниже своего достоинства.
Да вот вам, пример: что я торговать не могу, что ли? Купил за пять рублей, продал за десять. Чего тут уметь-то. Но ведь я дворянин, поэтому торговать я не стану. Это дело холопское – рядиться за лишнюю копейку. Я в карты проигрываю без гримасы разочарования на лице, достойно держу себя, с юмором. На чай оставляю в буфете, и носильщику, и ямщику. Он мне: «Благодарствую, барин». А я в его сторону не смотрю. Чаевые для меня мелочь, пыль. Так как же я торговаться-то стану с откупщиком за три копейки, когда он видел как я, вылезая из экипажа, кучеру дал на чай гривенник?
И производить что-либо тоже не по мне. Тут же надо на всю жизнь посвятить себя какой-то одной параболе. С утра до вечера одной и той же функцией заниматься. Жуть. Только об этом и думать, только об этом читать, только этим интересоваться. Все собрались в залах: говорят о погодах, о музыке; типа, хризантемы в этих местах еще не зацвели. А я о своём – о солёных грибах или о мочёных яблоках. У меня втулки к паровому двигателю кончились, а выписать можно только из Германии – вот беда. Ребята, никто не знает, где можно втулки купить?
Также и в самоуправлении: дороги, овраги, леса, нерадивые подрядчики, меркантильные откупщики, бесстыжие стряпчие. Всё кончается взятками, склоками, отставкой или цугундером.
Так как же я свою единственную жизнь потрачу на одно, понятное всем, сермяжное ремесло? Спросят в присутствии: кто был помещик Васильев? Да он снетком солёным торговал в посаде. Угу, понятно! Вот всем понятно, а мне не понятно: я свою жизнь на снетка не разменяю. А на что разменяю – ни на что: только на панорамное созерцание картины мира. На широкоэкранное кино, и чтобы я в зале в первом ряду. Ещё бы так, чтобы Киномеханика можно было попросить поставить на паузу, пока я за напитками сбегаю. Хотя это уже перебор: Киномеханик к себе от сотворения мира никого ещё не подпускал.
Может быть, здесь наш барин и прав: ему бы в семинарию пойти, а потом в приход. Но это сословие занято, там своих созерцателей девать некуда.
И вот эти самые кинолюбители, перегруженные известным гоголевским подвывертом: «Ты полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всяк полюбит», привели к 1917 году страну в серебряное зазеркалье понятия абсолютного. Там, в этом перевернутом мире крайнего отчуждения свободного духа от миллионов индивидуальных сознаний, идёт безжалостная борьба всеобщего шторма с любыми мельчайшими шероховатостями на поверхности идеи абсолютной свободы. Все участники идейного помешательства узнали друг друга: пролетарий – батрака, солдат – матроса, униженный – оскорбленного. Все решили, что мечтают об одном и том же. Что их мысли полностью совпадают. И все они дружно побежали в одном направлении – к счастью. Не успели пробежать и полмили, как кто-то, опрометчиво, высказал своё собственное видение и понимание своего личного счастья. И тут, к ужасу присутствовавших, выяснилось, что понятие счастья этого частного бедолаги не совпадает с понятием других. Ведь у каждого своё понимание счастья. То есть разное от всех остальных. Но те, кто поумнее, молчат. Шестое чувство подсказывает толпе, что немая мысль о счастье у них у всех одинаковая. И они бегут и многозначительно одобряют друг друга кивками. Но как только кто-нибудь заговорит и обрисует свою личную картину о счастье, так сразу же его деталь не пролезает в принятый калибр и этот человек объявляется врагом. Врагом нашего любимого счастья. Нашим врагом. Абсолютное не терпит неточностей. Оно не копается в отношениях величин. Кто и что имел в виду, его не интересует. Оно – абсолютное. Это значит, что если ты на миллиметр не подошел по росту, то тебя исключают из хора. Как исключает абсолютное? Догадайтесь сами. С чем имеет дело любой абсолют? Правильно, только с самой сутью – с биологической жизнью. Или смертью. Кому как больше нравится. Механизм полировки абсолютной поверхности заработал, и полетели головы единомышленников со своих плеч, как летят в корзину кочаны капусты, срезанные лёгкой рукою человека, запросто утоляющего жажду глотком воды. Уже после, когда напились воды и наелись капусты, опомнились и узнали, что животное претворение себя в действительность не приносит того самого искомого счастья. Вспомнили, что истинное утешение им раньше приносила возможность реализации в быту каждому своего личного морального образа этого персонального счастья. Только тогда осадили и разрешили жить.
Но это первопричинное безразличие, бездуховность, апатия, они никуда не делись. То же самое кино продолжилось и после Великого Октября. Только добрый зритель в девятом ряду поменял элегантный сюртук на полосатую телогрейку.
Реинкарнация.
Первой у меня родилась девочка Женя. Второй – он, Сергей, первенец мужеского полу. Мой наследник. После нескольких месяцев крещёной жизни младенца, я стал проявлять к нему интерес. Брал на руки, играл, угукал. И он радовался мне навстречу. Тянул свои маленькие ручонки к моей окладистой бороде, улыбался беззубыми деснами, кряхтел и смеялся почти «как младенец». Своими большими синими глазами он рассматривал меня, как будто понимал, с кем будет связана вся его долгая жизнь в деревне. С кем он постигнет тайны природы, тайны рождения и смерти, весны и осени, рассветов и закатов, питающих маленький, богом забытый клочок земли – деревню Ильина Гора Карамышевской волости Псковской губернии. Я тоже разглядывал его лицо, его глаза, ручки, повадки. И однажды я понял, какая магическая сила притягивает меня к нему. Загадка открывалась просто: с каждым днем он становился всё больше похож на своего деда, моего отца, помещика Васильева. Вот так и поверишь в переселение душ! Большими синими глазами младенца смотрел на мир его дед, сгинувший в пучине революционных преобразований без всякой надежды на возрождение. Этот взгляд! Это взгляд человека, спокойно знающего чего-то большего, чем все окружающие. Насмешка над племенем, которому приходится трудиться в поте лица своего, чтобы прокормить себя и затем всю жизнь мучиться неразгаданными вопросами о сотворении мира и кротости существования. Он уже знал ответ. Знал и то, что мы не знаем этот ответ. А он уже знает. Он улыбается нам как Джоконда – всё у вас будет хорошо, и когда-нибудь успокоится душа ваша, и вы поймёте, что бремя земное легко.
Всего у меня родилось семеро детей. Семеро по лавкам. Говорят, европейская кровать заканчивается в Германии. На востоке этой страны в деревнях и городках немцы и поляки жили вперемешку. В немецком доме все члены семьи спали на кроватях. И взрослые и дети. Однако, через улицу, в доме польского хозяина кроватей не было. Поляки спали на лавках вдоль стены. Чисто славянская особенность. Обусловлена размером территории: равнина подталкивает к перемещению. Подсечно-огневое земледелие заставляет через пару-тройку лет менять дислокацию. Кровати не укладываются в схему переезда. Не только кровати: любая конструкция, сложнее схемы палка-веревка, не рифмуется с кочевым образом жизни. Никто подолгу не сидит и выводит тончайшие узоры на посуде. Кружок и загогулина – вот всё изобразительное искусство. Вся древняя славянская культура зафиксировала себя в жесте хозяйки моего деревенского дома, подающей своим же домочадцам тарелку с кашей. Это ленивый, едва заметный бросок, отмашливое движение руки, стыдливый жест, придающий незначительность происходящему. Это брожение у неё в душе. Конфуз. Тупик и неразрешенность ситуации. Как надо? Как правильно? Я могу и лучше! Но сейчас нужно ли лучше? Пусть они знают, что в доме может быть лучше. Что каша может быть вкуснее и жирнее. Но сейчас не время. Всё будет на праздник. А пока постные дни. Пока я просто накидала, порубала, размешала, и вот… Сколько раз я говорил ей, отпусти ситуацию, не обостряй, всё это нормально, едим до сыта, в доме чисто, уютно – не оценивай себя, выключись. Все бестолку. Так и продолжает подавать миски детям, подкидывая их перед самым носом у каждого, по порядку убывания возраста: Женя, Сергей, Тоня, Капитон, Валентин, Таня, Витя.
Дети мои росли, время шло. Земля вертелась себе, как хотела, вокруг жёлтого солнца, наряжая нашу деревню в летние и зимние одежды. Детские занятия летом: грибы, ягоды, рыбалка, сенокос, ворошение, скирдование, пастушеское ночное, лошади верхом, костры. Зимой: школа, катание с горы, печка. К 1935 году в деревне стало общим местом то, кому посвящены все передовицы центральных новостей; кто всех бесстрашней носился верхом на лошади, кто скатывался с самой высокой горы, кто нырял в реку с самого высокого обрыва. Родная мать забыла человеческое имя своего сына, и не называла его иначе как «Змием». Он участвовал во всех делах и со всеми делами он справлялся лучше других. В школе учился только на «пять». Проникал в истинную суть деревенской работы от заготовки дров до трепания льна. Чувствовал стержень любого малозначительного дела. Страсть – лучший учитель. Змий не боялся животных. Они слушались его так, как будто знали, что перед ними властелин их судьбы. Любого размера бык смотрел на него и подходил к нему смиренно, при этом зная, что идёт на убой, что в принципе, это и была его бычья судьба, это люди дали ему пожить на белом свете пару лет, чтобы однажды его заколоть, в этом философский смысл всей истории его жизни, это читает бык в синих глазах того юноши, который пришел за ним в хлев. И животное, гордое своим колбасным предназначением, идёт к нему с чувством выполненного долга, и покорно склоняет свою огромную голову перед маленьким Давидом, ибо он есть царь всех зверей и повелитель снежных джунглей.
Уверен, вы давно догадались, что за такими ветхозаветными терминами и именами, как первенец, Змий и Давид, спрятался от посторонних глаз нашей истории мой первородный сын, мой думузи – Серёжа, 1923 года рождения. Полное его имя Сергей Григорьевич Даркин. В возрасте 10 лет я отдал его в школу, семилетку, где он проучился до 1941 года. Окончил её с отличием. И в 1941 году планировал летом поступать в железнодорожный техникум. Только я этого ничего не узнал. В 1939 году за мной пришли совсем другие приключения.
Коллективизация.
Первые ласточки моей беды стали залетать к нам в Ильину Гору еще в 1928 году. Но если быть более справедливым, то нужно смотреть на дело не взирая на даты. Революция тут не причём. Как я уже говорил, все предпосылки событий 30-х годов сформировались ещё в начале века. После отмены крепостного права, крестьяне получили свободу, паспорта, права, но не получили землю. Её, землю, ещё надо было выкупать у помещиков. Выкупленной земли было недостаточно. Так, для прокорма семьи в наших местах нужно не меньше 8 гектаров. А крестьяне получили в среднем по 3 гектара на семью. Следовательно, недостающую землю нужно было арендовать у помещика. Арендовать общественное пастбище, лес, сенокосные луга, водопои для скота и прочее и прочее. Я говорил уже вскользь, что у нас с чухонской родней стихийно образовалась такая ячейка, на вроде сельской артели: мы сообща арендовали необходимые земли и как-то сами, без драки, умудрялись делить урожай.
На чём держалась конструкция? Отвечу, страшно сказать, на крови! Но не пугайтесь, речь идет всего лишь о кровном родстве. То есть о родовой дисциплине и родственной совести. Дисциплину охотно поддерживали все слабые и молодые, для того, чтобы передать власть сильным и опытным. Те ответственно брали у них эту самую власть и заключали внешние сделки с рынком и с помещиками. Доходы делили сильные. Делили по совести, понимая, что всем нужно выжить. В маленькой общине все на виду. У кого дети без обувки, у кого больной старик в доме, чья лошадь третьего дня околела и тому подобное. Итак, по годовому кругу каждая семья получала сначала свой доход с трёх гектаров личной земли, и потом еще старшие распределяли доход от общественных работ на арендованных угодьях. Вот так вот потихоньку и приспособились.
После революции мы продолжали обрабатывать привычные наделы, отбиваясь от набегов государства. Экспроприация, продразверстка, раскулачивание. А куда деваться? Без пищи не может читать газету человек! И в 1928 году наша местная власть приказала строить колхозы. Мы быстренько поняли, чего от нас хотят и ухватили самую суть идеи, возникшей в голодном желудке правящей партии. Советское государство, как субъект правоотношений, не видело в индивидуальном сознании себе ровню и собеседника. Оно признавало только стадные, уставные, совещательные формы духа, в которых личность жертвовала собой ради общего блага. Оно хотело разговаривать с обществом. Частное мнение его не интересовало. В благом, на первый взгляд, намерении, скрывалась здравое зерно замысла. Дело в том, что имея дело с юридическим лицом, государство полностью контролировало его имущество, не обижая при этом личное достоинство крестьянина. Например, изъять хлеб у семьи – это значит уморить голодом детей, отправить побираться стариков, довести до суицида взрослых. Не так с юридической формой. Здесь смерть – всего лишь банкротство колхоза, и то не навсегда. Правовой термин. Согнав народ в колхозы, государство получало сначала информацию об имуществе колхозников, а потом и право распорядиться этим имуществом по своему усмотрению. Дабы избежать напрасной гибели, мы решили создать свой колхоз из нашей, сложившейся к тому моменту, артели.
Шесть наших дворов образовали ТОЗ: товарищество обработки земли. Колхоз есть! Приказ выполнен. Но государство к нам как не ходило, так и не может прийти. Даже не может в окно заглянуть. Законопачены форточки. Хто там? Чяво надо? Мы налоги заплатили. Больше дать не могём. До свидания, и вам не хворать. Но государство продолжало настаивать на укрупнении колхозов по территориальному принципу, в противовес родственному, пытаясь преодолеть замкнутость карликовых хозяйств, для удобства регулирующих органов. Крупным объединением людей легче манипулировать. Здесь ослаблены эгоистические порывы участников. Большевики в Москве ставили задачи местной власти. На местах пытались исполнить приказ, как могли.
Надо отметить ещё, что несколько лет, предшествующих 1930 году наше псковское крестьянство находилось под паром. То есть отдыхало от политики военного коммунизма 20-х годов и от продразверстки. Продотряды выкосили самых зажиточных крестьян. Самые активные и неравнодушные из них были истреблены в те годы. Такое было время. Никто не успевал отдавать себе отчёт. Новая мораль только начинала формироваться, старая христианская мораль была уничтожена. В разрыве безвременья летели с плеч несознательные головы соотечественников, и никто по этому поводу не переживал. Но всему приходит конец. И террору тоже отпущено своё короткое время. Загнанные в угол крестьяне были исполнены решительностью перейти в контрнаступление на диктатуру пролетариата и к свержению власти во главе с коммунистами. Политические силы в России сформировались и противопоставили себя друг другу. Однако, борьба класса крестьян с классом рабочих – это оксюморон. Такого поворота большевики допустить не могли, как не могли его и научно отрефлексировать. Не имелось в истории такого накопленного опыта. Не изобрели ещё такого материализма, который смог бы раскрыть суть исторического противоречия интересов крестьянина от рабочего. Как ни крутили, а помеха интересам обоих классов оказывалась только в точке пересечения их хозяйственной самореализации с интересами партии большевиков. Во всем остальном их интересы параллельны. И тут возникает вопрос, почему ни рабочий, ни крестьянин не может договориться с властью, если это обычное для того и для другого дело. Испокон веков договаривались, а тут не могут. Стало очевидно, что дело, видимо, во власти. Кто поопытнее в политбюро и в ЦК давно это поняли, но покамест боялись говорить вслух. Ну как, скажите мне, политик болтун может научить крестьянина выращивать хлеб. Никак. На том и порешили: пока ситуация не вышла из-под контроля пойти на уступки деревне и разрешить ей самой определять что в какую ямку посеять и чего из этой ямки пожать. Продразвёрстку, с её бессмысленным истреблением людей, заменили на продналог. Началась новая экономическая политика.
Те, кто выскочили живым из эпохи военного коммунизма, почувствовали свободное дыхание кооперации и хозрасчета. Деревенские коровки принялись нагуливать скудный жирок. Лён стали продавать за деньги. Деньги, кстати, тоже появились. И это оказалось отнюдь не к добру. Из-за этих невезучих денег опять всё пошло наперекосяк. Как говорил классик: «Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много». Дело в том, что деньги имеют свойство перетекать в тот сектор экономики, продукция которого пользуется наибольшим спросом. Как этот происходит? Очень просто. Экономические субъекты начинают тратить свои деньги на такие товары, которые им больше всего по вкусу. Неважно, кто этот сорящий деньгами субъект: человек, завод, издательство. Они покупают лучшее. И таким образом деньги направляются к лучшим производителям. А кто они, где живут эти победители конкуренции? Да, в принципе, такие же люди, как и мы с вами. Только их не грабят, не заставляют, не унижают, не дают глупых советов и так далее по списку Всеобщей декларации прав человека от 1948 года. Другими словами – это кооператоры. Частники, которые ради своей выгоды рискуют своими деньгами. Государство не может конкурировать с ними, так как в его хозяйственной диалектике разведены потоки. Потоки труда, в одну сторону, и поток денег за труд, в другую. То есть трудится один, а распределяет другой. Противоречие, которого нет у частника. Частник сам потрудился, сам получил выручку. Вот таким вот бесстыжим образом деньги стали перетекать в частные руки кооператоров и кулаков. И это те самые деньги, которые выпестовало государство. Оно, государство, их эмитировало, обеспечило золотом, умыло и причесало. Оно научило их вести себя в заграничных салонах, и их приняли в свободное конвертируемое общество заморских валют. Оно договаривалось с лучшими учителями танцев Европы, чтобы научить их легкому жированию по ностро счетам. Оно научило их одалживать себя под процент. И, наконец, оно же позволило поклонникам в них влюбляться и незаметно накапливать их в текущих остатках по депозитам, в облигациях и в кубышках. Чем же отблагодарили деньги свою альма-матер? А тем, что вырвались от неё на волю и стали беспощадно обличать её просчеты, одновременно щедро вознаграждая нэпманов, тем самым вырывая у государства все рычаги контроля. Частная экономика стала крепнуть в ущерб экономики государственной. В политбюро это заметили и глубокий экономический вдох закончился. Пришла пора регулировать жиклеры. Кооперации, тресты и синдикаты сошли со сцены. Планирование индустриальных пятилеток и коллективизация заняли их место на передовицах советских газет.
Индустриализация.
Итак, жизнь налаживалась: перестали голодать, сформировали денежную экономику, рынки, торговлю, накопления. Вернулись в дорожные колеи сельские телеги, крестьяне нащупали периодичность и такт деревенских работ, втянулись в постоянство и в необходимость землевращения. Периодичность времен года обрела системный вид и возродила уверенность в завтрашнем дне. Не заставили себя ждать ловкость, хитрость и изворотливость. Появились зажиточные личности – опять началось классовое расслоение. Самостоятельность экономических субъектов напомнила правительству о необходимости регулирования жизни, о подчинении всего и всех делу партии. Но устаканивание, стагнация – это не развитие. Страна не развивалась. Более того – начала отставать. Частная инициатива не могла в короткий срок обеспечить достаточный рост и релевантную структуру экономики. Для этого и продолжилось укрупнение колхозов и понадобилась индустриализация.
С этого момента дело начинает подходить к истории моего ареста, а поэтому тут не мешало бы кое-что прояснить. Надо понять фактуру и сущность явления. Коллективизация и индустриализация – это всего лишь термины, коды обозначения процессов. А что за процессы происходили тогда в сознании нашей страны, что мучило её усатое отражение в тот момент – в тот самый момент истины, в точке спасения, в точке застоя? Какой выбор предстояло ей сделать, и какой эпохальный запрос растягивал время навстречу её государственности?
Думаю, что дело было так. Запрос этот был требованием времени создать на территории России эффективное и современное государство рабочих и крестьян. Что такое современное – спросите вы? А это такое, которое не хуже соседей. А что такое эффективное? А это когда власть уверенно командует, а народ быстро выполняет. Так вот, нужно было подтянуть до средних европейских значений уровень жизни трудящихся; выковать армию, способную защитить интересы рабочего класса; и создать среду, дающую возможность свободным гражданам свободно самовыражаться навстречу коммунизму. И государство обратилось к народу:
– Уважаемые граждане, мы с вами коммунизм построить хотим?
– Хотим, – ответил народ.
– То есть в буржуазном обществе, где капитал эксплуатирует честный труд, мы жить не хотим, так? То есть классовое общество, где класс кровопивцев-аристократов паразитирует на классе бедноты, мы не признаем? То есть мы против насилья, но мы за равноправие, верно?
– Верно, нечего нами потакать, мы не быдло, сами всё решим!
– А опасность нашему делу существует? Завистливые взгляды европейских оппортунистов мы на себе ощущаем?
– Ещё как! – ответил народ.
– Значит, нам нужна для защиты Красная Армия?
– Очень нужна!
– А как же мы её вооружим без танков и самолётов? – спросило государство.
– Никак, – ответил народ.
– Следовательно, нам необходимо построить заводы, шахты, электростанции!
– Ой, как необходимо! – соглашается народ.
– Ну, тогда айда на стройку, возьмемся за дело, засучив рукава! – командует государство.
– А у меня нога болит, – отвечает народ,– А ко мне дядька из Киева приехал. И я тоже не могу сегодня – у меня свадьба у брата.
– Постойте, помилуйте, но кто же это всё нами задуманное делать-то будет, Пушкин что ли?
– Не знаем, Пушкин там или Кукушкин, но мы не можем. Это очень трудно – работать. Мы столько натерпелись за последнее время, что хотим отдохнуть. Хотим пожить по-человечески, по мещанскому обычаю: чай пить и кулебякой закусывать с утра до вечера. Можно мы ещё какое-то время так поживем? А там глядишь, и само всё вырастет!
Нахмурило усы государство. Его тоже в царских лагерях научили сознанию. Оно решило не рубить с плеча – дабы дров не наломать, и стало рассуждать вслух.
С кем я разговариваю? Для кого я делало революцию? Для рабочих? Зачем тогда мне учитывать мнение всех – власть рабочих учитывает только мнение пролетариата. А кто они – эти все, остальные? Как вообще мы пришли к сегодняшнему статус-кво и как из него выходить?
Да, что тут в принципе скрывать – начитались Карла Маркса, и давай права качать. Качали, качали, но ничего, кроме тюрьмы не выходило. И тут Володька Ильич в 1914 году впервые освоил Гегеля и говорит:
– Парни, хорош бакланить! Главное – ввязаться в драку, а там разберемся!
– Погодите, коллега, но идёт же процесс: думу вот изобрели, с монархией покончили, пресса, дорога железная, торгуем со всем миром… Эволюция.
– Был у меня брат Саша. Он тоже думал так, как вы. И что? Голову сложил на плахе, даже привет семье не успел передать. Нет, мы пойдём другим путём!
– Енто каким же, осмелюсь спросить?
– Революция. Да, да, батенька, пролетарская революция. Именно у нас она и получится. Как почему? Потому, что нет препятствий! Нет нравов, нет свободы, нет религии, нет юридического права, а значит, и частной собственности тоже нет. Обобщу: нет тормозов. А есть смазка: есть дворянский произвол, чиновничье кривосудие, безверие, бесправие, есть безработица, преступность и алкоголизм, есть ненужная война, безумные пророки, криминальные лидеры, партии сумасшедших интеллигентов, болтовня, бедность, бездна. Станция «Раздрай», кому надо – вылезай.