Читать онлайн Европа и Россия. Тысяча лет противостояния бесплатно
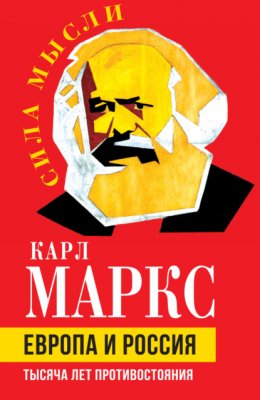
© Перевод с немецкого
© Перевод с английского
© ООО «Издательство Родина» 2023
* * *
Предисловие
В первой половине XIX века Российская империя была одним из самых отсталых государств Европы в политическом и экономическом отношениях, однако военная сила России до Крымской кампании считалась бесспорной, и российские правители (особенно Николай I) бесцеремонно вмешивались в европейские дела. Это вмешательство носило реакционный характер в худших его проявлениях, не говоря об экспансионистских притязаниях российского самодержавия.
Неудивительно, что Россия получила прозвище «жандарма Европы»; Карл Маркс и Фридрих Энгельс также рассматривали роль России в Европе того времени как исключительно реакционную, как роль жандарма. Исторические события позволяли легко обосновать эту точку зрения. После изгнания Наполеона и Венского конгресса 1815 г. Российская империя была вдохновительницей Священного Союза, направленного на борьбу со всеми либеральными движениями и демократическими революциями в Европе. При ее поддержке посылались войска французских Бурбонов и австрийских Габсбургов на подавление революций в Испании и Италии в 1820-е гг. В 1830–1831 гг. Россия подавила стремление Польши к независимости, а в 1849 г. русская армия по просьбе австрийского правительства разгромила революцию в Венгрии.
В начале 1850-х гг. политика России привела к созданию мощной антирусской коалиции во главе с Англией и Францией; от России отвернулась даже ее былая союзница Австрия. Все закончилось Крымской войной и поражением России, не способной сражаться на равных с ведущими европейскими державами.
Маркс и Энгельс выпустили ряд статей, посвященных Крымской войне, а сразу по ее завершении Маркс написал свою работу «Тайная дипломатия». В четвертой главе он дал общий обзор русской истории, чтобы понять, «как могла эта держава или этот призрак державы умудриться достичь таких размеров, чтобы вызывать, с одной стороны, страстное утверждение, а с другой – яростное отрицание того, что она угрожает миру восстановлением всемирной монархии?»
Маркс отделяет историю России от истории древней Руси до монгольского нашествия. Политика Руси (Киевской) была, по его мнению, «не более и не менее, как политика германских варваров, наводнивших Европу». «Колыбелью Московии, – утверждал Маркс, – было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображенная Московия».
Иван III, которого «сами русские историки… изображают заведомым трусом», стал основателем московского деспотизма, свергнув монгольское иго «не одним смелым ударом», а «исподтишка», и уничтожив вольность древнерусских республик, после чего начал экспансию в направлении Западной Европы. Эта экспансия, цели и методы которой были усовершенствованы Петром Великим, и определяет с тех пор политику России, по убеждению Маркса.
«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства, – писал Маркс. – Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира».
Однако ошибутся те, кто станет рассматривать эту работу Маркса исключительно как антироссийскую. Она имела характер, прежде всего, антибританского исторического памфлета. Маркс хотел показать, что Англия несет историческую ответственность за то, что Россия стала угрожать Европе. «Разве сам факт, что превращение Московии в Россию осуществилось путем ее преобразования из полуазиатской континентальной страны в главенствующую морскую державу на Балтийском море, не приводит нас к выводу, что Англия, величайшая морская держава того времени, должна быть причастна к этой великой перемене?»
В том же ключе писал Энгельс. В своей работе «Революция и контрреволюция в Германии» он представляет Россию страной, стремящейся подчинить своему влиянию всю Европу и придумавшей для этой цели идеологию панславизма. «В кабинетах нескольких славянских историков-дилетантов возникло это нелепое движение, поставившее себе целью подчинить цивилизованный Запад варварскому Востоку, город – деревне, торговлю, промышленность, культуру – примитивному земледелию славян-крепостных. Но за этой нелепой теорией стояла грозная действительность в лице Российской империи – той империи, в каждом шаге которой обнаруживается претензия рассматривать всю Европу как достояние славянского племени и, в особенности, единственной энергичной его части – русских».
* * *
По мере развития революционного движения в России, отношение к ней Маркса и Энгельса стало меняться.
В 1881 г. Маркс получил письмо от русской революционерки Веры Засулич с просьбой изложить его взгляд на перспективы революции в России. Маркс написал несколько вариантов ответного письма, в которых изложил теорию, что Россия, несмотря на свою отсталость по сравнению с Европой, действительно может стать первой страной, в которой разразится социальная революция.
Показательно также предисловие к русскому изданию 1882 г. «Манифеста коммунистической партии», в котором говорилось, что «теперь Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе».
Таким образом, работы Маркса и Энгельса, которые приводятся далее, следует рассматривать с учетом обстановки своего времени, когда определенные антирусские настроения в Европе стали прямым следствием политики российского самодержавия.
Карл Маркс
Разоблачение дипломатической истории XVIII века
Глава 1. Дипломатическая переписка
№ 1. Г-н Рондо – Горацио Уолполу
Петербург, 17 августа 1736 г.[1]… «Я всей душой желаю… чтобы удалось убедить турок уступить и сделать первый шаг, потому что здешний двор, как видно, решил оставаться глухим ко всему до тех пор, пока это не произойдет, и унижать Порту, которая всегда отзывалась о русских с величайшим презрением, чего царица и теперешние ее министры не могут переносить. Вместо благодарности сэру Эверарду Фокнеру и г-ну Калкуну (первый является английским, второй голландским послом в Константинополе) за сообщение о добрых намерениях турок, граф Остерман отказывается верить в искренность Порты, и он был, по-видимому, весьма поражен тем, что они написали им (русскому кабинету) без повеления короля(английского короля Георга II. (1727–1760) Ред) и Генеральных Штатов, и помимо желания великого визиря и что их письмо не было согласовано с посланником императора (императора Священной Римской империи Карла VI (1711–1740) – Ред.) в Константинополе…
Я познакомил графа Бирона и графа Остермана с двумя письмами великого визиря к королю и в то же время сказал этим джентльменам, что, поскольку в письмах содержится ряд резких суждений о русском дворе, я не передал бы эти письма, если бы они сами не жаждали так увидеть их. Граф Бирон сказал, что это не имеет значения, так как они привыкли к такому отношению со стороны турок. Я выразил пожелание, чтобы их превосходительства не сообщали Порте, что они видели эти письма, так как ото скорее ухудшило бы положение дел, чем способствовало его улучшению…».
№ 2. Сэр Джордж Макартни – графу Сэндвичу
С.-Петербург, 1(12) марта 1765 г.» Весьма секретно…Вчера г-н Панин и вице-канцлер вместе с датским посланником г-ном Остеном подписали договор о союзе между здешним и копенгагенским дворами. Согласно одной из статей война с Турцией сделана casus foederis[2][3] («случаем союза», т. е. моментом, когда должны вступить в силу союзнические обязательства (латин.) – Ред.) и, когда бы это ни произошло, Дания обязуется выплачивать России субсидию в 500 000 рублей в год равными взносами каждую четверть года. В самой секретной статье Дания обещает также отказаться от всяких связей с Францией, испрашивая только ограниченный срок, чтобы попытаться получить следуемые ей долги французского двора. Во всяком случае, она должна немедленно поддержать все намерения России и Швеции и действовать в этом королевстве в полном согласии с Россией, хотя и не открыто.
Либо я введен в заблуждение, либо г-н Гросс неправильно понял свои инструкции, когда он сказал Вашей светлости, что Россия намерена устраниться и возложить всю тяжесть расходов в Швеции на Англию. Как бы ни желал здешний двор, чтобы мы оплачивали значительную часть всех денежных обязательств, однако, я убежден, он всегда предпочтет играть первенствующую роль в Стокгольме.[4]
Намерением и горячим желанием России являются совместные действия с Англией и с Данией, чтобы совершенно уничтожить там французское влияние. Это, конечно, не может быть сделано без значительных расходов; но Россия в настоящее время, по-видимому, не столь безрассудна, чтобы ожидать от нас полной их оплаты. Мне намекнули, что с нашей стороны было бы достаточно 1500 фунтов стерлингов в год, чтобы поддержать наше влияние и полностью воспрепятствовать французам когда-либо вновь проникнуть в Стокгольм.
Шведы, чрезвычайно чувствительные к зависимому положению, в котором они находились много лет, и весьма униженные им, в высшей мере подозрительно относятся ко всякой державе, которая вмешивается в их дела, и в частности к своим соседям – русским. По этой причине, как мне объяснили, здешний двор и желает, чтобы мы и они действовали на самостоятельных началах, сохраняя, однако, полное доверие между нашими посланниками. Мы должны прежде всего позаботиться о том, чтобы не создавать каких-либо партий под названием английской или русской, но, поскольку даже самые умные люди обманываются простым названием, нам надо стремиться к тому, чтобы наши друзья слыли друзьями свободы и независимости. В настоящий момент мы имеем преимущество, и большая часть нации убедилась в том, сколь пагубными для ее истинных интересов были связи с Францией и насколько гибельными для них эти связи оказались бы, если бы продолжались и впредь. Г-н Панин ни в коем случае не желает ни малейших изменений в конституции Швеции.[5]
Он хотел бы, чтобы королевская власть была сохранена без ее усиления, чтобы привилегии народа существовали в впредь и не нарушались. Он, однако, несколько боялся честолюбивой и склонной к интригам натуры королевы, но высокая бдительность графа Остермана как посланника теперь совершенно рассеяла его опасения на этот счет.
При помощи этого нового союза с Данией и успехов в Швеции, в которых здешний двор, при условии получения должной поддержки, не сомневается, г-н Панин до некоторой степени осуществит свой великий план объединения северных держав. Тогда нужно будет только заключить договор о союзе с Великобританией, чтобы ото объединение было вполне завершено. Я убежден, что таково самое горячее желание здешнего двора. Императрица не раз высказывала это в самых определенных выражениях. Посредством такого союза она стремится создать некоторый противовес Фамильному пакту и расстроить по мере возможности все планы венского и версальского дворов, против которых она необычайно раздражена в озлоблена.[6][7]
Однако я не скрою от Вашей светлости, что мы не можем рассчитывать на подобный союз, если не согласимся на какую-либо секретную статью о субсидии на случай войны с турками, ибо от нас потребуют денег только в этом крайнем случае. Я льщу себя надеждой, что убедил здешний двор в том, что неблагоразумно ожидать какой-либо субсидии в мирное время и что союз на равных началах будет надежнее и почетнее для обоих народов. Я могу заверить Вашу светлость, что непременным условием всяких переговоров, которые нам, возможно, придется начать со здешним двором, является включение в текст договора или в какую-нибудь секретную статью пункта о том, что война с Турцией представит собой casus foederis.
Настойчивость г-на Панина в этом вопросе объясняется случаем, о котором я сейчас расскажу. При обсуждении договора между императором и прусским королем граф Бестужев, смертельный враг последнего, предложил пункт о Турции, убежденный в том, что прусский король никогда на него не согласится, и льстя себя надеждой расстроить переговоры в результате его отказа. Но, как видно, этот старый политик ошибся в своих расчетах, так как его величество тотчас же согласился на это предложение, если Россия будет заключать союзы с другими державами лишь на тех же самых условиях.[8]
Это – действительный факт, и в подтверждение его через несколько дней меня посетил прусский посланник граф Сольмс и сказал мне, что если здешний двор намерен заключить союз с нашим без такого пункта, то ему предписано самым решительным образом противиться этому. Мне намекнули, что если Великобритания будет менее непреклонна в отношении этой статьи, то Россия будет менее непреклонна в отношении статьи о вывозных пошлинах в торговом договоре, от которого здешний двор, как говорил Вашей светлости г-н Гросс, никогда не отступит. Вместе с тем лицо, пользующееся величайшим доверием г-на Панина, заверило меня, что если мы заключим договор о союзе, то торговый договор пройдет вместе с ним ровными шагами, что тогда этот последний будет совершенно изъят из ведения Коммерц-коллегии, где имело место столько придирок и препирательств, и будет согласован лишь между министром и мною, и что это лицо уверено, что мы будем удовлетворены условиями торгового договора, если только пункт о Турции будет включен в договор о союзе. Мне также было сказано, что в случае нападения испанцев на Португалию мы сможем иметь за наш счет 15 000 русских для посылки туда. Я должен просить Вашу светлость ни в коем случае не упоминать г-ну Гроссу о секретной статье датского договора… Этот джентльмен, я боюсь, не является доброжелателем Англии».[9]
№ 3. Сэр Джеймс Харрис – лорду Грантаму
Петербург, 16(27) августа 1782 г. «(Личное)…По прибытии сюда, я нашел двор совершенно не таким, каким мне его описывали. Не было никакой симпатии к Англии, напротив, весь его дух был совершенно французским. Прусский король Фридрих II, к которому императрица Екатерина тогда прислушивалась, использовал свое влияние против нас. Граф Панин усиленно поддерживал его. Ласи и Корберон, посланники Бурбонов, хитрили и интриговали: князь Потемкин находился под их влиянием; а вся клика, которая окружала императрицу – Шуваловы, Строгановы и Чернышевы, – была тем, чем она остается и сейчас garcons perruquiers de Paris (парижскими парикмахерскими подмастерьями (франц.) – Ред).
Обстоятельства благоприятствовали их стараниям. Помощь, которую Франция притворно оказывала России в урегулировании ее споров с Портой, и совместные действия обоих дворов непосредственно после этого в качестве посредников в Тешенском мире немало содействовали их взаимному примирению. Я поэтому не был удивлен, что все мои переговоры с графом Паниным с февраля 1778 г. до июля 1779 г. не имели успеха, так как он желал предотвратить заключение союза, а не содействовать ему. Тщетно мы делали уступки для достижения этого. Панин всегда создавал новые затруднения, имел всегда наготове новые препятствия. Между тем мое явное доверие к нему принесло весьма серьезный вред. Он воспользовался им, чтобы передавать в своих докладах императрице не те слова, которые я употреблял, и не те чувства, которые я в действительности выражал, а те слова и те чувства, которые он желал, чтобы я употреблял и выражал.
Он столь же старательно скрывал от меня ее мнения и чувства. Изображая ей Англию упрямой, заносчивой и скрытной, он описывал мне недовольство и возмущение императрицы нашими стремлениями и ее безразличие к нашим интересам. И он был так уверен, что этим двойным искажением закрыл все пути к успеху, что когда я представил ему испанскую декларацию, он осмелился официально заявить мне, «что Великобритания своим собственным высокомерным поведением навлекла на себя все свои несчастья, что они теперь достигли предела, что мы должны согласиться на любые уступки для достижения мира и что мы не можем ожидать ни помощи от наших друзей, ни снисхождения от наших врагов». У меня было достаточно выдержки, чтобы не проявить своих чувств по этому поводу…
Не теряя времени, я обратился к князю Потемкину, и при его содействии императрица удостоила меня приемом наедине в Петергофе. Мне посчастливилось при этом свидании не только рассеять все ее предубеждения против нас, но и изобразить в истинном свете наше положение и нераздельность интересов Великобритании и России и побудить ее принять твердое решение поддержать нас. Это решение она объявила мне в недвусмысленных выражениях. Когда это стало известно, – а граф Панин был первым, кто узнал об этом, – он стал моим неумолимым и ожесточенным врагом. Он не только расстраивал мои официальные переговоры обманным путем, самым недостойным образом используя свое влияние, но и употребил все средства, которые могла подсказать самая низкая и мстительная злоба, чтобы унизить и оскорбить меня лично, и, судя по подлым обвинениям, которые он выдвигал против меня, я мог бы опасаться, будь я боязлив, самых подлых нападок с его стороны.
Это безжалостное преследование все еще продолжается, даже после того, как он перестал быть министром. Несмотря на категорические уверения, которые я получил от самой императрицы, он нашел способ сперва поколебать, а затем изменить ее решения. И он был очень услужливо поддержан его величеством королем прусским, который в то время был так же склонен расстраивать наши планы, как теперь он, по-видимому, стремится содействовать их осуществлению.
Я, однако, не впал в уныние от этой первой неудачи и, удвоив свои усилия, еще дважды за время моей миссии почти убедил (!) императрицу выступить в качестве нашего явного друга, и каждый раз мои надежды, основывались на уверениях из ее собственных уст. В первый раз это было, когда наши враги придумали вооруженный нейтралитет; в другой – когда ей предложена была Менорка.[10]
Хотя в первом из этих случаев я встретил ту же самую оппозицию с той же самой стороны, что и раньше, я все же вынужден сказать, что главную причину моей неудачи следует приписать той чрезвычайно неловкой форме, в которой мы ответили на знаменитую декларацию о нейтралитете в феврале 1780 года. Хорошо зная, с какой стороны последует удар, я был готов парировать его. Мое мнение было следующим: «Если Англия чувствует себя достаточно сильной, чтобы обойтись без России, пусть она сразу же отвергнет эти новоизобретенные доктрины; но если положение ее таково, что она нуждается в поддержке, то пусть она уступит требованиям момента, признает их, поскольку они относятся к одной России, и своевременным актом любезности обеспечит себе могущественного друга».[11]
С моим мнением не посчитались; дан был двусмысленный и уклончивый ответ: мы, по-видимому, одинаково боялись как принять, гак и отвергнуть принципы вооруженного нейтралитета. Мне было предписано втайне противиться, а на словах – соглашаться с ними; употребленные в разговоре с г-ном Симолиным некоторые неосторожные выражения одного из тогдашних наших доверенных лиц, прямо противоречившие умеренным и сердечным речам, которые этот посланник слышал от лорда Стормонта, вызвали крайнее раздражение императрицы и окончательно укрепили ее неприязнь к английскому правительству и дурное мнение о нем.[12]
Наши враги воспользовались этими обстоятельствами. Я подал мысль уступить Менорку императрице: поскольку при заключении мира мы, как мне было ясно, должны будем принести жертвы, то мне казалось более благоразумным приносить их нашим друзьям, чем нашим врагам. Эта мысль была усвоена в Англии во всем ее объеме, и ничто не могло б[13] ыть более подходящим для здешнего двора, чем разумные инструкции, которые я получил по этому поводу от лорда Стормонта. Я все еще не могу понять, почему этот проект не удался. Я никогда не видел, чтобы императрица в большей мере склонялась к какому-либо предприятию, чем к этому, тогда, когда я еще не имел полномочий вести переговоры, – и я никогда не испытывал большего удивления, чем при виде ее отказа от своего намерения по получении мною этих полномочий.
В то же время я, со своей стороны, приписывал это ее глубокому отвращению к нашему министерству и полному отсутствию у нее доверия к нему; но теперь я более склонен полагать, что она советовалась по этому вопросу с императором (австрийским) и что он не только убедил ее отклонить предложение, но и выдал Франции этот секрет, который, таким образом, стал общеизвестным.
Ничем иным я не могу объяснить эту быструю перемену настроения императрицы, в особенности потому, что князь Потемкин (каким бы он ни был в других делах) определенно поддерживал это дело искренне и чистосердечно и, как меня убедило то, что я видел тогда и узнал впоследствии, принимал его успех так же близко к сердцу, как и я сам.
Вы можете заметить, милорд, что мысль сделать императрицу доброжелательным посредником сочеталась с предлагавшейся уступкой Менорки. Так как последствия осуществления этой мысли привели нас ко всем трудностям теперешнего посредничества, мне необходимо объяснить моя тогдашние соображения и оправдаться от обвинения в том, что я поставил свой двор в столь затруднительное положение. Моим желанием и намерением было, чтобы она стала единственным посредником без участия кого-либо другого; если Вы внимательно следили за тем, что происходило между мной и ею в декабре 1780 г., то Ваша светлость поймет, какие у меня были серьезные основания полагать, что она будет посредником дружественным и даже стоящим на нашей стороне.[14]
Правда, я знал, что она не подходила для выполнения этой задачи, но я знал также, как сильно польстит ее тщеславию этот выбор, и прекрасно сознавал, что раз она возьмется за это дело, то будет упорно продолжать его и неизбежно будет вовлечена в нашу распрю, в особенности, если обнаружится (а это обнаружилось бы, что мы вознаградили ее Меноркой. Привлечение к посредничеству другого (австрийского) императорского двора совершенно расстроило этот план. Это обстоятельство не только дало ей повод не сдержать своего слова, но задело и оскорбило ее; и под таким впечатлением она передала все дело коллеге, которого мы ей дали, и приказала своему посланнику в Вене подписаться безоговорочно под всем, что предложит венский двор. Отсюда и все беды, которые постигли нас с тех пор, а также и те, которые мы испытываем сейчас.
Меня никогда не могли убедить, что венский двор, пока его действия направляет князь Кауниц, может в какой-то мере желать добра Англии или зла Франции. Я старался содействовать его влиянию здесь вовсе не с этой целью, но потому, что, как я убедился, влияние Пруссии мне постоянно противодействовало, и потому, что я полагал, что, если мне каким-нибудь способом удастся уничтожить это влияние, то и избавлюсь от самого большого препятствия. Я ошибся, и в результате исключительного и фатального стечения обстоятельств венский и берлинский дворы, по-видимому, никогда ни в чем другом не сходились, кроме стремления поочередно вредить нам здесь.[15]
Предложение относительно Менорки было последней попыткой, которую я сделал, чтобы побудить императрицу выступить. Я исчерпал свои силы и средства. Независимость, с которой я говорил, хотя и вполне почтительно, во время последнего моего свидания с ней, ей не понравилась; и с этого момента до отставки последнего министерства я принужден был держаться оборонительного образа действия…
Я испытывал гораздо большие трудности, когда стремился помешать императрице причинять нам вред, чем тогда, когда пытался побудить ее делать нам добро. Именно с целью предотвратить зло я решительно склонялся к тому, чтобы принять ее единоличное посредничество между нами и Голландией, когда ее императорское величество впервые предложила его. Крайнее неудовольствие, которое она выразила в ответ на наш отказ, подтвердило мое мнение; и я взял на себя смелость, когда это предложение было сделано во второй раз, настаивать на необходимости принять его (хотя я знал, что это противоречит взглядам моего принципала), так как я был твердо уверен, что если бы мы снова его отклонили, императрица в минуту гнева соединилась бы с Голландией против нас.
Впрочем, все шло хорошо; наше благоразумное поведение перенесло на Голландию раздражение, направленное первоначально против нас, и теперь она так же держит нашу сторону, как прежде поддерживала голландцев. С тех пор, как в Англии образовано новое министерство, мне стало легче. Великий и новый путь, который был проложен Вашим предшественником и по которому Вы, милорд, следуете, привел к самым благоприятным для нас переменам на континенте. Я вполне уверен, что ничто, кроме событий, находящих отклик в ее душе, не может побудить ее императорское величество действовать активно, но теперь она испытывает сильный прилив дружественных чувств к нам; она одобряет наши мероприятия; она доверяет нашему министерству и она дает волю той склонности, которую она, несомненно, питает к нашей нации. Наши враги знают и о[16] щущают это, и это держит их в страхе. Таков краткий, но точный очерк того, что произошло при здешнем дворе со дня моего приезда в Петербург до настоящего времени.
Из него можно сделать несколько выводов: что императрица руководствуется своими чувствами, а не разумом и практическими сообр[17] ажениями; что ее предубеждения очень сильны, легко возникают и, раз установившись, неизменны, тогда как, напротив, верного пути завоевать ее хорошее мнение не существует; что даже если удается добиться его, то оно подвержено постоянным колебаниям и может зависеть от самых ничтожных случаев; что до тех пор, пока она не будет в достаточной мере втянута в осуществление какого-нибудь плана, нельзя полагаться ни на какие ее уверения, но если она действительно приступила к его выполнению, то никогда от него не отступится, и ее можно увлечь как угодно далеко; что при всех ее блестящих способностях, возвышенном уме и необыкновенной проницательности ей недостает здравого смысла, ясности мысли, рассудительности и l’esprit de combinaison (дара комбинаций (франц.). – Ред) (!!); что ее министры либо не понимают, в чем заключается благо государства, либо равнодушны к нему и действуют или пассивно подчиняясь ее воле, или исходя из интересов групп или частных лиц».[18]
№ 4. (Рукопись) Отчет о России, относящийся к началу царствования императора Павла.
Составлен преподобным Л. К. Питтом, капелланом фактории в С.-Петербурге и близким родственником
Уильяма Питта. Извлечение.[19]
«Едва ли можно сомневаться в истинном отношении покойной русской императрицы к великим событиям, которые за последние несколько лет потрясли вею систему европейской политики. Она, несомненно, уже с самого начала чувствовала фатальные тенденции новых принципов, но, быть может, не без удовольствия видела, как все европейские державы истощали себя в борьбе, которая по мере обострения увеличивала ее собственную роль. Более чем вероятно, что положение во вновь приобретенных провинциях Польши также оказывало сильное влияние на политическое поведение Екатерины. Фатальные последствия страха перед возможностью восстания в недавно завоеванных областях, по-видимому, ощущались очень сильно союзными державами, которые в первый период революции были весьма близки к тому, чтобы восстановить законное правительство во Франции. Та же угроза восстания в Польше, которая разделила внимание союзных держав и ускорила их отступление, точно так же удерживала покойную русскую императрицу от выступления на великой сцене войны до тех пор, пока стечение обстоятельств не сделало дальнейшие успехи французских армий более опасным злом, чем то, которое могли бы причинить Российской империи активные действия…
Последние слова императрицы, как известно, были обращены к ее секретарю (Зотову. Ред), когда она отпустила его утром в день своей смерти: «Передайте князю (Зубову), – сказала она, – чтобы он пришел ко мне в двенадцать часов и напомнил мне, что надо подписать договор о союзе с Англией».
Глава 2. Исторические документы
Опубликованные в первой главе документы относят ко времени от царствования императрицы Анны вплоть до начала царствования императора Павла, охватывая, таким образом, большую часть XVIII века. К концу этого столетия, как утверждает его преподобие г-н Питт, открыто исповедуемым символом веры английской дипломатии стало мнение, «что узы, связывающие Великобританию с Российской империей, созданы природой и нерушимы».
При внимательном изучении этих документов выявляется нечто, что поражает нас даже больше, чем их содержание, а именно – их форма. Все эти письма являются «доверительными», «личными», «секретными», «совершенно секретными». Но, несмотря на их секретность, частный и доверительный характер, английские государственные деятели говорят между собой о России и ее правителях в тоне благоговейной сдержанности, низкого раболепия и циничной покорности, которые поразили бы нас даже в публиковавшихся донесениях государственных деятелей России. Русские дипломаты прибегают к секретности, чтобы скрыть интриги против чужеземных наций. Этот же метод широко применяется английскими дипломатами для выражения своей преданности иностранному двору. Секретные донесения русских дипломатов окутаны дымкой двусмысленности. С одной стороны, это fumee de faussete (дымка фальши (франц.) – Ред), как говорил герцог Сен-Симон, а с другой, – это кокетливое демонстрирование своего собственного превосходства и хитрости, которое придает неизгладимый отпечаток донесениям французской тайной полиции.
Даже мастерские донесения Поццо-ди-Борго испорчены этой печатью вульгарности, свойственной lilterature de mauvais lieu (низкопробной литературе (франц.) – Ред). В этом отношении английские секретные донесения оставляют их далеко за собой. Они демонстрируют не превосходство, а глупость. Например, может ли быть что-нибудь глупее сообщения г-на Рондо Горацио Уолполу о том, что он выдал русским министрам адресованные английскому королю письма турецкого великого визиря, но заявил «в то же время этим джентльменам, что, поскольку в письмах содержится ряд резких суждений о русском дворе, он не передал бы эти письма, если бы они сами не жаждали так увидеть их», а затем просил их превосходительства не сообщать Порте, что они их (эти письма) видели!
Уже с первого взгляда видно, что гнусность поступка тонет в глупости этого человека. Или взять сэра Джорджа Макартни. Может ли быть что-нибудь глупее его радости но поводу того, что Россия, по-видимому, достаточно «благоразумна», чтобы не ожидать от Англии «оплаты всех расходов», связанных с тем, что Россия «предпочитает играть первенствующую роль в Стокгольме»; или того, что он «льстит себя надеждой» на то, что «убедил русский двор» не быть столь «неблагоразумным» и не требовать от Англии в мирное время выплаты субсидий для войны с Турцией (тогдашней союзницей Англии); или его предупреждения графу Сандвичу «не упоминать» русскому послу в Лондоне о секретах, сообщенных ему самому русским канцлером в С.-Петербурге? Или что может быть глупее доверительного нашептывания сэра Джеймса Харриса лорду Грантаму о том, что Екатерина II лишена «здравого смысла, ясности мысли, рассудительности и l’esprit de combinaison» (духа комбинации (франц.) – Ред.).[20]
Взять, с другой стороны, то невозмутимое бесстыдство, с которым сэр Джордж Макартни сообщает своему министру, что так как шведы чрезвычайно задеты и унижены своей зависимостью от России, то санкт-петербургский двор предлагает Англии проводить его политику в Стокгольме под британским флагом свободы и независимости! Или сэр Джеймс Харрис, советующий Англии уступить России Менорку а право осмотра судов на море и монополию на посредничество в международных делах не ради получения каких-либо материальных выгод или хотя бы какого-нибудь формального обязательства со стороны России, а только с целью вызвать «сильный прилив дружественных чувств» императрицы и перенести ее «раздражение» на Францию.
В русских секретных донесениях проводится очень простая мысль: Россия знает, что у нее нет никаких общих интересов с другими нациями, но ей надо убедить каждую нацию в отдельности в том, что у нее имеются общие интересы с Россией, а не с какой-либо другой нацией. Английские донесения, напротив, никогда не смеют даже намекнуть, что Россия имеет общие интересы с Англией, а лишь стараются убедить эту страну, что ее интересами являются интересы России. Сами английские дипломаты говорят нам, что, встречаясь наедине с русскими монархами, они приводили только этот довод.
Если бы преданные нами гласности английские донесения были адресованы личным друзьям, то они только покрыли бы позором послов, которые их писали. Но так как они на деле тайно адресованы самому английскому правительству, то навечно пригвождают его к позорному столбу истории. И это, кажется, инстинктивно чувствовали даже сами вигские историки, так как ни один из них не осмелился опубликовать эти донесения.
Само собой разумеется, возникает вопрос, когда появился этот русофильский характер английской дипломатии, ставший традиционным в течение XVIII века? Для выяснения этого вопроса мы должны вернуться ко времени Петра Великого, которое, следовательно, и составит главный предмет наших исследований. Мы намерены приступить к этой задаче, начав с воспроизведения некоторых английских памфлетов, написанных во времена Петра 1, которые либо ускользнули от внимания современных историков, либо показались им не заслуживающими его.
Указанных памфлетов, однако, достаточно, чтобы опровергнуть общее для континентальных и английских авторов заблуждение, будто в Англии не понимали намерений России или не подозревали о них вплоть до более позднего времени, когда уже было слишком поздно, будто дипломатические отношения между Англией и Россией были только естественным следствием взаимных материальных интересов обеих стран, и поэтому, обвиняя английских государственных деятелей XVIII в. в русофильстве, мы совершили бы непростительную hysteron proteron (перестановку позднейшего события на место более раннего (греч.) – Ред).
Если при помощи английских донесений мы показали, что уже при императрице Анне Англия предавала России своих союзников, то из памфлетов, которые мы теперь приводим, будет видно, что даже до Анны, в ту самую эпоху, когда началось преобладание России в Европе, во времена Петра I, английские писатели понимали планы России и изобличали потворство английских государственных деятелей этим планам.
Первый памфлет, который мы предлагаем вниманию читателей, называется «Северный кризис». Он был напечатан в Лондоне в 1716 г. и касается намечавшегося датско-англо-русского вторжения в Сканию (Сконе).
В течение 1715 г. между Россией, Данией, Польшей, Пруссией и Ганновером был заключен северный союз с целью раздела не самой Швеции, а того, что мы можем назвать Шведской империей. Этот раздел является первым крупным актом современной дипломатии, логической предпосылкой для раздела Польши. Договоры о разделе, касающиеся Испании, вызвали интерес потомства, потому что явились предвестниками войны за испанское наследство, а раздел Польши привлек даже еще большее внимание, потому что последний его акт был разыгран на современной арене.
Тем не менее нельзя отрицать, что именно раздел Шведской империи открывает современную эру международной политики. Договор о разделе даже для вида не выдвигал какой-нибудь предлог, кроме тяжелого положения намеченной жертвы. Впервые в Европе нарушение всех договоров было не только фактически осуществлено, но и объявлено общей основой нового договора. Сама Польша, которая шла на поводу России и которую представлял Август II, король польский и курфюрст саксонский, это воплощение аморальности, была выдвинута в заговоре на первый план и таким образом сама подписала свой смертный приговор, не получив даже того преимущества, которое Полифем предоставил Одиссею, – быть съеденною последней. Карл XII в своей добровольной ссылке в Бендерах предсказал ее судьбу в манифесте, выпущенном им против короля Августа и царя. Манифест датирован 28 января 1711 года.
Участие в этом договоре о разделе толкнуло Англию на орбиту России, к которой она все больше и больше тяготела со времен «Славной революции». Георг I как король Англии был связан со Швецией оборонительным союзом по договору 1700 года. Не только в качестве короля Англии, но и в качестве курфюрста ганноверского он был одним из гарантов и даже прямым участником Травендальского договора, который обеспечил Швеции то, чего договор о разделе должен был ее лишить. Даже своим званием германского курфюрста он отчасти был обязан этому договору. Тем не менее как курфюрст ганноверский он объявил Швеции войну, которую вел уже в качестве короля Англии.
В 1715 г. союзники отняли у Швеции ее немецкие провинции и для этого ввели московитов на германскую территорию. В 1716 г. они условились вторгнуться в саму Швецию, попытавшись высадить вооруженный десант в Скопе – ее крайней южной части, состоящей теперь из округов Мальме и Кристианстад. В соответствии с этим русский царь Петр привел с собой из Германии московитскую армию, которую разместил по всей Зеландии, чтобы оттуда переправить ее в Сконе под защитой английского и голландского флотов, посланных в Балтийское море под вымышленным предлогом охраны торговли и мореплавания. Уже в 1715 г., когда Карл XII был осажден в Штральзунде, восемь английских военных кораблей, предоставленных Англией Ганноверу, а Ганновером – Дании, открыто усилили датский флот и даже подняли датский флаг. В 1716 г. британский военный флот находился под личным командованием его царского величества.
Когда все уже было готово для вторжения в Сконе, возникло затруднение с той стороны, с которой его меньше всего ожидали. Хотя договором было обусловлено только 30 000 московитов, Петр, по своему великодушию, высадил в Зеландии 40 000 человек. Но теперь, когда их надо было отправлять в Сконе, он вдруг обнаружил, что из 40 000 человек может уделить только 15 000. Это заявление не только парализовало военный план союзников, но, по-видимому, угрожало также безопасности Дании и ее короля Фредерика IV, так как значительная часть московитской армии, поддерживаемая русским флотом, заняла Копенгаген. Один из генералов Фредерика предложил внезапно напасть с датской кавалерией на московитов и истребить их, в то время как английские военные суда подожгут русский флот. Будучи не склонным ко всякому вероломству, которое требовало известной силы воли, твердости характера и в какой-то мере презрения к личной опасности, Фредерик IV отверг смелое предложение и ограничился занятием оборонительной позиции. Затем он написал царю просительное письмо, сообщив, что отказался от своего плана относительно Сконе, и просил царя сделать то же самое и отбыть восвояси – просьба, которую последнему осталось только исполнить. Когда Петр со своей армией наконец покинул Данию, датский двор счел необходимым в публичном сообщении известить европейские дворы о событиях и обстоятельствах, расстроивших предполагавшийся десант в Сконе. Этот документ и служит отправной точкой памфлета «Северный кризис».
В письме, адресованном барону Герцу из Лондона 23 января 1717 г. графом Юлленборгом, имеется несколько фраз, в которых последний, в то время шведский посол при Сент-Джеймсском дворе, как будто называет себя автором «Северного кризиса», хотя и не упоминает этого названия. Но всякое предположение о том, что он написал этот сильный памфлет, отпадает даже при самом поверхностном ознакомлении с подлинными писаниями графа, например, с его письмами Герцу.