Читать онлайн Иисус. Все мировые исследования бесплатно
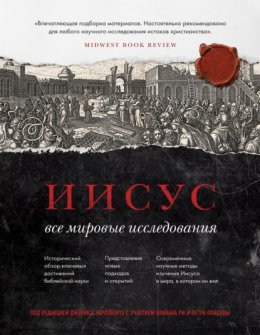
Jesus Research: New Methodologies and Perceptions
The Second Princeton-Prague Symposium on Jesus Research,
Princeton 2007
Edited by
James H. Charlesworth with Brian Rhea
In consultation with Petr Pokorny
Перевод с английского
Михаила Завалова (Введение. Разделы 1 и 4),
Натальи Киреевой (Раздел 2),
Наталии Холмогоровой (Разделы 3, 5 и 6).
© 2014 James H. Charlesworth and Brian Rhea. All rights reserved
© Завалов М.И., перевод, 2021
© Киреева Н.М., перевод, 2021
© Холмогорова, Н.Л., перевод, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Список сокращений
Общие сокращения
ET английский перевод
KJV Библия короля Якова
L Особый текст Луки
LXX Септуагинта
M Особый текст Матфея
англ. английский
букв. буквально
ВЗ Ветхий Завет
Втор. ист. Второзаконническая история
греч. греческий
др. – греч. древнегреческий
ивр. иврит
илл. иллюстрации
лог. логия; изречение, приписываемое Христу (logion/logia)
ман. манускрипт(ы)
Мас. Масоретский текст
НЗ Новый Завет
ориг. оригинал
пар. (и) параллели
сир. сирийский
фр. фрагмент
Современные публикации
AAntHung Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
AARCC American Academy of Religion Cultural Criticism
AASF Annales Academiae scientiarum fennicae
AASOR Annual of the American Schools of Oriental Research
AB Anchor Bible
ABD Anchor Bible Dictionary. Ed. D. N. Freedman. 6 vols. New York: Doubleday, 1992
ABR Australian Biblical Review
ABRL Anchor (Yale) Bible Reference Library
ADAJ Annual of the Department of Antiquities of Jordan
ADPV Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins
AfTJ Africa Theological Journal
AGJU Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums
AGSU Arbeiten zur Geschichte des Spätjudentums und Urchristentums
AHL Academy of the Hebrew Language
AJN American Journal of Numismatics
AJP American Journal of Philology
ALGHJ Arbeiten zur Literatur und Geschichte des hellenistischen Judentums
AnBib Analecta biblica
AnnPsy The Annual of Psychoanalysis
ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Ed. H. Temporini and W. Haase. New York: de Gruyter, 1972–
ANSM American Numismatic Society Magazine
Apeliotes Apeliotes: Studien zur Kulturgeschichte und Theologie
ArBib The Aramaic Bible
ARWAW Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften
ASBT Acadia Studies in Bible and Theology
ASNU Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis
ASOR American Schools of Oriental Research
ASR American Sociological Review
ATANT Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments
AthRSupp Anglican Theological Review: Supplementary Series
ATM Altes Testament und Moderne
ATR Australasian Theological Review
BA Biblical Archaeologist
BAIAS Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society
BAR Biblical Archaeology Review
BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BAT Bibliothèque de l’Antiquité tardive
BBB Bonner biblische Beiträge
BBR Bulletin for Biblical Research
BCNH Bibliothèque copte de Nag Hammadi
BDAG W. Bauer, F. W. Danker, W. F. Arndt, and F. W. Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2000
BECNT Baker Exegetical Commentary on the New Testament
BeO Bibbia e oriente
BETL Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium
BevT Beiträge zur evangelischen Theologie
BH Beiträge zur Historik
BHMIIS The Bulletin of the Henry Martyn Institute of Islamic Studies
Bib Biblica
BibG Biblische Gestalten
BibInt Biblical Interpretation
BibOr Biblica et orientalia
BibS(F) Biblische Studien (Freiburg, 1895–)
BibS(N) Biblische Studien (Neukirchen, 1951–)
BibTS Biblical Tools and Studies
BInS Biblical Interpretation Series
BISNELC Bar-Ilan Studies in Near Eastern Languages and Culture
BJRL Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester
BJS Brown Judaic Studies
BK Bibel und Kirche
BNP Brill’s New Pauly. Ed. Hubert Cancik, Helmuth Schneider, and Manfred Landfester. 20 vols. Leiden: Brill, 2002–2010
BNTC Black’s New Testament Commentary
BR Biblical Research
BRev Bible Review
BRIIFS Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies
BRLJ Brill Reference Library of Judaism
BRS Biblical Resource Series
BTAVO Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients
BTB Biblical Theology Bulletin
BThSt Biblisch-theologische Studien
BZ Biblische Zeitschrift
BzAl Beiträge zur Altertumskunde
BZAW Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
BZNW Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
CaE Cahiers évangile
CBC Cambridge Bible Commentary
CBQ Catholic Biblical Quarterly
CBQMS Catholic Biblical Quarterly Monograph Series
CBR Currents in Biblical Research
CC Continental Commentaries
CCSL Corpus Christianorum: Series latina
CJA Christianity and Judaism in Antiquity
CM Christianity in the Making
ConBNT Coniectanea biblica: New Testament Series
COQG N. T. Wright, Christian Origins and the Question of God. 3 vols. Minneapolis: Fortress, 1992–2003
CQ Classical Quarterly
CRINT Compendia rerum iudaicarum ad Novum Testamentum
CSR Christian Scholars Review
CSS Cistercian Studies Series
CTM Concordia Theological Monthly
CWS Classics of Western Spirituality
CurBR Currents in Biblical Research (выходит под названием: Currents in Research)
Di Dialog: A Journal of Theology
DJD Discoveries in the Judaean Desert
DMAHA Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology
DNTB Dictionary of New Testament Background. Ed. C. A. Evans and S. E. Porter. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2000
DPL Dictionary of Paul and His Letters. Ed. G. F. Hawthorne and R. P. Martin. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1993
DSD Dead Sea Discoveries
DTV Deutscher Taschenbuch Verlag
EB Echter Bibel
Ebib Études bibliques
EHS Europäische Hochschulschriften
EKKNT Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament
EnAC Entretiens sur l’antiquité classique
EncJud Encyclopaedia Judaica. Ed. Fred Skolnik. 2nd ed. 22 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, 2007
ERE Encyclopaedia of Religion and Ethics. Ed. James Hastings. 13 vols. New York: Scribner, 1908–1927. Repr., 13 vols. in 7. New York: Scribner, 1951
ErIsr Eretz-Israel
ESEC Emory Studies in Early Christianity
EssBib Essais bibliques
EvQ Evangelical Quarterly
ExAud Ex auditu
ExpTim Expository Times
FAT Forschungen zum Alten Testament
FC Fathers of the Church
FFF Foundations and Facets Forum
FIOTL Formation and Interpretation of Old Testament Literature
FOTL Forms of the Old Testament Literature
FRLANT Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments
FSC Faith and Scholarship Colloquies
GBS Guides to Biblical Scholarship
GCS Die griechische christliche Schriftsteller der ersten [drei] Jahrhunderte
GfC Geschichte des frühen Christentums
GNS Good News Studies
GTBS Gütersloher Taschenbücher Siebenstern
HAT Handbuch zum Alten Testament
Hen Henoch
HO Handbuch der Orientalistik
Hok Hokhma
HSCL Harvard Studies in Comparative Literature
HSM Harvard Semitic Monographs
HTR Harvard Theological Review
HTS Harvard Theological Studies
HTS/TS Hervormde Teologiese Studies/Theological Studies
HUCA Hebrew Union College Annual
HUT Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie
IAA Israel Antiquities Authority
IBC Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching
IBS Irish Biblical Studies
ICC International Critical Commentary
ICMR Islam and Christian-Muslim Relations
IEJ Israel Exploration Journal
IMWKT Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik
INJ Israel Numismatic Journal
INR Israel Numismatic Research
Int Interpretation
IRT Issues in Religion and Theology
JBL Journal of Biblical Literature
JBLMS Journal of Biblical Literature Monograph Series
JBTh Jahrbuch für biblische Theologie
JCP Jewish and Christian Perspectives
JCTCRS Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies
JECS Journal of Early Christian Studies
JES Journal of Ecumenical Studies
JETS Journal of the Evangelical Theological Society
JFA Journal of Field Archaeology
JHC Journal of Higher Criticism
JJS Journal of Jewish Studies
JPS Jewish Publication Society
JQR Jewish Quarterly Review
JR Journal of Religion
JRA Journal of Roman Archaeology
JRASS Journal of Roman Archaeology Supplementary Series
JSHJ Journal for the Study of the Historical Jesus
JSJ Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Periods
JSJSup Дополнения к изданию: Journal for the Study of Judaism
JSNT Journal for the Study of the New Testament
JSNTSup Journal for the Study of the New Testament: Supplement Series
JSOT Journal for the Study of the Old Testament
JSOTSup Journal for the Study of the Old Testament: Supplement Series
JSP Journal for the Study of the Pseudepigrapha
JSPSup Journal for the Study of the Pseudepigrapha: Supplement Series
JSS Journal of Semitic Studies
JTS Journal of Theological Studies
KEK Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament (Meyer-Kommentar)
KNT Kommentar zum Neuen Testament
KS Kirjath-Sepher
KTU Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit. Ed. M. Dietrich, O. Loretz, and J. Sanmartin. AOAT 24/1. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1976
LCL Loeb Classical Library
LCPM Letture cristiane del primo millennio
LD Lectio divina
LDSS Literature of the Dead Sea Scrolls
LEC Library of Early Christianity
LG Land of Galilee
LHB/OTS Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies
LJS Lives of Jesus Series
LNTS Library of New Testament Studies (formerly JSNTSup)
LQ Lutheran Quarterly
LSJ H. G. Liddell, R. Scott, and H. S. Jones, A Greek-English Lexicon. 9th ed. with revised supplement. Oxford: Clarendon, 1996
MBCBSup Mnemosyne Bibliotheca Classica Batava Supplement
MilS Milltown Studies
MW The Muslim World
MNTS McMaster New Testament Studies
MTS Marburger theologische Studien
NA27 Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, 27th ed.
NAWG Nachrichten (von) der Akademie der Wissenschaften in Gцttingen
NCB New Century Bible Commentary
NCBC New Cambridge Bible Commentary
NEAEHL The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Ed. Ephraim Stern. 5 vols. New York: Simon & Schuster, 1993
NEchtB/NT Neue Echter Bibel-Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung
Neot Neotestamentica
NGS New Gospel Studies
NHC Nag Hammadi Codices
NHMS Nag Hammadi and Manichaean Studies
NHS Nag Hammadi Studies
NIBCNT New International Biblical Commentary on the New Testament
NICNT New International Commentary on the New Testament
NIDB New Interpreter’s Dictionary of the Bible. Ed. Katharine Doob Sakenfeld. 5 vols. Nashville: Abingdon, 2006–2009
NIGTC New International Greek Testament Commentary
NJahrb Neue Jahrbücher für das klassische Altertum
NovT Novum Testamentum
NovTSup Supplements to Novum Testamentum
NRSV New Revised Standard Version
NTAbh Neutestamentliche Abhandlungen
NTC The New Testament in Context
NTD Das Neue Testament Deutsch
NTGTJC New Testament Gospels in Their Judaic Contexts
NTL New Testament Library
NTM New Testament Monographs
NTOA Novum Testamentum et Orbis Antiquus
NTR New Testament Readings
NTS New Testament Studies
NTTS New Testament Tools and Studies
NVBS New Voices in Biblical Studies
OBO Orbis biblicus et orientalis
OCD The Oxford Classical Dictionary. Ed. Simon Hornblower and Antony Spawforth. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1996
OEANE The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. Ed. Eric M. Meyers. 5 vols. New York: Oxford University Press, 1997
OED Oxford English Dictionary. Ed. J. A. Simpson. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1989
OMS Oxbow Monograph Series
OrChr Oriens christianus
Ost Ostkirchliche Studien
OTL Old Testament Library
PEQ Palestine Exploration Quarterly
PG Patrologia graeca (= Patrologiae cursus completus: Series graeca). Ed. J.-P. Migne. 162 vols. Paris: Migne, 1857–1886
PJB Palästinajahrbuch
PL Patrologia latina (= Patrologiae cursus completus: Series Latina). Ed. J.-P. Migne. 217 vols. Paris: Migne, 1844–1864
POC Proche-Orient Chrétien
PRR Princeton Readings in Religions
PRSt Perspectives in Religious Studies
PSB Princeton Seminary Bulletin
PTMS Pittsburgh Theological Monograph Series
PTSDSSP Princeton Theological Seminary Dead Sea Scrolls Project
PW A. F. Pauly, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Ed. Georg Wissowa. New ed. 49 vols. Munich: Druckenmüller, 1980
Qad Qadmoniot
QD Quaestiones disputatae
RAp Revue apologétique
RB Revue biblique
RBL Review of Biblical Literature
RBPH Revue belge de philologie et d’histoire
RCT Revista catalana de teologнa
RE Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Ed. J. J. Herzog. 2nd ed. 24 vols. Leipzig: Hinrichs, 1896–1913
REJ Revue des études juives
RevQ Revue de Qumrвn
RGG Religion in Geschichte und Gegenwart. 2nd ed. Ed. Hermann Gunkel. 5 vols. Tübingen: Mohr Siebeck, 1927–1931. 3rd ed. Ed. Kurt Galling. 7 vols. Tübingen: Mohr Siebeck, 1957–1965
RGRW Religions in the Graeco-Roman World
RHPR Revue de l’histoire et de philosophie religieuses
RHR Revue de l’histoire des religions
RRJ The Review of Rabbinic Judaism
RSR Recherches de science religieuse
RSV Revised Standard Version
SAAA Studies in Ancient Art and Archaeology
SBAZ Studien zur biblischen Archäologie und Zeitgeschichte
SBEC Studies in the Bible and Early Christianity
SBF Studium biblicum Franciscanum
SBL Society of Biblical Literature
SBLAcBib Society of Biblical Literature Academia Biblica
SBLBMI Society of Biblical Literature: Bible and Its Modern Interpreters
SBLDS Society of Biblical Literature Dissertation Series
SBLECL Society of Biblical Literature Early Christianity and Its Literature
SBLEJL Society of Biblical Literature Early Judaism and Its Literature
SBLMS Society of Biblical Literature Monograph Series
SBLRBS Society of Biblical Literature Resources for Biblical Study
SBLSBS Society of Biblical Literature Sources for Biblical Study
SBLSP Society of Biblical Literature Seminar Papers
SBLSymS Society of Biblical Literature Symposium Series
SBLTT Society of Biblical Literature Texts and Translations
SBS Stuttgarter Bibelstudien
SBT Studies in Biblical Theology
SBTS Sources for Biblical and Theological Study
SC Sources chrétiennes
SCI Scripta Classica Israelica
SCJ Studies in Christianity and Judaism
SDSSRL Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature
SecCent Second Century
SemeiaSt Semeia Studies
SFRSLSRSO South Florida – Rochester – St. Louis Studies on Religion and the Social Order
SFSHJ South Florida Studies in the History of Judaism
SGJC Shared Ground among Jews and Christians
SHJ Studying the Historical Jesus
SHR Studies in the History of Religions
SIJD Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum
SJ Studia judaica
SJLA Studies in Judaism in Late Antiquity
SJOT Scandinavian Journal of the Old Testament
SJT Scottish Journal of Theology
SNT Studien zum Neuen Testament
SNTSMS Society for New Testament Studies Monograph Series
SNTSU Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt
SNTW Studies of the New Testament and Its World
SP Sacra Pagina
SPhilo Studia philonica
SPHS Scholars Press Homage Series
SPS Studies in Peace and Scripture
SSEJC Studies in Scripture in Early Judaism and Christianity
ST Studia theologica
STDJ Studies on the Texts of the Desert of Judah
StPB Studia post-biblica
SuG Sprache und Geschichte
SUNT Studien zur Umwelt des Neuen Testaments
TANZ Texte und Arbeiten zum neutestamentlichen Zeitalter
TB Theologische Bücherei: Neudrucke und Berichte aus dem 20.Jahrhundert
TDNT Theological Dictionary of the New Testament. Ed. G. Kittel and G. Friedrich. Trans. G. W. Bromiley. 10 vols. Grand Rapids: Eerdmans, 1964–1976
TGLSK Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste
ThBer Theologische Berichte
Theoph. Theophaneia: Beiträge zur Religions-und Kirchengeschichte des Altertums
ThLZ Theologische Literaturzeitung
ThLZF Forum Theologische Literaturzeitung
ThSt Theologische Studien
TLZ Theologische Literaturzeitung
TQ Theologische Quartalschrift
TSAJ Texte und Studien zum antiken Judentum
TSR Texts and Studies in Religion
TU Texte und Untersuchungen
TUMSR Trinity University Monograph Series in Religion
TynBul Tyndale Bulletin
TZ Theologische Zeitschrift
UBE Unbekannten Berliner Evangeliums
UBSMS United Bible Society Monograph Series
UJT Understanding Jesus Today
UNDSPR University of Notre Dame Studies in the Philosophy of Religion
UNT Untersuchungen zum Neuen Testament
USFISFCJ University of South Florida International Studies in Formative Christianity and Judaism
UTB Uni-Taschenbücher
VC Vigiliae christianae
VCSup Supplements to Vigiliae christianae
VT Vetus Testamentum
VTSup Vetus Testamentum Supplements
WF Wege der Forschung
WHJP World History of the Jewish People
WMANT Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament
WBC Word Biblical Commentary
YPHA Yale Publications in the History of Art
YPR Yale Publications in Religion
ZABR Zeitschrift für altorientalische und biblische Rechtgeschichte
ZDPV Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins
ZNThG Zeitschrift für neuer Theologiegeschichte/Journal for the History of Modern Theology
ZNW Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
ZTK Zeitschrift für Theologie und Kirche
Древние источники
Еврейская Библия/Ветхий Завет
Быт Бытие
Исх Исход
Лев Левит
Чис Числа
Втор Второзаконие
Нав Книга Иисуса Навина
Суд Книга Судей
1–4 Цар 1–4 Книги Царств
1–2 Пар 1–2 Книги Паралипоменон
Неем Книга Неемии
Есф Книга Есфири
Пс Псалтирь
Притч Книга Притчей Соломоновых
Еккл Екклесиаст
Песн Песнь Песней
Ис Книга пророка Исаии
Иер Книга пророка Иеремии
Плч Плач Иеремии
Иез Книга пророка Иезекииля
Дан Книга Даниила
Ос Книга пророка Осии
Авд Книга пророка Авдия
Мих Книга пророка Михея
Наум Книга пророка Наума
Авв Книга пророка Аввакума
Соф Книга пророка Софонии
Агг Книга пророка Аггея
Зах Книга пророка Захарии
Мал Книга пророка Малахии
Новый Завет
Мф Евангелие от Матфея
Мк Евангелие от Марка
Лк Евангелие от Луки
Ин Евангелие от Иоанна
Рим Послание к Римлянам
1–2 Кор 1–2 Послания к Коринфянам
Гал Послание к Галатам
Еф Послание к Ефесянам
Флп Послание к Филиппийцам
Кол Послание к Колоссянам
1–2 Фес 1–2 Послания к Фессалоникийцам
1–2 Тим 1–2 Послания к Тимофею
Флм Послание к Филимону
Евр Послание к Евреям
Иак Послание Иакова
1–2 Пет 1–2 Послания Петра
Откр Откровение Иоанна Богослова
QЛк Источник Q в Евангелии от Луки
Ветхозаветные апокрифы и псевдэпиграфы
1–2–3 Енох 1–2–3 книги Еноха
1–2–3–4 Мак 1–2–3–4 книги Маккавейские
2 Вар Сирийский апокалипсис Варуха
3 Езд Третья книга Ездры
LAB Псевдо-Филон, Liber antiquitatum biblicarum («Библейские древности»)
Адам и Ева Житие Адама и Евы
Апок. Адама Апокалипсис Адама
Апок. Ил Апокалипсис Илии
Апок. Моис Апокалипсис Моисея
Арист. Фил Письмо Аристея Филократу
Бел Бел и дракон
Вар Книга пророка Варуха
Возн. Ис Вознесение Исаии
Греч. апок. Ездры Греческий апокалипсис Ездры
Зав. Вен Завет Вениамина
Зав. Дана Завет Дана
Зав. Завул Завет Завулона
Зав. Иак Завет Иакова
Зав. Иос Завет Иосифа
Зав. Исс Завет Иссахара
Зав. Иуд Завет Иуды
Зав. Лев Завет Левия
Зав. Моис Завет Моисея
Зав. Сим Завет Симеона
Зав. Сол Завет Соломона
Иосиф и Асенефа Иосиф и Асенефа
Иудифь Книга Иудифи
Ор. Сив Оракулы Сивилл
Откр. Авр Откровение Авраама
Прем Книга Премудрости Соломона
Пс. Сол Псалмы Соломона
Сир Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Тов Книга Товита
Юб Книга Юбилеев
Свитки Мертвого моря
1QapGenar (1Q20) Апокриф Книги Бытия
1QHaБлагодарственные гимныa
1QTLeviar (1Q21) Завет Левия
1QS (1Q28) Устав Общины
1QSa (1Q28a) Устав Собрания
1QM (1Q33) Свиток Войны
4QFlor (4Q174) (4Q174) Флорилегий
4QPrNab ar (4Q242) 4Q Молитва Набонида ar
4QpsDana ar (4Q243) 4Q Псевдо-Даниилaar
4QpsDanb ar (4Q244) 4Q Псевдо-Даниилbar
4QpsDanc ar (4Q245) 4Q Псевдо-Даниилcar
4QapocrDan ar (4Q246) Апокриф Даниила
4QcommGen A (4Q252) Комментарий на Книгу Бытия А
4QMMT (4Q394–399) Некоторые деяния Торы
4QHa (4Q427) Песнь Праведного
4QMessAp (4Q521) Мессианский апокалипсис
4QNoaha ar (4Q534) Рождение Ноя
11QPsa (11Q5) Свиток Псалмов
11QtgJob (11Q10) Таргум на Иова
11QMelch (11Q13) Небесный князь Мелхиседек
11QTa (11Q19) Храмовый Свитокa
CD Копия Дамасского документа из Каирской генизы
Mur Вади-Мураббаат
XHev/Se Нахаль-Хевер/Сейяль
Раввинистические тексты
Meил Меила
Ав. Зар Авода Зара
Авот р. Нат Авот рабби Натана
Б. Бат Бава Батра
Б. Кам Бава Кама
Б. Мец Бава Меция
Бейца Бейца (Йом-тов)
Бер. Раб Берешит Рабба
Брах Брахот
вав. Вавилонский Талмуд
Гит Гиттин
Дв. Раб Дварим Рабба
Иевам Иевамот
иер. Иерусалимский Талмуд
Йома Йома (= Киппурим)
Кетуб Кетубот
Кид Кидушин
м Мишна
Маас. ш Маасер шени
Мег Мегилла
Менах Менахот
Мех Мехилта
Микв Микваот
Нед Недарим
Пешик. Раб Пешикта Раббати
Псах Псахим
Раб Рабба
С. Олам Раб Седер Олам Рабба
Санх Санхедрин
Сифрей Дв Сифрей Дварим (на Второзаконие)
т Тосефта
Таан Таанит
Танх Танхума
Тг Таргум
Тг Ер I Таргум Ерушалми I (Палестинский Таргум)
Тг Онк Таргум Онкелоса
Тр Трумот
Хаг Хагига
Хул Хуллин
Шаб Шаббат
Шеб Шебиит
Шкал Шкалим
Эд Эдуйот
Эр Эрахин
Эрув Эрувин
Яд Ядаим
Апостольские отцы
1 Клим Первое послание Климента Римского к Коринфянам
2 Клим Второе послание Климента Римского к Коринфянам
Дид Дидахе («Учение Господа через двенадцать апостолов язычникам»)
Ерм, Вид «Пастырь» Ерма, Видения
Ерм, Под «Пастырь» Ерма, Подобия
Игн., Магн Игнатий Богоносец, Послание к Магнезийцам
Игн., Смирн Игнатий Богоносец, Послание к Смирнянам
Муч. Пол Мученичество св. Поликарпа, епископа Смирнского
Кодексы Наг-Хаммади
1 Апок. Иак (Первый) Апокалипсис Иакова (V, 3)
2 Апок. Иак (Второй) Апокалипсис Иакова (V, 4)
Аллоген Аллоген (XI, 3)
Ап. Иак Апокриф Иакова (I, 2)
Апок. Адам Апокалипсис Адама (V, 5)
Апок. Пет Апокалипсис Петра (VII, 3)
Вел. cил Понятие нашей великой силы (VI, 4)
Диал. Спас Диалог Спасителя (III, 5)
Ев. Фил Евангелие Филиппа (II, 3)
Ев. Фом Евангелие Фомы (II, 2)
Ев. Ист Евангелие Истины (XII, 2)
Зост Зостриан (VIII, 1)
Ип. арх Ипостась архонтов (II, 4)
Марсан Марсан (X, 1)
Об. зн Объяснение знания (XI, 1)
Посл. Пет. Фил Послание Петра Филиппу (VII, 2)
Происх. мира Трактат о происхождении мира (II, 5; XIII, 2)
Соф. Иис. Хр Пистис София (София Иисуса Христа) (BG, 3)
Тракт. Сиф Второй трактат Великого Сифа (VII, 2)
Трехч. тракт Трехчастный трактат (I, 5)
Троев. Прот Троевидная Протенойя (Первомысль в трех образах) (XIII, 1)
Фом. Атл Книга Фомы Атлета (II, 7)
BG Берлинский гностический папирус
Новозаветные апокрифы и псевдэпиграфы
Ев. евр Евангелие евреев
Ев. Иуд Евангелие Иуды
Ев. Марии Евангелие Марии
Ев. наз Евангелие назореев
Ев. Пет Евангелие Петра
Ев. Спас Евангелие Спасителя (= P.Berol. 22220 = UBE)
Ев. Фил Евангелие Филиппа
Ев. Фом Евангелие Фомы
Ев. эб Евангелие эбионитов
Посл. апост Послание апостолам (Epistula Apostolorum)
Прот. Иак Протоевангелие Иакова
(Араб.) Ев. дет (Arab.) Арабское Евангелие детства Спасителя
Ев. дет. Фом Евангелие детства Фомы
UBE Неизвестное Берлинское Евангелие (Unbekannten Berliner Evangelium = P.Berol. 22220 = Ев. Спас)
Папирусы и остраконы
P.Berol. 22220 Папирус, Евангелие Спасителя (= Неизвестное Берлинское Евангелие)
P.Cair. 10735 Папирус в Каирском египетском музее, Общий каталог египетских древностей Каирского египетского музея
P.Egerton 2 Папирус Эджертона 2, «Неизвестное Евангелие»
P.Köln Кельнские папирусы
P.Oxy. Оксиринхские папирусы
P.Vindob. G 2325 Фаюмский фрагмент Евангелия. Коллекция Райнера. Вена
Греческие и латинские произведения
1 Апол Иустин. Первая апология
Progymn Теон. Progymnasmata
Авр Филон. Об Аврааме
Автолик Феофил Антиохийский. Послание к Автолику
Агес Ксенофонт. Агесилай
Алекс Плутарх. Александр
Алк Плутарх. Алкивиад
Анаб Арриан. Анабасис Александра (История походов Александра Великого)
Анн Тацит. Анналы
Ап. пост Апостольские постановления
Апол. Сокр Ксенофонт. Апология Сократа
Аполог Тертуллиан. Апологетик
Аттик Цицерон. Письма к Аттику
Аттич. ночи Авл Геллий. Аттические ночи
Аф. пол Аристотель. Афинская полития
Библ Фотий, патр. Константинопольский. Библиотека (Мириобиблион)
Брут Марк Туллий Цицерон. Брут, или О знаменитых ораторах
Вал. Макс. Валерий Максим. Девять книг примечательных поступков и изречений
Весп Светоний. Веспасиан
Восп. дет Псевдо-Плутарх. О воспитании детей
Воспом Псевдо-Климент. Воспоминания
Всем. ист Агапий Манбиджский. Всемирная история (Книга титулов, «Китаб аль-'Унван»)
Гермот Лукиан. Гермотим, или О выборе философии
Гом. Ин Иоанн Златоуст. Гомилии на Евангелие от Иоанна
Гом. Лк Ориген. Гомилии на Евангелие от Луки
Греч. ист Ксенофонт. Греческая история
Дем Плутарх. Демосфен
Демоник Исократ. Послание к Демонику (Речь 1)
Демосф Дионисий Галикарнасский. Об ора-тор-ском искус-стве Демо-сфе-на
Деян. Авг Деяния божественного Августа
Диатр Эпиктет. Диатрибы
Диог. Лаэрт. Диоген Лаэртский. Vitae philosophorum
Диод. Сицил. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека
Дион Касс Дион Кассий. Римская история
Док. Ев Евсевий. Доказательство в пользу Евангелия
Дом Светоний. Домициан
Ест. ист Плиний Старший. Естественная история
Жен. убр Тертуллиан. О женском убранстве
Жизн. Пифаг Ямвлих. Жизнь Пифагора
Жизн. соф Жизнеописания софистов (Евнапий, Филострат)
Жизнь Иосиф Флавий. Моя жизнь
Заг. Кат Саллюстий. О заговоре Катилины
Зак Платон. Законы
Заст. бес Плутарх. Застольные беседы
Злок. Гер Плутарх. О злокозненности Геродота
Знам. муж Иероним. О знаменитых мужах
Зрел Тертуллиан. О зрелищах
И. В. Иосиф Флавий. Иудейская война
И. Д. Иосиф Флавий. Иудейские древности
Идол Тертуллиан. Об идолопоклонстве
Изъясн. Лк Амвросий. Изъяснение Евангелия от Луки
Изъясн. Пс Дидим Слепец. Изъяснение псалмов
Инд Арриан. Индика
Иссл. прир Сенека Младший. Исследования о природе
Ист. пр. яз Павел Орозий. История против язычников, в 7 кн.
История Исторические труды (Геродот, Тацит, Фукидид и т. д.)
Калиг Светоний. Гай Калигула
Квинт Цицерон. Письма к брату Квинту
Ким Плутарх. Кимон
Клавд Светоний. Божественный Клавдий
Контров Сенека (Старший). Контроверсии
Корн. Неп. Корнелий Непот. О знаменитых людях
Лепт Демосфен. Против Лептина
Ливий Тит Ливий. История от основания города
Лик Плутарх. Ликург
Лис Дионисий Галикарнасский. О Лисии
Маркион Тертуллиан. Против Маркиона
Метам Апулей. Метаморфозы
Моис Филон. О жизни Моисея
Мор Плутарх. Моралии
Наст. ор Квинтилиан. Наставления оратору
Нач Ориген. О началах
Нерон Светоний. Нерон
Ником Дион Хрисостом. К никомедийцам (Речь 38)
Нрав. пис Сенека (Младший). Нравственные письма к Луцилию
Облич Ипполит Римский. О философских мнениях, или Обличение всех ересей
Оном Евсевий. Ономастикон
Оп. Элл Павсаний. Описание Эллады
Ор. Брут Цицерон. Оратор. К Марку Бруту
Особ. зак Филон. Об особенных законах
Панар Епифаний. Панарион (На восемьдесят ересей)
Письма Письма (Плиний Младший, Демосфен, псевдо-Сократ и т. д.)
Письма к Веру Фронтон. Письма к Веру, соправителю цезаря Аврелия
Полибий Полибий. Всеобщая история
Помпей Дионисий Галикарнасский. Письмо к Помпею Гемину
Поэт Аристотель. Поэтика
Пр. Ап Иосиф Флавий. Против Апиона
Пров Сенека (Младший). О провидении
Разг Иустин. Разговор с Трифоном иудеем
Расс Максим Тирский. Рассуждения
Речи Речи (Дион Хрисостом, Лисий и т. д.)
Рим. древн Дионисий Галикарнасский. Римские древности
Рим. ист Аппиан. Римская история
Рит. Алекс Псевдо-Аристотель/Анаксимен Лампсакский. Риторика для Александра
Сат Петроний. Сатирикон
Сваз Сенека (Старший). Свазории
Серт Плутарх. Серторий
Симп Ксенофонт. Симпосий
Смеш Филон. О смешении языков
Согл. еванг Августин. О согласии евангелистов
Созерц Филон. О созерцательной жизни
Сравн. Алк. Кор Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Алкивиад и Гай Марций Кориолан
Сравн. Арист. Кат Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Аристид и Марк Катон
Сравн. Лис. Сул Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Лисандр и Сулла
Стром Климент Александрийский. Строматы
Таин Амвросий. О таинствах
Теог Гесиод. Теогония
Теоф Евсевий. Теофания
Толк. Ин Ориген. Толкование на Евангелие от Иоанна
Толк. Ис Иероним. Толкование на пророка Исаию, в 18-ти кн.
Толк. Мф Ориген. Толкование на Евангелие от Матфея
Толк. Пс Евсевий. Толкование на Псалтирь
Устан Лактанций. Божественные установления, в 7 кн.
Фук Дионисий Галикарнасский. О Фукидиде
Фукидид Фукидид. История Пелопоннесской войны
Хрон Михаил Сириец. Хроника
Хроника Сульпиций Север. Хроника, в 2 кн.
Хроногр Иоанн Малала. Хронография
Цельс Ориген. Против Цельса
Церк. ист Евсевий. Церковная история
Чет. толк. Мф Иероним. Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея
Экл Вергилий. Эклоги
Эл Еврипид. Электра
Эн Вергилий. Энеида
Энх Эпиктет. Энхиридион
Эпит Арий Дидим. Эпитоме (О школах)
Юг. война Саллюстий. Югуртинская война
Таблица исторических дат
168 до н. э. Восстание Маккавеев
161 до н. э. Смерть Иуды Маккавея; Ионатан становится предводителем
152 до н. э. Ионатан Хасмоней становится первосвященником
143/142 до н. э. Смерть Ионатана; Симон становится первосвященником
135/134 до н. э. Смерть Симона
135/134–104 до н. э. Иоанн Гиркан
104–103 до н. э. Аристобул I принимает титул «царя»
103–76 до н. э. Ялександр Яннай
76–67 до н. э. Саломея Александра – царица; Гиркан II – первосвященник
67–63 до н. э. Аристобул II
63 до н. э. Помпей захватывает Иерусалим
63–40 до н. э. Гиркан II вновь становится первосвященником
40 до н. э. Парфянское вторжение
40–37 до н. э. Антигон
37–4 до н. э. Ирод Великий
31 до н. э. Битва при мысе Акций; сильное землетрясение в Иудее
4 до н. э. Волнения после смерти Ирода
66–74 н. э. Иудейское восстание против Рима
132–135 н. э. Восстание Бар-Кохбы
Авторы статей
Дейл Эллисон Принстонская богословская семинария
Мордехай Авиам Институт археологии Галилеи
Ричард Бокэм Сент-Эндрюсский университет, Шотландия (в отставке)
Даррел Бок Далласская богословская семинария
Дональд Кэппс Принстонская богословская семинария († 2015)
Джеймс Чарлзворт Принстонская богословская семинария
Брюс Чилтон Бард-колледж
Майкл Аллен Дейз Колледж Вильгельма и Марии
Арье Эдрей Тель-Авивский университет
Кэти Эренспергер Уэльский университет Святой Троицы и Святого Давида
Кейси Элледж Колледж Густава Адольфа
Крэйг Эванс Богословский колледж Акадии
Питер Флинт Университет Тринити-Вестерн
Шон Фрейн Тринити-колледж, Дублин († 2013)
Дэвид Хэндин Американское нумизматическое общество
Том Холмен Хельсинкский университет
Ричард Хорсли Бостонский университет штата Массачусетс
Джереми Хаттон Висконсинский университет в Мадисоне
Крэйг Кинер Богословская семинария Осбери
Вернер Кельбер Университет Райса
Ульрих Луц Бернский университет (в отставке)
Габриэль Мазор Еврейский университет в Иерусалиме
Ли Мартин Макдональд Богословский колледж Акадии (в отставке)
Дорон Мендельс Еврейский университет в Иерусалиме (в отставке)
Дэниел Мур Баптистская богословская семинария Среднего Запада
Сулейман Мурад Колледж Смит
Этьен Нодэ Библейская и археологическая школа в Иерусалиме («Эколь Библик»)
Лидия Новакович Бэйлорский университет
Герберн Угема Университет Макгилла
Джордж Парсениос Принстонская богословская семинария
Фема Перкинс Бостонский колледж
Петр Покорны Карлов университет в Праге
Стэнли Портер Богословский колледж Макмастера
Брайан Ри Бостонский колледж
Ян Росковец Карлов университет в Праге
Дуайт Муди Смит Университет Дьюка, семинария (в отставке)
Герд Тайсен Гейдельбергский университет (в отставке)
Геза Вермеш Оксфордский университет († 2013)
Уолтер Уивер Южный колледж Флориды (в отставке)
Роберт Уэбб Университет Макмастера
Вступление. Исследуя Иисуса: подходы и методы. Второй симпозиум Принстон-Прага*
Джеймс Чарлзворт
Все больше ученых-гуманитариев из самых разных дисциплин и научных школ различают «Исследование Иисуса» и Третий поиск исторического Иисуса. «Поиском» всецело заняты специалисты по Новому Завету, и часто побудительной причиной для их работы становятся богословские представления. «Исследование Иисуса», напротив – дисциплина академическая; она влечет богословов, археологов, историков, нумизматов, палеографов, географов, знатоков устной истории, социологов и экспертов в психобиографии. В исследование исторического Иисуса вовлекаются католики, протестанты, иудеи, атеисты и многие другие, и все признают, что это исследование надлежит обогащать любыми уместными данными (археологическими находками и всеми древними текстами) и при помощи всевозможных научных методик. Именно это и определило программу Второго симпозиума Принстон-Прага, на котором все ведущие специалисты в изучении исторического Иисуса представили свои доклады, посвященные разным методологическим подходам. Симпозиум прошел в Принстоне с 18 по 21 апреля 2007 года при поддержке Айана Торренса, президента Принстонской теологической семинарии.
Для методик, которыми пользуются в своей работе историки и исследователи, характерна самокритика. Недостаточно просто поставить вопрос и предложить ответ. Следует крайне внимательно отнестись к предпосылкам, стоящим за каждым вопросом, а также продумать, что войдет в методику и что станет приоритетом; кроме того, нужно делиться идеями и использовать лишь улучшенные варианты методик, пока мы не придем к заключениям, какими бы те ни оказались. Из какой бы сферы ни происходили вопросы – будь то история, археология, литературоведение, богословие, – исследователи обращаются к научному методу. Из тех, кто решил сосредоточить свои исследования на историческом Иисусе, почти все признают, что им необходимо применять историко-критический метод. К сожалению, в прошлом мало кто понимал, что работу можно обогатить знаниями из других областей: социологии, антропологии, археологии, риторики и психобиографии. Кроме того, многие не принимают во внимание все данные, имеющие отношение к исследованию личности Иисуса и его мира. Так, лишь в последние тридцать лет исследователи открыли для себя бесценную сокровищницу – литературу эпохи раннего иудаизма, ставшую с тех пор sine qua non, непременным условием в изучении всего, что связано с Иисусом.
Желая сделать свои исследования всесторонними и свободными от дискриминации и предрассудков, участники Второго симпозиума Принстон-Прага постарались создать карту разных подходов к личности еврея по имени «Иисус, сын Иосифа» (Ин 6:42), изображенного и провозглашенного в Евангелиях. Ход мысли определили такие вопросы:
1. Какие методы и данные были использованы в опубликованных трудах?
2. Какие методы и данные следует использовать и в чем особая ценность именно вашей области знаний и ваших исследований?
3. Что можно предложить для развития исследований Иисуса?
4. Позволит ли улучшение методик и более инклюзивный, непредвзятый подход к источникам, литературным и прочим, по-новому и более глубоко осмыслить предмет наших исследований, и если да, то в чем именно это выразится?
Мы разделили книгу на две большие части. Первая, «Контексты», посвящена «новым» методикам, призванным для изучения мира, в котором жил Иисус: в частности, к ним относятся археология, топография, а также изучение культурной и религиозной среды, окружавшей Иисуса как иудея. А кроме того, мы поговорим о новой методике, психобиографии, которая позволяет рассматривать Иисуса как личность в более широких контекстах. Вторая часть, «Передача традиций Иисуса», посвящена нашим текстуальным источникам, в которых говорится об Иисусе, и тому, как эти источники передавались из поколения в поколение, а кроме того, в ней представлены главы, посвященные отдельным аспектам жизни и служения Иисуса.
У вступления две задачи. Во-первых, я хотел бы поместить обе части нашего труда в более широкую перспективу изучения Иисуса, что особенно важно для читателей, впервые узнавших об этих дискуссиях. А во-вторых, я хочу представить все наши материалы, указать на методики, при помощи которых они получены, и на то, какую ценность они вносят в изучение Иисуса из Назарета в социальном и историческом контексте его жизни. Широкий спектр работ не позволяет подробно разобрать каждую; впрочем, я буду только рад, если читатели захотят ознакомиться со всеми, и поэтому сейчас скажу лишь о самом главном.
«Поиски» и «исследование» Иисуса
Я уже посвятил ряд книг и статей «поискам» Иисуса[1], но, возможно, читатели, еще не успевшие познакомиться с этой дисциплиной, благосклонно оценят краткий исторический обзор. Во избежание путаницы следует выделить три разных определения, важных для «Исследования Иисуса»: (1) Иисус истории (англ. Jesus of history) – это подлинный и реальный исторический персонаж, еврей, живший в Палестине в I веке н. э.; его облик время от времени можно различить за туманом мифов и воззваний евангелистов; (2) Исторический Иисус (англ. historical Jesus) – это термин, призванный обозначить все, что можно воссоздать об «Иисусе истории» с помощью специальных исследований и размышлений. (3) Христос веры (англ. Christ of faith) – это тот Иисус Христос, о котором проповедуют и которого знают верующие христиане. Впрочем, такое понятие, как Христос веры, не следует воспринимать как верование в некое бесплотное небесное существо; истоки Христа веры восходят к нашим знаниям об Иисусе (то есть об историческом Иисусе).
За Первым и Вторым поиском исторического Иисуса стояли богословские «повестки дня», тогда как «Исследование Иисуса» не связано (в идеале) ни с притязаниями теологов, ни с их проблемами. Сто лет тому назад Альберт Швейцер говорил о «хаосе в современных жизнеописаниях Иисуса», вышедших вслед за фундаментальным трудом самого Швейцера, посвященным историческому Иисусу. И его слова оказались пророческими. Если взглянуть на огромный поток книг об Иисусе, можно подумать, что нынешний хаос в этой области еще «хаотичнее», чем тот, что царил во времена Швейцера. «Исследование Иисуса» – это множество разных дисциплин, это работы, выходящие на десятках современных языков, и эта сфера столь широка, что ни один специалист не сможет сказать, будто ознакомился со всеми публикациями. Более того, взгляды исследователей широко разнятся. Одни специалисты по Новому Завету полагают, что изучение исторического Иисуса ведет в тупик. Другие без должных оснований утверждают, будто Евангелия созданы непосредственными свидетелями событий: Матфей и Иоанн были апостолами, Марк – помощником Петра, а Лука – спутником Павла. «Исследование Иисуса» не так беспомощно, как полагает первая группа; впрочем, документально оно зафиксировано не столь надежно, как думает вторая. Среди тех, кто задействован в «Исследовании Иисуса», как, кстати, и среди археологов, мы встретим и минималистов, и максималистов. А большинство специалистов отвергает обе крайности из-за их неустойчивой позиции, недостаточно верного понимания источников и отсутствия должной методики для исследования Иисуса. Как минималисты, так и максималисты последовали за слепым поводырем и оказались в яме (ср.: Мф 15:14). Однако за видимым хаосом можно различить беспримерное единодушие во всем, что касается методологии и ряда важных аспектов жизни и мировоззрения Иисуса.
Эксперты, в общем-то, согласны в том, что Старый поиск исторического Иисуса начался в 1835 году, когда Давид Штраус опубликовал свое критическое исследование «Жизнь Иисуса», и длился до 1906 года, когда вышел главный труд Альберта Швейцера об Иисусе. Историко-критический метод все еще пребывал во младенчестве. В свете своих аргументов исследователи представали истинными знатоками, но на самом деле их доводам не хватало ни научного характера, ни самокритики, ни стремления объективно оценить как эпоху иудаизма периода Второго Храма, так и то место, которое в ней занимал Иисус. Некоторые специалисты по Новому Завету даже утверждали, что возлюбленным учеником Иисуса, упомянутым в Евангелии от Иоанна, был Иуда. Эрнест Ренан, известный французский литератор, предположил, будто в последние мучительные мгновения в Гефсиманском саду Иисус терзался сожалениями о галилеянках, которых ему следовало бы любить. Адольф Гарнак, знаменитый историк Церкви, уверял, что Иисус учил людей отцовству Бога, братству всех людей и этике любви. Ренан и Гарнак оказали на культуру огромное влияние, их читали очень многие, но в строках их трудов люди не слышали голоса галилейского еврея, а соприкасались с французским романтизмом и немецким идеализмом – и внимательный читатель непременно задумывался о том, почему же Иисуса так плохо понимали его последователи и как могло случиться, что Князя мира (см.: Ис 9:6) распяли на кресте.
В 1906 году, в первом издании своего труда, посвященного историческому Иисусу, Альберт Швейцер указал на то, что все писатели XIX века просто предлагали образ Иисуса, который было легко полюбить, понять и сделать предметом восхищения. Монументальная работа Швейцера «История исследования жизни Иисуса» – это не только классика, но и, быть может, самый значимый труд из всех когда-либо опубликованных в этой области. Сегодня, сто лет спустя, почти все исследователи согласны с Швейцером в том, что на Иисуса глубоко повлиял иудейский апокалиптизм – ожидание конца света и Страшного суда[2].
Джордж Тиррелл, ирландский модернист и католик, проницательно подчеркнул, что те, кто писал об Иисусе с претензией на историческую достоверность, на самом деле просто вглядывались в колодец истории и видели там свое отражение[3]. Это суждение, mutatis mutandis – с необходимыми поправками – все так же неотступно звучит в широком потоке публикаций об Иисусе.
Сразу после Первой мировой войны историческое изучение Иисуса прекратилось во многих семинариях и университетах, а особенно – во влиятельных ведущих немецких учебных заведениях. Такие властители дум, как Рудольф Бультман, Карл Барт и Пауль Тиллих, заявили, что исторический Иисус – просто порождение фантазии ученых-гуманитариев. И более того, часто они, пусть и неявно, намекали на то, что надежные знания об «Иисусе истории» ничего не значат для христианской веры[4]. Похоже, именно это все и услышали: христианам достаточно знать, что они спасены «одной верой» – ничего больше. Мало того что это клише искажает сложные богословские идеи как Мартина Лютера, так и апостола Павла[5], оно еще и позволяет издавать рескрипты, призывающие к отказу от сложной задачи исторических исследований. К сожалению, отголоски этих старых воззрений, ныне решительно опровергнутых и библеистами, и теологами, иногда еще слышны на лекциях и в проповедях. Появилась такая важная методика изучения Нового Завета, как риторическая критика; впрочем, при обращении к ней легко отойти от утверждений керигмы – вести об Иисусе как Христе, Сыне Божьем – и вместо исторических исследований начать рассматривать образ Иисуса в евангельском повествовании.
В период с 1920-х годов (в 1919 году вышел комментарий Карла Барта на Послание к Римлянам, позже возникла школа Рудольфа Бультмана) по 1953 год теология Барта и Бультмана процветала. К историзму и ее основатели, и их последователи относились презрительно. И пусть даже многие ученые-гуманитарии, изучавшие Новый Завет, особенно француз Пьер Бенуа и норвежец Нильс Альструп Даль, еще задолго до 1950 года подчеркивали то, сколь важны исторические исследования, посвященные Иисусу, принято считать, что Новый поиск исторического Иисуса начался в 1953 году. И начал его Эрнст Кеземан, ученик Рудольфа Бультмана, причем смело и дерзко – в присутствии учителя, на торжественном собрании учеников в Марбурге. Кеземан показал, что Новый Завет намного более историчен, чем допускал Бультман. Христианское богословие, утверждал Кеземан, коренится не в идеях и не в экзистенциализме. Он смог убедить многих специалистов по Новому Завету в том, что в основе христианства лежат реально происходившие в истории события и что между подлинными словами Иисуса и воззваниями палестинского «Движения Иисуса»[6] существует преемственность.
Новый поиск исторического Иисуса не заинтересовал большую часть теологов и вскоре тихо и незаметно исчез. Но почему он оказался столь безуспешным? Отчасти потому, что его сторонниками двигали богословские интересы, умалявшие важность истории – таким было наследие экзистенциализма. Нежелание заниматься социологией, антропологией и археологией при повышенном интересе к христологии вряд ли позволяло лучше понять Иисуса из Назарета – иудея, жившего в первые тридцать лет нашей эры. Сегодня, оглядываясь в прошлое, мы можем увидеть, что методы сторонников Нового поиска не соответствовали стандартам строгой научной историографии.
Примерно в 1980 году в науках гуманитарного цикла началось нечто новое[7]. Я назвал это явление «Исследованием Иисуса». Независимо от своих богословских представлений и верований (или даже их отсутствия) многие исследователи по всему миру, и в том числе евреи, не склонные вести полемику об Иисусе, стали проявлять интерес к истории иудеев, живших в Палестине до 70 г. н. э., и в том числе к Иисусу из Назарета, – и осознали, сколь важны эти вопросы.
Те, кто исследовал мостовые и улицы, проложенные до 70 г. н. э. и неожиданно найденные при раскопках в Иерусалиме, под Старым городом, спрашивали себя: какие люди гуляли по ним две с лишним тысячи лет назад? В Капернауме нашли дома из базальта, возведенные в I веке. Как оказалось, в Верхнем городе Иерусалима в то время строили роскошные дворцы – и уже невозможно не думать о том, какую жизнь вели их обитатели до 70 г. н. э. И в Иерусалиме, и в других местах, в частности в Нижней Галилее, было найдено множество микв – иудейских ритуальных бассейнов, в которых омывались от ритуальной нечистоты – и, естественно, появились вопросы о характере религиозной жизни иудеев до упомянутого времени. А благодаря тому, что в Иерусалиме, в Кумране и особенно в Хирбет-Кане обнаружились каменные сосуды, связанные с иудейскими ритуалами очищения, мы смогли иначе воспринять традиции, о которых говорится в Ин 2:6, и по-новому осмыслить образ Иисуса, которого, если верить Иоанну, пригласили на дорогостоящую свадьбу в Кане.
Иудейские и христианские историки – независимо друг от друга и по всему миру – задумались над тем, что мы можем узнать о многих предводителях еврейского народа, живших в Святой Земле до 70 г. н. э. Ученые стремились понять, как проводил свои дни анонимный Учитель Праведности, основатель кумранской общины. Иудеи и христиане искали достоверные исторические сведения о Гиллеле, фарисее, который жил незадолго до Иисуса и, как предполагают, отстаивал многие богословские идеи, схожие с теми, какие приписывают Иисусу. Специалисты написали целые тома об апостоле Павле, пытаясь понять фарисея, поверившего в мессианство Иисуса. Многие размышляли о том, что говорят исторические свидетельства о Гамлиэле ха-Закене, или Гамалииле, у которого, по свидетельству Книги Деяний, учился Павел. Евреи, ревностно желавшие узнать об истоках раввинистического иудаизма, обсуждали историчность преданий об Йоханане бен Заккае, возглавившем первую раввинскую академию в Явне. И неудивительно, что многие исследователи задавали аналогичные исторические вопросы об Иисусе из Назарета.
Чем этот новый подход отличался от тех, что господствовали прежде? Ответ очевиден. В отличие от Старого поиска и Нового поиска, «Исследование Иисуса» было свободным от богословских мотивов и находилось под влиянием иных источников: то были свитки Мертвого моря, первая раввинистическая литература, сочинения Иосифа Флавия и другие тексты эпохи раннего иудаизма, те же ветхозаветные апокрифы и псевдэпиграфы. Это был скорее не «поиск», а результат «исследования»: здесь в изучении исторического Иисуса обрели важную роль археология, антропология и социология.
Но не может ли эта граница, проведенная в 1980 году и разделившая сферу на «до» и «после», увести нас на ложный путь – и если может, то в какой мере? В отличие от 70 года, 1980-й не ознаменован исторической катастрофой. И многие признанные ученые, скажем, Фердинанд Кристиан Баур, Морис Гогель, Шарль Гиньбер, Альфред Луази, Давид Штраус – не согласились бы с тем, что их побуждали к трудам проблемы богословия. Впрочем, столь же несправедливо говорить, будто исторические исследования Рудольфа Бультмана просто велись под диктовку его экзистенциального богословия и христологических интересов. Более того, нам равно так же следует спросить: сколь беспристрастны – как историки – те же Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан? В какой степени их работы об «историческом Иисусе» сформированы их христологическими представлениями? Ученым еще не раз предстоит спорить о таких вопросах.
Это название, которое я решил использовать – «Исследование Иисуса» – прежде всего призвано подчеркнуть, что сегодня стремление к «беспристрастному» изучению всего, что связано с Иисусом, и к более научному рассмотрению мира, в котором он жил, чувствуется сильнее, чем до 1980 года. «Беспристрастное» изучение, как видится мне, во-первых, стремится к объективности, во-вторых, проводится индуктивно, а в-третьих, не пытается дать заранее готовые ответы на поставленные вопросы. И в беспристрастном «Исследовании Иисуса» мы спрашиваем, не предполагая желанного ответа. Мы ставим честные вопросы – и нас не всегда радует тот ответ, который дает история. Естественно, специалисты, занятые в «Исследовании Иисуса», способны вести серьезное историческое иследование, не подчиняя свои выводы богословской «повестке дня». Вот лишь ряд их имен: Эд Сандерс, Ричард Хорсли, Джеймс Данн, Джон Майер, Герд Тайсен, Петр Покорны и Николас Томас Райт. Кроме того, в изучение Иисуса внесли значимый вклад многие исследователи-иудаисты, такие как Геза Вермеш (Оксфордский университет), Давид Флуссер (Еврейский университет в Иерусалиме) и Эми-Джилл Левин (Университет Вандербильта).
Впрочем, нужны и примеры, призванные ясно показать, что современное «Исследование Иисуса» – это и правда смена парадигм, а не просто видимость. Новая волна исследований отличается не только включением первичных данных, тех же свитков Мертвого моря и других археологических находок, предшествующих 70 году н. э., но и улучшенными методиками исследования и опорой на более широкий круг научных дисциплин. Изначально Флуссер мог закончить свое исследование «исторического Иисуса» смертью главного героя. Сегодня в его книге необходим эпилог, где представлены мысли о том, как идеи Иисуса, который жил и действовал в истории, развились и превратились в веру первых поколений христиан[8]. Отец Мари-Жозеф Лагранж, основатель Библейской и археологической французской школы в Иерусалиме («Эколь Библик»), всегда работал с оглядкой на цензуру Ватикана, а в наше время исследователи-католики свободно беседуют об истории. Раймонд Браун и Джон Майер могут размышлять об историчности рождения от Девы (исповедуя веру в него на богослужении). Этьен Нодэ – в той же «Эколь Библик» – волен пересматривать биографию Иисуса без необходимости манипуляций с догматами[9], а Джером Мёрфи-O’Коннор спокойно публикует жизнеописание апостола Павла, нисколько не заботясь о том, удовлетворит ли оно интересы папства[10].
Если сравнить нынешнее положение дел с 1980 годом, то в современном «Исследовании Иисуса» видны широкие расхождения по существенным вопросам. Условно можно разделить исследователей на две группы: представители одной, такие как Эд Сандерс, выступают за исторические методы и отвергают конфессионализм, другие же, такие как Маркус Борг, сочетают историю с христологией. Но в итоге все эти жесткие рамки, похожие на противопоставление либералов и консерваторов, не столько отражают, сколько искажают реальность. Наряду с книгами, которые под эгидой «Исследования Иисуса» выпускают Давид Флуссер, Джеймс Чарлзворт, Джон Майер, Ричард Хорсли и Эд Сандерс, выходит немало других публикаций об Иисусе, никак не желающих вписываться в четкие рамки – их публикуют, скажем, Бен Уитерингтон, Джон Доминик Кроссан, Николас Томас Райт и Пола Фредриксен[11].
И теперь, дав этот предварительный обзор исследований исторического Иисуса, я представляю читателям наш общий труд.
Новые и лучшие методики
Книгу открывают четыре статьи, призванные раскрыть суть методик: две из них дают историческую перспективу, а две других говорят о природе методологических размышлений. Программную речь на нашем симпозиуме произнес Геза Вермеш, и это была для нас большая честь[12]. Его статья посвящена двум темам: во-первых, тому, как иудейская литература (в частности раввинистическая) помогает нам оценить связь Иисуса с иудаизмом; во-вторых, тому, благодаря чему мы можем отличить аутентичные высказывания Иисуса от тех, что ему приписали позже[13]. Этот второй вопрос занимает главное место и в статье Стэнли Портера, посвященной именно критериям подлинности. Портер заключает, что они, особенно критерий двойного несходства, имеют ограничения, поскольку в их основе лежат устаревшие философские предпосылки, из-за которых исследователи не могут ясно видеть, – именно потому мы и не можем создать жизнеспособный исторический портрет[14].
Уолтер Уивер в историческом обзоре, посвященном изучению Иисуса, исследует «проблему разнородных Иисусов» и спрашивает: сможем ли мы избежать той ошибки, о которой говорил Тиррелл? Иными словами, получится ли у нас вглядеться в колодец истории и увидеть в нем нечто большее, нежели собственное отражение? Уивер говорит о мыслителях эпохи Просвещения – малоизвестных предшественниках Первого поиска исторического Иисуса, и переходит к «трем титанам Старого поиска» – Герману Реймарусу, Давиду Штраусу и Альберту Швейцеру. Он не надеется на появление «единогласно принятого образа Иисуса», ведь социальные, исторические и культурные контексты, в которых пребывают толкователи, столь отличаются от тех, какие окружали загадочную личность Иисуса, что у нас почти не остается места для общего портрета.
Об одном значимом примере таких социальных, исторических и культурных отличий говорит Дэниел Мур: он исследовал работы семерых иудаистов, пытавшихся истолковать Иисуса в ХХ веке[15]. Столь весомый вклад ученых-иудеев в «Исследование Иисуса» – это уникальная черта нового движения, проявляющая его яркие отличия от «поисков» прошлых лет. Объективное изучение всего, что связано с Иисусом, полагается не на богословие и не на обожествление Иисуса, столь привлекательное для христиан, а на исторические исследования.
О таком строгом исследовании, в котором принимаются во внимание все важные данные и используются все нужные методики, мы поговорим в оставшихся главах первой части книги. Пять из них посвящены археологическому и топографическому контекстам того мира, в котором жил Иисус; еще восемь сосредоточены на том культурном и религиозном контексте иудаизма, в котором Иисусу приходилось действовать. Джеймс Чарлзворт и Мордехай Авиам рассмотрят Галилею в двух аспектах, с точки зрения топографии и археологии, и через десять вопросов, ставших «точками входа», перейдут к исследованию, призванному очертить мир времен Иисуса. Из содержательного труда Габриэля Мазора мы узнаем о том, как римская архитектура демонстрировала имперские ценности и служила для их пропаганды, что особенно ярко проявлялось в восточных провинциях и даже на территориях, где проживали евреи. Обзор Дэвида Хэндина покажет, как нумизматика, изучая древние монеты, позволяет лучше понять мир Иисуса и некоторые евангельские пассажи. А Джереми Хаттон, знаток ветхозаветных текстов, пояснит, почему Иоанн крестил именно в Иордане, и сколь важен был в Священном Писании этот нарратив как основа для смысла евангельских повествований.
Шон Фрейн размышляет о том, как наилучшим образом соотнести самые современные отчеты археологов о Галилее с литературными источниками, повествующими о том мире, в котором вершил свое служение Иисус. Фрейн ставит серьезные вопросы касательно методик и, помимо прочего, попрекает тех, кто по причине некогда господствовавших воззрений решает игнорировать те или иные источники. Почему мы обходим молчанием Четвертое Евангелие? И следует ли нам пренебрегать взглядами синоптиков, повествующих о движении Иисуса, и отдавать предпочтение современной социологической конструкции, построенной на гипотезах XIX века о «примитивных» обществах? Автор не призывает вернуться к докритическому отношению к Евангелию и принимать все как данность, но, скорее, указывает на избирательность сегодняшних исследователей, которым недостает критического отношения к самим себе.
Разумеется, контекст Иисуса – это не только реалии и география, но и иудаизм. Центральная аксиома «Исследования Иисуса» гласит, что Иисус был евреем и в центре религиозно-культурного контекста его жизни пребывал иудаизм. Том Холмен вновь формулирует идеи, которые прежде высказали (но не развивали) Иосиф Клаузнер и Эд Сандерс[16], рассуждает о формулировке «Иисус в иудаизме» и говорит, что та неправильно выражает конечную цель «Исследования Иисуса» – скорее, Иисуса надо понимать в непрерывности тесно связанных явлений, иными словами, в континууме, возникшем между иудаизмом и раннехристианским движением. Историческое воссоздание жизни Иисуса имеет смысл лишь тогда, когда с его помощью мы можем увидеть и значение Иисуса в его собственном иудейском контексте, и то, как тот же самый Иисус связан с началом ранней Церкви[17].
Этот континуум и такой контекстуальный подход крайне важны и для Дейла Эллисона. В его работе Иисус представлен в самом центре иудейского апокалиптизма. Полагаясь на психологические исследования, Эллисон отмечает, что человеческая память часто предпочитает не детальную прорисовку, а крупные штрихи. И он спрашивает: как же так вышло, что хранители традиции смогли точно запомнить афоризмы и краткие реплики Иисуса, но при этом совершенно не сумели верно изобразить Иисуса, пророка апокалипсиса? Эллисон обращается и к антропологическим моделям хилиастов, пытаясь понять христианское движение на его ранних этапах, и приходит к такому выводу: пусть Иисуса и представляют как философа с умеренными взглядами, его образ обретает смысл лишь как образ пророка, возвещающего конец света в рамках апокалиптического иудаизма, и как вдохновителя апокалиптического раннего христианства.
Статья Герда Тайсена проясняет положение Иисуса в категориях иудаизма и то, как по прошествии столь недолгого времени Иисуса начали почитать как того, кто «стоит одесную Бога». Тайсен отмечает, что связь исторического Иисуса и Сына Божьего, провозглашенного в керигме – это одна из важнейших проблем исследования Нового Завета, и отчасти ее могут разрешить социальная история – в частности, именно та роль, какой наделяли Иисуса люди, и его отклик на их ожидания. В античном мире, как это видно из идеи о theatrum mundi, «мире-театре», роль воспринималась как нечто, определяемое обстоятельствами. Это чувство владело всеми. Никто не властен над судьбой, и никто не в силах определить свое положение: его определяет божество, а признает общество. В свете такого понимания древней культуры Тайсен рассматривает четыре роли, приписанные Иисусу первыми христианами: роль Учителя, роль Пророка, роль Мессии и роль Сына Человеческого – и многое становится ясным. Например, Иисус ни разу не называет себя Мессией. Этим статусом его должны наделить другие: или с упованием, как Петр, или с презрением, отраженным в прикрепленной к кресту дощечке с надписью INRI. Если Иисус – Мессия, Бог должен это ясно показать; никто не вправе по собственной воле претендовать на такой титул. Внимание Тайсена к новым методикам и подходам проясняет даже сложную и запутанную проблему «Сына Человеческого»[18].
Другие авторы, изучавшие различные аспекты раннего иудаизма, рассматривают Иисуса сквозь призму своих знаний. Содержательный обзор Питера Флинта расскажет о том, как в «Исследовании Иисуса» порой неверно использовали свитки Мертвого моря; впрочем, автор приводит и несколько кумранских текстов, очень ценных в изучении Иоанна Крестителя и Иисуса. Как и Иоанн Креститель, насельники кумранской общины проявляли немалый интерес к Ис 40:3; подобно источнику Q (Лк 7:20–23 = Мф 11:2–6), один текст из Кумрана (4Q521) связывает воскрешение мертвых с приходом Мессии.
Брюс Чилтон показал, как арамейский язык способен прояснить образ Иисуса в двух особых аспектах. Чилтон снова переводит на арамейский молитву «Отче наш», указывает ее ключевые идеи, раскрывает смысл выражений и соотносит определенные темы, упомянутые в молитве Иисуса, в частности – владычество Бога, с Псалтирью, а кроме того, рассуждает о значении таргумов для понимания Иисуса и Евангелий. В таргумах есть ряд пассажей, представляющих собой наиболее близкие по форме параллели к отрывку из Священного Писания, который цитирует Иисус; в других случаях тексты Писания толкуются в таргумах примерно так же, как в Новом Завете. Порой в новозаветных текстах появляются фразы, характерные для таргумов, а иногда можно найти и тематические соответствия.
Майкл Дейз утверждает: «Если Иисус был в одинаковой мере и иудеем, и последователем иудаизма, то к галахическому аспекту его жизни нам следует проявить интерес столь же неослабный, какой мы проявляем к другим, а именно богословскому, социально-экономическому и политическому». В частности, Дейз говорит о том, какую роль в публичном служении и смерти Иисуса играли еврейские праздники, моадим. Кроме того, он рассматривает вопрос об Иисусе и моадим в исторической перспективе; проявляет особое внимание к таким моментам, как точные даты Тайной Вечери и Распятия; показывает канун празднества иудейской Пасхи как контекст, в котором свершилась смерть Иисуса; изучает календарь, которому следовал Иисус; и указывает на то, как часто Иисус совершал паломничества в дни публичного служения. А после Дейз предлагает нам два направления дальнейших исследований: снова обратиться к тому, что сказано у Иоанна о паломничествах Иисуса в Иерусалим и сопоставить эти сведения с картиной, представленной у синоптиков, а также подробнее изучить подтекст Первого послания к Коринфянам, связанный с литургическим контекстом смерти Иисуса.
Для Ричарда Хорсли важнейшая контекстуальная основа – это отношения политики и религии. Он убедительно показывает, что при изучении исторического Иисуса надо ставить те же вопросы и применять те же методики, к каким мы обращаемся при изучении других исторических персонажей: нам надлежит, критически оценивая доступные источники, рассматривать Иисуса в его историческом контексте и учитывать то, как он взаимодействовал с окружением – а среди этих взаимодействий, несомненно, будут и конфликты с другими людьми и социальными институтами. При этом, как отмечает Хорсли, в античном мире религия, политика и экономика неразделимы.
Масштабные религиозные и политические явления мира, в котором жил Иисус, интересуют и таких исследователей, как Арье Эдрей и Дорон Мендельс. Они исследуют корпус раввинистической литературы – Мишну, Тосефту, Иерусалимский и Вавилонский Талмуды и другие тексты, – и указывают на глубокую культурную пропасть, отделяющую западную диаспору от восточной. «Западные» евреи говорили на греческом и латыни, «восточные» – на арамейском и еврейском. Хотя Библия была переведена на греческий и латинский, поучения мудрецов – сначала устные, потом записанные в виде Мишны и Талмуда – остались непереведенными. Эдрей и Мендельс полагали, что из-за этого разделения культур апостолу Павлу легче было распространять христианское благовестие на Западе.
Джеймс Чарлзворт и Дональд Кэппс решили взглянуть на образ Иисуса с помощью новой психобиографической методики. Такое применение психологии в историческом исследовании дает новые прозрения и методы и позволяет говорить об Иисусе как о личности в его окружении. Что он думал о себе? Как понимал сам себя в семье и общине? Психобиография может помочь нам обратиться к некоторым вопросам, которым в «Исследовании Иисуса» уделяют внимание уже давно.
Вторая часть книги содержит главы, посвященные источникам, благодаря которым мы изучаем все, что связано с Иисусом, а также аспектам его жизни и тому, как начали передаваться предания о нем. Как действовали устные предания? Что может сказать нам об Иисусе апостол Павел? Можно ли в «Исследовании Иисуса» обращаться ко всем четырем «каноническим» Евангелиям?[19] Что говорят об Иисусе так называемые неканонические евангелия, труды римских историков, Коран? Каков характер отношений между Иисусом и Иоанном Крестителем? Какое Священное Писание читал Иисус? Может ли его воскресение быть предметом историографии?
На протяжении столетий исторического Иисуса заслоняло почитание прославленного Христа, который, как верят христиане, однажды вернется на землю. Поэтому в прошлом исторического Иисуса «искали» под влиянием богословских идей и утверждений. Теперь изучение всего, что связано с Иисусом, по сути, перестало быть «поиском», проводимым во имя богословских интересов, будь то утверждения благочестивых верующих или сомнения скептиков-иконоборцев; более того, сегодня «Исследованием Иисуса» уже не движут интересы конфессий, и эта сфера уже принадлежит не только библеистам, изучающим Новый Завет.
В наши дни исследователи, разделяющие разные точки зрения и занятые в многочисленных академических дисциплинах, ставят все новые вопросы о текстах, сохраняющих предания об Иисусе, и о реалиях, свидетельствующих о том мире, в котором он жил. Мы надеемся, что эти вопросы, как те, что уже заданы, так и те, которым еще предстоит прозвучать, будут ставиться без заранее готовых выводов – и мы сможем использовать все нужные данные и изучить источники со всех мыслимых позиций и перспектив. Такая открытость в сочетании с методиками позволит нам найти более надежные ответы. И возможно, эта книга, созданная благодаря труду участников симпозиумов Принстон-Прага, сумеет укрепить фундамент для будущего «Исследования Иисуса».
Часть I
Контексты
Раздел 1
«Исследование Иисуса». Методики
«Исследование Иисуса»: мысли о лучшем методе
Геза Вермеш
Право начать Принстонский симпозиум статьей о методиках изучения исторического Иисуса – это великая честь. Правда, удивительно и даже слегка забавно, что эту честь оказали мне, ведь в Северной Америке меня порой причисляют к «ученым без методики» – в чем меня впервые обвинил профессор Джон Майер в «Маргинальном иудее»[20], а вслед за ним – и ряд других гуманитариев, не столь знаменитых. Отчасти это моя вина: мою самокритичную шутку о том, что при творческом подходе многое поневоле приходится делать «кое-как», неверно восприняли как серьезный научный принцип. И, видимо, услышав эту «шпильку», пронизанную английским прагматизмом, от венгра, учившегося в Бельгии и Франции и ставшего гражданином Великобритании лишь через натурализацию, профессор Майер воспылал праведным гневом. Не обратив никакого внимания на мою статью «Иудейская литература и новозаветная экзегеза: размышления о методологии»[21], на которую есть даже ссылка в «Религии иудея Иисуса»[22], Майер начал знакомить меня с азбучными истинами научного исследования, точно студента-первокурсника. «Любое научное исследование, – писал он, – если оно не относится к разряду полных чудачеств, проводится по определенным правилам». Кто с этим станет спорить? Более того, он обвинял меня не только в отсутствии методики, но и в некритичном обращении с раввинистической литературой при изучении Иисуса и Евангелий. И поэтому сперва стоит сказать о том, как, по моему мнению, исследователь в XXI веке должен подходить к проблеме «исторического Иисуса»[23].
Я проявлю методичность с самого начала – и выделю два важнейших вопроса, которые намерен рассмотреть:
1. Как следует, опираясь на иудейскую литературу, оценивать взаимоотношения между Иисусом и иудаизмом?
2. Как отличить аутентичные высказывания Иисуса в Евангелиях (в первую очередь – синоптических) от неаутентичных?
Иисус, Евангелия и иудаизм
Для меня очевиден один факт, и, думаю, с этим согласятся все специалисты: Иисус был иудеем. Это все знают и все принимают, это же подчеркивал и Джеймс Чарлзворт, организатор Принстонского симпозиума, в своих книгах «Иисус в иудаизме» и «Еврейство Иисуса»[24]. Более того, мы, вероятно, согласимся и с тем, что образ Иисуса, представленный в Евангелиях, тесно связан с иудаизмом, нашедшим отражение в еврейской литературе. И наш первый предварительный вопрос звучит так: какого рода иудейская литература содержит наиболее веские данные для такого сопоставления?
На этот вопрос можно дать два ответа: простой (назову его тривиальным) и более сложный. Поскольку старые представления, отраженные в «Комментарии» Штрака и Биллербека[25] и в «Богословском словаре» Киттеля[26], где использовались раввинистические тексты самых разных эпох, уже утратили свой авторитет и «ушли на покой», современные исследователи Нового Завета, в подавляющем большинстве, приняли заурядный вариант тривиального метода, основанного на крайне простом принципе: для сравнения можно обращаться только к таким иудейским текстам, которые возникли одновременно с Евангелиями или ранее их. Это Танах (Еврейская Библия, или Ветхий Завет), апокрифы, псевдэпиграфы, кумранские рукописи, труды Филона Александрийского и Иосифа Флавия – и в такое собрание разных текстов попадают лишь те, что созданы не позже конца I века н. э. А вот те труды, что появились на свет после этого времени (то есть весь корпус раввинистической литературы), в рамках такого подхода должны восприниматься как не имеющие законной силы. Такое отношение было бы отчасти оправдано в том случае, если бы считалось, что содержание упомянутых иудейских документов послужило источником для Евангелий и что евангелисты, жившие во II в. или позже, оказались авторами повествований или поучений, записанных в этих документах.
Но ни то, ни другое нельзя подтвердить фактами. В частности, большинство исследователей литературы раннего иудаизма полагает, что за Мишной, Тосефтой, Талмудами, таргумами, мидрашами и другими текстами ранней раввинистической традиции стоят не мнения отдельных людей, но законы, обычаи и верования многих веков, которые создатели текстов могли изменять в соответствии с новыми условиями, а могли и не изменять. Так, например, если в любом правиле или любой истории предполагается существование иерусалимского святилища или упоминаются лишь персонажи из эпохи Второго Храма, тогда, вероятно, это правило или эта история передают сведения, восходящие к I в. н. э. или еще более раннему времени. Это обычное явление для компиляций, предназначенных для сохранения традиции. Кроме того, когда в текстах прямо говорится о разрушении Храма или о евреях в Палестине, жизнью которых руководят не священники и не мирские правящие классы, а раввины и патриархи, нам следует предположить, что данные документы отражают традиции раввинистической эпохи.
Если исследователь решительно отвергает все раввинистические источники, полагая, будто они не подходят для сопоставления и экзегезы, – это слишком упрощенный подход. Быть может, мне не стоило бы так говорить, но я считаю, что это правда. Те, кто отвергает саму мысль об использовании раввинистических текстов как материала для сопоставления, часто просто скрывают, что незнакомы ни с Мишной, ни с Тосефтой, ни с мидрашами и Талмудами, не говоря уже о таргумах, и не желают их изучать.
Как должен специалист по Новому Завету пользоваться раввинистическими источниками? Позвольте представить вам четыре типа возможной связи между Евангелиями и раввинистической литературой.
Во-первых, сходство между новозаветными и раввинистическими текстами может объясняться чистым совпадением. Однако этих совпадений так много, что объяснить все такие параллели простой случайностью трудно.
Во-вторых, можно предположить, что евангелисты полагались на традиции, сохраненные в раввинистической литературе. Это обязывает нас отнести время создания Мишны и мидрашей к очень ранней эпохе, возможно, уже к I веку н. э.; такая гипотеза кажется неправдоподобной, хотя некоторые кумранские документы (например «Апокриф Книги Бытия») доказывают, что экзегетический материал, подобный таргумам и мидрашам, существовал в письменном виде еще до начала I в. н. э.
И опять же, некоторые любопытные находки в Кумране доказали, что отдельные раввинистические традиции возникли еще до разрушения Храма, которое произошло в 70 году н. э. Например, одна странная деталь в толкованиях, относящихся к Аврааму и Исааку, – а именно то, что место на горе Мориа, где предстояло принести Исаака в жертву, Аврааму указал огонь, – до недавнего времени подтверждалась лишь поздним таргумом псевдо-Ионафана и средневековым трудом Пирке де рабби Элиезер. Оба эти документа созданы слишком поздно для того, чтобы исследователи могли пользоваться ими при интерпретации текста I в. н. э. Однако в 1995 году я обратил внимание на один кумранский фрагмент, 4Q225, или Псевдо-Юбилеи, который показывает, что эта деталь упоминалась уже во II в. до н. э.[27]. Другими словами, если материал находится только в поздних документах, это еще не значит, что он имел позднее происхождение.
В-третьих, можно думать, что раввинистическая традиция кое-что позаимствовала из Нового Завета. Хронологически это возможно, однако гипотеза о том, что таннаи и амораи были знакомы с Новым Заветом и одновременно были готовы воспринимать его учение, не слишком правдоподобна.
В-четвертых, можно полагать, что и Евангелия, и раввинистические писания восходят к предшествующей общей иудейской традиции. Эта предпосылка позволяет при определенных условиях использовать более поздние раввинистические материалы для экзегезы Евангелий. Это можно проиллюстрировать, изменив условия сопоставления. Если вместо того, чтобы интерпретировать евангельский отрывок с помощью недатированных (возможно, поздних) материалов таргумов, отрывков из Талмуда, относящихся к V в., мидрашей таннаев III–IV вв. и Мишны, составленной на рубеже II–III вв., мы будем толковать раввинистические тексты в свете соответствующих евангельских отрывков, это не вызовет возражений с хронологической точки зрения. Тогда евангельский текст представит нам исходную точку традиции, отраженной в раввинистическом отрывке. Четыре типа возможных взаимоотношений между Евангелиями и раввинистической литературой, перечисленные выше, дают нам жизнеспособную методологию.
И теперь нам нужен новый, оригинальный подход к истории иудейских религиозных идей. Нам надлежит проследить, как эти идеи зарождаются в Еврейской Библии и как развиваются в апокрифах, псевдэпиграфах, в кумранских рукописях, у Иисуса и в Евангелиях, в трудах Филона и Флавия, а также в раввинистической литературе разных периодов. И здесь Новый Завет дает нам мерный шаблон, прекрасно размеченный в хронологическом плане, а иудейская литература, дошедшая до наших дней, позволяет лучше понять предмет.
Поэтому я не стал бы прибегать к методам Штрака и Биллербека, которые, разбирая отрывок о разводе у Матфея, а особенно оговорку «кроме вины любодеяния» (Мф 5:32), опираются на Гиттин 9:10 и еще более поздние труды, такие как Сифрей на Второзаконие и два Талмуда. Я последовал бы за эволюцией идеи и попытался бы, перейдя от Еврейской Библии к Кумрану, Иосифу Флавию и раввинистическим текстам, найти для Матфея определенное место на кривой и дать его тексту динамическую интерпретацию.
То же самое я попробовал бы сделать с повествованиями. Меня упрекали в том, что я создаю из Иисуса харизматичного хасида, о которых говорят тексты раввинов или даже амораев, – такого, как Хони ха-Меагель и Ханина бен Доса. На самом же деле я начинаю с Еврейской Библии, рассматривая сначала таких пророков-чудотворцев, как Илия и Елисей, и в целом образ «человека Божьего» в распространенных версиях иудаизма дохристианской эпохи. Затем я обращаюсь к образам Елисея, Хонии (или Хони) и Иисуса – «человека мудрого… [который] творил поразительные дела», как сказал о нем Иосиф Флавий, – и перехожу к образу Ханины бен Досы в Мишне, а позднее в обоих Талмудах, Палестинском и Вавилонском. Результат такого исследования сам становится, с типологической точки зрения, инструментом для сравнительного анализа образа Иисуса в Евангелиях.
На практическом уровне такая методика требует от специалистов по Новому Завету широкого знакомства с ранним иудаизмом, которое позволяет самостоятельно пользоваться источниками и, опираясь на них, смотреть на тексты с новой точки зрения, что необходимо для творческого исследования.
Тридцать лет назад благодаря моим усилиям в Оксфорде появилась степень магистра по иудаистике греко-римского периода, и это начинание оказалось удачным, пусть для нее и приходилось потратить немало усилий на изучение языков (еврейского, арамейского и греческого). Вскоре вслед за этим Эд Сандерс получил степень магистра по иудаизму и христианству в греко-римском мире. Подобные образовательные программы, по моему мнению, крайне важны и даже незаменимы для адекватного изучения Нового Завета.
Поиск истинного благовестия Иисуса
Теперь, определившись с тем, как использовать раввинистическую литературу, мы можем обратиться к другой проблеме: как, исследуя высказывания Иисуса, отличить его подлинное благовестие от добавлений, внесенных теми, кто писал, редактировал и комментировал Евангелия, не говоря уже о наслоении позднейших толкований. Достаточно крупицы мудрости с горчичное зерно, чтобы понять, что сотни высказываний, приписанных Иисусу и порой противоречащих одно другому, не могли принадлежать одному и тому же учителю.
Возможно, кто-то возразит: разве не мог сам Иисус передумать? Мне это представляется маловероятным. Ни один источник не говорит о нем как о человеке, склонном менять свои представления. Кроме того, его служение было слишком кратким, – оно заняло не более трех лет, хотя я скорее склонен думать, что оно продолжалось полгода-год – и это не позволяет допустить, что его идеи могли развиться постепенно.
В ХХ веке отважные исследователи Нового Завета подходили к этой проблеме по-разному. Густав Дальман[28] и Мэтью Блэк[29] метили высоко – они пытались воссоздать арамейскую основу высказываний Иисуса. Это была достойная задача, однако исполнить ее мешало серьезное препятствие: ограниченное число доступных параллельных текстов. Если на хронологическом основании мы исключим таргумы и Талмуды как слишком поздние тексты, у нас останутся только арамейские рукописи Кумрана – драгоценные, но слишком малочисленные, – которые не могут пролить свет на сложный язык Евангелий. Если коротко, то поиск арамейской основы Евангелий может дать ценные результаты, но нечасто. Я сам обращался к этому подходу, изучая проблему Сына Человеческого[30].
Немецкая школа «истории форм» (нем. Formgeschichte) – ведущее направление экзегезы Нового Завета прошлого столетия, известное в англоязычной традиции как «критика форм» (англ. Form Criticism) – делила тексты Евангелий по литературным категориям и пыталась поместить высказывания в Sitz im Leben – окружение, в котором проходила жизнь Иисуса или, гораздо чаще, жизнь «ранней Церкви». Хотя приверженцы критики форм не занимались поиском «подлинных» высказываний Иисуса, они полагали, что многие из этих изречений созданы Церковью – и тем самым косвенно не признавали их истинными. Некоторые сторонники этого подхода под влиянием Рудольфа Бультмана сформулировали правила оценки аутентичности высказываний. В своей важной книге «Открывая заново речения Иисуса»[31] Норман Перрин выделил три хорошо знакомых нам критерия: несходство, цельность и множественные свидетельства; к этому списку в своей книге «Изучение синоптических Евангелий»[32] Эд Сандерс добавил еще два: если какие-то изречения «вызывают немалый внутренний протест» или «встречаются и у друзей, и у врагов», это говорит в пользу их аутентичности.
Иногда эти правила нам помогают, но все они несут в себе один существенный недостаток. Хотя они претендуют на совершенную научную строгость, все они – а особенно важный критерий несходства – сильно склоняют исследователей к отрицанию аутентичности. Рассмотрим как пример один аргумент Бультмана о евангельских притчах:
Мы можем считать, что перед нами подлинная притча Иисуса, лишь в том случае, если, с одной стороны, в ней ярко выражен контраст между особенностями иудейской нравственной жизни и благочестия и теми характерными эсхатологическими настроениями, которыми пронизаны проповеди Иисуса, и если мы, с другой стороны, не находим в ней специфических христианских черт[33].
С глубочайшим уважением к гению Бультмана должен сказать, что этот принцип кажется мне бесполезным и почти абсурдным. Он призывает забыть о том, что и в религии, и в философии люди с незапамятных времен сталкиваются с одними и теми же главными вопросами, а оригинальность тут состоит в том, что они смотрят на знакомые темы с непривычной точки зрения или находят новые аспекты классических представлений. Как можно ожидать того, что высказывание или притча Иисуса, способные получить от нас «право» на аутентичность, отстранятся от любого проявления «иудейской нравственной жизни и благочестия»? Кроме того, если мы исключим все так называемые «христианские» элементы из аутентичного благовестия, нам неизбежно придется сделать вывод о том, что Иисус и христианство противоречат сами себе[34].
Другой часто упоминаемый принцип, который гласит: «Сомневаешься – отбрось», тоже нам не помогает. Определенность при исследовании Евангелий – это редкая и ценная находка в океане вероятностей. Поэтому, если говорить кратко, общепринятых критериев не хватает, так что нам следует разработать новые подходы.
Мы не должны забывать, что учение Иисуса менялось, пока его передавали сперва иудеям Святой Земли, потом – иудеям диаспоры и, наконец, язычникам, живущим как в Палестине, так и за ее пределами, и это происходило до того, как из этого учения родились дошедшие до нас записанные Евангелия. И нам также следует помнить, что один и тот же цельный текст может содержать разные смысловые слои, где первый уровень связан непосредственно с Иисусом, другой – с палестинским движением, вдохновителем которого стал Иисус, а третий – с тем значением, которое придали вести Иисуса неевреи, вошедшие в раннюю Церковь. Если подумать о том, сколь широкий спектр вариаций вобрала в себя евангельская весть в процессе развития, то мы поймем, что разумно отказаться от нереалистичных целей – и что лучше бы нам стремиться постичь суть учения Иисуса, а не пытаться найти его подлинные слова, его ipsissima verba[35].
Как бы там ни было, наличие нескольких Евангелий оказалось для нас благословением, и нам следует благодарить Бога за то, что Он не позволил «Диатессарону» Татиана заменить отдельные Евангелия. Те варианты высказываний Иисуса, которые сохранились в трех синоптических Евангелиях и кое-где у Иоанна[36], позволяют нам сравнивать и оценивать расхождения между ними – и благодаря этому, путем отбора, определить важнейшие границы подлинности. В книге «Истинное благовестие Иисуса»[37] я рассматривал три спорных вопроса: (1) идентичность тех, для кого предназначалась изначальная проповедь Иисуса; (2) ожидаемое им время наступления правления Бога (то есть Царства Божьего, или Царства Небесного); и, наконец, вопроса о том (3), говорил ли он заранее своим ученикам о своем страдании и смерти. Если можно пролить свет на эти неотъемлемые проблемы, ученым будет легче отделить подлинные речения от неподлинных.
Теперь позвольте мне кратко обозначить свою позицию по данным вопросам.
Кому благовествовал Иисус: лишь иудеям – или иудеям и язычникам?
Это вопрос о цели служения Иисуса и его первых посланников. Как велась их миссия – в одном народе или «по всей земле»?
О первом варианте прямо говорится у Матфея, которому вторит Марк, а вот Лука не говорит о подобном ни слова. Пассажи Матфея прекрасно известны. Иисус послан только к погибшим овцам дома Израилева (Мф 15:24), и только иудеи названы сынами Царства (Мф 8:12). Иисус решительно запрещает своим первым ученикам идти к язычникам или самарянам (Мф 10:5–6). В притчах Иисус обращается исключительно к иудеям. Язычники недостойны принять его учение – причем об этом говорит не только Матфей, но и Марк. Так, обращаясь к хананеянке, Иисус заявляет: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Мф 15:26, Мк 7:27). То же самое мы видим в приписанных Иисусу словах, позже вошедших в поговорку, – о том, что святыню и драгоценный жемчуг не следует давать язычникам, названным псами и свиньями (Мф 7:6). Это высказывание насквозь пронизано чувством собственной исключительности, свойственной иудеям.
О втором варианте свидетельствуют тот же Матфей, Марк (если принять во внимание более пространное окончание его Евангелия) и, разумеется, Лука, который говорит о миссии совершенно иного характера, а именно о том, что благая весть должна быть возвещена всему миру (Мф 24:14; 28:19, Мк 16:15–16, Лк 24:46–47). И Матфей, который совсем недавно мог показаться нам еврейским шовинистом, даже говорит о том, что иудеев изгонят с небесного пира, а их место займут язычники, пришедшие с востока и запада (Мф 8:11–12).
И какая из этих двух трактовок, в которых сталкиваются противоречащие друг другу взгляды, верна? Язычники ли внесли правки в текст, устранив из образа Иисуса «проеврейскую направленность»? Или это христиане из иудеев, быть может, не без влияния Петра и Иакова, стали помехой космополитизму, которому следовал Иисус? Поскольку Деяния апостолов свидетельствуют о том, что благая весть проповедовалась исключительно иудеям – и именно такой остается универсальная политика движения Иисуса в Палестине, меняясь лишь позже, на фоне успеха миссии Павла у язычников, можно сделать лишь один логический вывод: сам Иисус призывал в Царство Божье только иудеев, а язычников в расширенную группу включила «Церковь» – по причине ослабевшего влияния апостольской проповеди на евреев Палестины и диаспоры. И если это так, тогда евангельские речения, благосклонные к язычникам, вряд ли принадлежали Иисусу – и их нельзя отнести к его подлинному учению.
Когда, по мнению Иисуса, должно было наступить Царство Божье: при его жизни, после парусии или в более отдаленном будущем?
В том Новом Завете, каким располагаем мы, представления Иисуса о моменте наступления правления Бога, или Царства Божьего, неоднозначны. Ряд высказываний позволяет думать, что Царство наступит при его жизни и жизни его современников. Но есть и другие высказывания, в которых Царство наступает пусть и при жизни его современников, но уже после парусии. Наконец, есть высказывания третьего рода, в которых наступление Царства отнесено к отдаленному моменту завершения нынешнего века.
В первом случае Иисус, исполненный эсхатологического восторга, предвидит скорое и неизбежное наступление Царства[38]. Вслед за проповедью Иоанна Крестителя Иисус возвещает, что Царство Божье «приблизилось» (Мк 1:15, Мф 4:17), и велит своим ученикам возвещать эту же самую весть (Мф 10:7, Лк 10:9, 11). Он провозглашал, что Царство – «среди»[39] его слушателей (Лк 17:20–21) или что оно «достигло до вас» (Мф 12:28, Лк 11:20), и о том свидетельствовали чудеса мессианского века (Мф 11:4–5, Лк 7:22). Иисус открыто утверждал, что Царство явится еще прежде смерти тех, кто слышит его проповедь, или вскоре после смерти Иоанна Крестителя (Мк 9:1, Мф 11:12, Лк 9:27; 16:16). Притчи Иисуса о Царстве Божьем были обращены к его современникам, и он призывал их «войти» в это Царство.
В другом важном наборе речений наступление Царства совпадает с парусией, или Вторым Пришествием Христа, которого обычно называют в этом контексте Сыном Человеческим. Сюда относятся пассажи эсхатологического дискурса, притча о Страшном суде и слова об восшествии Сына Человеческого на престол. Согласно некоторым новозаветным текстам, парусия предвиделась вскоре после смерти Иисуса. В послании к христианам Фессалоник, написанном в начале 50-х гг. н. э., Павел говорил, что парусия произойдет скоро и что он сам, несомненно, в этот момент еще будет жив (1 Фес 4:15–17).
Однако, поскольку Царство Божье так и не стало реальностью, пришлось пересмотреть «расписание событий», и появилась третья группа изречений – с акцентом на том, что нужно терпеливо ждать. В притче о десяти девах говорится, что жених «замедлил» прибыть (Мф 25:5); господин рабов возвращается «по долгом времени» (Мф 25:19, Лк 19:15); звучит напоминание о том, что мирские заботы не должны притуплять бдительность в ожидании последнего дня (Лк 21:34–36). Скептицизм и разочарование незаметно прокрадываются в души верных (2 Пет 3:4). Второе послание Петра было написано спустя сто лет после смерти Иисуса, но его автор все равно думает, что Царство Божье наступит не скоро.
Подводя итоги, можно сказать, что изречения, в которых сказано, что Царство наступит при жизни Иисуса, представляются подлинными. Позже никто уже такого бы не придумал: это звучало бы как неправда, очевидная для всех. Вероятно, Павел и первые последователи в палестинском движении Иисуса отнесли наступление Царства ко времени после парусии, – и нам уже в этом свете придется переосмыслить приписываемые Иисусу представления о том, что Царство грядет в конце времен. Одержимость эсхатологией в те дни уже прекратилась – и началась эпоха Церкви.
Предсказывал ли Иисус свои страдания и воскресение?
В Евангелиях есть две группы свидетельств, противоречащих друг другу. С одной стороны, говорится, что Иисус в беседах с самыми близкими сторонниками предсказал – причем не раз и не два – свои грядущие страдания, смерть и воскресение. Эти предсказания просты и понятны: его арестуют, он будет страдать, его убьют, а затем через три дня или на третий день он воскреснет. В Евангелии от Марка (Мк 10:32–34) и параллельных местах добавлены подробности, а сам текст дан в форме пророчества постфактум: Иисуса должны были предать в руки язычников, ему предстояло претерпеть осмеяние, плевки и бичевание, а после – быть распятым. В Евангелии от Луки (Лк 9:44) Иисус просит запомнить его предсказание: «Вложите вы себе в уши слова сии». Мы видим, что апостолов недвусмысленно предупредили о том, что их ждет.
Однако когда эти события произошли на самом деле, ученики Иисуса были ими глубоко потрясены. Они покинули Иисуса. Петр даже заявил, что не знает этого человека. Согласно синоптическим Евангелиям, ни один из апостолов и никто из родственников Иисуса не последовал за ним на Голгофу и не участвовал в его погребении. Они не ожидали того, что Иисус воскреснет, и посчитали чепухой слова женщин о пустой гробнице. Они не узнавали воскресшего Иисуса, когда тот им являлся, а по словам Матфея, когда апостолы увидели Иисуса в Галилее, некоторые из них продолжали сомневаться (Мф 28:17). Эти противоречия ставят нас перед дилеммой: либо Иисус не говорил открыто о своих страданиях и воскресении, и тогда малодушие апостолов можно объяснить естественным шоком и разочарованием, либо же он предупреждал их, но в таком случае поведение учеников становится непонятным.
Эта дилемма решается очень просто, если мы откажемся считать эти предсказания Иисуса аутентичными. Апостолам и другим первым миссионерам палестинского движения Иисуса нужно было объяснить иудеям и язычникам смысл креста и воскресения. Так раннехристианские апологеты приготовили путь к принятию того, что Павел называл соблазном для иудеев и безумием для язычников[40] (1 Кор 1:23): Сын Божий, утверждали они, заранее знал обо всем, что с ним случится, и делился этим знанием со своими апостолами. Поэтому в Евангелия внесли предсказание Иисуса о его Страстях и воскресении, а позже сами эти события были представлены как исполнение библейских пророчеств. Такой взгляд мы находим у Луки как в его Евангелии, так и в Деяниях. Он есть и в посланиях Павла: по мнению апостола, смерть и воскресение Христа свершились «по Писаниям», хотя он не может дать ссылок на конкретные главы и стихи. На самом же деле иудейская традиция ничего не знала об умирающем и воскресающем Мессии, так что здесь перед нами христианский апологетический мидраш.
Предпринимались и другие попытки объяснить загадочное поведение апостолов. Говорят, что они либо не поняли предсказаний Иисуса, либо не представляли себе, что значит воскреснуть из мертвых, либо, в случае женщин, забыли слова Иисуса (Лк 24:6–8).
Отсюда я делаю вывод о том, что ни апостолы, ни даже сам Иисус не предсказывали ни Страстей, ни воскресения и что любые евангельские тексты, которые этому противоречат, следует отнести к категории неаутентичных.
Эти мысли о ключевых проблемах «Исследования Иисуса» и завершат мою главу о методологии – и надеюсь, они достаточно провокационны.
В поиске «поиска»: как найти Иисуса?
Уолтер Уивер
Один из самых устойчивых мотивов в поиске исторического Иисуса – это склонность создавать такой его образ, который соответствует представлениям автора или вписывается в текущий культурный контекст. Это можно назвать «проблемой разнородных Иисусов»[41]. Время от времени мне приходится слышать или читать, пусть и в несколько искаженном виде, о том, что составлять жизнеописание Иисуса – это все равно что смотреть в глубокий колодец и видеть свое отражение. Впервые об этом сказал Джордж Тиррелл, ирландец, католический священник и модернист, преждевременно умерший в 1909 году. В книге «Христианство на перепутье», опубликованной посмертно, он рассматривает классический труд либерального теолога Адольфа Гарнака «Сущность христианства» и пишет:
Христос, которого видит Гарнак, проницая взором в прошлое, сквозь девятнадцать столетий католической тьмы – это лишь отражение лица либерального протестанта, заметное на дне глубокого колодца[42].
Это заметил не только Тиррелл. В 1923 году Артур Кэли Хэдлем, епископ-англиканин, сказал: «Причина неудачи многих ученых в том, что они, вместо того чтобы следовать своим текстам, отдают себя во власть какой-либо идеи – и уже по ее лекалам формируют историю»[43]. А Генри Кэдбери, американский библеист, призвал исследователей еще строже сосредоточиться на иудейском контексте жизни Иисуса – и тем самым хотя бы ненадолго преодолеть искушение «модернизировать» его образ в основателя коммерции и капитализма (как бывало)[44], в первоисточник Христианской науки (как бывало) или в средоточие догматов Римско-Католической Церкви (как бывало)[45].
Я не хочу сказать, будто библеисты, изображая Иисуса по-разному, чем-то отличаются от любых других исследователей – скажем, от тех, кто изучает жизнь Авраама Линкольна. Существует ли нормативный Линкольн? Разве нет самых разных мнений о том, каким он был на самом деле, о его невидимом «Я», о его склонностях, речах, действиях, словом, о «подлинном Линкольне»? Подозреваю, что ученые, изучающие жизнь Линкольна, спорят о таких вещах ad infinitum, а возможно, даже и ad nauseam[46]. И все же они вряд ли признали бы, что образы Линкольна, созданные ими, отражают их собственную личность или же социально-политические программы их времени.
Да, я со спокойной душой (проверено!) читаю книгу Дэвида Маккалоу о Джоне Адамсе – и совершенно не терзаюсь подозрениями в том, будто автор преподносит мне плод своих собственных предпочтений[47]. И более того, я сомневаюсь, что и в других исторических дисциплинах хоть кому-то приходится беспокоиться о такой возможности.
И в этом свете удивительнее то, что, когда дело касается исторического Иисуса, исследователи, как говорится, «по-своему» толкуют историческую картину или же совмещают ее саму с идеологиями и культурными дрейфами своей эпохи. И это, вероятно, уже ipso facto[48] способствует той вольности, с какой разные исследователи рисуют нам портрет Иисуса.
Кто-то может также сказать, что Иисус более таинственен и непостижим, что по самой своей природе он – sui generis[49], и что он тем самым пребывает за пределами обычного представления о нем как о простом человеке, одном из многих, со своей личностью и своими особенностями. В начале ХХ века великий еврейский ученый Клод Голдсмид Монтефиоре долго размышлял именно над этим вопросом – в чем уникальность Иисуса – и пришел к выводу, что она заключалась в той интенсивности, той мощности, той силе, с какой Иисус провозглашал свою весть и старался убедить других. А что до содержания его проповеди, то подобное вполне мог возвещать какой-либо иудейский учитель той эпохи. В двух словах, Монтефиоре увидел в Иисусе иудея-реформиста, каким был сам; так и многие другие смотрели на Иисуса сквозь призму обстоятельств собственной жизни[50].
И если кто-то склонен думать, будто в наше время столь разнообразных портретов Иисуса уже не создают, пусть рассмотрит эти современные версии: Иисус – циничный иудей, или иудейский киник; Иисус – защитник феминизма; Иисус – пророк, обличающий пороки общества; Иисус – апокалиптический пророк и/или пророк-хилиаст (работа с наследием Альберта Швейцера); Иисус-мудрец; Иисус – предводитель эсхатологического реставрационизма; Иисус – харизматический или вдохновенный мудрец, возглавивший движение за возрождение традиций с верой в Царство, которое наступит в далеком будущем; Иисус – сторонник «богословия чернокожих», представитель теологии освобождения, защитник бедных и угнетенных; и, наконец, Иисус – иудей, маргинальный или просто неверно понятый.
Эти краткие размышления предполагают, что есть две возможности рассмотреть представленную проблему: в свете нехватки источников либо в свете недостатков методологии. Конечно, мы можем совершенно «закрыть» вопрос, повторив слова Кассия, обращенные к другу: «Не звезды, милый Брут, а сами мы виновны…»[51] – или не столь изящную реплику Пого: «Мы встретили врага, и этот враг – мы сами»[52]. Тем самым мы отдали бы все на волю субъективного истолкователя, и с этим фактом пришлось бы как минимум смиряться, а то и преодолевать его.
О том, что истолкователь всегда вовлечен в истолкование, нам завещали помнить философы-экзистенциалисты: Сёрен Кьеркегор, Мартин Хайдеггер, а еще раньше – Вильгельм Дильтей. Конечно, сам Дильтей экзистенциалистом не был, но он стремился создать для гуманитарных наук такую методологию и такие подходы, с которыми они перестали бы восприниматься как простое подобие наук естественных.
Было бы неразумно полагать, что истолкователь может просто взять и устранить все, что он вложил в изучаемый предмет. Впрочем, нам незачем заходить слишком далеко и говорить, будто такая вовлеченность необходима и неизбежна и будто поиск истины, проводимый с «холодным сердцем», непременно заведет в тупик, – как, например, утверждал Кьеркегор, сказавший, что религиозная истина есть вера, удерживаемая в страстной субъективности. Просто экзистенциалисты, оставив в стороне модель истинной объективности, которой, по общему мнению, держались ученые, решительно стремились пройти к истине иными путями и преодолеть картезианское деление на субъект и объект.
Я предлагаю проследить эту склонность создавать разные образы Иисуса от самых первых лет поиска до середины ХХ века. Неизбежна ли такая тенденция? И если это так, возможно ли найти причину? Я исследую эти вопросы и критически рассмотрю ряд различных источников – и, надеюсь, сумею яснее представить методику, подходящую для изучения всего, что связано с историческим Иисусом.
Предшественники: деизм
Поиск исторического Иисуса не вырос, будто по волшебству, из одного-единственного глиняного горшочка. Его корни лежат в эпохе Просвещения, а сама эта эпоха началась в XVIII веке, получив мощный импульс от исключительно важного движения: деизма. В Англии деизм возник в конце XVII века и расцвел в XVIII-м, а некоторые следуют его принципам и сегодня. Деизм широко распространился по Европе, и его популярности способствовали знаменитые люди: во Франции – Вольтер, а в Германии – Иоганн Готфрид Гердер и Готхольд Лессинг; кроме того, как мы еще увидим, под его влиянием оказались и важнейшие предводители Американской революции. Не вполне ясно, когда и как родился деизм, но для наших целей это не имеет значения. Далее я расскажу о прославленных деистах и на их примере дам характеристику всему движению.
Одним из самых известных защитников деизма был Джон Локк (1632–1704), автор классического труда «Опыт о человеческом разумении»[53]. Кроме того, Локк внес немалый вклад в идею, согласно которой правительство может действовать лишь с согласия тех, кем оно правит, а сама эта идея отразилась в Американской революции. Локк рос в зажиточной семье, посещал Оксфорд и подумывал о карьере врача, но благодаря знакомству с лордом Эшли, графом Шефтсбери, вовлекся в политику – и в заговор против короля, устроенный лордом, так что и Локку, и Эшли пришлось скрываться в Голландии до «Славной революции» 1688 года. В чужой стране Локк работал над своим «Опытом», а уже после упомянутой революции вернулся в Англию и создал труд «Разумность христианства»[54], главное выражение его представлений о проблеме веры и разума. Локк, подобно некоторым другим деистам, называл себя христианином, к христианской вере в целом относился благожелательно и жизнь вел благочестивую и набожную.
«Опыт» уже содержал некоторые методологические предпосылки, определявшие аргументацию «Разумности», и они формулировались так: во-первых, есть вопросы, которые разум может определить с помощью тщательного анализа; во-вторых – вопросы, стоящие выше разума (скажем, божественные откровения, которые даются в акте веры; их предлагает тот, кто для этого подходит); в-третьих – вопросы, противоречащие разуму[55]. Вторая категория беспокоила Локка более всего, ведь мало кто стал бы выдвигать утверждение, противоречащее нашим природным способностям или нашему разуму. Далее Локк приступил к анализу новозаветных текстов, по большей части – посланий апостола Павла. Тексты ясно показывали, что скверна греха свойственна всему роду человеческому от Адама и главной задачей Христа, как следовало из посланий, было прежде всего искупление. Деяния Христа, направленные на то, чтобы привести всех людей в состояние праведности, δικαιοσύνη, подтверждаются чудесами, которые он совершал и в согласии с которыми должна пребывать вера, провозглашенная, помимо прочего, в Нагорной проповеди и других изречениях Христа. Даже те, кто никогда не слышал об Иисусе Христе, тем не менее обладают светом, который исходит от разума, а потому они также подлежат правосудию Божьему. Люди не сумели верно обращаться с таким разумом, из-за этого впали в состояние греха, и теперь требовалось, чтобы Христос искупил род человеческий. А потому естественная религия может завести в тупик и неспособна даровать искупление. «Они [философы, говорившие от разума] полагались на разум и на его прорицания, в которых все – абсолютная истина; но все же некоторые части этой истины скрыты слишком глубоко, и наши природные способности не могут легко достичь их и ясно явить их всему человечеству, если не получат некоего света свыше, который бы их направлял»[56].
Однако если принять такую христианскую веру, которая представлена в Евангелиях, зачем нужны другие тексты Нового Завета – те же Послания? Они были созданы по иным поводам, их советы и наставления приурочены к иным событиям. Их следует читать в их же собственном контексте, следить за ходом аргументации и думать о том, насколько их содержание соответствует другим частям Священного Писания. Что же касается их ценности, то в силу своего характера эти тексты не являются необходимыми для спасения души, а догматы веры яснее отображены в Евангелиях и Деяниях[57]. В конце своих рассуждений Локк замечает, что бедные и неграмотные люди не должны лишиться спасения души из-за неблагоприятных обстоятельств, ведь Евангелие гласит, что благая весть была им проповедана, а если так, значит, она, по всей видимости, понятна и доступна для того разума, которым они обладают.
Джон Толанд (1670–1722), ирландский вольнодумец, был современником Локка, по слухам – незаконнорожденным сыном священника, прижитым с сожительницей. Крещенный в Католической Церкви, Толанд в юности перешел из католичества в протестантизм, а затем, в той или иной мере, считал себя сторонником самых разных религиозных притязаний, пока наконец не решил, что только разум лучше всего объясняет христианство. Его книга «Христианство без тайн»[58] вызвала такое возмущение, что ирландский парламент отдал распоряжение ее сжечь – благо хоть книгу, а не автора. Впрочем, яростные нападки критиков Толанда не миновали, а некоторые его оппоненты считали, что он заслуживал той же участи, какая постигла его труд.
Чем же именно книга Толанда вызвала такую ненависть, тем более что он, подобно Локку, называл себя христианином? Его врагами были «духовные лица» – священники и богословы, получавшие доход за счет уверений в том, что они обладают подлинным знанием евангельских истин, причем они поддерживали эти уверения с помощью загадочных ритуалов: такими были, скажем, таинства латинского обряда, крещение младенцев по строго определенному чину… К порядкам Римско-Католической Церкви, а впрочем, и к самой католической вере Толанд относился с особой нелюбовью: ему они казались ярчайшим проявлением именно такой таинственности, в которой разуму отводилась невеликая роль. Толанд не видел в христианстве ничего непонятного и недоступного разумному анализу, и в этом он зашел гораздо дальше Локка. Определяя разные пути объяснения христианской веры, Толанд говорил:
Мы полагаем, что разум есть единственная основа любой уверенности и что из всего, явленного в откровении, ничто ни в отношении своего рода, ни в отношении своего бытия не освобождается от изысканий разума в мере хоть сколь-либо большей, нежели самые обыкновенные природные явления. И по этой причине мы, в полном согласии с заглавием данного рассуждения, равно так же утверждаем: в Евангелии нет ничего противоречащего разуму и ничего превыше разума; и ни одну из христианских доктрин нельзя называть тайной в строгом смысле этого слова[59].
Да, в такой системе властвует разум и только разум, как будто sola fide Лютера заменили на sola ratio. Но как же определяет Толанд этот превознесенный и возвеличенный разум? По его словам, разум – это душа, которая действует определенным образом, утверждает, отрицает; судит, что счесть добром, а что – злом. Можно даже сказать, что это здравый смысл. Мы не можем верить в то, чего не понимаем, говорил Толанд. И он начал исследовать краеугольные постулаты христианства: доктрину о Троице, пресуществление, чудеса… Все это он пропустил через огонь разума, оставляя лишь то, что можно честно утверждать, полагаясь на разумные доводы. Кроме того, Толанд исследовал концепцию таинства: по его мнению, ее позаимствовали из языческой мифологии и затем поставили на службу христианства, что особенно заметно у Павла и в дальнейшей истории Церкви.
В конечном счете Толанд хотел показать, что христианская вера не противоречит логическим рассуждениям и что любую другую веру тоже необходимо подвергнуть подобному испытанию. Но на деле те суждения, которыми он так увлекся, привели к совершенно иным последствиям: разрушили многие элементы той веры, что считалась христианской, и воссоздали ее в более приемлемой форме.
Мэтью Тиндал (1653–1733) написал многословный и зубодробительно скучный том с пространными ответами на критику и массой цитат из латинских или греческих текстов на языке оригинала. Его труд «Христианство, древнее как само Творение, или Евангелие как воспроизведение естественной религии»[60] стал не столько попыткой заинтересовать широкую публику, сколько противостоянием с «духовными лицами», которые, похоже, и были основным предметом анализа. Тиндал следовал такому методу: обозначал вопросы, которые задавали ему или которые задавал он сам, и давал на них ответы. Такая диалектика проходит по всей его книге.
Тиндал утверждал, что христианство – это на самом деле та же религия, какая может открыться в естественных рассуждениях и дана разуму самой природой. Так христианство предстало как эквивалент разума, воспринимаемого в природе. Религия откровения отличается от естественной религии лишь способом передачи. Христианство – это совершенное воплощение того, что мог бы распознать и естественный разум. Так, можно понять, что с самого начала творения Бог дал человечеству законы, которым надлежит покоряться, а потому христианство – столь же древнее, как сам сотворенный мир. Из этого также следует, что Библия есть совершенное откровение воли Бога Творца – но, с другой стороны, ту же самую волю можно познать, исследуя естественное положение вещей.
Этот труд предназначался для людей ученых, и автор с легкостью переходил от христианской веры к верованиям древних язычников, с явной целью изучить последние. Как и Толанд, Тиндал был яростным противником папизма и всего, что ему сопутствовало. Порой он мог порицать и протестантов, и иудеев, и мусульман, но считал, что за веру никого не следует преследовать. «Все, кто серьезен в религии, возрадовались бы, увидев установленным такое правило: ни один человек не должен страдать – ни он сам, ни его собственность, ни репутация – просто из-за своих религиозных убеждений»[61]. И все же именно разум проводит нас по лабиринту разных мнений с уважением ко всем уверениям в обладании истиной: «Так, значит, разум должен служить нам проводником, и знание о нашем долге мы должны обретать от света природы, прежде любых предписаний, иначе мы никогда не смогли бы узнать, что наш долг и призывал нас вкладывать в слова те смыслы и значения, лишенными которых эти слова могли бы показаться в противном случае»[62]. Книге Тиндала грозила та же участь, что и сочинению Толанда; впрочем, сожжения она не заслуживала, хватило бы и умелой редактуры.
Если судить по жизненным обстоятельствам, то вряд ли кто-либо мог ожидать, что Томас Чабб (1679–1747) может написать сколь-либо значимый труд. К тому времени, когда умер его отец, оставив семью в отчаянном положении, Чабб был младшим из четырех детей и умел разве что складывать и вычитать простые цифры, читать и писать. Его отдали в подмастерья перчаточнику, позже он стал делать свечи, но он любил писать, особенно о богословских спорах той эпохи. И ему повезло – на один из его трактатов обратили внимание влиятельные люди с положением в обществе. Со временем, получая регулярное жалованье от одного из таких покровителей, он смог оставить убогую работу, посвятил себя сочинительству и в 1738 году опубликовал свой труд «Утверждение истинного Евангелия Иисуса Христа»[63]. К тому времени он уже прослыл деистом, хотя, несмотря на это, продолжал ходить в церковь и формально казался христианином.
В труде «Утверждение истинного Евангелия Иисуса Христа» Чабб утверждал, что Иисус Христос пришел спасти души людей и тем самым дать человечеству вечное блаженство. Эти цели не распространяются на земную власть, говорил Чабб, и лишь при последнем суде Христос явится, чтобы призвать свой народ к ответу, поэтому никто не должен заставлять другого следовать закону Христа. Люди делают это лишь вследствие осознанного выбора, в ответ на убеждение и доводы. И никто, кроме Христа, не имеет власти над христианином; никакая церковная организация и никакие представители Церкви не вправе наказывать верующих. Так Чабб выразил свое презрительное отношение к церковным авторитетам, особенно к папе и иерархам Римско-Католической Церкви. Христос, помимо прочего, говорил, чтобы наш разум действовал в согласии с «вечным и неизменным правилом действий, основанным на причине вещей»[64] – и нет другого способа угодить Богу. «Вот истинное Евангелие Иисуса Христа, вот путь и метод, которыми Христос желает спасать души людей»[65].
Чабб также считал, что некоторые идеи – скажем, идея Иоанна об Иисусе как о вечном Слове Божьем – могут быть как ценными, так и не очень, поскольку они не входят в благую весть Иисуса, направленную только на спасение душ. Так и размышления Павла о статусе иудея и язычника отражают лишь мнение Павла, но мы можем как принять их, так и отвергнуть: для нас важно лишь истинное благовестие Иисуса Христа. И тут Чабб высказывает ошеломительную мысль: он говорит, что те писания, которые не входят непосредственно в Евангелие, – это всего лишь частные мнения их авторов. Само же Евангелие совершенно ясно:
Ибо если бы свою проповедь, обращенную к бедным, то есть низшей части человечества, Христос наполнил историческими фактами или множеством таинственных и едва понятных фраз, допускающих тысячи несогласованностей и противоречий, то для людей это стало бы не наставлением, а камнем преткновения, как если бы он проповедовал им на незнакомом языке[66].
Развивая эти основные положения в книге, Чабб постоянно напоминал о праве каждого отдельного человека судить о том, что является причиной вещей, а что ей не является, и при этом не подчиняться никакой иерархии мнимых авторитетов в стремлении определить для себя, в чем суть Евангелия.
Начало жизни англичанина Томаса Пейна (1737–1809) было крайне скромным: в двенадцать лет он вылетел из школы, а профессией отца, изготовителя корсетов, Пейн, как оказалось, овладеть не смог. Какое-то время он нанимался на корабли, выходившие в море, и однажды в Лондоне случайно встретился с Бенджамином Франклином, который помог ему иммигрировать в Филадельфию. Там Пейн стал журналистом, поддержал революцию и написал трактат «Здравый смысл» (Common Sense), где язвительно обличал британскую монархию и призывал к ее свержению. Труд этот разошелся широко.
Книга Пейна «Век разума» вышла в 1794 году и была переиздана в 1796-м[67]; в ней говорилось о религии как таковой, но в первую очередь – об иудеохристианской. И если Джон Локк прошел по теме веры и разума «на цыпочках», то Пейн, можно сказать, взял кувалду и замахнулся прямо на ключевой элемент христианской веры – Библию. Свое собственное кредо он выразил так: «Верую в единого Бога и более никакого, надеюсь на счастье за гранью этой жизни. Верую в равенство людей, и верую, что религиозный долг – это творить справедливость, любить милосердие и стремиться осчастливить наших ближних»[68].
Далее следовал длинный список того, во что он не верит. Пейн не щадил ни церквей, ни храмов, ни синагог. Все это, говорил он, человеческие изобретения, «устроенные затем, чтобы запугивать и порабощать человечество и монополизировать власть»[69]. История о начале христианства, как ее рассказывают верующие, есть миф, не основанный на фактах и похожий на языческие мифологии древности. Христианская Троица – просто один из вариантов многобожия тех времен. Пейн отмечает, что все, сказанное им, не следует относить лично к Иисусу, «человеку добродетельному и приятному во всех отношениях»[70], и пусть даже у его учения есть параллели и в других религиях, учил он великодушию и нравственности. Сам Иисус ничего не написал; мы почти ничего не знаем о его происхождении, окутанном пеленой мифов; а евангельские повествования противоречат друг другу столь сильно, что историческая достоверность Евангелий крайне мала. Затем Пейн прошелся по всей Библии, отмечая в ней противоречия. К слову, гораздо позже исследователям предстояло обратить многие его прозрения себе во благо: те позволяли заподозрить в тексте указание на несколько разных первоисточников. Его яростная критика не щадила ни одной из книг – за исключением Книги Иова, которой он восхищался; впрочем, Пейн утверждал, что она – не библейская и что ее даже писали не евреи, а язычники.
Нетерпимое отношение к Библии подвело Пейна и к иному прозрению: так, например, он говорил, что Книга пророка Исаии есть «одно из самых диких и беспорядочных сочинений, когда либо созданных; в нем нет ни вступления, ни средней части, ни конца»[71]. Он так никогда и не сумел допустить мысли о позднейшей редактуре или о разных источниках. Как деист, он мог думать лишь о логическом ходе событий от А к В; по сходным причинам он мог лишь объявить книгу неподлинной и бесполезной, – а как иначе, если ее автором был не тот, кого таковым считала традиция? Вот как Пейн кратко описывает христианское богословие:
Изучать богословие в нынешнем состоянии христианских церквей, – это все равно что изучать пустоту; это богословие не основано ни на чем; у него нет никаких принципов; оно не исходит ни от каких авторитетов; оно не содержит фактов; оно ничего не может доказать и из него не сделать никаких выводов. Не все можно изучать как науку, если не владеешь принципами, на которых основан предмет, и поскольку у христианского богословия такие принципы отсутствуют, это и позволяет сказать, что изучать его – все равно что изучать пустоту.
В то же время Пейн мог ставить и вопросы по существу, как он это делает, например, тут:
Создатели христианских мифов говорят нам, что Христос умер за грехи мира и что он пришел, чтобы умереть. Так изменилось бы что-нибудь, если бы он умер от лихорадки или от оспы, от старости или еще от чего-либо?[72]
Кратко изложить мнения Пейна обо всей Библии, от Бытия до Откровения, довольно сложно. Не ко всему он относился негативно. Как и другие деисты, Пейн считал, что Бог познается через творение как Первопричина всего. Только разум позволяет людям обрести хоть какое-то знание единого Бога. Деисты, как правило, прославляли Бога природного мира; это отражено и в словах Томаса Джефферсона в «Декларации независимости», где естественные права людям даруют «Природа и Бог Природы». Похоже, деисты упустили из внимания тот факт, что Бог допускает в мире существование всевозможных трагедий и бед и что такой Бог неизбежно равнодушен к людским страданиям.
Томас Джефферсон (1743–1826), третий президент США, был твердокаменным деистом. Вопрос о том, сколько еще было деистов среди отцов-основателей Америки, остается спорным[73]. На разных этапах карьеры государственного деятеля Джефферсон претворял в жизнь идею, занимавшую его мысли долгие годы: он хотел составить единый документ с текстами Нового Завета на четырех языках – английском, греческом, латинском и французском. Этот проект он так и не осуществил, однако с помощью ножниц и клея составил другой документ, названный «Библией Джефферсона». Этот текст содержал все высказывания, приписываемые Иисусу, и они, по словам Джефферсона, составляли «самую благотворную и совершенную нравственную систему… из всех, которым когда-либо кто-либо учил»[74]. В такой Библии не было ни намека на чудеса. Все подобные вещи намеренно устранялись.
Когда Джефферсон боролся за президентский пост, противники называли его неверующим из-за его взглядов. На это он, не смягчая выражений, отвечал: «Я поклялся на алтаре Божьем быть вечным врагом любой формы тирании над разумом человека!»[75]. Эти слова украшают мемориал Джефферсона в Вашингтоне.
Джефферсон не слишком доверял первым апостолам, которые передали другим учение Иисуса. Он считал их невежественными, ограниченными людьми, и полагал, что они ошибались, передавая предание, и добавляли свои собственные представления к тому, о чем рассказывали, поэтому у каждого евангелиста появился свой образ Иисуса. И хотя Джефферсон не разбирался в вопросах устной традиции и ее передачи, он, тем не менее, с легкостью отличал учение Иисуса от искажений, внесенных учениками. Учение Иисуса, говорил он, сияет здесь, как «бриллианты на куче навоза»[76]. Да, «теория навозной кучи» – не очень пристойное название; но любому, кто хочет вновь услышать подлинный голос Иисуса, приходится отделять подлинное от неподлинного. В этом смысле Джефферсон действительно сделал шаг вперед в истолковании традиции, связанной с Иисусом, – по сравнению со своими предшественниками или современниками из числа деистов.
Чему же учат нас деисты – и учат ли хоть чему-нибудь? Полагаю, их труды важны для нас по нескольким причинам.
Локк первым провел различие между Евангелиями и Посланиями – и тем сделал жизненно необходимый шаг для выделения аутентичной традиции Иисуса[77]. Джефферсон зашел в этом еще дальше. Чабб, вслед за Локком, заявил, что авторитетными следует считать только Евангелия, отказав в этом другим новозаветным книгам. Некоторые деисты постепенно приближались к подлинно историческому подходу – это видно в трудах Толанда, Чабба, Тиндала и Пейна, признававших, что для понимания христианского движения важны знания о той обстановке, в какой предстали Иисус и его ученики. Благодаря тому, что деисты цитировали параллели к христианскому учению, появилась возможность воспроизвести вероятные источники, которым подражали авторы Евангелий. В то же время некоторые деисты видели в иных религиях контрапункт для христианской веры – и в этом смысле намеревались ее обогатить.
Никто из упомянутых мной деистов не искал исторического Иисуса. Ближе всего к этому подошел Джефферсон. В первую очередь целями для деистов служили порядки и верования Церквей с их Символами веры и служителями. Однако в их достижениях скрывался критический дух, стремившийся выразить себя. И ему предстояло это сделать – но, если можно так сказать, из загробного мира.
Тем деистом, который сделал следующий шаг и открыл эпоху «исторического поиска» Иисуса, был Герман Самуил Реймарус. Его дело было столь рискованным, что его труды опубликовали лишь посмертно. Альберт Швейцер по достоинству оценил значение того, что совершил Реймарус, и справедливо сказал, что его работа стала торжественным открытием исключительно исторического представления об Иисусе. А еще Швейцер счел столь же ценным и то, что Реймарус первым применил эсхатологический подход.
Реймарус был первым из трех деятелей, имена которых ассоциируются с так называемым Старым поиском. Вторым был Давид Фридрих Штраус, третьим – Альберт Швейцер, рассказчик и толкователь «Старого поиска». Я упомяну лишь о них и этим ограничусь: подробный обзор «Старого поиска» рискует стать в лучшем случае поверхностным пересказом с массой повторов, да и рассказать о нем лучше, чем это сделал Швейцер, довольно затруднительно.
Герман Самуил Реймарус (1694–1768)
Вероятно, мало кто мог бы предположить, что Реймарус потрясет мир изучения Евангелий. Он по праву считался выдающимся ученым и часто публиковал работы по философии и логике, а также переводы древних документов. На своем веку он успел, пусть и вкратце, ознакомиться с рассуждениями философов о разуме и, как известно, читал труды Локка и Толанда. И все же ученому миру предстояло поразиться, что Готхольд Лессинг опубликовал несколько фрагментов работ неизвестного автора, и оказалось, что эти так называемые «Вольфенбюттельские фрагменты» (найденные в герцогской библиотеке в Вольфенбюттеле) написаны Реймарусом. Среди них находился и наиболее спорный «фрагмент» под названием «О цели Иисуса и его учеников». «Великолепное произведение… одно из величайших событий в истории критики… шедевр мировой литературы», – так отзывался об этой работе Швейцер, добавляя: «Редко когда являлись ненависть, способная выразить себя столь красноречиво, и презрение, пронизанное таким высокомерием, но в то же время редкий труд создавался со справедливым осознанием абсолютного превосходства над взглядами современников»[78].
Как и Швейцер, я восхищаюсь Реймарусом, хотя и не склонен думать, будто его роль в мировой литературе настолько велика. Труд Реймаруса ясно показывает, сколь напряженной была мысль ученого, сколь серьезно он относился к текстам Евангелий и сколь неустанно бросал вызов всем историческим стандартам, господствующим в то время. Реймарус – не Шекспир, но он доводил свои мысли до конца и делал из них такие выводы, которые, несомненно, принесли бы ему немало бед, если бы он своевременно не упокоился в могиле. Слабость его метода заключалась в некритичном обращении к Евангелию от Иоанна, отчего временами на свет являлась неудобоваримая смесь из текста Иоанна и синоптических Евангелий, причем Реймарус не приводил никаких оснований, призванных объяснить, почему он так делает.
Вряд ли хоть кто-то в то время мог даже вообразить такие портреты Иисуса и его учеников, какие явил нам Реймарус. Иисуса он представил пророком, возвещавшим о конце света. Грядущее «царство» понималось в политическом смысле и должно было наступить в самом скором времени. Иисус ожидал, что в Иерусалиме его провозгласят Мессией этого царства, но план кончился неудачей, и ученики потеряли и своего Мессию, и свою цель – и, как предполагал Реймарус, предпочли заняться не ловлей рыбы, а проповедью царства, так что выкрали тело распятого Иисуса и возродили эсхатологическое движение, чуть было не исчезнувшее без следа. Только теперь они говорили о духовно воскресшем Христе и о царстве, которое наступит в далеком будущем. Тем самым они внесли в христианство одну проблему, которую оно с тех пор так и не смогло решить: проблему отложенной парусии, правления апокалиптического Христа. Даже сегодня выходит много книг о конце света, и они пользуются большим спросом – не говоря уже о том, что приносят доход в миллионы долларов. Реймарус невысоко ставил учеников и считал их обманщиками, сознательно возобновившими проповеди о том мирском царстве последних дней, о котором столь убедительно говорил Иисус и которое ранее возвещал Иоанн Креститель. Однако сценарий Реймаруса не слишком правдоподобен, – ведь люди, как правило, не желают терпеть гонения и умирать за то, что, как они сами знают, есть обман. Реймарус отказывается признавать воскресение на том основании, что рассказы разных евангелистов о пустой гробнице противоречат друг другу в деталях и их нельзя свести в общую картину. Он абсолютно прав, но это наблюдение самоочевидно для любого хоть сколь-либо внимательного читателя. Гораздо труднее выделить в текстах более древнюю традицию, которую отражают не повествования о пустой гробнице, а более ранние пассажи о явлениях Воскресшего, скажем, 1 Кор 15:3–11 у апостола Павла.
Однако нам не следует винить Реймаруса в том, что он не смог подняться на ту высоту, где оказались исследователи последующих поколений. Мы бы не понимали того, что понимаем, если бы не труды наших предшественников, среди которых Реймарус, несомненно, занимает видное место.
Реймарус нажил себе и яростных врагов, и восторженных поклонников. Кроме Швейцера, у него была другая родственная душа – Давид Фридрих Штраус, который ценил работы Реймаруса, хотя и относился к ним критически. Движущей силой всего XVIII столетия, как отмечал Штраус, был разум, а вместе с ним – и его главный спутник, закон согласованности и противоречия. Воскресение Иисуса просто нарушает законы природы, а потому не могло произойти, следовательно, можно думать, что ученики выкрали тело ради осуществления своего нового плана – сохранить старое движение, придав ему новую одухотворенность… и так далее, и тому подобное. Вердикт Штрауса звучит так: «XVIII век презрел воображение и пренебрег им, а потому он отверг и религию, чей отец есть дух, а мать – воображение»[79]. Впрочем, трудно обвинить Реймаруса в недостатке воображения.
Давид Фридрих Штраус (1808–1874)
Как считал Швейцер, Штраус был пророком и разделил судьбу пророка[80]. Его пророческий дар проявился в том, что Штраус предвосхитил те вопросы, которым на протяжении целого поколения было суждено владеть душами исследователей – а ученым в конце концов предстояло увидеть мир таким, каким видел его сам Штраус. Что же касается участи пророка, то Штрауса несчетное множество раз критиковали за то, что он применил понятие мифа к текстам, священным для многих его современников. Швейцер верно отмечал, что Штраус заметил эсхатологический элемент в проповеди об Иисусе. Но Штраус, в отличие от Швейцера, видел и мифический характер этого элемента, и приписать его Иисусу он просто не мог.
Штраус подпал под влияние философии Гегеля, считавшего историю последовательным движением триады «тезис, антитезис, синтез». Например, христианство на историческом этапе рождения из иудаизма – тезис; эллинизм – антитезис; а последующая христианская религия – их синтез. В том же духе, на основе гегельянского метода, Штраус анализировал все, что говорилось об Иисусе у синоптиков (Евангелие от Иоанна, где богословие затмевало все прочее, он принимал во внимание редко). Подход был таким: Штраус представлял сверхъестественную интерпретацию, затем – рационалистическую и, наконец, свою собственную, мифологическую. В реальности привнесение мифического элемента привело не столько к синтезу, сколько к уничтожению двух других компонентов триады, но подобное истребление свидетельств, записанных в Евангелиях, не беспокоило Штрауса: он впитал и еще одну идею Гегеля – согласно которой за всем, что явлено в исторических движениях, стоят возникшие идеи, – и полагал, что в раннем христианском движении в высшей степени проявилась идея о союзе Бога с человеком, олицетворением которой стал Иисус. И поэтому Штрауса не особенно интересовали внешние атрибуты истории – по завершении всех кровавых драм значение имела лишь идея союза Бога с человеком.
То, что Штраус привнес в работу с Евангелиями категорию мифа, стало характерным признаком его подхода – и именно это, что неслучайно, вызвало самые жаркие споры. Возможно, они отчасти связаны с тем, что у многих само слово «миф» прочно ассоциировалось с легендами о древних богах Греции и Рима. Однако для самого Штрауса миф имел «хорошее» значение. Он означал «лишь облачение религиозных идей в историческую форму, придание им облика через способность легенды к изобретательскому творчеству, действующую за пределами осознания, и их воплощение в исторической личности»[81].
Первичным источником таких легенд, на что непрестанно указывал Штраус, был Ветхий Завет. В конечном счете, говорил он, в ветхозаветных текстах не остается почти ничего, что можно назвать историческим. Помимо этой проблематичной характеристики, в книге Штрауса есть и другой непростой момент: то, что он считал «историческим», приходится добывать, точно руду из неимоверно твердой горной породы. Даже Швейцер опускал руки, думая о том, сколь тщетны попытки отыскать тот материал, какой полагал историческим Штраус, – а когда Швейцеру удавалось найти хоть что-то, он думал, что Штраус зашел слишком далеко[82]. Создается такое впечатление, что Швейцер критиковал Штрауса в тех моментах, которым предстояло стать ключевыми в его собственной реконструкции. Скажем, Швейцер утверждал, что Штраус слишком многое себе позволил, налагая ветхозаветные мифы на Новый Завет. Взять, например, умножение хлебов. Штраус отрицал историческую ценность этой истории, ссылаясь на такие ветхозаветные параллели, как насыщение народа манной в пустыне и чудесное насыщение людей при Елисее. Швейцер же утверждал, что новозаветный рассказ содержит важные исторические элементы, и позже использовал их в своей интерпретации событий. Швейцер винил Штрауса в чрезмерном увлечении «разработкой горных месторождений»[83] на материале Евангелий – и говорил, что именно она, скорее всего, и вызвала очень неблагожелательное отношение широкой публики. Но все же, с другой стороны, Швейцер воздавал Штраусу хвалу за то, что тот ясно осознал как эсхатологический характер движения Иисуса, так и то, что сам Иисус видел себя в роли грядущего Сына Человеческого, который будет прославлен в эсхатологическом Царстве[84].
И, наконец, у анализа Штрауса есть еще один недостаток: он уделял слишком мало внимания разрешению синоптической проблемы. Он считал, что Евангелие от Марка – это просто краткий пересказ Евангелия от Матфея, и поэтому просто не мог ни увидеть в первом какой-либо ценности, ни заметить связи в отдельных историях, рассказанных у Марка. И именно этому недостатку, как полагал Швейцер, предстояло обречь на провал любую попытку прийти к подлинно историческому пониманию Иисуса и его движения.
Альберт Швейцер (1875–1965)
Теперь же настала пора поговорить о самом Швейцере, третьей вершине нашего треугольника. Его гениальность ни у кого не вызывает сомнений; он был обладателем ученых степеней в богословии, философии и медицине, прекрасно знал творчество Баха, а кроме того, умел играть на органе, глубоко изучал историю этого инструмента и часто давал концерты, деньги с которых шли на его миссию, проводимую среди африканцев. В 1954 году Швейцер получил Нобелевскую премию мира. Он был и остается важным деятелем во всей истории «поиска Иисуса», и влияние, оказанное им на направление исследований в ХХ веке, несравнимо ни с каким другим. Швейцер был властителем дум более столетия, и теперь, быть может, пришло время вновь оценить его «правление», – причем нам предстоит не просто вежливо склонить голову перед его величием, но и воздать должное уважение той преданности, с которой он относился к исторической правде, куда бы та ни вела. Образ Иисуса, воссозданный Швейцером, сложен и неоднороден; и в моей попытке поговорить о нем мне самому видится лишь скромное участие в беседе, начавшейся задолго до меня.
Вскрытие противоречий: Альберт Швейцер и «исторический Иисус»
Прежде чем изложить свои идеи, Швейцер потратил немало сил на то, чтобы показать несостоятельность книги Вильяма Вреде «Мессианская тайна в Евангелиях»[85]. Вреде утверждал, что тема тайны впервые появилась в Евангелии от Марка и скрыла факт того, что служение Иисуса на самом деле не было мессианским, а стало таковым прежде всего благодаря воскресению. Швейцер проанализировал труд Вреде и нашел там глубокие недостатки. Нам не стоит вдаваться в детали, достаточно лишь отметить, что сам Швейцер поддержал диаметрально противоположную точку зрения по сравнению с той, какую высказывал Вреде. Там, где Вреде усматривал действие созидающей общины или анонима, Швейцер видел Иисуса-созидателя. Это было одним из самых главных пунктов, в которых Швейцер расходился с «теологией модернизма».
Кроме того, нам необходимо уже сейчас, в самом начале, вспомнить о некоторых других аспектах «исторического Иисуса», воссозданного Швейцером. Важнейший из них прямо связан с теми источниками, которыми пользовался Швейцер, создавая свой яркий образ. Здесь нам придется разделить такие источники на две группы. Во-первых, Швейцер обратился к общим эсхатологическим и мессианским ожиданиям иудеев эпохи позднего иудаизма, отраженным в апокрифах, псевдэпиграфах и других пророческих текстах Ветхого Завета. Этот обширный поток составил тот исторический контекст, в рамках которого следовало пытаться понять Иисуса. Второй источник – тексты Нового Завета, в которых однозначно говорится о сути деяний Иисуса. Швейцер в основном обращался к Евангелию от Марка и ряду дополнений из Евангелия от Матфея и причислял эти два текста к самым древним документам, связанным с исторической интерпретацией служения Иисуса. Их надлежало использовать как единое целое и толковать буквально. Присоединять к избранным источникам Евангелие от Луки он отказался сказав, что этот текст ничего не добавит к материалу, уже доступному благодаря двум самым ранним Евангелиям[86], – и этот отказ говорит нам о двух вещах. Во-первых, Швейцер не пытался ни создать «жизнеописание» Иисуса, ни представить все его учение, поскольку в таком случае – приведем лишь один пример – ничто не заменит тех замечательных притч, которые есть только у Луки, и их устранение было бы непростительным. Во-вторых, отказ от Луки можно объяснить тем, что этот евангелист определенно склонен редактировать все моменты, где говорится о приближении Царства: Лука меняет временную перспективу и переносит наступление Царства в неопределенное будущее. Эта склонность не вписывалась в расчеты Швейцера, и, полагаю, он усматривал в ней позднюю редактуру, призванную аннулировать тот неудобный факт, что обещанное Царство не наступает. В ином случае отказ от текста Луки выглядит чем-то вроде каприза – и возникает подозрение, что гениальный исторический портрет Иисуса, созданный Швейцером, просто не мог быть другим.
Как и самые ярые критики евангельских историй о детстве и юности Иисуса, Швейцер утверждал, что в них мы не найдем никаких исторических сведений. Вот прямая цитата: «Иисус впервые выходит на историческую сцену в тот момент, когда в Галилее он провозглашает, что приблизилось Царствие Божье»[87]. Затем Швейцер переходит к истории крещения Иисуса и ее вариациям. У двух первых евангелистов, говорит он, Иисус именно в этот момент понимает, что он Мессия. При этом Марк, у которого Иисус только видит голубя и слышит голос (тема тайны!), вероятно, передает историческую правду.
Но если все это видел и слышал только Иисус, как же рассказ об этом событии попал в повествование Марка? Об этом мог поведать лишь сам Иисус, а если он об этом кому-то сказал, значит, мессианская тайна уже перестала быть тайной!
Швейцер, тем не менее, решил, что на вопрос о том, понимал ли Иисус в момент крещения, что он есть ожидаемый всеми Мессия, мы не можем дать ответа. Есть и другие намеки на то, что Иисус уже считал себя Мессией, – например, Иисус, как и Иоанн Креститель, говорил о близком наступлении Царства, в котором социальный мир перевернется, и последние станут первыми, а первые последними; он говорил даже о том, что Мессия, или Сын Человеческий, выйдет из среды обычных людей. Спор в Евангелии от Марка (Мк 12:35–37), посвященный тому, как соединить представления о Мессии и о Сыне Человеческом, имеет смысл только в том случае, если Мессия рожден в последнем поколении рода Давидова и становится Сыном Человеческим лишь в момент своего преображения при наступлении Царства. Швейцер указывает на другие случаи, когда Иисуса называли сыном Давидовым (женщина-хананеянка [Мф 15:22]; слепой нищий [Мк 10:47–48]; народ, когда Иисус исцеляет бесноватого [Мф 12:22–23]; толпа при входе в Иерусалим, приветствующая Иисуса криками «осанна», хотя в тот момент он известен лишь как пророк [Мф 21:9]). Усиливая аргументацию, Швейцер добавлял, что Иисус уже принадлежал к последнему поколению потомков Давида, о чем говорят его родословные и, что важнее всего, апостол Павел (Рим 1:3). Несколько позже, в период правления Домициана (81–96), как свидетельствует Егесипп, были найдены двое родственников Иисуса, которые оказались потомками Давида через Иуду, брата Иисуса.
Аргументация Швейцера логична. Проблема в другом: Швейцер с самого начала предполагает, что Иисус считал себя Мессией, даже если это представление у него еще не получило полного развития и выражения, а затем находит тексты, которые это подкрепляют. Это ров столь широкий, что его так просто не перешагнуть. И если принять это априори – тогда все, игра окончена. А еще Швейцер как-то незаметно переходит к вопросу о Сыне Человеческом, слитом с ролью Мессии[88]. Но если учесть все, что известно о ролях Мессии и Сына Человеческого, может ли хоть кто-нибудь думать, будто сейчас он играет роль первого, – и в то же время знать, что вскоре примет и роль второго? И если этот некто думал, что вскоре преобразится и станет сверхъестественным Сыном Человеческим, почему его должна заботить куда более прозаичная – в сравнении – роль Мессии? В этой роли – насколько мы можем представить образ Мессии по дошедшей до нас литературе – Иисусу совершенно нечего делать. В версии Швейцера мессианская роль Иисуса состоит лишь в том, что ему приходится возвещать близкое наступление Царства и попутно учить людей. Можно ли думать, что Иисус считал себя Мессией, о котором другие узнают в тот момент, который выберет он сам? Вероятно, титул Сына Человеческого он получил после того, как свершилось воскресение. Швейцер думает, что такой ход мыслей возможен, но в то же время считает, что Иисус хранил при себе это знание – мессианскую тайну – по мотивам, почти недоступным нашему пониманию. В представлении Швейцера Иисус мог скрывать свое мессианство, поскольку, возвестив о нем публично, рисковал бы проявить себя в глазах окружающих либо политически замотивированным, либо душевнобольным.
Однако загадка, с которой сталкивались и продолжают сталкиваться все исследователи «исторического Иисуса», состоит в том, что самым ранним титулом, присвоенным ему, был, вероятно, именно титул Мессии. Мы видим это, например, у апостола Павла, который называет Иисуса «Иисусом Христом», отчего титул «Христос» становится почти частью имени Иисуса. Это указывает на то, что титул Мессии начали применять очень рано, возможно, еще во времена служения Иисуса, но из этого не следует, будто сам Иисус притязал на этот титул. Так могли называть его восторженные ученики, или же титул мог появиться после воскресения, – так одно событие веры способно породить другое.
Как бы там ни было, эти разнообразные ключевые пассажи отражают мысль Швейцера. Вначале он говорит, что Иисус «мог в какой-то мере» считать себя Мессией: он думал, что ему предстоит войти в Царство преображенным ангелом, и полагал, что войдет туда как Мессия и Сын Человеческий[89]. И этот ряд предпосылок – «он мог», «в какой-то мере», «он думал»; титул Сына Человеческого, добавленный к титулу Мессии, – сначала предстают как возможности, а потом как-то неуловимо превращаются в несомненный факт.
Служение Иисуса, как напоминает нам Швейцер, вероятно, не продлилось и года, и лишь скромную часть этого времени Иисус уделил тому, чтобы учить народ. Он закончил учить, когда отослал с проповедью своих апостолов, после чего удалился от толпы и вместе с учениками отправился на север. Мы снова видим его в окружении народа лишь по прибытии в Иерусалим. С какой целью он отправился на север – без цели, без плана действий, как кажется на первый взгляд? Либеральные авторы широко обсуждали этот вопрос; по мнению Швейцера, Иисус пытался избегать толп, чтобы не раскрылась тайна его мессианства. Он оказывается на другом берегу озера, в Трансиордании, совершает там акт экзорцизма, но уходит, когда к нему стекаются горожане. Куда бы он ни шел, вокруг него собираются люди; он уклоняется от встреч, отправляется в Назарет, отсылает своих учеников на миссию, а по их возвращении пытается скрыться от толпы, которая по-прежнему следует за ним. У озера он насыщает пять тысяч человек, пересекает Иордан, идет в Вифсаиду, затем направляется в Генисарет, но и там ему не дает покоя толпа; и он уходит в область Тира и Сидона, на чем и завершаются его деяния в Галилее.
Как полагал Швейцер, впервые Иисус попытался уйти от толпы в Капернауме, где изгоняемые им бесы признали в нем «святого Божия», а он повелел им молчать. Это стало обычным явлением при экзорцизме: злые духи распознают Иисуса, а он велит им не разглашать его тайну. Почему он велит им молчать? Отвечая на этот вопрос, Швейцер ссылается на Евангелие от Марка (Мк 4:10–12): тут Иисус отвечает на вопрос о том, для чего он учит в притчах, и за его ответом скрыта идея о предопределении. Только те, кому дано войти в Царство, понимают притчи. К другим же обращены лишь слова о скором наступлении Царства и сопутствующий этому призыв к покаянию. Таким образом, люди, которые понимают притчи, тем самым показывают, что находятся в числе предопределенных избранников, и требования, изложенные позже в Нагорной проповеди, предъявляются именно к ним. Это этика переходного периода, поведение, ожидаемое от тех, кому предназначено войти в Царство. Близость наступления Царства сужает сферу применения этих этических стандартов и придает им временный характер. В Царстве нравственных требований уже не будет, все станут подобием ангелов, а структура семьи полностью утратит свое значение. Но если бы ученикам позволили узнать, какая судьба их ждет, осталась бы у них хоть какая-то реальная причина стремиться занять свои места в этом Царстве?
Образ Иисуса, избегающего толпы в попытке сохранить в тайне свое мессианство, делает его странным Мессией, который отказывается совершать дела Мессии и подчиняет все свои поступки и речи предопределенному плану. Швейцер полагал, что Иисус мог скрывать свое мессианство, чтобы те, кому не было предначертано оказаться среди избранных и войти в их круг через веру в Иисуса, не обрели спасения души[90]. Но с чего бы Иисус вел себя так, если пришел даровать спасение тем, кто был его лишен?
«Этическая идея спасения и ограничения, связанные с предопределением для принятия в круг избранных, непрестанно конфликтуют в уме Иисуса»[91], – утверждал Швейцер – точно как либералы, «прекрасно знавшие», что происходило в уме Иисуса, или словно какой-нибудь кальвинист, рожденный много веков спустя после эпохи, в которой жил Иисус. К тем, кому предназначено войти в Царство, обращены и заповеди блаженства; ученики, отправленные на миссию, должны проповедовать всем о том, что Царство грядет, и очень скоро. По мнению Швейцера, Иисус ожидал, что это случится в дни жатвы – в прямом смысле слова – и именно поэтому разослал учеников проповедовать Царство, которое вот-вот станет реальностью. Тут Швейцер отступает от Марка и обращается к Евангелию от Матфея (Мф 10:23), где находит ключевой пассаж для понимания хода событий, связанных с деятельностью Иисуса. Можно думать, говорит он, что ученики в спешке обежали города и селения, о которых текст просто не упоминает, и вернулись к Иисусу. Убедить людей в том, что Царство приблизилось и что им надлежит покаяться и быть готовыми к его приходу, не удалось, миссия завершилась неудачей, и это вызвало кризис у Иисуса, ожидавшего, что парусия Сына Человеческого произойдет прежде, чем вернутся ученики. И когда они вернулись, Иисус, по мнению Швейцера, был потрясен. Парусия Сына Человеческого не состоялась, и это, добавляет Швейцер, стало кризисом не только для Иисуса, но и для последующих поколений христиан, так что в итоге им пришлось отказаться от эсхатологии. И теперь требовалась новая интерпретация событий – сначала Иисусу, а потом и Церкви.
В данном случае одному-единственному стиху приходится нести на себе слишком тяжелую ношу. Без него вся реконструкция, проведенная Швейцером, заходит в тупик. Без этого стиха Иисус, представший в версии Швейцера, мог бы уйти в трагической тишине и провести свои дни в тихом отчаянии; либо же восстать против своего Бога и прийти в ярость от своих ошибок; либо как-то еще – фантазия не ограничена – переживать то, что он совершенно неверно понял замысел Бога. Как мог Иисус столь ужасно ошибиться?
В литературе нет такого препятствия, которое нельзя было бы обойти с помощью богатства воображения. Швейцер обращает внимание на контекст отрывка, в котором учеников отправляют на проповедь, и видит там пространный перечень страданий и испытаний, которые должны пасть на учеников – все в полном соответствии с ожиданиями конца времен. А значит, Иисус разделял (по крайней мере так гласит данный текст) общие представления о великом испытании, πειρασµός, которому предстояло предшествовать последним дням и, в данном случае, явлению Сына Человеческого в сверхъестественном Царстве. Кроме того, Иисус рассказывает ученикам о событиях, предваряющих явление сверхъестественного Сына Человеческого, причем и самому Сыну Человеческому тоже предстоит принять в них участие.
Но ничего из этого не случилось – разумеется, если мы, подобно Швейцеру, воспримем этот текст как в прямом смысле подлинные слова Иисуса, которыми он наставляет учеников, отправляя их на проповедь. Мы не хотим допускать легкомыслия, но просто нельзя не задуматься о том, сколь трудно было Иисусу набрать себе учеников, если приходилось говорить, что их ждет такая горестная участь. Правда, возможно, нам, опять же, следует предположить, что их тревоги успокаивались обещанием награды: важных постов в Царстве. Это напоминает один не слишком приятный пример из нашей жизни: террористов-смертников, которые идут на гибель, думая о небесных наслаждениях и о том, как ими будут гордиться родные.
После возвращения учеников Иисус снова учил народ «тайнам» Царства. Он говорил о том, что Иоанн Креститель был воплощением вернувшегося Илии, а отвечая ученикам Иоанна на вопрос их учителя, заключенного в темницу, сказал, что близки последние времена. Здесь снова появились неизвестные люди – в самый нужный момент, как в романе, где все затруднения внезапно разрешаются неожиданной и счастливой развязкой. В конце дня Иисус насытил множество народа – огромную толпу, пять тысяч человек, как сообщает нам Марк. Швейцер видит в этой истории предвкушение мессианского пира, таинство спасения, где Иисус благодарит за приход Царства, как в молитве, которой он научил учеников: там просят о насущном хлебе и об избавлении от πειρασµός, испытаний последних дней.
Если воспринимать историю в прямом смысле, это рассказ о чуде. Но Швейцер – рационалист, подобное чудо его не устраивает, и потому он заявляет, что тут все исторично, «за исключением последнего замечания о том, что все они насытились»[92]. Но почему не признать историчным и этот момент? Урезанная версия Швейцера (куда исчезла рыба?) упростила рассказ: Иисус с учениками раздали свои убогие припасы, которых было мало, слишком мало для пятитысячной толпы, и никто даже не утверждал, будто всем хватило. Так что, если забыть о насыщении собравшихся, можно предположить (хотя это шаткое, очень шаткое соображение), что это событие было не чудом, но таинством. Впрочем, с другой стороны, так оно обретало иной смысл, не связанный с трапезой: все вовлекались в мессианское событие.
Швейцер допускает, что предание превратило эту историю в чудо; к слову, обычно он отвергает любое влияние «предания» и нередко обличает современников-толкователей из «теологии модернизма» за то, что они противятся прямому пониманию текста. Видимо, здесь особый случай, когда можно и забыть о принципах.
События развиваются стремительно. В момент преображения трое ближайших учеников участвуют вместе с Иисусом в экстатическом переживании, которое для апостолов окрашено яркими эсхатологическими ожиданиями. «Так создалась психологическая предпосылка для того общего визионерского опыта, который описан в истории о преображении»[93], – писал Швейцер, ссылаясь, нетипично для себя, на психологическую теорию. Так и апостол Петр, пребывая в Кесарии Филипповой, в присутствии всех учеников заявил, что признает Иисуса Мессией, и это вызвало не радость, но указание на то, что это Мессия особого рода, которому предстоит таинственным образом пережить страдания и даже смерть.
После этого Иисус отправляется в Иерусалим, говоря по дороге о своих грядущих страданиях и смерти. Однако теперь он говорит только лишь о своих страданиях и о своей смерти, как будто отныне период испытаний – πειρασµός – предназначен лишь ему одному. Последние испытания еще не начались, даже вопреки его собственным ожиданиям. Чего-то тут не хватает, он должен что-то совершить – «ради других… чтобы Царство могло наступить»[94]. Его решение было следствием того, что ожидаемая прежде парусия так и не совершилась.
Но не странно ли то, что Иисус, жертвуя жизнью, ожидает, что это позволит прийти Царству? Разве это – не признание того, что Иисус неверно понимал божественную волю? И хуже того, не показывает ли Иисус этими словами, будто он может принудить Бога к тому, чего сам Бог явно не намеревался совершать?
Иисус решительно шел навстречу насильственной смерти. Его вход в Иерусалим имел для самого Иисуса мессианский смысл, но народ воспринял все иначе. Швейцер по неясным причинам резко переходит к суду, не сказав ни слова – по крайней мере тут – о Тайной Вечере, хотя и говорил о ней раньше. Странно, ведь в рассказе о ней он по праву нашел бы еще более выраженные ожидания грядущего Царства – в обетовании Иисуса о том, что ученики увидят его лишь по наступлении Царства Божьего.
По мнению Швейцера, предательству Иуды соответствует то, что сделал Петр. «Иисус умер, потому что двое из его учеников нарушили повеление молчать: Петр – в тот момент, когда рассказал о мессианстве Иисуса двенадцати в Кесарии Филипповой, Иуда Искариот – когда донес об этом первосвященнику»[95]. Иисус признал себя Мессией, и священники решили осудить его на казнь как «обманувшегося энтузиаста и богохульника»[96]. Швейцер не смог разъяснить, как он понимал оба этих обвинения. Что значило «энтузиаст»?
Тут история Швейцера обрывается: Иисус кричит громким голосом и умирает на кресте. «Он отказался от питья с успокоительным средством (Мк 15:23), чтобы сохранить всю полноту сознания до самого конца»[97].
Финал странно сдержан: нет ни рассказа о тонкостях суда, ни вопросов о том, на каких основаниях вынесен приговор Иисусу. Пилат у Швейцера – просто обманщик, который тайно потворствует священникам, соблюдая их интересы, и в то же время использует «множество народа», чтобы умиротворить широкую публику. Но мог ли иной претендент на роль мессии оказаться на кресте, ничем не вызвав гнева Рима? Несомненно, любой, в ком видели предводителя народного движения, мог показаться угрозой для Pax Romana, и конечно же, любой, кто учинял беспорядки в Храме, пробудил бы гнев высокопоставленных священников. Но как мог человек, притязающий на то, что он – Мессия, который скоро явится как сверхъестественный Сын Человеческий, заслужить одно лишь презрение? И странное замечание в финале (о том, что Иисус желал оставаться в полном сознании до смерти) – что это за таинственный вывод? Откуда Швейцер об этом узнал?
И он молчит о том, что происходило у креста; не упоминает ни о гробнице, ни о разных проблемах, которые ставят перед нами различные истории о ней; ничего не говорит ни о воскресшем Иисусе, ни хотя бы о столь широко распространенной вере в то, что он являлся ученикам. Похоже, что у Швейцера история Иисуса закончилась на кресте. Швейцер не нуждался ни в чем другом, и, видимо, это вполне его устраивало: он избегал всего, что хоть отдаленно напоминало традиционную христологию. Его собственные представления содержатся в заключении к его книге, и эти знаменитые строки нам еще предстоит рассмотреть.
Швейцер и история «поиска Иисуса»
Принято думать, что в истории «поиска Иисуса» можно выделить период Старого поиска, который начался с Реймаруса, длился весь XIX век и прекратился, рухнув под ударами Швейцера. Наступил период молчания, когда никто ничего не искал, после него настала эпоха Нового поиска, а затем – и Третьего поиска, или «Исследования Иисуса». О том, какое положение в этом историческом развитии занимает Швейцер, ясно сообщил Маркус Борг, высказавший на этот счет два соображения[98]. Во-первых, говорит Борг, «Швейцер стоял за радикальное отделение исторического исследования от богословия: то, каким был Иисус как исторический деятель, не имеет отношения к истине христианства, которая, по мнению Швейцера, коренится в переживании Христа как живой духовной реальности в настоящее время». Во-вторых, Швейцер провозгласил, что исторические исследования Иисуса не имеют никакой богословской ценности, и это имело важное последствие: «…на протяжении большей части этого столетия исследователи проявляли сравнительно мало интереса к историческому Иисусу, так что труд Швейцера стал не только вехой, завершившей “старый поиск исторического Иисуса”, но и на время привел к прекращению вообще какого-либо поиска»[99].
Впрочем, общепринятые взгляды требуется пересмотреть. Быть может, Швейцеру было трудно вписать его исторического Иисуса в богословские схемы, но он никогда не заявлял, будто исторический Иисус неуместен в его философии. Швейцера привлекала невероятная сила воли Иисуса – человека, который осмелился бросить вызов истории и придать ей облик по своему желанию. Значение такого Иисуса в наши дни надлежит видеть в том, что он влияет на нашу собственную волю – и обе воли, соединяясь, как будто перекидывают мост через пропасть, отделяющую прошлое от настоящего. От исторического Иисуса остался не Иисус воскресший (возможно, именно его Борг назвал «живой духовной реальностью»?). Швейцер говорит только о «духе Иисуса», проявившем себя в этике любви и доступном для нас сегодня и всегда. Именно такой Иисус отражен в знаменитых и часто цитируемых словах, завершающих книгу Швейцера: «Он приходит к нам как некто неведомый…»
Но приведем и другие слова, и пусть сам Швейцер скажет, какой, по его мнению, надлежало быть нашей связи с Иисусом. Он говорит об этом в тексте, добавленном лишь в издании 1913 года:
В конечном счете наше отношение к Иисусу носит мистический характер. Мы не в силах перенести хоть кого-либо из деятелей прошлого во плоти в настоящее, и в этом нам не помогут ни исторические наблюдения, ни дискурсивное размышление о том, сколь велико значение их влияния и авторитета. Мы способны вступить в отношения с таким деятелем только тогда, когда соединяемся с ним в знании о том, что разделяем одни и те же устремления, когда чувствуем, что наша воля проясняется, обогащается и оживляется его волей, когда заново открываем через него самих себя. В этом смысле абсолютно любые глубокие отношения между людьми носят мистический характер. И наша религия, в той мере, в какой она являет себя именно христианской – это не столько культ Иисуса, сколько мистицизм Иисуса[100].
Что же касается временной приостановки «поиска», она в намерения Швейцера не входила[101]; впрочем, он действительно стремился нанести серьезную рану сторонникам Ричля, считая, что тот заковал христианскую веру в оковы, сочетав ее с историей, вечно изменчивой, неопределенной и относительной. Швейцер полагал, что христианству, ради его будущего, необходима метафизическая основа, и, кажется, нашел ее в своем знаменитом «благоговении перед жизнью».
Точнее было бы сказать, что Старый поиск умирал постепенно – сначала в Германии, потом в других местах – из-за равнодушного отношения к нему в мире, где он ревностно стремился стать актуальным. А сам мир тем временем приходил в отчаяние от собственной правоты и подозревал, что погряз в беззакониях. Но стоит прояснить одно: как бы мы ни трактовали конец Старого поиска, истина в том, что всегда существовал один-единственный непрестанный поиск исторического Иисуса, со своими взлетами и падениями, озарениями и тупиками. В Германии так называемый «период молчания» и был таким падением и тупиком, – но он происходил не во всем мире, а впрочем, даже и не во всей Германии. И, вероятно, этот спад ускорили и Бультман, и критика форм, и диалектическое богословие в сочетании с иными социокультурными факторами, – а не один только Швейцер с его трудом.
И потому неверно говорить, будто после Швейцера наступила эпоха молчания, когда исторического Иисуса никто не искал. Это убедительно опровергает моя книга «Исторический Иисус в ХХ веке. 1900–1950». Я не стану ее пересказывать даже кратко, но просто приведу некоторые имена: Рудольф Бультман, Мартин Дибелиус, Рудольф Отто, Шейлер Мэтьюз, Шерли Джексон Кейс, Генри Кэдбери, Фредерик Клифтон Грант, издательский дом John Knox, Томас Уолтер Мэнсон, Уильям Мэнсон, Чарльз Гарольд Додд, Сесиль Джон Каду, Альфред Луази, Винсент Тейлор, Морис Гогель, Шарль Гиньбер и многие-многие другие. Можно ли, если мы помним об этих и прочих людях, говорить об эпохе молчания?
Швейцер: заключение
Все великие люди прошлого оставляют нам в наследие вопросы. Вот некоторые из тех, какие я по-прежнему хочу задать о Швейцере:
• Получился бы у Швейцера иной образ Иисуса, если бы он все же принял во внимание Евангелие от Луки?
• Верно ли Interimsethik Швейцера отражает учение Иисуса, если оставить в стороне наступление грядущего Царства? Эту часть созданной Швейцером картины отвергли почти все.
• Не придется ли вносить в текст понятие предопределения?
• Почему Швейцер столь кратко рассмотрел суд над Иисусом и его казнь? Можно ли объяснить это тем, что Швейцер счел важным лишь решение Иисуса пойти на смерть, а остальным достались второстепенные роли?
• Требовалось ли для правдоподобия образа доказывать, что Иисус был в здравом уме, как делал это Швейцер в своей медицинской диссертации?[102]
• Удалось ли Швейцеру создать целостный образ Иисуса? Есть ли там достойное доверия ядро?
• Если мы учтем ограничения в работе с Евангелиями – обращение лишь к тексту Марка и фрагментам Матфея, а также настойчивое стремление понимать их буквально и как единое целое, – не стоит ли думать, что у Швейцера неизбежно должен был получиться именно такой образ Иисуса?
• Не привело ли невнимание Швейцера к евангельским притчам к тому, что воссозданный им образ Иисуса утратил всеохватность? И не поэтому ли картина, изображенная Швейцером, уже изначально не могла стать верной дорогой к историческому Иисусу?
Вопросы о методике
У деистов не было четко определенного метода, о существовании которого можно было бы говорить. Они следовали тому, что предоставлял разум, а именно – правилу согласованности и отсутствия противоречий, к которому и сегодня обращается любой исследователь. Так же действовал и Реймарус, однако он впервые внес нечто новое, попытавшись рассмотреть Иисуса строго в историческом контексте. Те выводы об учениках Иисуса и их поступках, к которым он пришел в процессе, не лишают законной силы сам подход. Штраус расширил точку зрения Реймаруса и ввел концепцию мифа. В этом смысле Бультмана можно считать наследником Штрауса, хотя для Бультмана миф был объективацией языка, призванного возвестить об инаковости Бога, и требовал нового перевода в более современных терминах, а именно в почти невыразимой обычными словами реальности Dasein («бытие присутствия»), в том смысле этого термина, в каком его понимал Хайдеггер. Такой обратный перевод оказался более эффективным для слов Павла, а не Иисуса; впрочем, Бультман здесь обязан в большей степени не Хайдеггеру, а Кьеркегору.
Ко временам Швейцера исторический метод уже развился, хотя и не везде на Западе это понимали. Швейцер не предложил никаких улучшений этого метода, но показал, что захватывающий, яркий образ можно создать при помощи одной-единственной предпосылки – эсхатологии, и отвел ей роль колеса, что везет на себе всю телегу.
К началу ХХ века текстологией уже занимались серьезно. Открытия Константина фон Тишендорфа и других исследователей позволили получить тексты, намного более близкие к оригиналам, что прежде было намного труднее. Кроме того, текстологи разработали ряд принципов и аппарат и неуклонно их развивали.
Литературоведы и исследователи источников обсуждали синоптическую проблему. Большая часть исследователей согласилась с тем, что первым было создано Евангелие от Марка, хотя некоторые по-прежнему придерживались гипотезы Иоганна Якоба Грисбаха, гласившей, что первым возникло Евангелие от Матфея, а другие его редактировали.
Критика форм принесла с собой осознание последствий того, что предания передавались устно и только потом были зафиксированы в текстах. Появилась надежда на то, что получится восстановить ту форму, в которой передавался устный текст, и дойти до самых истоков традиции. Кроме того, критики начали понимать, что ранее текст принадлежал общине с традициями, которые можно было поместить либо в Sitz im Leben Jesu («контекст Иисуса»), либо в Sitz im Leben Kirche («контекст Церкви»). Критику форм можно было бы назвать Traditionsgeschichte («история традиций») – ею она, по сути, и была. Призванная прояснить тексты, критика форм уделяла мало внимания социологии, косвенно выраженной в ее собственной теории. Однако она стала непосредственной предшественницей Redaktionsgeschichte, «истории редакций», принимавшей во внимание те способы, при помощи которых сами евангелисты обретали свои особые воззрения, которые предстояло продвигать. Такие исследования продолжаются и сегодня.
Начиная с 1920-х годов так называемая Чикагская школа сосредоточила внимание на том, как в Евангелиях представлены особенности устроения общин, связанные с социальной жизнью. Ширли Джексон Кейс, главный идейный вдохновитель школы, призывал интерпретировать тексты, связанные с Иисусом, в свете того социально-исторического окружения, в котором они появились. Чем яснее мы сможем воссоздать особенности такой среды, тем выше вероятность, что традиция, ассоциируемая с Иисусом, окажется подлинной. Сегодня такой социально-исторический подход широко распространен и часто заимствует наработки из других областей знаний, скажем, таких, как анализ социальных слоев и экономических условий в греко-римском мире, тем самым проясняя более широкий социальный контекст исторического Иисуса. И этот контекст предстал еще яснее в середине ХХ века, когда были открыты свитки Кумрана и рукописи Наг-Хаммади.
В начале ХХ века археология, похоже, не влияла на изучение Нового Завета почти никак. Впрочем, некоторые исследователи, скажем, Адольф Дейсман (а в Америке – Кэмден Коберн) выпускали объемные отчеты о папирусах, надписях и черепках, преимущественно египетских, прояснив то, как жили в древности обычные люди. Обилие находок в Оксиринхе позволяло ученым работать год за годом, да еще и получать доход. И, разумеется, в середине ХХ века, благодаря открытиям в Кумране и Наг-Хаммади, исследователи получили огромное множество материалов и для датировки и поиска параллелей в истории раннего христианства, и для прояснения временного периода, на протяжении которого происходили общественное служение и смерть Иисуса из Назарета. Вопросы о том, содержат ли свитки из Наг-Хаммади – в том числе речения из Евангелия Фомы – материалы, связанные с историческим Иисусом, пока продолжают вызывать споры.
Были среди ученых и сторонники идеи о важности арамейского языка, предпринимавшие попытки обратного перевода с греческого на арамейский. Ведущую роль в этом играли Густав Дальман, Чарльз Катлер Торри, Чарльз Фокс Бёрни, Иоахим Иеремиас, а также, ближе к концу упомянутого периода, Мэтью Блэк. «Арамейский клуб» был невелик, однако его участники ставили перед собой достойную цель: прояснить традицию, связанную с Иисусом, лучше узнав основы того языка, на котором говорили Иисус и его первые последователи. В 1933 году Торри завершил новый перевод Евангелий, основанный на подразумеваемом арамейском. Если говорить о его точке зрения в общих чертах, то он, работая над переводом какого-либо документа, гипотетически предполагал наличие у того исходной исходной арамейской основы и датировал эти тексты как древние. Книга «Арамейский подход к Евангелиям и Деяниям» повлияла на многих исследователей, удостоилась трех изданий и выходила на протяжении довольно долгого времени[103].
Несмотря на столь богатый арсенал, исследователи исторического Иисуса делают о нем столь же разные выводы, как и их предшественники, усугубляя «проблему разнородных Иисусов». Так что перед нами по-прежнему стоит вопрос: можно ли создать «единогласный» образ Иисуса? Мне кажется, нет, и причины тому столь же многообразны и глубоки, как различия в социальных, культурных и исторических условиях, в которых пребывают истолкователи. А с другой стороны, образ Иисуса столь же сложен, как и положение тех, кто пытается его истолковать – а может, и более загадочен.
Может быть, Иисус, как и предполагали многие, действительно непостижим и совершенно уникален. Но стремление постичь его уникальность несет в себе опасность забыть о его еврействе, а в истории эта ошибка вела к чудовищным последствиям. Помня об этом, мы можем толковать образ Иисуса, в какой-то мере понимать, что скрыто в сути его личности, и убеждаться в том, что мы близки к этой сути. Как проверить такую возможность? Может быть, ввести в компьютерную программу все изречения, приписанные Иисусу, исследовать его речевые модели, выбор рассказов, особый лексикон? Иисус говорил о многом, он, можно сказать, «сеял» слова – и, быть может, он это делал как-то особенно и мы еще не увидели, как именно? А возможно, подобный подход можно применить и к его деяниям, и по крайней мере у нас появится эвристический инструмент, позволяющий по-иному исследовать традицию, связанную с Иисусом.
Иисус: проявление иудейской мозаики
Дэниел Мур
Вера Иисуса нас объединяет, но вера в Иисуса разделяет.
Шалом Бен-Хорин. «Брат Иисус»
Этот текст – краткое изложение моей докторской диссертации с одноименным названием[104]. Сказав о проявлении, я стремлюсь выразить идею развития; впрочем, отчасти здесь мы увидим и ретроспективу. А чтобы указать на сложность замысла, на выбор источников и на применение творческих подходов при создании портрета Иисуса, я воспользовался аналогией с мозаикой. Далее я разделил свое исследование на пять частей: «Сближение», «Точки зрения», «Проявление мозаики», «Достижения» и, наконец, «Критика и итоги».
Сближение
Любое честное богословие есть богословие катастрофы, импульс которому дает убожество и благородство нашей человеческой природы.
Пинхас Лапид. «Воскресение Иисуса»
«“Иисус Иудей”, – эта книга стала нашим началом», – так завершает Джеймс Данн свой труд «Иисус, оставшийся в памяти», одну из наиболее современных работ в научной историографии, созданную в стремлении авторитетно запечатлеть характерный портрет непостижимого Иисуса из Назарета[105]. Данн прямо говорит об очевидной исходной точке исследований: еврействе Иисуса. О нем не думали ни христиане, ни иудеи – до Холокоста. И только после трагедии еврейские ученые с разными мотивами и целями – впрочем, исключительно научными и мирными, – начали рассматривать Иисуса с четко выраженного «иудейского ракурса».
В 1973 году, опубликовав свой труд «Иисус Иудей»[106], Геза Вермеш, выдающийся исследователь кумранских находок, сформулировал проблему и содействовал появлению определяющего лейтмотива, который, по мнению некоторых, стал в конце ХХ века движущей силой всего Третьего поиска исторического Иисуса[107]. Позже Вермеш написал еще одну книгу, «Иисус в его иудейской среде», где вспоминает о том, какой отклик вызвал его тезис:
«Иисус Иудей» – так называлась и написанная мною книга – это эмоциональный синоним Иисуса, действующего в истории, в противопоставлении божественному Христу веры христиан. И хотя это просто новое утверждение очевидного факта, многим христианам и даже некоторым иудеям по-прежнему тяжело принять идею о том, что Иисус был иудеем, а не христианином. Видимо, нам снова предстоит отправиться на поиски исторического деятеля, который, как принято считать, стал основателем христианства[108].
Вермеш не был ни первым, ни единственным из тех иудейских исследователей, которые четко заявили о принадлежности Иисуса к еврейскому миру, однако он ясно обозначил то, что его исследование – не взгляд приверженца какой-либо религии, но взгляд историка. Иудеи интересовались этой темой и прежде, но не всегда проявляли благожелательность, а их подходы не всегда отличались объективностью. Часто их воззрения, отражавшие преобладающие тенденции эпохи, в недостаточной степени опирались на историю. Однако по мере того, как возрастало влияние Просвещения с его нацеленностью на научный метод, ситуация изменилась.
Все началось с еврейских интеллектуалов Германии: вдохновленные немецким Просвещением и его нацеленностью на историческую объективность, они начали высказывать обоснованные точки зрения на Иисуса и его биографию, полагаясь на скрупулезное исследование как иудейских, так и христианских источников. Хотя их труды в этой области и компетентность в библеистике и герменевтике не всегда были на должной высоте, от их идей нелегко было просто отмахнуться – впрочем, нельзя сказать, будто их охотно принимали как иудеи, так и христиане. Первые считали таких ученых предателями, вторые называли исследователей богохульниками. Но, несмотря на это, евреи-интеллектуалы умело пользовались как иудейскими, так и христианскими источниками и продолжали строить гипотезы о личности Иисуса и его жизни.
Их мотивы были самыми разными – как и их взгляды и степень влияния. Я не стремлюсь дать полную историю иудейских исследований, посвященных Иисусу, и рассказать о том, что за ними стояло, какие точки зрения были в их основе и как они влияли на последующие поколения. Но я все же хочу рассмотреть вопрос о значении иудейских исследований, проведенных в ХХ веке, – тех, что начались после Холокоста и ставили перед собой широкую цель: оценить Иисуса в свете науки, особенно с иудейской точки зрения. Сперва они интересовали лишь некоторых иудеев, желавших понять личность Иисуса. Потом это стремление развилось в тезис, который, как мы увидим, решительнее всего высказывали Давид Флуссер и Геза Вермеш. Этот тезис, ставший необходимой предпосылкой для любых последующих исследований, гласил, что Иисуса следует изучать в иудейской среде Палестины I века, в которой он родился и жил. Флуссер говорит о таком подходе лаконично: «В настоящем исследовании мы лишь хотели изучить темы, связанные с “историческим Иисусом” в контексте его иудейского окружения. Я считаю, что именно это и означает исследовать Иисуса в иудейском ракурсе»[109]. Неудивительно, что вместе с познанием Иисуса как иудея началось и изучение иудейских корней христианства.
Во второй половине ХХ века пошло сближение, благодаря которому стало легче вести диалог, к которому стремились еврейские исследователи. По мнению Вермеша, ключевым фактором такого сближения был «отпечаток, оставленный ужасами Холокоста в христианском мире»[110]. Именно это оказалось одной из важнейших причин, пробудивших интерес к Иисусу и иудаизму. Второй причиной стало изучение важнейших находок Мертвого моря, оказавшее мощное воздействие на библеистику. В предисловии к книге Пинхаса Лапида «Воскресение Иисуса» Карл Бротен своими словами передает описание этого периода, данное Юргеном Мольтманом:
Сегодня перед диалогом иудеев с христианами открываются небывалые возможности. Есть «иудейская волна» среди христиан, которые ищут корни своей духовной идентичности, как то отметил Юрген Мольтман, а теперь, с еврейской стороны, «волна Иисуса» появилась и в иудаизме… О существовании последней, по мнению Лапида, свидетельствуют «187 написанных на иврите книг, научных статей, стихотворений, драм, монографий, диссертаций и эссе, созданных в течение последних двадцати семи лет с момента создания государства Израиль и посвященных Иисусу»[111].
В 1967 году Раймонд Браун, член Общества Святого Сульпиция, описал этот период с точки зрения христиан. В предисловии к своей книге «Иисус, Бог и человек» Браун говорит о «неприятных побочных явлениях», причиной которых стало стремление Церкви защитить идею божественности Иисуса в дискуссиях с оппонентами, несогласными с утверждением о том, что Иисус есть истинный Бог и истинный человек. Развивая эту тему, он заявляет:
Широко распространено также и нежелание признать Иисуса человеком, и с этим бороться труднее, поскольку это нежелание остается неосознанным или не формулируется как четкая позиция. Многие верующие христиане не отдают должного человеческой стороне Иисуса. Они переносят образ Иисуса, воссиявшего во славе, на его общественное служение, воображая, что он странствовал по Галилее, окруженный сияющим ореолом. Им трудно представить, что он был подобен другим людям; их смущают евангельские сцены, в которых говорится, что Иисус устал или замаран пылью, раздражен или борется с соблазном; что его не выделяют в толпе; что его считают фанатиком и демагогом. О том, насколько устойчиво такое отношение к человеческой природе Иисуса, ярко свидетельствуют громогласные протесты против любого нового перевода Евангелий, где авторы отказались от освященного веками жаргона «библейского английского» и где Иисус говорит как обычный человек[112].
В 1997 году Ларри Хуртадо в статье «Систематика современных работ, посвященных историческому Иисусу» кратко описывает долгий период после Второй мировой войны как контекст для исследований, главной темой которых был Иисус:
Сперва изменился курс богословия, и о важности исторического Иисуса начали говорить ведущие представители школы Бультмана, а затем – и его адепты в Северной Америке, те же Джеймс Робинсон и Роберт Фанк. Кроме того, были сделаны великие археологические открытия, включая обнаружение библиотеки Наг-Хаммади и свитков Кумрана, а Израиль поддерживал проведение многочисленных раскопок в разных местах, отчего возникло новое стремление поместить Иисуса в более подробный и достоверный исторический контекст. На протяжении последних сорока лет можно было также наблюдать, как изменилась демография исследователей-библеистов: раньше этим занимались почти исключительно либеральные протестанты, но с 1945 года в работу стало включаться все больше католических и иудейских специалистов – а еще позднее к ним присоединились и «евангельские христиане», и даже те, кто не считал себя приверженцами какой-либо религии. Наконец, когда пришло в упадок движение библейского богословия, мы увидели, как возрождается интерес к историческому исследованию Нового Завета: это в какой-то мере напоминает аналогичный процесс, происходивший в истории религий ближе к началу ХХ века. И нынешние исследования исторического Иисуса, несомненно, представляют собой отражение упомянутых обширных изменений в данной области[113].
Шалом Бен-Хорин говорит о «великом молчании»[114] в иудейских кругах, которое прервалось лишь в наше время. А Лапид, учитывая «взаимное любопытство»[115], считает, что наша эпоха дает удивительные возможности для лучших отношений между христианами и иудеями: «Давайте учиться вместе!»[116].
С тех пор как Мартин Бубер в сочинении «Два образа веры» назвал Иисуса своим «великим братом», о месте Иисуса в широком контексте еврейской истории начали задумываться и другие иудейские авторы. Здесь мы поговорим о семи мыслителях: это Сэмюэль Сэндмел, Шалом Бен-Хорин, Давид Флуссер, Пинхас Лапид, Геза Вермеш, Джейкоб Нойзнер и Юджин Боровиц. Все они предприняли эту попытку, и в какой-то мере создали своеобразную хронологию данного направления. Впрочем, неверно воспринимать их как одну команду, хотя каждый из них, разумеется, знал о трудах коллег.
Это сближение академических, археологических и культурных факторов во второй половине ХХ века способствовало развитию диалога между иудеями и христианами. После Второй мировой войны, истерзавшей человечество, как те, так и другие начали задавать себе вопрос: как стал возможным Холокост (на иврите – Катастрофа, [Шоа2]), особенно среди верующих и против верующих? Стремление сделать все, чтобы подобное не повторилось, заставило некоторых людей задуматься об Иисусе: прежде казалось, что он мешает примирению, но теперь его начали воспринимать как самый надежный мост через пропасть и как исцеляющий бальзам для ран от ненависти к евреям и ненависти к христианам. Другие иудеи решили заняться академическими исследованиями исторического Иисуса, добавив свои усилия к попыткам более внимательно и объективно изучить Иисуса в исторических трудах. К слову, именно они, по мнению некоторых, «спасли» галилейского иудея Иисуса как от наносной эллинистической христологии, так и от презрительного отношения, которое испытывали к нему иудеи прошлых эпох – и тем обеспечили ему, «великому брату», особое место в истории евреев[117]. Это породило споры, а также пробудило новый интерес к поиску исторического Иисуса, что и привело к нынешнему положению вещей в этой сфере. Мы начнем с Иисуса-иудея.
Точки зрения
Вряд ли я когда-либо полагал, что я, еврей, вижу лучше, чем христиане, – нет, я просто думал, что смотрю на все с иной точки зрения.
Сэмюэль Сэндмел. «Первый христианский век в иудаизме и христианстве»
Сэмюэль Сэндмел, 1911–1979
Сэмюэль Сэндмел, апологет евреев и иудаизма, прекрасно знал и раннехристианскую литературу, и современные ей иудейские труды. Адресатами его книги 1964 года «Мы, евреи, и Иисус» были американские евреи[118]. Уже здесь заметно, что он изучал Новый Завет, и эта сторона его исследований ясно отражена в другой книге, «Иудейское понимание Нового Завета»[119], где он пытался познакомить иудеев и со священными христианскими текстами, многие из которых по своему происхождению или стилю носят еврейский характер, и с таинственной фигурой еврея Иисуса, порожденного миром иудаизма. По мнению Сэндмела, Иисус был просто еврейским назиром, или назореем — человеком, посвященным Богу, – и в то же время, что было неизбежно, он предстал как символ западной культуры: как тот, кого можно ценить, но кому не следует подражать.
Шалом Бен-Хорин, 1913–1999
Шалом Бен-Хорин родился в Мюнхене, где носил имя Фридрих (Фриц) Розенталь. Его книга Bruder Jesus: Der Nazarener in jüdischer Sicht была опубликована в Мюнхене в 1967 году[120]. В 2001 году ее перевели на английский, и она вышла в США под названием «Брат Иисус: иудейский взгляд на Назарянина»[121]. Книга «Брат Иисус» похожа скорее на диалог, а не на ученый трактат, и адресована в первую очередь христианам. По мнению Бен-Хорина, Иисус – это брат иудеев, достойный уважения, хотя, что неудивительно, это трагический герой.
Давид Флуссер, 1917–2000
Давид Флуссер, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, изучавший раннее христианство и иудаизм эпохи Второго Храма, родился в Вене. Среди его трудов особенно знамениты книга «Иисус» – биография Иисуса из Назарета, впервые опубликованная в 1968 году и, с изменениями (при участии Р. Стивена Нотли) в 1997 году;[122] а также сборник статей под общим названием «Иудаизм и зарождение христианства»[123]. Как считал Флуссер, Иисус был верным сыном и законопослушным иудеем – иными словами, моральным примером для современного общества.
Пинхас Лапид, 1922–1997
Ортодоксальный иудей Пинхас Лапид родился в Канаде, но рос в Вене. Прожив тридцать лет в Израиле, в 1969 году он переехал в Западную Германию. Еврейский специалист по Новому Завету и неутомимый вдохновитель диалога между иудеями и христианами, Лапид написал (нередко в соавторстве) ряд книг на немецком. Многие из них были расшифровкой радиопередач, на которых общались сторонники разных религий. Иисуса Лапид считал благочестивым богобоязненным иудеем и Спасителем язычников.
Геза Вермеш, 1924–2013
Геза Вермеш родился в Венгрии. Хотя он и был выдающимся исследователем Кумрана (или, быть может, в силу этого), Вермеш заинтересовался изучением «исторического Иисуса», когда на Рождество 1967 года его пригласили написать статью на близкие темы. В результате в 1973 году вышла его знаменитая книга «Иисус Иудей: Евангелия глазами историка». Два других труда: «Иисус и мир иудаизма» (1983) и «Религия еврея Иисуса» (1993)[124] завершили трилогию. С 1991 года Вермеш был директором Форума исследований Кумрана в Оксфордском центре гебраистики и иудаистики. После этого он написал «Изменчивые лики Иисуса» (2000) и «Подлинное Евангелие Иисуса» (2003)[125]. Иисус в представлении Вермеша был галилейским иудеем, приверженцем древнего хасидизма, харизматическим целителем и учителем, а кроме того, Вермеш уверен, что Иисуса невероятно влекла эсхатология.
Джейкоб Нойзнер, 1932–2016
Джейкоб Нойзнер, знаменитый исследователь иудаизма I века нашей эры, родился в Коннектикуте. В 1993 году Нойзнер, представив, что ведет разговоры с Иисусом из Евангелия от Матфея, опубликовал книгу «Рабби говорит с Иисусом: диалог разных тысячелетий и разных вер». А в 2000 году вышла пересмотренная и расширенная версия книги под простым названием «Рабби беседует с Иисусом»[126]. В течение долгого времени Нойзнер был научным сотрудником кафедры религии и богословия Бард-колледжа и старшим научным сотрудником Института современной теологии. По мнению Нойзнера, Иисус был галилейским мудрецом, только его представления были ограниченными, а Тору он понимал неверно, несмотря на то что был законоучителем.
Юджин Боровиц, 1924–2016
Юджин Боровиц родился в Нью-Йорке. Долгое время он был заслуженным профессором педагогики и иудейской религиозной мысли на кафедре Зигмунда Фалька в Еврейском Юнион-колледже и Еврейском институте религий, где преподавал с 1962 года. Он написал множество статей и книг, включая труд «Современные христологические представления: еврейский ответ» (1980). Боровиц понимает, что исторический Иисус непостижим, и предлагает уникальный, хотя и необычный, подход к его изучению, к которому его подтолкнул один партнер по иудео-христианскому диалогу. Он опасается Иисуса, скрытого в тени, и выступает за Иисуса, «озаренного светом». Правда, Иисус-иудей, которым восхищается Боровиц, бросает вызов Церкви.
Семь разных иудейских точек зрения на Иисуса призваны помочь как иудеям, так и христианам взглянуть на Иисуса по-новому, под иным углом.
Проявление мозаики
В течение завершающих десятилетий ХХ века в исследованиях жизни Иисуса произошли обнадеживающие изменения – исследователи наконец-то увидели, что этот поиск нацелен в первую очередь на Иисуса как иудея, и стали яснее понимать последствия… В конце концов настал тот час, когда на фоне множества исторических неопределенностей мы можем с полной уверенностью заявить, что Иисуса воспитывали как религиозного еврея.
Джеймс Данн. «Иисус, оставшийся в памяти»
На основании важнейших источников Сэндмел, Флуссер и Вермеш создали сходные, но в то же время различные портреты Иисуса. Получился мозаичный триптих, на каждой части которого написан убедительный образ: Иисус назорей – и культурный символ; Иисус наггар – и возлюбленный сын; Иисус цадик – иными словами, галилейский хасид.
Сэндмел поставил скромную цель и был растерян, не сумев преодолеть ограничения текста и приблизиться к постижению Иисуса[127]. С учетом этого нам легче уловить в его первых попытках образ еврейского назорея, человека, посвященного Богу, в чем-то подобного Самсону или Гиллелю, но погибшего смертью мученика[128]. Тем не менее образ Иисуса, с которым знакомят евреев в наши дни – совершенно иной по сравнению с образом Иисуса-назорея у Сэндмела. Для современных евреев Иисус – это скорее символ западной культуры, с которым иудеи встречаются случайно и к которому можно относиться вполне приемлемо[129]. Иудей может ценить живопись Моне или симфонии Моцарта – и в том же духе, как к ценному культурному явлению, он может относиться и к Иисусу или даже испытать на себе его влияние.
Сэндмел не решается критически исследовать важнейшие источники, но Флуссер этого не боится – и с оптимизмом проясняет и толкует образ Иисуса в рамках иудаизма, «в контексте его времени и его народа», и так возникает новый образ Иисуса – иудейского наггара, ремесленника: плотник Иисус.
Хотя сам Флуссер напрямую не пользуется еврейским словом naggar, он – как и Вермеш – понимает, что слово «плотник» часто употребляли в иудаизме в метафорическом смысле, с указанием не на ремесло плотника, но на ученость, свойственную еврейским мудрецам. Независимо от того, справедливо последнее утверждение или нет, Иисус в представлении Флуссера – вовсе не «милый и наивный простой работяга»[130], а скорее – стойкий в вере и послушный Закону ученый раввин, подобный фарисеям. В согласии с Вермешем – хотя и независимо от него – Флуссер отводит Иисусу особое и уникальное место возлюбленного сына в харизматическом палестинском хасидизме. Такой древний «ученый еврей» может многому научить наших современников, и Флуссер рад стать его «глашатаем» для нынешнего века.
Вермеш, самый отважный из триады, пытается различить лик подлинного Иисуса, изучив ряд закономерностей, на которые указывали как синоптические Евангелия, так и важнейшие иудейские источники той же эпохи. В методике он полагается на типологию и историко-филологический анализ, и это проясняет его мысль и делает ярче образ Иисуса, затененный евангелистами. Новаторский научный подход Вермеша-историка содержит в себе и критику, и одобрение. Подобно образам Илии и Елисея в харизматической традиции иудейских пророков-чудотворцев – или образам подобных им современников Иисуса, скажем, Хони xа-Меагеля и Ханины бен Доса, – образ Иисуса из Назарета у Вермеша прочно вплетен в традиции древнего хасидизма[131]. Впрочем, Вермеш уточняет, что Иисус из Назарета, галилейский хасид и еврейский цадик – не просто один герой из ряда многих, но скорее «непревзойденный» среди них[132].
Бен-Хорин, Лапид, Нойзнер и (в меньшей степени) Боровиц творчески, хотя и нестандартно исследовали соответствующую литературу или (как Боровиц) упоминания об исторических личностях, чтобы с помощью интуиции или воображения воссоздать или получить из разных источников свои портреты Иисуса. Хотя все они уверенно и в позитивном (не считая Нойзнера) духе помещают Иисуса в рамки иудаизма, их портреты заметно отличаются.
Бен-Хорин и Лапид, играя роль миротворцев, работали среди иудеев и христиан, израильтян и немцев, и неудивительно, что можно найти важные параллели в акценте их работ. Оба они, воссоздавая образ Иисуса, устраняют из него штрихи, нанесенные христианами, преодолевают многовековое бремя иудейских запретов и диффамаций, и стремятся к восстановлению дружеских связей: modernen Heimholung Jesu in das jüdische Volk («современному пересмотру отношения к Иисусу со стороны иудаизма»). Бен-Хорин, полагаясь в своем толковании на интуицию, воспринимает Иисуса как своего земляка, странствующего учителя, подобного фарисеям; впрочем, Иисус у него – «не талмид хахам, “ученик мудреца”»[133], а женатый раввин. Иногда Бен-Хорин непоследователен: то он отказывает Иисусу в признании, то вдруг таинственным образом утверждает, что Иисус – боговдохновенный провидец в традиции древнего хасидизма. Для Бен-Хорина Иисус – и «мошель мешалим, тот, кто говорит притчами», и мученик, по давнему обычаю иудейских националистов. Он с симпатией относится к Иисусу как к своему собрату-еврею, брату всех людей, трагической фигуре – и видит в нем совершителя революции сердца[134].
Лапид также видел в галилеянине Иисусе своеобразного революционера, «трижды бунтаря любви», создавшего свой «третий путь», путь служения[135]. Лапид стремится по-новому понять Иисуса, создавая его пятый образ – вместо четырех, представленных евангелистами: такой Иисус «не похож на далекую и величественную бесплотную фигуру, сотканную из света; он – еврей, глубоко укорененный в вере своего народа»[136]. Лапид одобряет стремление евреев восстановить доброе отношение к Иисусу, и при этом подчеркивает роль Иисуса из Галилеи в praeparatio messianica, приготовлении к приходу Мессии. В представлении Лапида Иисус, чей лик скрыт, но все равно различим за важнейшими источниками и разными спорами, не есть Мессия, но тот, кто готовит путь для Царя Мессии. С точки зрения апологета Лапида Иисус – рабби Иешуа — был и благочестивым евреем (как рабби Исраэль Баал-Шем-Тов, знаменитый Бешт, основоположник современного хасидизма), и Спасителем язычников, став им благодаря миссионерской активности его последователей, которым даровал мужество свет Воскресения Христова.
Лапид своеобразен, а возможно, даже уникален в том, что он признает историчность воскресения Иисуса – на основе изучения истории последствий данного события[137]. Пятый Иисус Лапида был «неисправимым оптимистом и героем веры»[138], чей трагический конец превратился в провиденциальное новое начало.
И Лапид, и Бен-Хорин подчеркивали, что Иисус был верен Торе и творчески ее толковал, и это разительно отличается от мнения Нойзнера. Последний ведет воображаемый разговор с Иисусом Матфея, где противится всем новшествам и искажениям истины, которые Иисус ввел в Тору. Иисус, по мнению Нойзнера, был галилейским мудрецом, но знал далеко не все и учил Торе, не понимая ее сути[139]. Ссылаясь на Тору и ключевые раввинистические тексты, Нойзнер и восхищается образом Иисуса, представленным у Матфея, и критикует его, спорит с ним, осуждает его с точки зрения галахического иудаизма. Это выделяет Нойзнера из ряда всех авторов, упомянутых в данном обзоре. Как он считал, его «беседа» с рабби Иисусом (разговор двух рабби) не только убедительно доказывает правоту его тезисов – его особой точки зрения, – но также дает парадигму для настоящего религиозного диалога[140]. Но остается невыясненным один вопрос: действительно ли Иисус, действовавший в истории, учитель Торы из Галилеи, виновен в том искажении Торы, в котором Нойзнер обвиняет Иисуса, представленного у Матфея?
Боровиц, хотя и менее знаменитый, но важный участник данного диалога, видит Иисуса «в свете». Этот свет и озаряет его непредвзятое, хотя и глубоко субъективное исследование, представленное в форме диалога с христианином, который и рассказывает автору об Иисусе. Такой «опосредованно переданный» Иисус есть новый Иисус, и для Боровица он «особенно драгоценен»[141], особенно на фоне альтернативы, «Иисуса-тени». Боровиц уникален в том, что откровенно говорит об опасности второго Иисуса, чей образ рождает иудейские табу и питает христианский фанатизм. Боровиц опасается этого второго Иисуса, «Иисуса-тени», радуется новой открытости и вовлекает в нее новый образ Иисуса, Иисуса-Свет.
Достижения
Новизна и оригинальность, как правило, состоят в том, что кто-то смотрит на знакомые вещи под непривычным углом зрения, представляет по-новому классические идеи и проливает новый свет на проблемы, которые обсуждали с незапамятных времен.
Геза Вермеш. «Подлинное Евангелие Иисуса»
И серьезная попытка Сэндмела, призванная прояснить, что доподлинно известно исследователям Нового Завета об Иисусе, а потом донести эти знания до евреев-мыслителей; и диалог Лапида с католическими и протестантскими богословами, в котором он надеялся исправить все, что мешает евреям и христианам уважать и понимать друг друга; и глубокие исследования Вермеша, видевшего в Иисусе галилейского хасида; и уважительная критика Нойзнера – всем этим евреи, принявшие участие в диалоге, призывали как иудеев, так и христиан взглянуть на Иисуса по-новому, с разных точек зрения.
Критичный индивидуалист Сэндмел и легендарный спорщик Нойзнер – достойные компаньоны в своих исследованиях и несогласиях. С другой стороны, несгибаемого оптимиста Флуссера и прославленного новатора Вермеша – хотя их стремление пересмотреть образ Иисуса привело к довольно разным результатам – легче представить себе в одной компании с Бен-Хорином, искателем братства и экуменистом, и неортодоксальным миротворцем Лапидом. Первая двоица решительно и стойко защищает иудаизм от христианства и от Иисуса, отошедшего от веры отцов, тогда как последние четверо настойчиво и убедительно – хотя временами довольно загадочно – свидетельствуют о том, что Иисус неразрывно связан с иудаизмом (или иудаизмами) Палестины I века.
То, что тридцать пять лет назад было новшеством (и вызывало, что парадоксально, и гнев, и восторг), сегодня стало аксиомой: если мы хотим понимать и исследовать Иисуса, нам надо помнить, что он был евреем и что его биографию лучше всего реконструировать в рамках палестинского иудаизма I века, – того самого иудаизма, о котором говорят еврейские тексты эпохи Второго Храма, археологические находки в Палестине, соответствующие периоду до 70 г. н. э., а также христианские священные тексты, которые не чужды этому иудаизму и служат его дополнением. Верно и обратное, о чем напоминал Вермеш и с чем согласились впоследствии другие исследователи, как иудеи, так и христиане: палестинский иудаизм I века – это неотъемлемая и ни в коем случае не посторонняя часть любой попытки понять и оценить личность Иисуса из Назарета, который, в конце концов, воспитывался в таком иудаизме и, как это ни парадоксально, помогает нам лучше понять тот период и ту культуру. Современные еврейские исследователи выдвинули такую гипотезу и доказали ее состоятельность – еще на начальной стадии и значимым образом. Эта предпосылка стала обязательной отправной точкой любого серьезного изучения исторического Иисуса, о чем свидетельствуют самые разные труды в этой процветающей сфере.
Образ Иисуса, представленный Боровицем, как будто содержит в краткой форме весь тот диалог, в который Нойзнер внес бы свои поправки. И все же его великодушные воззрения не только несут свет надежды, но и рассудительно призывают к осторожности.
Критика и итоги
Почему я думаю, что мы, занимаясь историческим Иисусом, имеем дело вовсе не с историей, но с богословием? Потому что при самых наших благих намерениях эта апология поразительным образом похожа для меня на создание богословия, которое скрывается за маской истории и во имя здравого религиозного разума притязает на авторитет взвешенного исторического исследования.
Джейкоб Нойзнер. «Раввинистическая литература и Новый Завет»
Хотя Нойзнер не был специалистом по историческому Иисусу, он, критикуя разных участников «поиска», неявно выражает мнение, которое прежде откровенно высказывали Альберт Швейцер и Джордж Тиррелл, – и которое гласит, что многие исследователи, всматриваясь в колодец истории, находят в нем свое собственное отражение.
Исследование исторического Иисуса постоянно сопровождается обвинением в том, что реконструкция его образа – просто зеркальное отражение исследователя. Зная об этом, ученые стремятся свести к минимуму влияние своих предубеждений, иными словами, своей субъективности, и пытаются восстановить объективный образ Иисуса, очистив его от наслоений христианской керигмы. Всевозможные мотивы – исторические, богословские, экуменические, социологические – подкрепляют и затемняют, проясняют и поддерживают поиск исторического Иисуса. Это смелое предприятие не лишено внутренних противоречий и оснований для критики. Различные исследователи, иудеи и христиане, спорят о ценности самого поиска исторического Иисуса, – отсюда рождаются его приливы и отливы, его взлеты и падения. А споры по-прежнему не утихают.
Наши иудейские авторы тоже не лишены подобной субъективности и тоже заслуживают критики[142]. Тем не менее без их участия в диалоге тот Иисус, о котором мы беседуем сегодня, был бы лишь бледной тенью настоящего Иисуса. Без ясного акцента на еврействе Иисуса и всего, что отсюда следует, наше понимание исторического Иисуса было бы ограниченным: мы смотрели бы на него преимущественно сквозь призму христианства с его керигмой и полемикой. Под пристальным взглядом иудейских и христианских исследователей ХХ столетия, которые смотрят на него через призму иудаизма, полагаясь в том числе на последние достижения библеистики и археологии, образ Иисуса Христа проявляется ярче: это иудей I века, в чем-то похожий на своих галилейских современников и оппонентов из числа фарисеев, хотя в то же время явно отличающийся от них.
Непрестанный диалог и исследования, проводимые под влиянием тех серьезных и нередко благожелательных иудейских авторов ХХ века, которым интересна личность Иисуса из Назарета, свидетельствуют о значимости их трудов. Желание перекинуть мост через все более широкую пропасть между двумя древними монотеистическими верами и между двумя сообществами, родственными, хотя и отчужденными друг от друга, и в то же время отстаивание уникальности иудаизма – все это заставило многих еврейских авторов присоединиться к размышлениям об Иисусе, впрочем, с определенно «еврейского ракурса».
До того как начались эти попытки, Иисус казался злодеем или победителем, предателем или преданным, запретной или заветной темой – в зависимости от точки зрения. Одни считали, что он отверг иудаизм, другие – что он сам был отвергнут иудейской религией. Принадлежность Иисуса к евреям, если о ней и вспоминали христиане или иудеи, казалась просто патиной, затемняющей и без того смутный образ. Но после Холокоста тот, кто ранее был преградой и табу, тот, чье имя было запрещено произносить, стал для некоторых отважных иудейских авторов мостом, братом и катализатором восстановления новой дружбы и межрелигиозного диалога иудеев и христиан.
Эти труды иудеев ХХ века, всерьез занявшихся исследованием Иисуса и попытками проанализировать, оценить и подвергнуть критике жизнь странствующего галилейского проповедника, чей образ представлен в христианских Евангелиях, носили как апологетический, так и миротворческий характер. Их цель была и скромной, и всеохватной. В 1922 году Иосиф Клаузнер в своем написанном на иврите сочинении Иешу ха-Ноцри («Иисус из Назарета») – ускорившем появление последующих иудейских исследований в этой области, – попытался воссоздать для еврейских читателей «подлинную идею исторического Иисуса», иными словами, образ Иисуса, иной по сравнению с теми, какие возникли и в христианском, и в иудейском богословии, и как можно более «объективный и научный»[143]. В случае успеха такая реконструкция заполнила бы определенную страницу в истории Израиля, которой до сего момента занимались почти исключительно христиане[144]. Полвека спустя Давид Флуссер, преподаватель того же Еврейского университета в Иерусалиме, в котором работал и Клаузнер, с энтузиазмом приступил к изучению христианства, в котором видел средство для более глубокого понимания иудаизма и еврейских корней христианской религии. Благодаря его усилиям и трудам его еврейских современников в историю Израиля была вписана далеко не одна страница, связанная с Иисусом и зарождением христианства, – причем их вписали сами евреи.
«Объективные и научные» труды Клаузнера пробудили и у других желание исследовать жизнь Иисуса с «еврейского ракурса». Семь наших авторов занимались именно этим после Второй мировой войны, и в каком-то смысле их мотивы носили не только научный характер. До Освенцима, Треблинки и Собибора европейские евреи в большинстве своем сталкивались с именем Иисуса, когда их обвиняли христиане, а его образ видели на распятиях, украшавших придорожные христианские святилища, – и старались избегать и обвинений, и распятий. После же геноцида, устроенного Гитлером, на смену робости, желанию убежать и не обсуждать эту тему пришло желание познать ее, тщательно исследовать и поговорить.
Помня об этом, Лапид кратко говорит о четырех аспектах влияния геноцида на то, как воспринимали Иисуса евреи, причем три из них лежат в основе ученых трудов наших семерых писателей-миротворцев.
• Чтобы хоть как-то успокоиться после стольких слез, пролитых над страданиями, которые породил Освенцим, люди стали обращаться к образу Назарянина, основанному на фактах и науке, решив забыть об эмоциях и страстях.
• [Еврейские авторы] не искали ни евангельского Сына Божьего, ни еретика и развратителя, о котором писал Талмуд, но брата, человека, который вел в бесчеловечном мире жизнь, достойную иудея.
• Тем не менее в израильской литературе мы порой находим и антитезу для «брата Иисуса»… Многие евреи, пережившие «Окончательное решение», не могли отделить Христа от христианского мира и христиан, истребивших шесть миллионов евреев или отнесшихся к этому терпимо. Карикатурные представления таких авторов часто недалеки от ненависти к Христу…
• Впрочем, в целом мы видим, что евреи относятся к Иисусу лучше. Он возвращается домой; это позволяет писать его имя с честью, подобающей герою, на местах массовых захоронений жертв нацизма или на рядах могил бойцов сопротивления. Но он выходит за пределы любых стен и любых могил: вера и рвение Назарянина, его непоколебимая надежда, его глубокая любовь к Израилю и его трагическая смерть делают его драгоценным для многих современных мыслителей и поэтов Израиля[145].
Первые попытки «вернуть» Иисусу его еврейство, помочь ему снова прийти домой, предпринятые Бен-Хорином и Лапидом, – в отличие от попыток «лишить» Иисуса его еврейской сути, которыми занимались европейские «псевдохристиане»-антисемиты 1930-х годов, – принесли свои плоды. Они не только дали новую жизнь диалогу христиан и иудеев и поддержали этот диалог, но и способствовали зарождению междисциплинарного подхода, на что повлияли и современные исследователи с их различными мнениями. Типичными представителями такого направления были Сэндмел, Флуссер и Вермеш.
Иудеи и христиане вели совместный, пусть даже в чем-то и стихийный поиск, решительно помещая Иисуса в рамки иудаизма – и в то же время стремясь быть объективными и оценивать историческую вероятность. Ряд археологических находок дал участникам поиска ценные материалы. Их вдохновлял оптимизм, свойственный людям науки, они владели современными методиками, они желали восстановить дружеские отношения и вести иудео-христианский диалог. Под влиянием их трудов в конце ХХ века появились другие исследования, посвященные Иисусу и опубликованные на основе ряда свидетельств – археологических, исторических и филологических: они касались Палестины до 70 г. н. э. и, обогатив наши представления о жизни палестинских иудеев в I веке, позволили нам лучше понять Иисуса.
Ретроспективно изображая еврейские представления об Иисусе после Холокоста, я не мог забыть о двухчастной дилемме, с которой я, автор-христианин, сталкиваюсь, когда приходится иметь дело с иудейскими точками зрения. Изложить их взгляды нелегко, но проблема не в этом. Эта двухчастная дилемма, с одной стороны, заключается в том, что мне необходимо запечатлеть и донести прежде всего до христиан и, быть может, до нерелигиозных евреев мысль о той пропасти, которую приходится переступить любому иудейскому автору, прежде чем он начнет говорить об Иисусе как о достойном уважения еврее-собрате: это столетия вражды и злодейств, причиненных иудеям христианами под знаменем Иешу Христа. Надо сначала преодолеть эту, если можно так выразиться, психологическую пропасть, даже если нам не удается ее осознать. Не все такие попытки оказались успешными, не все стремились к катарсису. С другой стороны, я столкнулся с неким явлением, которое, за неимением адекватного термина, можно назвать «христианской предпосылкой».
Мы, христиане, часто предполагаем, будто знаем Иисуса; то есть мы изначально допускаем, что знаем Христа, – переданного нам через христианское Священное Писание и предание и постигнутого в наших религиозных убеждениях и нашем опыте. Я не ставлю под сомнение правомерность христианских доктрин и христианского религиозного опыта, но в истинности этой предпосылки, которая становится для нас оковами, усомниться стоит. Я не хочу никого обидеть: это простой эмпирический факт. И очень вероятно, что такая предпосылка мешает нам лучше понять Иисуса и взглянуть на него иными глазами, – и тем самым мы сужаем наш кругозор, а предвзятость затуманивает взгляд и ограничивает нашу способность видеть. Мы не привыкли смотреть на нашу веру, а тем более на важнейшие образы нашей веры, с иного ракурса, когда их критикуют и улучшают иноверцы. Нам кажется, будто это противоречит здравому смыслу. И тем не менее, тут мы можем получить нечто ценное, поскольку еврей Иисус, палестинский иудей I века, – это, осмелюсь предположить, вовсе не тот Иисус, который хорошо знаком обычным христианам.
Разумеется, в ХХ веке иудеи – как и христиане – тщательно изучали разные источники и свидетельства в попытке воссоздать Палестину I столетия и иудаизм эпохи Второго Храма. И я уверен, что их труд не был напрасным. Опыт знакомства с работами этих еврейских авторов и их взглядами для меня был сродни первому посещению Святой Земли. Позже я смог по-иному прочесть Евангелия, сумел осмыслить их лучше, более глубоко. И мой образ Иисуса из Назарета тоже стал более ярким благодаря мнениям тех, кто смотрел на него с «иудейского ракурса». Конечно, я, как христианин, не во всем согласен с этими разнообразными и порой спорными мнениями, но во многом они дают ценный анализ, проясняют то, что казалось загадочным, питают воображение, и я могу только посоветовать другим христианам познакомиться с этими просвещенными идеями наших ближних.
Если же говорить о еврейском аспекте моей дилеммы, то этот обзор, посвященный образу Иисуса в иудейской литературе, позволяет мне хоть в какой-то мере передать душевную борьбу еврейских авторов. Зная о «возрастающем интересе к жизни и смерти Галилеянина, о таком чувстве, которое нередко переходит в любовь, и о сознательном стремлении почувствовать себя братьями с общей судьбой, заметном даже в сочинениях, враждебных к Христу»[146], Лапид включил в свой обзор и тревожные слова одного из современных израильских писателей, настроенных враждебно к Иисусу: Шина Шалома (1904–1990). Нам остается только прислушаться к его монологу и постараться понять, насколько сможем, его горестный упрек:
Я знаю Галилею так, как знает человек свою душу. Я знаю ее дикие каменистые ущелья, ее бескрайнее ясное небо… но в Галилее есть человек, о котором я ничего не знаю и о котором я никогда не спрашивал. Его существование для меня – открытая рана, которую обычно не трогают, о которой стараются не думать. Тихо! Не напоминай мне об этом… Когда я был на той зловещей гряде под названием Назарет и мне вдруг показалось, что я вижу, как он морщит лоб от боли, я закрыл глаза. Я не позволил бы его имени сорваться с моих губ. Я не проклинал и не благословлял. Я не сказал ничего… Но иногда из тишины исходил голос, голос потерянного брата, голос человека, сбившегося с пути, который оказался среди чужих. Он одновременно и исповедует свой грех, и указывает пальцем, обвиняя, он хочет вернуться назад, если кто-то выйдет ему навстречу с любовью и шепнет ему в ухо только одно слово: «Брат». В то мгновение я призвал на помощь все, что могло меня защитить – все горькие воспоминания моей жизни, все кошмары, какие пришлось пережить моему народу, – чтобы этот человек не мог очиститься предо мной своей исповедью. Я извлек из бездны забвения все пытки инквизиции, все кровавые зверства погромов, все убийства, совершенные крестоносцами, все павшие на нас удары, исходившие от тех, кто носил его имя, все нападки со стороны хранителей его учения, всю бесконечную цепь поколений мучеников, переживших пытки, всех моих собратьев-евреев, которым приходилось непрерывно скитаться, терпеть презрение, быть гонимыми, переходить из тюрьмы в тюрьму, от жестокости к жестокости, – мне пришлось сделать так, чтобы они прошли перед ним широким маршем, чтобы заставить его замолчать, чтобы он не говорил ни слова, чтобы оттолкнуть его обеими руками, – этого бывшего брата, сына галилейского плотника[147].
Быть может, эти слова могут отразить и передать невероятные усилия современных еврейских авторов, которые, рискуя столкнуться с тем, что их презрят и отвергнут как христиане, так и иудеи, – первые за самонадеянность, вторые за предательство, – смело шли вперед, торили путь для других евреев, готовых размышлять об Иисусе. В наши дни иудеи порой могут проникнуться солидарностью с замученным Назарянином, другие чувствуют себя оскорбленными и не испытывают ни малейшего сострадания. Шин Шалом оттолкнул Галилеянина и обрек его на молчание. Но из этого молчания в ХХ веке зазвучали голоса евреев, которые создавали благожелательные (часто вызывая критику и споры) портреты Иисуса, галилейского проповедника из Назарета.
Еще одно, с чем предстоит столкнуться при чтении трудов с подобными представлениями о жизни Иисуса, которую авторы реконструируют или извлекают из источников, – это спорный или неясный вопрос о том, какой Иисус в них отражен: Иисус истории, то есть реальный Иисус – или исторический Иисус, образ, воссозданный на основании историко-критического изучения источников[148]. Как показывает изучение трудов, некоторые из наших авторов, как и можно было ожидать, молчаливо предполагают, что открывают реального Иисуса, Иисуса-иудея, расчищая «христианские наслоения». Исключение в этом смысле представляют Сэндмел, Нойзнер и Боровиц. Бен-Хорин, Лапид, Флуссер и Вермеш стремились (и удовлетворенно думали, что достигли цели) найти Иисуса в керигматических утверждениях христиан. Их труды достойны уважения, но они были в той или иной степени обречены на неудачу. Их ошибка заключалась не столько в намерении, сколько в оптимистичной вере в свои способности доказывать, делать выводы или интуитивно что-то понимать, изучая источники и доступные данные, и на их основе создать аутентичный портрет Иисуса. Примерно так же верили в свои силы и другие исследователи Иисуса.
Эти образы Иисуса, как и образы, созданные прежде, носили фрагментарный характер. Здесь уместно вспомнить слова Джона Мейера, сказанные о поиске исторического Иисуса вообще: «Этот поиск по самой своей природе позволяет воссоздать лишь фрагменты мозаики, размытые очертания побледневшей фрески, которой можно давать разные интерпретации»[149]. Это не умаляет ценности вклада современных еврейских авторов в создание мозаичного портрета Иисуса, пусть даже этот портрет и фрагментарен.
Как и в случае всех подобных попыток извлечь Иисуса истории, то есть реального Иисуса, из источников, независимо от своих мотивов и методик, исследователи получают сравнительно мало убедительных фактов, поскольку сами эти источники не были историческими биографиями. Недавно исследователи стали это признавать. Джеймс Данн говорит об этом, лаконично объясняя, почему поиск исторического Иисуса таит в себе путаницу.
Важным фактором во всем этом была путаница, которую вносило в поиск само его ключевое выражение – исторический Иисус. Кто бы ни пытался дать ему определение, тот обычно ясно понимал, что исторический Иисус – это Иисус, сконструированный с помощью исторического исследования. Однако, несмотря на это, данное выражение снова и снова использовали бездумно, желая указать на Иисуса из Назарета, ходившего по холмам Галилеи, и этот смысл стал основным. Или, если сказать точнее, фраза «исторический Иисус» в типичном случае использовалась как смесь двух этих смыслов. В целом участники поиска предполагали, что они в состоянии воссоздать (пользуясь доступными данными) образ Иисуса, который окажется настоящим Иисусом: «исторический Иисус» (реконструкция) окажется историческим Иисусом (истинным), при этом снова и снова один смысл сливался с другим. Именно этой путаницей объясняется то, что участники «поиска» и в XIX столетии, и в конце XX века странным образом верили в то, что Иисус, воссозданный на основе доступных источников, может стать надежной основой (реальным Иисусом), которая позволит критиковать образ Иисуса, представленный в этих источниках. Необходимо снова повторить, что «исторический Иисус» есть, строго говоря, конструкция XIX–XX веков, созданная на основе данных, предоставленных синоптической традицией, и это не Иисус прошлых эпох и не исторический образ, на основе которого мы могли бы реалистично критиковать то, как Иисус изображен в синоптической традиции[150].
Можно представить, как разозлился Вермеш, услышав такое утверждение Данна. Но об этом говорил не только Данн. Упомянув о подобных наблюдениях Мартина Келера[151] в прошлом, Данн развивает их далее:
Идея, согласно которой образ Иисуса, воссозданный на основе евангельской традиции (так называемый «исторический Иисус»), хотя и в значительной мере иной по сравнению с образами Иисуса у евангелистов, есть тот Иисус, который учил в Галилее (Иисус, действующий в истории!) – это иллюзия. Мысль о том, будто в текстах Нового Завета, написанных верующими, мы можем найти Иисуса, который не вселял в людей веру или если и пробуждал веру, то как-то иначе – это иллюзия. Такого Иисуса нет. Да, Иисус, вселявший в людей веру, в свое время нашедшую выражение в Евангелиях, существовал, и это несомненно. Но надежда в один прекрасный момент избавиться от того богословского влияния, которое он оказывал на своих учеников, и открыть иного Иисуса (истинного Иисуса!), по меньшей мере странна. Недостаточно сказать: «Иисус доступен нам лишь в образах, созданных его учениками», следует также понять, что в этих образах мы найдем только такого Иисуса, который вдохновил учеников их создать[152].
Данн не забывает о том, что исследователи пользуются не только синоптической традицией, но также и внешними источниками, а особенно раввинистической литературой.
Что касается возможных указаний на Иисуса в иудейских раввинистических источниках, то наиболее правдоподобный отголосок ранней дораввинистической (фарисейской) реакции на Иисуса – это текст Вавилонского Талмуда, трактат «Санхедрин» 43a, где говорится о Иешу (Иисусе), повешенном в канун Песаха, который был чародеем, обманул Израиль и свел его с пути истинного. Но вся эта попытка найти реалии I века в гораздо более поздних раввинистических традициях слишком трудна для нас, чтобы придавать ей большое значение[153].
Несомненно, последнее утверждение делает Данна противником Вермеша, хотя с ним согласились бы, среди прочих, и Мейер, и Нойзнер[154]. В то же время Данн не отчаивается в попытке воссоздать образ Иисуса, то есть исторического Иисуса (не Иисуса истинного), по текстам синоптиков. Равно так же в возможность этого верят и Вермеш, и Мейер[155].
Я говорю об этом, рискуя отклониться от темы, поскольку из наших авторов только Вермеш непреклонно хранит верность раввинистическим источникам, которые подтверждают его хасидскую типологию, равно так же противопоставляя образ Иисуса его изображениям у синоптиков. Более того, еврей-хасид, чей образ предстает в синоптических Евангелиях и подтверждается раввинистическими источниками – это, по мнению Вермеша, и есть именно Иисус, действующий в истории, то есть реальный Иисус. Вермеш может взглянуть на образ Иисуса в таком ракурсе лишь потому, что он, как историк и еврей, в отличие от синоптиков не обязан смотреть в ракурсе веры, а кроме того, он волен использовать внешние источники, особенно раввинистические тексты и типологии, которые кажутся другим исследователям малоинформативными или недостоверными.
Вермеша не пугает тот факт, что многие специалисты по Новому Завету решительно не согласны с его устойчивой и последовательной гипотезой. Он упрямо защищает свою позицию, свою методологию и свой проникнутый эрудицией оптимизм. Неудивительно и то, что методика аргументации Вермеша, основанная на обращении к позднейшим раввинистическим источникам для защиты позиции или гипотезы, исторической или филологической, нашла выражение в его важном новаторском вкладе в споры о «Сыне Человеческом» в 1960-х годах. Его необычное предположение, согласно которому выражение bār našā’ можно также иносказательно использовать в качестве местоимения «я» – вызвало поток критики (теперь уже хорошо всем знакомой) со стороны коллег[156]. С тех пор прошло сорок лет, но Вермеш не намерен отказываться от своих гипотез и методов. Несомненно, он считает, что образ Иисуса, еврея и хасида, воссозданный в исследованиях, имеет такое же (как минимум) право на существование, как и другие попытки выявить образ Иисуса в синоптических Евангелиях. И, как мы уже видели, его методология продолжает вызывать споры среди исследователей.
Похоже, споры постоянно сопровождают поиск исторического Иисуса, и в этом нет ничего удивительного. Нам, столько лет спустя, уже нелегко понять, сколь много значил изначальный тезис Вермеша и его позиция, ставшая необходимым условием для поиска и исследования жизни Иисуса: любое серьезное изучение Иисуса может быть плодотворным лишь тогда, когда исследователь надежно помещает Иисуса в иудейскую Палестину I века. Без признания того, насколько важен иудаизм эпохи Второго Храма, нам теперь не провести ни одного исследования исторического Иисуса. Это подтверждают более поздние труды христианских исследователей, посвященные Иисусу: «Иисус и иудаизм» Эда Сандерса (1985)[157]; «Маргинальный иудей» Джона Мейера (том 1, 1991); «Иисус как иудей» Джеймса Чарлзворта (1991)[158]; «Иисус и победа Бога» Николаса Томаса Райта (1996)[159]; «Иисус, оставшийся в памяти» Джеймса Данна (2003). Сам тот факт, что мы проводим границу между участниками поиска и исследователями Иисуса, также указывает на значение данных о палестинских евреях до 70 г. н. э., собранных из разных дисциплин.
Как мы видели, этот энтузиазм, разгоревшийся от искры, которой стала книга Вермеша «Иисус Иудей», а также работы его коллег Бен-Хорина, Лапида и Флуссера, изучавших Иисуса в экуменическом или академическом ключе еще раньше, влил новую жизнь в диалог иудеев и христиан. Трудно качественно оценить, какое влияние оказали современные труды евреев об Иисусе на отношения сторонников двух религий. Однако множество фактов указывает на то, что этот искренний и взаимный интерес, который проявляют в наше время многие иудеи и христиане, позволяет им лучше понять друг друга и помогает взаимно ценить уникальные традиции, культуру и достижения, важные для всего мира[160]. И мы можем заявить, что в этом достижении семеро наших иудейских авторов сыграли пусть и скромную, но решающую роль.
Под влиянием разных мотивов, применяя разные методы, критические или интуитивные, каждый автор из нашей семерки изучал важнейшие источники, чтобы сложить из этих кусочков стекла и камня мозаику: образ Иисуса в представлении евреев, – по сути, иудейское прочтение Евангелий. Эта концепция, эта иудейская герменевтика, способная показаться чем-то странным, стала аксиомой для современных исследователей Иисуса. Вероятно, ряд «еврейских ракурсов», уточненных и развитых, дал импульс сопутствующему им Третьему поиску исторического Иисуса. Этот поиск породил еще более целостную сферу познаний, «Исследование Иисуса», которая, в свою очередь, сделала более популярной только что возникшую иудейскую герменевтику. На каждом этапе образ Галилеянина становится более четким и более убедительным: Иисус-назорей; Иисус-наггар; Иисус-цадик.
Эта наука несовершенна. Различные ученые, иудеи и христиане, ставят под вопрос ценность этого предприятия или даже превращают его в банальную бесполезность – но ни импульс, ни интерес не слабеют. Найденный в священных текстах христиан и ставший более четким образ Галилеянина, надежно помещенный в еврейскую палестинскую среду, смело шествует в третье тысячелетие: можно считать, что произошла своего рода обратная метаморфоза.
Возможно, Вермеш и его иудейские современники чуть приглушили сияние нимба Галилеянина из Назарета – но его ореол все так же ярок. Современные иудаизм и христианство отреагировали на это «драматичным и беспрецедентным» образом[161]. Еврейские черты в образе Иисуса, избавленные от патины и отполированные до блеска, уже яснее показывают нам образ того, кто продолжал традиции иудейских мудрецов и нес в себе боговдохновенность, подобно Илии: это пламенный галилейский пророк, назорей, трагически погибший мученик и еврейский собрат, Иешу ха-Ноцри – Иисус из Назарета.
И кто знает, может быть, в третьем тысячелетии это новое понимание переориентирует наши умы и обновит религиозный дух, вдохновленный истинным Иисусом, у наследников иудео-христианской цивилизации и за ее пределами.
Такими словами Вермеш завершает свою книгу «Изменчивые лики Иисуса»[162].
Откуда мы «знаем» об Иисусе?
Стэнли Портер
Введение
Критерии аутентичности евангельских текстов по-прежнему привлекают интерес исследователей, ведущих дискуссии об историческом Иисусе[163]. Эти критерии могут трактоваться по-разному, но, похоже, о них никогда не забывают. Рассуждения о том, как установить критерии, которые бы позволили нам выявить надежные исторические сведения об Иисусе, ведутся непрестанно. Доверие к подобным критериям, доверие к результатам, полученным с их помощью, и способность применять эти критерии для достижения заявленных задач – вот о чем преимущественно говорят специалисты. Впрочем, появились и те, кто призывает к использованию новых форм критического анализа, о чем мы еще поговорим. Это очевидное развитие критериев аутентичности – по крайней мере воззрений на них – дает основы для дальнейшего рассмотрения идеи критериев в изучении исторического Иисуса, особенно на фоне методов других исторических дисциплин, не связанных непосредственно с Библией.
Споры о подлинности. Краткая история
Критерии аутентичности в изучении исторического Иисуса появились в XIX веке как следствие развития историко-критического анализа. И именно потому, что это критерии историографического мышления позапрошлого столетия, у нас и нет единого источника с их четкой формулировкой и определением. Такое чувство, что они возникали, когда представлялась возможность, а основания им давались в свете разных тем, представлявших исторический интерес, – в том числе, помимо прочего, и в свете изучения Евангелий. Соответствующие работы были связаны с развитием немецкой философии, в частности историзма, и потому зачастую отражают концептуальные особенности немецкого образа мыслей. Историзм, разными путями связанный с такими выдающимися мыслителями, как Леопольд Ранке, Иоганн Готфрид Гердер, Вильгельм Гумбольдт, Иоганн Густав Дройзен, Теодор Моммзен и Вильгельм Дильтей, – тесно переплетен с идеализмом и романтизмом, но возник как самостоятельное явление в качестве одной из важнейших школ исторической мысли и значительно повлиял на развитие критериев аутентичности в изучении исторического Иисуса. Если говорить кратко, историзм утверждал, что все культурные явления – включая представления и обычаи – носят локальный характер и формируются историческими событиями, а потому их можно понять, исследовав их прошлое[164]. Однако, несмотря на такие местные особенности, врожденная интуиция позволяет людям понимать иные культуры, отделенные от них временем и пространством.
Одно из важнейших отличий между разными культурными группами – это язык, который, в свою очередь, считается одним из главных факторов, определяющих мышление и поведение людей. Каждая эпоха, которую позднейший толкователь может понять на основе эмпатической интуиции – иными словами, прочувствовать, – имеет свои стандарты, а потому и присущие ей ценности. С точки зрения историзма у истории нет своей прирожденной телеологии – она появляется лишь в тех случаях, когда отдельные люди стремятся ее создать[165].
В такой интеллектуальной среде был сформулирован ряд критериев. Критерий арамейского языка, упоминаемый уже в XVII веке, но обретший важную роль в XIX–XX столетиях, похоже, развился из нескольких тенденций историзма[166]. Одной из таких была намеренность связать познание с языковой способностью и определить националистскую группу на основе языковых различий. Стоит только увидеть в подходе хоть крупицу такого разделения по этническим признакам[167], и мы поймем, на основе чего могла возникнуть идея, что арамейский язык – это критерий, который указывает на сведения если не о самом Иисусе, то по меньшей мере о Палестине I века. Впрочем, появление развернутых критериев аутентичности, как кажется, совпало по времени с первой половиной XX века, когда возникла и развилась критика форм. Именно в эту эпоху для критериев, похоже, настал поворотный момент: их стали применять не просто в широкой сфере историографии, но именно в библеистике. В те дни критерии аутентичности в изучении исторического Иисуса были распределены по категориям, и их начали обсуждать с нескольких точек зрения. Я кратко расскажу о ряде направлений.
Подход одного критерия. Во-первых, это индивидуалистский или, лучше сказать, изоляционистский подход. В данном случае важнейшее место отводится одному конкретному критерию, который должен играть решающую роль в изучении исторического Иисуса. В какой-то мере индивидуалистский подход отражает тот факт, что критерии возникали в разных контекстах и в разные эпохи, когда исследователи изучали частные (в их понимании) проблемы, связанные с развитием традиций, касавшихся Иисуса. Возможно, больше всего критических размышлений было посвящено критерию несходства, а если еще точнее – критерию двойного несходства. У этого критерия давняя, пусть и не всегда прославленная история, и восходит она по меньшей мере ко временам Возрождения. Герд Тайсен и Дагмар Уинтер утверждают, что этот критерий был создан самим Лютером (1521) в виде критерия единственного несходства (с иудаизмом той эпохи), а затем его развивали многие, от Германа Реймаруса (ок. 1750) до Юргена Беккера (1996)[168], иными словами, чуть ли не все, кто занимался изучением исторического Иисуса. Разумеется, не для всех этот критерий был ключевым, но для многих он, несомненно, играл важную роль, и это повлияло на восприятие самих критериев. Так, Скотт Макнайт выделяет два основных подхода к «критическому суждению» об Иисусе, и их представителями, по его мнению, становятся двое исследователей, Норман Перрин и Эд Сандерс[169]. На самом деле Макнайт просто опознал две стороны критерия несходства: отличие от ранней Церкви (Перрин) и от иудаизма (Сандерс). Впрочем, как всем известно, Сандерс, применяя критерий несходства, стремился видеть скорее не отличие, а преемственность. Другие опирались преимущественно на какой-нибудь один критерий: скажем, Иоахим Иеремиас – на гипотезу арамейского языка, Джон Мейер – на критерий «смущения», а Георг Штреккер – на критерий развития[170].
Комбинирование. Во-вторых, разные критерии можно объединять; такой подход основан на комплексе методик. С 1970-х годов ведутся дискуссии об оценке критериев как набора методов. Например, Перрин, пусть он и полагается прежде всего на критерий двойного несходства, все же склонен обращаться к критериям когерентности и множественных свидетельств[171]. В ряде критических трактовок некоторые пытались проанализировать отличия между этими критериями и найти формулировку, способную предстать как синхронический «мастерский набор» критериев. Самые известные перечни критериев создали Дэвид Калверт, Роберт Стейн, Крэйг Эванс и Джон Мейер[172]. Такие списки внушают мысль, будто набор критериев может дать больше, чем единственный или простой критерий, и будто эти наборы – даже притом что они все разные – определенно помогут выявить исторические сведения об Иисусе.
Исторический подход. Третий подход – это исторический метод. Он предполагает, что необходимо проследить за возникновением и развитием различных критериев, часто так или иначе пересекающихся с теми, о которых мы уже упоминали; об этом, обсуждая вторичные критерии, говорит Мейер[173]. Иногда при анализе проводят границу между двумя критериями, один из которых одобрен, и прослеживают историческую аргументацию, которая, по общему мнению, демонстрирует предпочтительность первого. В других случаях при использовании набора критериев приводят их краткую историю – и тем самым показывают силу комбинирования, благодаря которому из различных методов создается значимое целое[174].
Ревизионистский подход. Четвертый вариант я называю ревизионистской перспективой. Он состоит в переоценке прежних методов. Ревизионистская перспектива включает в себя две главные подкатегории. Это, во-первых, попытка усовершенствовать уже существующие критерии, поддерживая одни из них и «понижая в звании» другие. Скажем, Мейер выделяет два важнейших класса критериев, которым затем дает оценку. Одни из них, по его мнению, дают убедительную основу для метода, тогда как другие следует отнести к сомнительным или вторичным[175]. Это явно напоминает описанный выше метод комбинирования: как считает Мейер, ряд убедительных критериев позволяет делать такие выводы, к которым нас не приведут или неспособны привести сомнительные критерии. Другой пример той же подкатегории – труд Тайсена и Уинтер, в котором они пытаются описать критерий исторической достоверности[176]. Их критерий – это любопытное смешение критериев согласованности и отсутствия противоречий, примененное к иудаизму и характеру Иисуса; по сути, это форма критерия двойного несходства с куда более позитивным отношением к свидетельствам (чуть позже я подробнее рассмотрю этот вопрос). Другая подкатегория ревизионистского подхода состоит в создании новых критериев, похожих на прежние, но используемых иначе. Сюда бы я отнес такие мои критерии, как греческий язык и контекст, греческие текстуальные варианты и характеристики дискурса[177]. Подобное, несомненно, мог бы сделать Джеймс Данн: он приводит такие критерии в конце своего списка, выбранного для краткого разбора, где начинает с Иеремиаса, – впрочем, мои три критерия, связанные с греческим, он отвергает, поскольку, по его словам, они полагаются «на крайне сомнительный аргумент, согласно которому Иисус говорил по-гречески»[178] (сегодня это уже не столь спорный аргумент; спорят только о пассажах, в которых Иисус говорил по-гречески)[179], и на способность определить всю полноту дискурса.
Альтернативный подход. Пятый и последний подход к критериям содержит в себе переход дискуссий к совершенно иной, альтернативной точке зрения. Недавно зазвучали призывы либо совершенно по-новому подойти к критериям аутентичности, либо, по меньшей мере, использовать их в более широком историческом контексте, – а также, скажем, включить критический реализм в набор методов изучения исторического Иисуса, даже если это не означает полного отказа от критериев. С позиции критического реализма, основанной на философских трудах Бернарда Лонергана, выступили несколько исследователей исторического Иисуса: к их числу принадлежат Бен Мейер, Николас Томас Райт, Джеймс Данн и Скотт Макнайт[180]. Критический реализм есть эпистемология, которая исходит из предпосылки о познаваемости другого, то есть из факта, что вовне существует нечто, отличное от истолкователя и при этом доступное познанию. Однако критический реализм идет еще дальше (и это помогает ему избежать ловушек позитивизма): он признает роль истолкователя и тем самым создает интерпретативную «спираль вопросов» между познающим и познаваемым. Макнайт даже заявляет: «Мы остаемся дифференцированными массами Эго – и ничего с этим не можем поделать. Вот почему “критический реализм” Бена Мейера… приобрел столь большое значение в изучении исторического Иисуса»[181].
Это важнейшие подходы к критериям аутентичности из тех, какие я видел в дискуссиях исследователей последних лет. В каждом из них критерии используются особым способом. Остается рассмотреть эти критерии в свете новых идей историографического характера и другого рода.
Критерии исторического исследования в современной историографии и лингвистике
Обсуждая критерии аутентичности в изучении исторического Иисуса, крайне важно помнить о простом факте: насколько мне известно, очень немногие из таких критериев, известных нам, проникли в другие сферы исторических исследований. Майкл Грант, специалист по Античности, полагается на эти критерии в своей книге об Иисусе[182], но, похоже, не пользуется ими ни в каких других своих исторических исследованиях, – по крайней мере так открыто, как в книге, посвященной Иисусу. И возникает вопрос: а соответствуют ли данные критерии своему предназначению в той мере, в какой их используют в дисциплине, основанной на истории?
Историографический и лингвистический метод
Здесь я хотел бы рассмотреть критерии аутентичности в том виде, в каком они часто формулируются при изучении исторического Иисуса, и проанализировать их в отношении к тем вариантам критериев, которые применяются в историографии наших дней. Подобный очерк легко мог бы превратиться в подробный разбор современного историографического метода, но вместо этого я отмечу несколько принципов, сформированных на основе современных историографических исследований Древнего мира, и использую эти принципы в качестве отправной точки для оценки критериев аутентичности. Эпоха постмодерна пытается опровергнуть сами основы историографического исследования, желая свести все факты просто к нарративу. Здесь неуместно спорить об этом предмете, отмечу лишь, что споров таких было немало, и велись они, в частности, об онтологической основе, которая позволила бы выдвинуть утверждение, отрицающее истинность подобного представления.
Исторический метод[183], приложенный к античным текстам, в самую первую очередь интересуется источниками: письменными или какими-либо иными. Историки полагаются на свидетельства, по сути своей ограниченные и требующие оценки с точки зрения их надежности. Эта проблема касается и эпохи Нового Завета, что подтверждает одна работа по историографии Рима, в которой говорится: «Мы не можем создавать историю (в современном смысле этого слова) начальных этапов Римской империи на основании одних лишь литературных источников, дошедших до нас»[184]. Это ответ на вопрос о том, насколько допустимо использовать древние документы. Отчасти недостаток таких источников объясняется капризами истории. Кроме того, у римлян история появилась не так быстро, как у некоторых других народов, и они полагались на греков, которым было интересно прошлое Рима[185]. Есть и еще одна важная величина – сам историк, и ее значение не так давно во многом пересмотрели. Да, некоторые продолжают воспринимать историка словно машину или компьютер (позитивистский подход) – но таких историков не существует. Дэвид Фишер называет «ошибкой Бэкона» представление о том, будто «историк может действовать, не полагаясь на заранее готовые вопросы, гипотезы, предпосылки, теории, парадигмы, постулаты, предрассудки, допущения или общие исходные представления любого рода»[186]. Сюда входят даже такие виды философии истории, как историзм или позитивизм. Долгое время считалось, что подобная ориентация непременно пагубна. Да, она может оказаться именно такой – в том смысле, что историография пострадает, если неправильно обращаться с фактами или злоупотреблять ими. Но она может стать и благом, потому что способствует страстному вовлечению историка в решение историографических проблем, – и такое вовлечение вовсе необязательно влечет за собой искажения. На этом уровне нередко можно увидеть максималистский и минималистский подходы к истории, в зависимости от неизбежной приверженности историка тем или иным свидетельствам[187]. В результате возникает так называемая «историческая пропасть», отделяющая мир современного историка от минувшей эпохи, которую историк стремится описать. Говоря об этой проблеме, Рой Харрис выделяет три типа неосознанных лингвистических философий, стоящих за попыткой историка преодолеть эту пропасть: это реоцентрическая философия, психоцентрическая философия и философия «контракта»[188]. В итоге историк имеет дело с обоснованными гипотезами, которые дают наилучшее объяснение фактам. Можно сказать, что «факты» становятся «данными» (или экзистенциальными фактами) в процессе эвристической интерпретации, и все эти данные сплетаются воедино, чтобы создать единое повествование, или нарратив, о прошлом[189]. Формулировка, описывающая такой процесс, достаточно сложна, она должна учитывать такие разные переменные, как сами факты (включая те, установить которые невозможно), степень правдоподобия данных, а также меру достоверности или надежности созданного исторического нарратива. Тем не менее такое повествование отражает попытку выполнить работу историка.
Таким образом, историография отражает действующие лингвистические предпосылки и ограничения относительно того, чего можно достичь с помощью исторического описания[190]. Многие историки используют вместо этого иные – реоцентрический или психоцентрический – подходы к созданию исторического описания, опираясь на соответствующие представления об истине, тогда как другие применяют контрактный подход, опираясь на когерентную теорию истины. И те и другие сталкиваются со своими проблемами, но каждый подход накладывает на историографию лингвистические ограничения и ставит ей рамки. Эти лингвистические темы редко обсуждаются открыто, как и их влияние на исторические труды. Тем не менее особенно важно то, как используется язык по отношению к миру и как язык, на котором говорят об истории, подобно любому другому, передает сообщение. Как указывает Харрис в своем проницательном исследовании лингвистики истории (заметьте, уточняет он, не истории лингвистики!), нам требуются не релятивизм и не упрощенная историчность – нам нужна «интеграционистская перспектива», в которой «слова представляют собой не ярлычки для вещей или идей, а интегральные компоненты попытки вступить в творческую коммуникацию»[191]. Если это и есть важнейшая лингвистическая основа для успешной работы историографа, данный стандарт следует приложить и к использованию критериев аутентичности в изучении исторического Иисуса. Впрочем, как мы увидим, использование данных критериев часто не соответствует условиям подхода к историографии, принятым в интеграционизме.
Оценка критериев
Я сосредоточу внимание на восьми критериях, но очень вероятно, что это позволит представить довольно широкий спектр тех из них, о которых идет речь на дискуссиях подобного рода.
1. Критерий двойного несходства[192]. С точки зрения описанной выше исторической процедуры критерий двойного несходства порождает многочисленные проблемы. Если цель истории – дать повествовательное описание прошлого, собрав в едином сценарии коммуникативные эпизоды, то критерий двойного несходства в лучшем случае представляет собой частный метод, а в худшем – вводит в заблуждение, мешая собирать нужные свидетельства и находить обоснования для повествования подобного рода. Исторический метод переходит от использования источников, которые, как считается, содержат факты, к данным, ставшим повествованием. Иными словами, существующие маленькие свидетельства становятся частью более широкого нарратива, тогда как критерий двойного несходства есть движение в ином направлении, от предполагаемого всеобъемлющего знания об окружении к минималистскому результату – возможно, такому минимальному, что его невозможно превратить в повествование. Даже когда его используют в критике традиций, этот критерий лишь выявляет уникальные отличия от иудаизма или ранних форм христианства. За этим стоит такая предпосылка: тот Иисус, которого ничто важное не связывает ни с иудаизмом, ни с ранними формами христианства, скорее всего, и есть Иисус истории. Да, такой образ не обладает описательной силой – но это тот Иисус, который почти непостижим и непонятен для своего окружения. С такой точки зрения – по определению предполагающей минималистский подход к источникам – Иисус предстает как тот, кто соответствует своему окружению или составляет с ним единое целое. И более того, этот Иисус оторван и отчужден от первичных источников, по которым мы изучаем его образ. Я уверен, что написать повествование о жизни или учении Иисуса, используя критерий двойного несходства, в прямом смысле невозможно.
Возможно, те немецкие исследователи, которых отождествляют с так называемой «эпохой без поиска»[193] и с критерием двойного несходства – скажем, Рудольф Бультман[194] – пришли к выводу о невозможности создать такое повествование не потому, будто им не хватало свидетельств как таковых (этих свидетельств хватало их предшественникам, современникам и тем, кто работал после), но из-за метода, первичный критерий которого заставлял выбирать для повествования свидетельства, не обладавшие описательной силой, а возможно, даже уводившие на неправильный путь. Сам Эрнст Кеземан, который, как считают, снова призвал некоторые круги вернуться к этому поиску (утверждение в лучшем случае сомнительное) и наиболее строго определил данный критерий, признавал, что критерий несходства не дает нам ясного представления «о том, что связывало Иисуса с его палестинским окружением и с его возникшей позже общиной»[195].
Это показывает, что мы вряд ли имеем дело с критерием, подходящим для исторического исследования. По сути, это позитивистский (а не просто гипотетический) критерий, и похоже, в других историографических источниках его не считают надежным инструментом для исторического исследования. Более того, как отмечает Фишер, этот критерий может вводить нас в заблуждение во многих вопросах (например, из-за него историк может задавать себе два вопроса одновременно, бездоказательно считать вопрос заранее решенным или ставить сложный вопрос, на который нужно дать простой ответ) – или, что, вероятно, лучше, в вопросах противоречивых, когда два отличительных признака порождают образ человека, непредставимый ни в каком из миров[196]. И эти искажения нивелируют перспективу творческой коммуникации, о которой говорят интеграционисты.
2. Критерий минимальной отличительности[197]. Критерий минимальной отличительности тесно связан с критикой форм. Он предполагает, что опознаваемые литературные формы обладают стабильной структурой и что аутентичный материал ей соответствует, а вариации отклоняются от правил литературного жанра и потому указывают на то, что перед нами – нечто более позднее. Этот явно минималистский критерий основан на позитивистской идее когерентности, у которой есть два серьезнейших недостатка. Во-первых, когерентность способна создать правдоподобное повествование, но не может показать связи с миром за пределами текста. Во-вторых, данный критерий представляет собой отражение немецкого историзма, поскольку приписывает особый дух литературным формам, используемым в древности в Палестине; при этом интерпретируются данные тексты в рамках немецкой критики форм, за которой стоят такие ученые, как Карл Людвиг Шмидт, Мартин Дибелиус и Рудольф Бультман[198]. Неудивительно, что именно этот критерий широко применяли немецкие исследователи исторического Иисуса в первой половине ХХ века, когда немецкий историзм все еще был широко распространен (а может, даже и процветал)[199]. Исследование форм вне рамок, заданных немецкой критикой форм, показывает, что развитие различных литературных типов имеет куда более сложный характер и, несомненно, требует воспринимать данные с позиций интеграционизма, вопреки обычным постулатам, а не отражать упрощенческий линейный процесс, как того требуют они[200]. Это подтверждает и труд Сандерса, посвященный исследованию (неочевидных?) тенденций синоптической традиции[201].
3. Критерий когерентности или согласованности[202]. Данный критерий стал особенно популярен в последнее время, какое бы из двух его наименований вы ни предпочли. Вероятно, лучше отличать эти две идеи друг от друга, а также не смешивать их с третьим понятием: когезией, или структурной связностью (англ. cohesion)[203]. Когезия есть лингвистическое средство, благодаря которому текст становится текстом, иными словами, это связность различных лингвистических характеристик, создающих единство текста: семантических цепочек, союзов и тому подобных частей. Когерентность (англ. coherence), она же цельность или содержательная связность, характеризует степень понятности текста, благодаря которой какую-либо его часть можно осмыслить в более широких концептуальных рамках. Согласованность (англ. consistency) – это нелингвистическая особенность текста, указывающая на наличие в нем сходных структурных компонентов. В исследованиях исторического Иисуса используются понятия когерентности и согласованности – вероятно, потому, что в них не обсуждаются особые характеристики текста (скажем, дискуссии о подлинных речениях и делах Иисуса часто касаются не конкретных слов или действий, а сути и образцов поведения). В каком-то смысле когезия, структурная связность, могла бы оказаться более удачным критерием, поскольку ее предмет – именно устойчивые текстуальные феномены. И все же при изучении исторического Иисуса термины когерентность и согласованность используются сходно, несмотря на их крайне субъективный характер и на то, что их трудно продемонстрировать[204].
С точки же зрения историографии главный порок этого критерия заключается в том, что сам по себе он неадекватен как исторический критерий. Чаще всего на когерентность и согласованность или на родственные им понятия гармонии и структурной связности ссылаются при исследовании литературных текстов, не претендующих на историчность или на присутствие в них сведений, подходящих для историка. Критерий когерентности не может служить надежным основанием для интеграционистской исторической модели, поскольку представляет собой только половину уравнения. Он говорит лишь о том, что опознанные элементы могут неким должным образом соотноситься с другими элементами дискурса, – но это вовсе не значит, будто указанные элементы как-то связаны с событиями, произошедшими в прошлом в какой-то определенный момент: они могут быть как фактом, так и выдумкой. Необходимо говорить о конкретных случаях применения такого критерия, чтобы просто предположить наличие некой связи между какой-то определенной характеристикой и тем, что Иисус реально говорил или делал, – и тем более чтобы распознать такую связь или указать на нее.
4. Критерий множественных свидетельств, или метод поперечного среза[205]. Критерий множественных свидетельств, или метод поперечного среза – это, по сути, два разных, хотя и взаимосвязанных метода: первый касается свидетельств независимых традиций, а второй – того, как об одном и том же элементе по-разному говорят разные источники[206]. Критерий множественных свидетельств, один из редких примеров критерия, созданного вне сферы влияния немецких исследователей и, в частности, школы критики форм, появился вслед за осознанием того, что некоторые речения Иисуса присутствовали в двух, а то и в нескольких источниках. Эти источники опознали как Евангелие от Марка и источник Q, а вскоре к ним добавились материалы M и L (особые тексты, встречающиеся только в Евангелии от Матфея или только в Евангелии от Луки. – Прим. ред.); кроме того, некоторые библеисты добавляют к числу источников Евангелие от Иоанна и позднейшие аграфы, а порой – даже апокрифические евангелия. Критерий развился, охватив множество форм: притчи, афоризмы, поэтические речения…
В каком-то смысле данный критерий близок к самой сути исторического метода, поскольку за ним стоит вопрос о содержании того или иного источника, как литературного, так и документального. Традиционно источники, которыми пользуются историки, делились на две категории: на дискретные, состоящие из разрозненных частей, и на полные. Критерий множественных свидетельств чуть ли не по определению требует рассматривать источники, по которым изучают исторического Иисуса, как частичные, входящие в более широкие, – и это означает, что о таких следует судить особо. Иными словами, одной из причин появления такого критерия стал тот якобы очевидный факт, что обнаружение в двух или в нескольких источниках эпизода с участием Иисуса или его высказывания повышает вероятность аутентичности находки. Впрочем, это сразу же ставит вопрос о природе самих источников, в которых найдены такие сцены или изречения. Несомненно, рассказывать об этих случаях и репликах стали раньше, чем появился источник. А исследователи исходят из предпосылки «чем раньше, тем надежнее» – хотя и не доказано, будто она всегда верна, и само по себе Евангелие, как источник, может оказаться не менее надежным, чем отдельные первоисточники, которые можно в нем различить. Кроме того, исследователь, используя этот критерий, по умолчанию полагается на определенное решение синоптической проблемы (приоритет Марка). И даже если оставить в стороне тот факт, что в исторических исследованиях, где задействованы внебиблейские источники, Евангелия часто используются совершенно иначе[207], а именно – как отдельные и полноправные независимые источники, то все же в том, что касается развития Евангелий, этот критерий зависит от предшествующего нарратива. Таким образом, этот критерий не без труда выявляет источники и использует их, а поскольку он пытается обратиться к вопросу об их соответствии, он просто относит источники к предыдущему периоду (предположительно – в зависимости от обстоятельств).
5. Критерий феноменов семитского языка[208]. Критерий феноменов семитского языка включает в себя как использование особых черт семитских языков, так и отражение характерных особенностей Палестины. Критерий этот в ходу уже довольно долго, и о нем немало дискутировали, особенно на протяжении последних пятидесяти лет, но даже несмотря на этот факт, меня удивляет то, насколько успешно он противостоит критике, отчего широко применяется и сегодня. Хотя многим кажется, что это очень строгий и обоснованный критерий, он, быть может, зависит от исторической теории сильнее, чем любой другой. Критерий феноменов семитского языка – это прямое отражение немецкого историзма, что особенно заметно в работах таких ученых, как, скажем, Гумбольдт, выдвинувший постулаты лингвистического релятивизма, основанного на разнообразии используемого языка. В результате выделялись не только отдельные лингвистические особенности, ассоциируемые с использованием еврейского или греческого языка (хотя определить их труднее, чем принято считать), но еще и особые ментальности, которые им сопутствовали, – с тем расчетом, что сам язык предопределял способность к познанию. Такой лингвистически обоснованный национализм и, следовательно, подобное обособление прямо связаны именно с данным критерием, поскольку всех, кто говорил на семитских языках (даже владея при этом и греческим), сводили в одну группу, предполагая, что их мысли, речь и письменность обусловлены их лингвистическими и этническими истоками. А кроме того, при обращении к этому критерию начинает действовать и дихотомическое взаимоисключающее мышление, которое можно заметить в противопоставлении двух ментальностей: древнееврейской и греческой. Господствующая ментальность, ассоциируемая с критерием семитского языка, часто вносит столь суровые ограничения, что искажает картину античного мира, отчего возникает картинка, изображающая мнимое противостояние евреев всем прочим народам, – хотя сами эти евреи были эллинизированной этнической группой в греко-римском мире, этнически многообразном, но при этом стремившемся к всеохватности. Критерий феноменов семитского языка не только несет в себе ложную логику противопоставления (напоминая нам о лингвистическом релятивизме гипотезы Сепира-Уорфа)[209], но и приводит к ряду проблем при постановке вопросов – скажем, к подмене посылки желаемым выводом или к созданию ложной дихотомии[210]. Похоже, данный критерий требует для ранней Церкви наличия среды с безраздельным господством семитских языков, – хотя этому нарративу противоречат многие свидетельства[211]. В итоге очень трудно облечь в единое повествование и рассказы о жизни евреев в греко-римском мире (в который им приходилось интегрироваться и культурно, и лингвистически), и отчеты о их жизни в Палестине, и тот момент, что все самые ранние евангельские материалы передавались на греческом, и тот факт, что Церковь, с точки зрения ее источников и свидетельств, почти с самого своего начала была лингвистическим и культурным феноменом, связанным с греческим языком[212].
6. Критерий «смущения» (или противодействия редакторскому уклону)[213]. Критерий «смущения» в своем многолетнем развитии прошел ряд этапов. Он восходит по меньшей мере к работам Кеземана; впрочем, есть указания даже на то, что немцы пользовались им в XIX веке[214]. Тот, кто полагается на материал, противоречащий редакторскому уклону, сталкивается с трудностью: ему необходимо предсказать и «исчислить» соответствующий уклон, а для этого нужен заранее готовый и к тому же теоретически обоснованный набор предпосылок. Кроме того, в таком случае трудно характеризовать Иисуса иначе, нежели это сделали минималисты, которые описали его как человека, чей образ совершенно не походит ни на один из тех, какие отражены во всех литературных источниках, из которых мы о нем узнаем. В результате критерий «смущения» стал более популярным в недавних дискуссиях. Его вторая форма стремится найти такой материал, который должен был бы смущать раннюю Церковь, однако сохранился в ее повествованиях. Данный критерий, как и ряд других, о которых мы уже говорили, историографически не вполне надежен, поскольку создает «отделенного» Иисуса, чьи поступки нетипичны и внушают смущение, – но это форма критерия двойного несходства, равно так же позитивистская и минималистская. Возможно, эти поступки и реплики аутентичны, но они не могут быть репрезентативными. Кроме того, этот критерий полагается на «инвертированное» чувство содержательной связности повествования, на фоне которого некоторые деяния и изречения причисляются к «смущающим» – и прямо предполагает, что существуют ясные и четкие представления об обычном или нормальном поведении Иисуса, на фоне которых можно оценить его «смущающие» дела и слова. Кроме субъективного вопроса о том, что именно смущает последователей Иисуса, тут звучит и вопрос о том, что должно было смущать раннюю Церковь, и данный критерий пытается отыскать точки соответствия, но ему не хватает содержательно связных элементов для создания целого нарратива.
7. Критерий отвержения и казни (или исторической непротиворечивости)[215]. Критерий отвержения и казни, или исторической непротиворечивости событий, связанных со смертью Иисуса, некоторые нынешние библеисты, изучающие исторического Иисуса, считают наиболее надежным[216]. Он в чем-то сходен с уже упоминавшимися критериями когерентности и «смущения» и, быть может, что важнее всего, с критерием несходства, а потому содержит в себе, пусть и наряду с немногими достоинствами, историографические пороки тех критериев. Если говорить о непротиворечивости, данный критерий основан на предпосылке о том, что существуют установленные исторические факты, связанные с Иисусом, которым могли бы соответствовать другие факты: к таким, скажем, относится то, что Иисуса казнили иудейские и римские власти. Впрочем, данный критерий не позволяет утверждать, что те события действительно произошли – он говорит лишь о том, что есть определенные другие события, которым соответствуют упомянутые. В плане «смущения» он должен установить, какое именно действие «смущает», и уточнить, для какой именно группы оно предстает таким: для последователей Иисуса – или для ранней Церкви. Что касается несходства, данный критерий уделяет внимание событиям, связанным со смертью и казнью Иисуса, и изолирует их, предполагая их отличие и их особый характер по сравнению с другими событиями и изречениями в Евангелиях, а потому его направленность носит позитивистский и минималистский характер. В лучшем случае данный критерий может занимать скромное место в историографическом отчете сторонника интеграционизма.
8. Критерий исторического правдоподобия[217]. Критерий исторического правдоподобия – это попытка Тайсена и Уинтер преодолеть ограничения всех предыдущих критериев[218]. Он задействует два класса критериев, каждый из которых подразделяется. Первый класс – критерии правдоподобия последствий, с двумя подкритериями: противодействие редакторскому уклону и содержательная связность источников. Второй класс – критерии правдоподобия исторического контекста, где также есть два подкритерия: соответствие окружению и контекстуальное своеобразие. С помощью данного критерия Тайсен и Уинтер пытались преодолеть минималистский скептицизм критерия несходства и надежно поместить Иисуса в его контекст. Тем не менее этот видоизмененный критерий не умаляет значения иных традиционных критериев, об историографических недостатках которых мы уже говорили. Данный критерий включает в себя такие критерии, как когерентность, редакторский уклон, множественные свидетельства и двойное несходство в модифицированном виде, хотя их позитивистский ракурс, похоже, сохраняется. Все эти критерии едины в том, что каждый из них почти во всем полагается на когерентную теорию истины, а потому их направленность нельзя считать чисто интеграционистской.
Заключение
Критерии аутентичности при изучении исторического Иисуса обладают особым статусом, как показал этот краткий обзор, где они рассматривались по отношению к критериям лингвистически информированного исторического исследования. Эти критерии возникли не в первые века христианства и даже не в Средневековье и не в период Возрождения. Большинство из них появилось в рамках немецкой школы историзма в XIX–XX веках, и нередко они связаны с критикой форм.
Теперь, когда мы знаем их историческое развитие, легче понять, почему в ХХ веке в исследовании исторического Иисуса появлялись некоторые тенденции, особенно среди немецких ученых. Существует стандартная периодизация, в которой в изучении исторического Иисуса выделяют четыре этапа: это, во-первых, период Leben-Jesu-Forschung (достойно внимания то, что он даже обозначается по-немецки); период отсутствия поиска (начало ХХ века, расцвет критики форм); период Второго поиска и, наконец, так называемый период Третьего поиска, – и все они становятся понятны в представленных выше рамках. Тесная связь между ходом изучения исторического Иисуса в Германии и развитием критериев аутентичности позволяет прояснить ряд вопросов, имеющих отношение к «Исследованию Иисуса». Один из таких вопросов касается появления самих критериев: того, как они были созданы и почему обрели именно такую форму; другой вопрос посвящен природе их недостатков.
У этих критериев есть ряд существенных ограничений. Одни связаны с предпосылками немецкого историзма и несут на себе его отпечаток. Другие ограничены в степени подробности данных, а также в их количестве. Многие (а возможно, и все) критерии можно считать разновидностью критерия двойного несходства. Но даже несмотря на свою популярность и на то, что его широко применяли на протяжении последних ста лет (без сомнения, из-за влияния немецких исследователей), он способен предоставить лишь ограниченный набор историографических данных. А поскольку большинство критериев связано с ним, они тоже дают нам в лучшем случае ограниченное количество нерепрезентативных данных для воссоздания жизни Иисуса. Неудивительно, что в результате – по крайней мере в некоторых немецких ученых кругах – именно из-за этого критерия и его вариаций интерес к жизни Иисуса ослабел. У других критериев есть свои дополнительные ограничения, отчего и сложно создать исторический нарратив.
Эти критерии могут быть только частью лингвистически информированного подхода к написанию исторического повествования, – из-за понятий взаимосвязи и истины, которые в них заключены. А о более полноценном интеграционистском подходе, который в попытке создать коммуникативный нарратив об Иисусе полагается на полный спектр данных, в сфере изучения исторического Иисуса нам пока еще остается лишь мечтать.
Раздел 2
Археология и топография: Иисус и его мир