Читать онлайн Каллокаин бесплатно
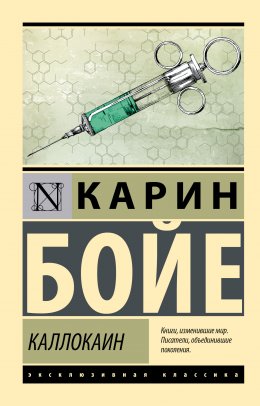
© Перевод. А. Лавруша, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
Глава первая
Книга, которую я начинаю писать, покажется бессмысленной многим – если рискнуть предположить, что «многие» ее вообще прочтут – поскольку я, хоть и взялся за этот труд исключительно по собственной воле и без чьего-либо приказа, цель свою пока различаю неясно. Я хочу и должен – и ничего более. Требование определить цель и составить план для всего, что ты делаешь и говоришь, звучит все ультимативнее, предполагая, что никто ни слова не должен произносить наобум – и только автор этой книги вынужден избрать иной путь, выйдя на простор бесцельного. Ибо, несмотря на то, что годы (думаю, их уже больше двадцати), проведенные мною здесь в качестве заключенного и химика, были достаточно заполнены работой и не оставляли досуга, есть нечто, не позволяющее мне удовлетвориться этим, – нечто, генерирующее и контролирующее иную мою внутреннюю работу, контролировать которую сам я не способен, но в которой тем не менее заинтересован глубоко и почти болезненно. Эта работа завершится, как только я закончу книгу.
Таким образом, осознавая степень бессмысленности моих писаний для всех, кто мыслит рационально и практически, я все равно продолжаю писать.
Возможно, раньше я бы на это не решился. Возможно, легкомысленным меня сделала именно тюрьма. Условия жизни у меня сейчас почти не отличаются от того, как я жил, будучи свободным человеком. Пища чуть хуже – я привык. Нары жестче, чем кровать в родном Химиогороде № 4 – я привык. Я реже выхожу на улицу – я привык и к этому. Тяжелее всего далась разлука с женой и детьми, особенно учитывая, что я ничего не знал (и по-прежнему не знаю) об их судьбе; именно из-за этого первые годы моего заточения были наполнены отчаянием и страхом. Но постепенно я успокоился, а существование даже начало мне нравиться. У меня нет поводов для тревог. Нет подчиненных и начальников – только охранники, которые почти не вмешиваются в мою работу, следя лишь за тем, чтобы я соблюдал предписанные правила. Нет покровителей и конкурентов. Ученые, на встречи с которыми меня иногда приводят, чтобы познакомить с новинками хронологии химии, вежливы и признают во мне профессионала, пусть и с долей снисхождения к моей национальности. Я знаю, что ни у кого нет причин мне завидовать. То есть с некоторого момента я почувствовал себя даже более свободным, чем на свободе. Однако по мере обретения покоя началась эта странная обработка прошлого, и она явно не закончится, пока я не допишу все свои воспоминания об одном весьма событийном периоде моей жизни. Я ученый, поэтому писать мне разрешено, а первичный контроль осуществляется только при сдаче готового исследования. Поэтому я и позволяю себе это единственное удовольствие, понимая, что могу лишиться и его.
Описываемые события начинаются, когда мне было около сорока. Кстати, вообразить собственную жизнь в виде картины – это лучший способ представиться. Мало что способно так же подробно рассказать о человеке, как картина жизни: что́ она для него – дорога, линия фронта, растущее дерево или морской прибой? Для меня это лестница, по которой, как считает пай-мальчик-отличник, нужно изо всех сил бежать вверх от пролета к пролету, не переводя дух и отрываясь от наступающих на пятки соперников. Впрочем, соперников у меня почти не было. Честолюбие большинства коллег по лаборатории касалось только военного дела, а к дневной работе они относились как к скучной, но необходимой паузе перед вечерними военными учениями. Я же, будучи отнюдь не плохим бойцом, вряд ли признался бы кому-либо из них, что химия интересует меня гораздо больше военной службы. По своей лестнице я в любом случае перемещался вверх. И никогда не задумывался ни о том, сколько ступенек осталось позади, ни о блаженстве, которое ждет меня наверху. Возможно, я смутно представлял себе жизнь в виде обычного городского дома, в котором ты, появившись из недр земли, в финале оказываешься на открытой крыше, где тебя ждет свежий вечерний воздух и солнечный свет. Однако, чему именно соответствуют чердак и свет применительно к моей жизненной стезе, я не представлял. Но преодоление очередного пролета непременно отмечалось коротким официальным извещением высшей инстанции: экзамен сдан, тест пройден, мне предоставлено более важное поле деятельности. Подобных финишных и стартовых точек у меня скопилось достаточно много, впрочем, не настолько, чтобы блекло значение новых. Поэтому я и почувствовал жар в крови, узнав из краткого телефонного разговора, что завтра мне назначат куратора и я смогу начать экспериментировать с человеческим материалом. Иными словами, мое самое крупное на тот момент открытие завтра будет подвергнуто главному испытанию.
Я пришел в такое возбуждение, что в оставшиеся десять минут рабочего времени никак не мог приступить к какому-либо новому делу. Вместо этого я пошел на хитрость – кажется, впервые в жизни – и начал заблаговременно, медленно и осторожно убирать аппараты, искоса посматривая в обе стороны через стеклянные стены, чтобы удостовериться, что за мной не наблюдают. Как только раздался сигнал окончания смены, я спешно устремился по длинным коридорам лаборатории к выходу, оказавшись чуть ли не первым в потоке. Быстро принял душ, переоделся из униформы для работы в униформу для досуга, запрыгнул в лифт-патерностер и несколько мгновений спустя уже стоял на улице. Нам выделили квартиру в районе моей работы, что обеспечивало наземной лицензией, и я всегда наслаждался возможностью прогуляться на свежем воздухе.
Когда я проходил мимо метро, меня осенило, что можно подождать Линду. Я вышел рано, и она наверняка еще не успела вернуться домой со своего пищевого комбината, находившегося примерно в двадцати минутах езды на метро. Подъехал поезд, хлынувший из-под земли людской поток сначала столпился у турникета, где проверялись наземные лицензии, а потом растворился на ближайших улицах. Поверх крыш с опустевшими террасами, поверх рулонов брезента цвета серых скал и луговой зелени, с помощью которых город за десять минут можно было сделать невидимым с неба, я рассматривал кишащую толпу возвращающихся домой бойцов в униформе для досуга и внезапно подумал, что всех их, возможно, преследует мечта, похожая на мою, – мечта о пути наверх.
Мысль не отпускала. Я знал, что раньше, в цивильную эпоху, усердно работать людей заставляла надежда на более просторную квартиру, вкусную еду и красивую одежду. Сейчас все это никому не нужно. Квартиры стандартные: однокомнатные для одиноких, двухкомнатные для семейных – всем бойцам хватает с лихвой, и самым ничтожным, и самым заслуженным. В придомовых кухнях еда готовится и для генералов, и для рядовых. Стандартная униформа – одна для работы, вторая для отдыха, плюс еще одна для военно-полицейской службы – одинакова для всех, для мужчин и женщин, для высоких и низких, только чины обозначались по-разному. Что, впрочем, никак не отражалось на привлекательности униформы. Желанным в высокой начальственной должности было исключительно то, что она символизировала. «На самом деле любой солдат Мирового Государства настолько высокодуховен, – радостно думал я, – что в его представлении высшая жизненная ценность выражается в виде трех черных петлиц на рукаве. Три черные петлицы служат залогом самоуважения и уважения со стороны других». Материальных наслаждений, разумеется, можно получить достаточно и даже ими пресытиться – именно поэтому я и подозреваю, что бывшие двенадцатикомнатные квартиры капиталистов тоже были всего лишь символом – однако пресытиться тем зыбким и ускользающим, что скрыто за петлицами, невозможно. Нет человека, который не стремился бы получить больше уважения и самоуважения, чем уже снискал. Именно это – самое одухотворенное, неосязаемое и недостижимое – и есть основа, на которой покоится наш установленный на века общественный порядок.
Я продолжал стоять в раздумьях у метро и, словно во сне, наблюдать, как вдоль квартальной стены, увенчанной колючей проволокой, вперед-назад перемещается охранник. Проехало четыре поезда, четыре раза на свет выплескивалась толпа, пока через турникет наконец не прошла Линда. Я поспешил к ней, и дальше мы пошли вместе.
Мы, разумеется, не разговаривали, поскольку учения воздушного флота делали любые разговоры на улице невозможными, будь то днем или ночью. Но она заметила радостное выражение у меня на лице и ободряюще кивнула, не теряя своей привычной серьезности. Внутри многоквартирного дома наступила относительная тишина – грохот метро все еще сотрясал стены, но уже позволял говорить беспрепятственно – но, поднимаясь в лифте к себе на этаж, мы все равно предусмотрительно молчали. Если бы нас застали за разговором в лифте, то со всей очевидностью заподозрили бы в обсуждении темы, которую мы хотим скрыть от детей и прислуги. Такое периодически случалось, когда враги государства и прочие предатели пытались использовать лифт для конспиративных встреч; место было подходящим, ведь ни око, ни ухо полиции нельзя вмонтировать в кабину по техническим причинам, а у вахтера обычно есть дела поважнее, нежели бегать по лестницам и подслушивать. Таким образом, мы соблюдали осторожность и заговорили только, когда оказались в семейной комнате, где дежурившая на этой неделе прислуга уже приготовила ужин и ждала нас вместе с детьми, которых она забрала с детского этажа нашего дома. Девушка производила впечатление порядочной и милой, так что наше теплое приветствие было обусловлено не только пониманием того, что она, как всякая прислуга, в конце недели обязана предоставить отчет о семье – по сведениям, во многих семьях эта реформа существенно улучшила отношения. За нашим столом в тот день царила атмосфера особого уюта и веселья, поскольку к нам присоединился Оссу, наш старший сын. Он приехал из детского лагеря, где по расписанию значился семейный вечер.
– У меня есть хорошая новость, – сказал я Линде, пока мы ели картофельный суп. – Мой эксперимент продвигается так успешно, что завтра я смогу начать работу с человеческим материалом под надзором куратора.
– Как думаешь, кто это будет? – спросила Линда.
Внешне все наверняка осталось незаметным, но внутренне я содрогнулся от ее слов. Возможно, она спросила без задней мысли. Жена поинтересовалась, кто будет куратором мужа, – что может быть естественнее?! От придирчивости или уступчивости куратора зависит продолжительность эксперимента. А еще случается, что честолюбивые кураторы присваивают открытие себе, и возможности застраховаться от подобного относительно невелики. В том, что близкий человек хочет узнать, кто будет куратором, нет ничего странного.
Но я уловил в ее голосе подтекст. Мой непосредственный начальник и возможный будущий куратор – Эдо Риссен. Бывший сотрудник пищевого комбината, на котором работает Линда. Я знал, что в прошлом они как-то пересекались, и по ряду косвенных признаков понял, что некоторое впечатление он на мою жену произвел.
От ее вопроса проснулась и вырвалась на волю моя ревность. Насколько близки в действительности были ее отношения с Риссеном? Комбинат огромный, и двое могут легко выпасть из поля зрения там, где обзор сквозь стеклянные стены затрудняют мешки и контейнеры, а других сотрудников нет рядом… Линда периодически работает в ночную смену. В ту же ночь мог дежурить Риссен. Ничего нельзя исключить, в том числе худшее: она по-прежнему любит его, а не меня.
В те времена я редко задумывался о себе, о том, что думаю и чувствую, равно как и о том, что думают и чувствуют другие, – коль скоро это не имело для меня прямого практического значения. И только позже, в одиночестве изоляции, мгновения начали разворачиваться назад, превращаясь в загадки и вынуждая меня формулировать вопросы и искать ответы, снова и снова. Теперь, спустя годы, знаю, что когда я жаждал обрести «уверенность» в вопросе Линды и Риссена, на самом деле мне не нужна была уверенность в том, что между ними ничего нет. Мне нужна была уверенность в том, что ее тянет прочь от меня. Уверенность, которая положила бы конец моему браку.
Но в то время я бы с презрением отверг подобную мысль. Я бы сказал, что Линда играет слишком важную роль в моей жизни. И это было бы правдой. Этого не изменили ни размышления, ни переосмысления. По значимости Линда вполне могла конкурировать с моей карьерой. Против моей воли, неким непостижимым образом она привязала меня к себе.
О любви иногда говорят как об устаревшем романтическом понятии, но, боюсь, она все-таки существует и изначально содержит в себе неописуемо мучительный элемент. Мужчину влечет к женщине, женщину влечет к мужчине, и каждый шаг к сближению заставляет обоих терять частицу себя; серия проигрышей там, где был расчет на победу. Уже в первом браке – бездетном и, как следствие, бессмысленном – я почувствовал этот привкус. Линда же нарастила его до кошмара. В начале нашего брака меня действительно преследовал кошмар, хотя тогда я не связывал его с Линдой: я стою в кромешном мраке, освещенный прожектором, и чувствую, как из тьмы на меня смотрит Глаз, я извиваюсь, как червь, чтобы уйти от этого взгляда, и мне, как псу, стыдно потому, что одет я в какое-то убогое тряпье… И только много позже я понял, что это была картина моего отношения к Линде, я ощущал себя пугающе прозрачным, хотя делал все возможное, чтобы увернуться и защититься, а она по-прежнему оставалась загадкой, удивительной, сложной, почти сверхчеловеческой, но бесконечно волнующей и поэтому обладающей ненавистным преимуществом. Всякий раз, когда ее губы смыкались и натягивались в тонкую красную линию – о, нет, не в улыбку, презрительную или радостную, здесь подходит именно слово «натяжение», так натягивается тетива лука, а широко раскрытые глаза оставались неподвижными – всякий раз я испытывал приступ тревоги, а Линда связывала меня все крепче и влекла к себе все немилосердней, хоть я и догадывался, что она никогда мне не откроется. Полагаю, говорить о «любви» уместно там, где посреди безысходности люди держатся друг за друга, как будто чудо вопреки всему произойдет – тогда мучения обретают своего рода самостоятельную ценность, подтверждая, что у двоих, по крайней мере, есть общее: ожидание того, чего нет.
Мы видели, что многие семьи вокруг распадаются, как только дети поступают в детский лагерь, – родители разводятся, чтобы завести новые отношения и новых детей. Оссу, нашему старшему, было восемь, то есть в детском лагере он успел провести год. Младшей, четырехлетней Лайле, оставалось три года дома. А потом? Потом мы тоже расстанемся и создадим новые семьи, инфантильно полагая, что рядом с другим человеком прежнее ожидание станет менее безнадежным? Здравый смысл твердил мне, что это жалкая иллюзия. Но единственная крошечная и неразумная надежда шептала: нет, нет – причина твоей неудачи с Линдой только в том, что ей нужен Риссен! Она принадлежит Риссену, а не тебе! Удостоверься, что в ее мыслях не ты, а Риссен – и все объяснится, а у тебя появится шанс встретить новую любовь, в которой будет смысл!
Вот так странно все переплелось в мыслях от заданного Линдой простого вопроса.
– Возможно, Риссен, – ответил я, жадно вслушиваясь в последовавшее молчание.
– Вопрос о сути эксперимента будет некорректным? – обратилась ко мне прислуга.
Право спросить у нее, разумеется, было, она, собственно, и находилась тут, чтобы следить за происходящим в нашей семье. Но я не мог определить, есть ли здесь нечто, что можно исказить и обратить против меня, равно как и то, навредит ли Государству преждевременно распространенный слух о моем изобретении.
– Я надеюсь, что это принесет пользу Государству, – ответил я. – Речь о средстве, которое заставляет любого человека открыть свои тайны и рассказать все, о чем он раньше умалчивал из стыда или страха. Боец, вы родились в этом городе?
Иногда в химиогородах можно встретить людей, привезенных из других регионов в период депопуляции и не получивших общего химического образования, а лишь слегка поднахватавшихся в более взрослом возрасте.
– Нет, – ответила она, покраснев, – я не отсюда. – Более детальные расспросы о происхождении были строжайше запрещены, ибо могли использоваться шпионскими службами. Именно поэтому она и покраснела.
– В таком случае вдаваться в подробности химического состава или производственного процесса я не буду, – произнес я. – Впрочем, я в любом случае этого не сделал бы, потому что никто и ни при каких обстоятельствах не должен получить это вещество в собственные руки. Но вы, вероятно, слышали об алкоголе, который раньше использовался в качестве опьяняющего средства, и об особенностях его воздействия?
– Да, – кивнула она, – мне известно, что употребление алкоголя разрушало семьи, наносило вред здоровью, а в тяжелых случаях вызывало конвульсии во всем теле и галлюцинации в виде белых чаек, куриц и прочего.
Узнав абзац из вводного раздела учебника, я улыбнулся. Общее образование она явно получала не в химиогороде.
– Совершенно верно, – подтвердил я. – В тяжелых случаях. Но прежде чем доходило до такого, пьяные часто говорили лишнее, выбалтывали секреты и совершали безрассудные поступки, поскольку у них купировалась способность испытывать стыд и страх. Ровно такое же действие будет иметь и мое средство – я так полагаю, поскольку испытания еще не завершены. Отличие в том, что оно не проглатывается, а вводится напрямую в кровь с помощью инъекции и имеет принципиально другой состав. Упомянутые вами побочные действия у него отсутствуют – по крайней мере, необходимости в таких сильных дозах нет. Подопытный не чувствует ничего, кроме легкой головной боли. Кроме того, отсутствует и другой эффект алкоголя – человек не забывает то, что сказал. Представляете, какое это важное изобретение? Ни один преступник не сможет больше скрыть правду. А самые потаенные мысли отныне принадлежат не нам – как мы долгое время считали, и считали ошибочно.
– Ошибочно?
– Разумеется, да. Из мыслей и чувств рождаются слова и поступки. Разве могут мысли и чувства оставаться личным делом индивида? Разве любой боец не принадлежит Государству целиком и полностью? А раз так, то кому, как не Государству должны принадлежать все его мысли и чувства? Просто до недавнего времени отсутствовала возможность их контролировать – но теперь средство найдено.
Она бросила на меня быстрый взгляд, но тут же отвела глаза. Выражение лица не переменилось ни на йоту, но она едва заметно побледнела.
– Боец, вам нечего бояться, – приободрил я ее. – Никто не станет выяснять, кто в кого влюбился или разлюбил. Если мое изобретение попадет в частные руки – вот тогда может начаться невообразимый хаос! Но этого, разумеется, не произойдет. Средство будет служить нашей безопасности, всеобщей безопасности, безопасности Государства.
– Я не боюсь, мне нечего бояться, – ответила она довольно холодно, – я просто проявила дружеское любопытство.
И мы сменили тему. Дети рассказывали о том, что происходило на детском этаже. Они играли в игровом резервуаре – большом эмалированном чане метровой глубины, площадью четыре квадратных метра – в котором можно не только сбрасывать игрушечные бомбы, поджигать леса и крыши домов из воспламеняющихся материалов, но и проводить настоящие морские сражения в миниатюре, для чего чан наполняли водой, а пушки корабликов заряжали теми же легкими взрывчатыми веществами, которые используются в игрушечных бомбах; там были даже торпедоносцы. Это позволяло ребенку в игровой форме натренировать стратегическое мышление, сделав его второй натурой, почти инстинктом – и одновременно прекрасно развлекало. Подчас я даже завидовал собственным детям, потому что они росли с такими современными игрушками – в моем детстве изобрести легкие взрывчатые вещества еще не успели – и я действительно не понимал, почему они так хотят, чтобы им поскорее исполнилось семь и их переместили в детский лагерь, пребывание в котором круглосуточно, а занятия гораздо больше похожи на настоящую военную службу.
Мне не раз казалось, что, в сравнении с нами, новое поколение настроено более реалистически. В тот день я получил тому очередное подтверждение. Мы проводили вместе семейный вечер, ни у меня, ни у Линды не было военно-полицейского дежурства, а Оссу приехал из лагеря повидаться с нами – именно так семьям обеспечивалась личная жизнь – и я придумал для детей развлечение. Купил в лаборатории и принес домой мизерное количество натрия, с помощью которого решил запустить по водной поверхности бледно-фиолетовое пламя. Мы водрузили в центр миску с водой и, погасив свет, собрались смотреть мой маленький химический фокус. Когда-то давно, когда отец впервые показал мне этот феномен, он привел меня в восторг, но для моих детей это стало сокрушительными провалом. То, что слабенький огонь не оценит Оссу, который уже сам разводил костры, стрелял из детского пистолета и бросал петарды, имитировавшие ручные гранаты, – можно было легко спрогнозировать. Но меня удивило, что даже четырехлетняя Лайла не заинтересовалась взрывом, который не стоил жизни ни одному врагу. Увлеклась зрелищем только Мэрил, наша средняя дочь. Она сидела неподвижно и со свойственным ей мечтательным видом следила за шипящим фонариком такими же, как у матери, широко раскрытыми глазами. Ее внимание меня несколько утешило, но я встревожился. Мне стало ясно, что Оссу и Лайла – дети нового времени. Их подход – деловой и правильный, в то время как мое отношение определялось устаревшей романтикой. И хотя Мэрил меня поддержала, я внезапно захотел, чтобы она тоже была больше похожа на других. Отставание в развитии от здоровых представителей поколения не предвещает ничего хорошего.
Вечер подходил к концу. Оссу нужно было возвращаться в лагерь. Даже если он хотел остаться или боялся долгой дороги в метро, виду он не подал. В свои восемь он уже был дисциплинированным бойцом. Меня же захлестнула горячая тоска по тем временам, когда все трое укладывались спать в свои кроватки. Что бы там ни говорили, но сын – это сын, и он всегда ближе к отцу, чем дочери. Мне стало страшно при мысли, что когда-нибудь Мэрил и Лайла тоже уйдут и будут навещать нас дважды в неделю. Но я постарался сделать так, чтобы эта моя слабость осталась незаметной. Дети не должны однажды пожаловаться, что им подают дурной пример. Прислуга не должна доложить, что глава семейства расчувствовался, а Линда… Только не Линда! Ни у кого мне не хотелось бы вызывать презрение – но меньше всего у Линды, которая никогда не бывала слабой.
В семейной комнате разложили кровати и постелили девочкам, Линда подоткнула им одеяла. Прислуга, загрузив в пищевой лифт остатки еды и посуду, уже собиралась привести себя в порядок и уйти, но тут внезапно вспомнила о чем-то и воскликнула:
– Ах да, босс, вам пришел конверт. Я оставила его в родительской комнате.
Мы с Линдой с некоторым удивлением рассматривали письмо – служебное. Если бы я был полицейским куратором прислуги, я бы точно вынес ей предупреждение. Либо она действительно забыла, либо упущение сделано намеренно, кроме того, она проявила безответственность, не ознакомившись с содержанием письма – она имела полное право вскрывать почту. Но тут мне пришло в голову, что содержание письма, возможно, таково, что за недобросовестность я буду ей признателен.
Отправителем значилось Министерство Пропаганды, Седьмое Бюро. Однако, чтобы объяснить смысл послания, мне следует вернуться на некоторое время назад.
Глава вторая
Это случилось на празднике два месяца назад. Один из залов для собраний молодежного лагеря украсили полотнищами цветов флага Государства, присутствующие разыгрывали скетчи, произносили речи, маршировали под барабаны и вместе угощались праздничной едой. Поводом стал приказ о передислокации отряда девушек молодежного лагеря. Куда именно, никто точно не знал, ходили слухи о другом химиогороде, кто-то упоминал один из кирзогородов, в любом случае это было место, где произошел дисбаланс в численности рабочей силы и процентного соотношения полов. Молодых женщин из нашего и, вероятно, других населенных пунктов отправляли туда, дабы соблюсти однажды установленные показатели. В связи с чем и было устроено торжественное прощанье с призывницами.
Подобные мероприятия всегда отчасти напоминали солдатские проводы. А ведь разница была колоссальна: на нынешнем празднике и отъезжающие, и остающиеся знали, что ни один волос не упадет с головы того, кто покидает родной город, – более того, будет сделано все, чтобы молодежь легко вросла в новое окружение и быстро начала ликовать и наслаждаться. Но объединяло проводы то, что обе стороны получали практически стопроцентную гарантию, что никогда больше не увидят друг друга. Между городами разрешалось только официальное сообщение, за которое в целях предотвращения шпионажа отвечали специальные служащие, давшие присягу и работавшие под строжайшим контролем…
И даже если в исключительном случае призывник вдруг попадал на транспортную службу – вероятность чего была ничтожной, поскольку дорожники осваивали свою специальность чуть ли не с младенчества в отдельных транспортно-образовательных городах – требовалось еще одно редкое совпадение: призывника должны были взять на одну из магистралей, которые ведут в его родной город, и отпустить в увольнительную ровно тогда, когда он в этом городе оказался; это касалось работников наземного транспорта – авиационный персонал всегда проживал отдельно от семей и под постоянным наблюдением. Короче, для встречи родителей с перемещенными детьми требовалось чудо в виде цепочки счастливых совпадений. Без учета этого – а учитывать это действительно не стоило, поскольку фиксация на мрачных рассуждениях в такой день запрещалась – праздник протекал радостно, как и всегда, когда отмечалось нечто, способствующее благополучию и процветанию Государства.
Будь и я среди празднующих, все последующие события никогда не произошли бы. Предвкушение прекрасной пищи – на подобных мероприятиях она непременно в изобилии и хорошо приготовлена, а участники всегда набрасываются на нее с волчьим аппетитом – барабаны, речи, праздничная толчея и слаженные речовки – все это наполняло зал общим великим восторгом, привычным и необходимым. Но я находился не с родителями, не с сестрами и братьями и не с молодежными лидерами. Это был один из четырех вечеров недели, когда я нес военно-полицейское дежурство, поэтому в торжестве участвовал в качестве полицейского секретаря. Что предусматривало не только позицию на одном из четырех угловых подиумов и ведение протокола мероприятия вместе с тремя другими секретарями, находящимися на трех других подиумах, но и сохранение хладнокровия, необходимого для наблюдения за залом. При стычках или обнаружении лиц, пытающихся совершать некие действия незаметно (кто-то, к примеру, мог попытаться уйти сразу после переклички), собранные секретарями сведения становились существенным подспорьем для председателя и охранников, которые зачастую занимались каким-либо практическим вопросом, в то время как четыре полицейских секретаря из своих достаточно укромных мест ни на миг не выпускали зал из поля зрения. Таким образом, я, будучи изолированным, неотрывно смотрел на толпу. Даже если мне в отдельные моменты и хотелось вместе со всеми испытать радостное чувство общности, я понимал, что эту жертву более чем компенсирует осознание собственной важности и достоинства. К слову, ближе к вечеру полицейского секретаря обязательно сменяли, чтобы и он мог поесть, ни о чем не тревожась.
Девушек, с которыми все прощались, насчитывалось не больше пятидесяти, и они явно выделялись из общей массы, поскольку носили специальные позолоченные короны, которые Государство давало напрокат в подобных случаях. Одну из призывниц я особо отметил автоматическим вниманием, возможно, потому что она была необычайно красива, а возможно, из-за живого беспокойства, которое, как скрытый огонь, вспыхивало в ее взгляде и движениях. Несколько раз я замечал, как она бросает ищущие взгляды в сторону юношей – это было в начале праздника, когда показывали скетчи, а мальчики из мужского лагеря и девочки из женского еще сидели двумя отдельными группами – пока она наконец не обнаружила искомое, и огонь в ее движениях и взгляде превратился в ясное спокойное пламя. Думаю, мне удалось идентифицировать и лицо, которое она искала и нашла: настолько мучительно серьезное в окружении нетерпеливых и радостных, что я их обоих почти пожалел. Когда разыграли последний скетч и молодежь смешалась, я заметил, как эти двое ринулись навстречу друг другу, рассекая толпу, словно воду, чтобы с почти слепой уверенностью встретиться примерно в центре зала и застыть в неподвижном одиночестве среди кричащих и поющих людей. Включилась сирена, а они стояли, словно на тихом скалистом острове, и не понимали, в каком пространстве и времени находятся.
Очнувшись, я фыркнул в собственный адрес. Им удалось втянуть меня в свой асоциальный мир, оторвав от единственного великого таинства: общности. Наверное, я просто устал, потому что мне казалось, что я отдыхаю, когда просто смотрю на них. «Сочувствия, – подумал я, – эти двое заслуживают меньше, чем кто бы то ни было». Что, собственно, может быть полезнее для формирования характера бойца, чем раннее привыкание к великим жертвам ради великих целей? Разве не о шансе принести достаточно великую жертву многие мечтают всю свою жизнь? Зависть – единственное, что я мог испытывать по отношению к ним (тем, кому это удавалось). И, похоже, именно зависть я уловил и в неудовольствии товарищей юной пары – зависть и долю презрения, поскольку те столько сил и времени тратят впустую на отдельного человека. Но я, со своей стороны, презирать их не мог. Они разыгрывали вечную пьесу, прекрасную в своей трагической предопределенности.
Видимо, я действительно переутомился, поскольку мой интерес все время привлекали крошечные детали этого праздника жизнелюбия. Уже через несколько минут после того, как я выпустил из вида девушку и юношу (нетерпеливые товарищи, кстати, растащили их в разные стороны), мое внимание приковала к себе худощавая женщина средних лет, вероятно, мать одной из призывниц. Она тоже казалась в каком-то смысле выключенной из неистово веселящегося коллектива. Не знаю, как я это понял, и не смог бы ничего доказать, потому что она во всем принимала участие, двигалась в такт с марширующими, кивала ораторам, кричала речовки. Но я понял, что она действует механически и не взмывает на гребень освободительной волны коллектива, а остается в стороне – в стороне от собственных движений и голоса, такая же обособленная, как и та молодая пара. Окружавшие ее люди, видимо, тоже это интуитивно чувствовали и всеми способами пытались ее вовлечь. Со своего подиума я несколько раз замечал, как ее брали за руку, тянули за собой, ей кивали, с ней заговаривали, но вскоре оставляли попытки, хотя ее ответы и улыбка срабатывали без сбоев. Только один малорослый, подвижный и некрасивый мужчина решил не сдаваться. Когда она, одарив его усталой улыбкой, приняла еще более усталый и серьезный вид, он встал там, где она его не видела, и начал пристально за ней наблюдать.
Не знаю почему, но уставшая, отстраненная женщина показалась мне в каком-то смысле ближе. Умозрительно я понимал, что если двое юных заслуживают зависть, то женщина заслуживает ее вдвойне; ее героическая жертва больше, следовательно, она сильнее и достойна большей славы. Чувство молодых, вопреки всему, обязательно поблекнет, сменится новым огнем, и даже если они не захотят о нем забыть, оно быстро перестанет причинять им боль и превратится в светлое, красивое воспоминание среди повседневности. Мать же порой жертвует собой ежедневно. Мне самому была знакома подобного рода тоска, глубокая, но в будущем наверняка преодолимая – я уже тосковал по Оссу, моему старшему, при том, что он навещал нас два раза в неделю, и я действительно надеялся оставить его в Химиогороде № 4, когда он вырастет. Конечно, я подозревал, что такое отношение к маленькому бойцу, подаренному Государству, является слишком личным, и ни за что бы не признался в этом чувстве открыто, но оно тайком отбрасывало тень на мою жизнь, возможно, потому что было совершенно секретным и контролируемым. В женщине угадывались такие же муки, такой же подход и то же сдержанное самообладание. Я не удержался и представил себя на ее месте: никогда больше она не увидит свою дочь и вряд ли даже что-нибудь о ней услышит, поскольку почта все жестче шерстила частную переписку, и до адресатов теперь доходили только действительно важные сообщения, изложенные кратко, по существу и должным образом заверенные. И тут мне в голову пришла дерзкая индивидуалистически-романтичная мысль о том, что бойцы, пожертвовавшие собственным сентиментальным существованием, должны получать за это определенное «возмещение», выраженное в самом высоком и дорогом, о чем только можно мечтать: в славе. Слава служит более чем достаточным утешением искалеченным воинам, так почему бы не утешать славой и каждого бойца, который чувствует, что искалечен изнутри? Именно эта неокрепшая романтическая мысль позже вечером и породила мой опрометчивый поступок.
Пробил час смены караула, я передал пост новому полицейскому секретарю и спустился в толпу с намерением раствориться во всеобщем восторге. Возможно, я был слишком утомлен и голоден, чтобы в этом преуспеть. К счастью, именно в это время из кухни по отлично смазанным рельсам въехали в зал столы с сервированным ужином, и вокруг сего великолепия все расставили свои складные стулья. Не знаю, случайно или намеренно, но напротив меня странным образом оказалась та самая женщина, на которую я обратил внимание. Вполне вероятно, что она тоже выделила меня из толпы и прочла на моем лице симпатию. Однако маленький, подвижный и некрасивый мужчина, который за ней следил, наверняка сел рядом со мной неслучайно.
Судя по его поведению, он твердо решил извлечь на свет все, что пыталась скрыть женщина. Произносимое им звучало в целом безобидно, но всякий раз бередило то, что казалось ему ее внутренней раной. Он сокрушался по поводу одиночества, которое ждет девушек. «Чтобы предотвратить образование нездоровой группы, – говорил он, – перемещенных всегда распределяют так, чтобы они находились вне досягаемости друг для друга». Им будет трудно привыкнуть к новому климату и освоить новый образ жизни. Что до предполагаемого кирзогорода (откуда, кстати, этот слух, место назначения должно храниться в тайне, поэтому любое предположение может быть как верным, так и неверным!) – так вот, что до кирзогородов, то лишь немногие из них расположены, как Химиогород № 4, на юге, большинство же находятся далеко на севере, там, где суровый климат и долгие темные ночи, которые кого угодно сделают меланхоликом. А хуже всего там, кстати, обстоят дела с языком. Единый официальный язык бескрайнего Государства, увы, не успел стать общим повсюду. В отдаленных регионах по-прежнему в ходу народные языки, которые отличаются друг от друга, как небо и земля. Ему лично кто-то по секрету сообщил, что как раз в каком-то кирзогороде говорят на очень сложном языке, у которого совсем другое произношение и другие склонения, чем мы тут привыкли. Хотя слухам, конечно, верить нельзя. Человек, который это сказал, может, вообще ни разу в жизни не покидал Химиогород № 4!
У меня вдруг забрезжила мысль, что коротышкой движет некая жажда мести, но я ее быстро отбросил. По вежливым и упрощенным ответам женщины стало ясно, что они познакомились недавно, возможно, даже сегодня. Постепенно я уловил суть: никаких личных мотивов в действиях мужчины не было, его напористость определялась чистейшей заботой о благе Государства. Он преследовал единственную цель – разоблачить женщину, охваченную лично-сентиментальными асоциальными чувствами, спровоцировать у нее рыдания или резкий ответ, чтобы таким образом пригвоздить к позорному столбу и объявить: смотрите, какие люди еще встречаются среди нас, и нам приходится их терпеть! С этой точки зрения устремления мужчины были не только понятны, но и заслуживали уважения, а противостояние между ним и атакуемой приобрело принципиально новый смысл. Я внимательно следил за ними, а то, что в конце мои симпатии все же остались на ее стороне, объяснялось не прежним слабым сочувствием, а тем, за что мне не следовало стыдиться перед кем бы то ни было: я пришел в восхищение от того, как превосходно, почти по-мужски она отражала все его нападки. Ни намека на гримасу неудовольствия – только учтивая улыбка, ни малейшей дрожи в голосе – только любезный холодноватый тон. В ответ на его мастерские туше она методично выбрасывала формальные утешения. Молодежь легко обучается, северный климат значительно полезнее южного, в Мировом Государстве ни один боец не должен чувствовать себя одиноким, и почему вам жаль, что она забудет родных? Ведь именно это и рекомендуется при перемещении.
Я искренне расстроился, когда эту изящную пикировку прервал грубый рыжеволосый мужчина из ближайших соседей:
– Это еще что за сентиментальное сюсюканье! Эй, боец, как там вас зовут, вы что, очерняете Государство, да и еще в такой день?! Да еще и перед матерью призывницы?! Здесь место для радости, а не для тревог и вздохов!
Ровно перед началом речи в моем мозгу и родилось злосчастное решение уколоть коротышку. Мои обязанности на этот вечер еще не закончились: мне предстояло выступить в качестве одного из официальных ораторов. И в итоге моя тщательно продуманная, включая жесты и прочее, речь получила роковую импровизированную концовку:
– …Да, бойцы, их героизм не уменьшается, если ему сопутствует боль. У воина болят раны. Больно женщине, оплакивающей павшего мужа и надевающей вдовий чепец, даже если радость служения Государству многократно перевешивает эту боль. Боль простительно испытывать и тем, кто расстается в связи с работой, и в большинстве случаев расстается навсегда. И если нашего восхищения заслуживает то, что мать и дочь или друзья разлучаются с радостью в глазах и бодрыми возгласами на устах, то восхищение должно заслуживать и то, что за радостью и возгласами скрывается печаль – печаль, которую сдерживают и отрицают, но, возможно, именно она достойна нашего восхищения еще больше, потому что, благодаря ей, больше становится наша жертва Государству.
Радостно-возбужденная, готовая в любой момент захлопать в ладоши, толпа немедленно разразилась овациями и речовками. И тем не менее то здесь, то там я замечал тех, чьи руки оставались неподвижны. Тысяча аплодировала, двое нет – и эти двое были важнее тысячи, что очевидно, поскольку именно эти двое могли быть доносчиками, и, если они донесут на того, кому аплодировали, ни один из тысячи не пошевельнет и пальцем, чтобы защитить оратора – да и о какой защите в этом случае может идти речь? Ситуация явно складывалась неблагоприятно, меня охватила слабость, и я все время чувствовал на себе взгляд безобразного коротышки, он как будто бесперебойно стрелял в меня из лука. Краем глаза и как бы случайно я посмотрел в его сторону. Разумеется, он не хлопал.
И теперь я держал в руках то, что станет расплатой за тот вечер. Называть доносчика нехорошо, это необязательно был коротышка. Так или иначе, на меня донесли. В письме сообщалось:
«Боец Лео Калль, Химиогород № 4 – Седьмое Бюро Министерства Пропаганды провело экспертизу вашей речи на торжественных проводах призванных работниц молодежного лагеря, состоявшихся 19 апреля сего года, и настоящим сообщает следующее.
Тот, кто борется от всего сердца, эффективнее того, в чьем сердце раскол, таким образом, радостный боец, который ни перед собой, ни перед другими не признает, что чем-либо жертвует, наделяется большей ценностью, чем боец удрученный и отягощенный своей так называемой жертвой, даже если эта удрученность скрыта; следовательно, у нас нет причин превозносить бойцов, пытающихся скрывать внутренний раскол, уныние и личную сентиментальность под маской сдержанной радости; превозносить следует только тех, чья радость стабильна и кому нечего скрывать, тогда как разоблачение лиц, упомянутых ранее, является похвальным поступком, совершенным на благо Государства.
Мы ждем, что вы немедленно принесете извинения всей группе лиц, слушавших вашу речь, если повторный сбор данных лиц возможен; в противном случае вы обязаны извиниться по местному радио.
Министерство Пропаганды, Седьмое Бюро».
Глава третья
Моя реакция оказалась настолько сильной, что мне стало стыдно перед Линдой. Почему это прислали именно сегодня, на пике моего триумфа?! Почему удар обрушился в момент, когда должна осуществиться моя самая заветная мечта?! Я был вне себя и наговорил массу необдуманного, что сейчас, несмотря на хорошую память, с трудом вспоминаю свои слова. Я говорил, что ни на что не годен, что моя карьера разрушена, а мое изобретение – легковесный пустяк в сравнении с тем, что будет написано в моей тайной карточке во всех отделениях полиции Мирового Государства, и прочее. Линда пыталась меня утешать, но мне казалось, что она лицемерит и думает только о том, как лучше сбежать с тонущего корабля, несмотря на то, что дети еще не вышли из домашнего возраста.
– Скоро все узнают, какие опасные антигосударственные речи я произношу, – с горечью произнес я. – Если хочешь, давай разведемся, нестрашно, что дети еще маленькие. Им в любом случае лучше остаться без отца, чем жить рядом с таким опасным для Государства типом, как я…
– Ты преувеличиваешь, – спокойно сказала Линда. (Я точно помню это слово. В ее искренности меня убедило не спокойствие и не материнская интонация, а сильная, на грани равнодушия усталость.) – Ты преувеличиваешь. Вспомни, сколько выдающихся бойцов получали замечания, но потом все с себя смыли? Подсчитай, сколько извинений мы выслушали на радио по пятницам с 20 до 21! Ты должен понимать, что хороший боец вовсе не тот, кто никогда не ошибается, тем более в вопросах государственной этики, которая еще не до конца сформирована! Хороший боец прежде всего тот, кто способен отказаться от своей точки зрения и принять правильную.
Наконец успокоившись, я начал осознавать, что она права. Все еще потрясенный, пообещал ей и себе как можно быстрее воспользоваться радио-часом для извинений. И даже сразу начал делать наброски для будущей речи.
– Снова преувеличиваешь, – сказала Линда, заглянув мне через плечо и прочитав написанное. – Ниц падать не нужно, и не нужно вести себя как каучуковый шнур, способный растягиваться до бесконечности – иначе заподозрят, что в какой-нибудь неподходящий момент ты совершишь обратный отскок. Лео, поверь, в твоем нынешнем возбужденном состоянии лучше ничего не писать.
Она рассуждала правильно, и я был благодарен ей за то, что она рядом. Она умная. Умная и сильная. Но почему у нее такой усталый голос?
– Ты ведь не больна, Линда? – спросил я со страхом.
– Почему я должна быть больна? На прошлой неделе я прошла медосмотр. Мне прописали небольшие дозы облучения свежим воздухом, в остальном у меня все безупречно.
Я подошел и обнял ее.
– Только не умирай, – сказал я. – Ты нужна мне. Ты должна остаться со мной.
Но рядом со страхом одиночества появился лучик надежды: а почему бы и не… почему бы ей не умереть… возможно, именно это и решило бы проблему? Но развивать мысль дальше не хотелось. И я прижал Линду к себе, сильно, словно в приступе безумной ярости.
Мы легли в постель и погасили лампу. Запас снотворного на текущий месяц я давно израсходовал.
Если бы волны ее нежного тепла и запаха, напоминающего чайные листья, не накатывали на меня под нашим общим одеялом, я бы тосковал по ней в тот вечер, тосковал по более тесной близости, чем та, которую дарят легкие прикосновения. С годами я изменился. В молодости мои чувства были своего рода приложением, требовательным спутником, которого нужно насытить, чтобы получить возможность заняться чем-то другим, это было амбициозное орудие наслаждения, но всерьез назвать это частью себя я бы не смог. Теперь же дело обстояло иначе. Теперь мне нужны были не только запах, желание и нежность. Целью моих горячих чувств стало нечто более труднодостижимое – та Линда, которая иногда могла промелькнуть за неподвижными, широко раскрытыми глазами и натянутой тетивой рта, именно такую Линду я уловил сегодня в ее усталом голосе и мудрых спокойных советах. Пока в моих венах пульсировала кровь, я повернулся на другой бок и подавил вздох. Я сказал себе, что все мои ожидания от совместной жизни мужчины и женщины есть предрассудки и ничего более, такое же суеверие заставляло первобытных дикарей поедать сердца отважных врагов в надежде получить часть их мужества. Но ни один магический ритуал не помог бы мне получить спрятанный Линдой ключ и завладеть райским садом. Для чего тогда все это?
На стене висело полицейское ухо, рядом полицейское око, оба работали в темноте и на свету. В их необходимости никто не сомневался: иначе любая родительская комната могла превратиться в рассадник шпионажа и конспирологии, особенно учитывая, что здесь же принимали гостей! Позднее, когда я ближе познакомился с интимной жизнью некоторых бойцов, мне пришлось признать, что недопустимое падение кривой рождаемости в Мировом Государстве напрямую коррелирует с полицейскими ухом и оком. Но я не думаю, что моя кровь в ту пору так легко остывала из-за них. По крайней мере, раньше мне это никогда не мешало.
В нашем Мировом Государстве проповедовалось отнюдь не аскетичное отношение к половым вопросам, напротив, производить на свет новых бойцов считалось необходимым и почетным, и создавались все условия для того, чтобы совершеннолетние мужчины и женщины смогли выполнить и этот свой долг. Изначально я ничего не имел против, когда из вышестоящих инстанций мне периодически напоминали о том, что я мужчина. Меня это скорее подстегивало. Раньше наши ночи были подкрашены отблеском праздничного представления, в котором мы торжественно и ответственно осуществляли ритуал под наблюдением Государства. Но постепенно произошел сдвиг. Если прежде, совершая самые интимные действия, я задумывался над тем, как их оценит Власть, представленная в том числе и настенным оком, то сейчас эта власть явно становилась помехой в те мгновения, когда я страстно желал ту Линду, то чудо, которое еще не произошло и которое не произойдет никогда и никогда не откроет мне ее самых сокровенных тайн. Око было мне необходимо, и оно существовало – это была сама Линда. Я начал опасаться, что моя любовь стала недопустимо личной, и это тревожило мою совесть. Цель брака – дети, причем здесь суеверия об обладании и ключах! Возможно, этот опасный вираж мог бы стать еще одной причиной для развода. Я все время спрашивал у самого себя: не по этой ли причине все вокруг и разводятся?
Я хотел уснуть, но никак не получалось. Внутри меня плясали строки письма Седьмого Бюро Министерства Пропаганды, и я ворочался с боку на бок.
«Тот, кто борется от всего сердца, эффективнее того, в чьем сердце раскол» – разумеется, это верно, это логично. Но что делать с расколотыми? Как вернуть целостность этим сердцам?
Я сделал чудовищное открытие: лежа в кровати, я волновался за тех, чьи сердца расколоты, как будто сам был одним из них. Этого нельзя допустить. Мое сердце не расколото. Я абсолютно целостный боец, во мне нет ни капли слабости или предательства. Все лишнее нужно отбросить, включая ее, ту сухощавую, владеющую собой мать, которую я встретил на празднике. «Стреляйте в того, у кого в сердце раскол!» – отныне это будет моим девизом. «А что мой брак?» – в голове промелькнула сердитая мысль. Но я немедленно парировал: «Если не станет лучше – я разведусь». Разумеется, я разведусь. Но не раньше, чем дети выйдут из домашнего возраста.
Внезапно меня озарило, и я увидел со всей ясностью и облегчением: мое собственное изобретение полностью соответствует линии, предписанной Седьмым Бюро! Разве не в таком же духе я сегодня беседовал с прислугой? Мне поверят и меня простят ради моего открытия, я на деле докажу, что на меня можно полагаться, и это явно перевесит те несколько слов, что случайно вырвались у меня на мелком и незначительном празднике. Несмотря ни на что, я хороший боец и могу стать еще лучше.
Прежде чем уснуть, я позабавил себя самого приятной комичной фантазией, вообразил картинку из тех, что возникают в сознании на пороге сна: я увидел, как суетливому безобразному коротышке тоже вручают предупреждение и он покрывается холодным потом – рыжеволосый донес на него за попытки испортить людям радость и очернить действия Государства. А это, собственно, гораздо хуже…
Глава четвертая
Привычки мешкать у меня не было никогда, но в то утро я с особой поспешностью сделал гимнастику, принял душ, надел рабочую униформу и встал по стойке смирно у двери лаборатории, ожидая, когда она откроется и войдет куратор.
Когда это наконец случилось, я, естественно, увидел Риссена. Как и предполагал.
Возможно, я и почувствовал разочарование, но внешне, надеюсь, оно осталось незаметным. Да, имелся крошечный шанс, что это будет кто-то другой, но в дверях появился Риссен. И глядя на него, держащегося неприметно и почти неуверенно, я четко осознал, что мое отвращение вызвано не тем, что у Линды могли быть некие отношения, – мне была ненавистна мысль, что это был именно Риссен. Кто угодно, только не он. Разбрасывать камни преткновения на моем исследовательском пути он, конечно, не будет, поскольку слишком для этого скромен. Но мне, со своей стороны, хотелось, чтобы куратор был менее уступчив и более хитроумен, чтобы с ним можно было померяться силой – при условии, что я бы его уважал. Риссен же уважения не вызывал: он слишком отличался от других, он был слишком смешон. Сформулировать, чего именно ему не хватало, у меня не получалось, возможно, это было неумение «держать строевой шаг». Твердая позиция, ясная, продуманная речь – эти естественные достоинства взрослого бойца Риссену были несвойственны. Он мог неожиданно проявить чрезмерную увлеченность, заговорить взахлеб и даже позволить себе невольную комическую жестикуляцию, а еще он брал продолжительные немотивированные паузы, погружался в размышления и беспечно ронял слова, предназначенные только посвященным. Если он слышал то, что вызывало у него особый интерес, на его лице подчас возникали почти животные гримасы, причем в присутствии меня, подчиненного. С одной стороны, я видел, что как ученый он добился блестящих результатов, с другой, понимал, что как боец особой ценности для Государства он не имеет.
– Итак, – начал Риссен неспешно, как будто рабочее время было его личной собственностью. – Итак, да, я получил крайне подробный отчет о данном деле. Думаю, мне оно понятно. – И он принялся повторять основные тезисы моего отчета.
– Босс, – перебил я его нетерпеливо, – я позволил себе уже заказать пять человек из Службы Добровольного Самопожертвования. Они сидят в коридоре.
Он взглянул на меня с задумчивой горечью. Мне показалось, что он смотрит сквозь меня. Все-таки он действительно странный.
– Да, пригласите одного из них, – сказал он. Прозвучало это так, как будто он не отдал приказ, а просто подумал вслух. Я нажал кнопку вызова. Почти сразу же вошел мужчина с перевязанной рукой, он встал у двери, поздоровался и представился как номер 135 из Службы Добровольного Самопожертвования.
– Неужели нельзя было прислать подопытный персонал посвежее? – с легким раздражением поинтересовался я. Когда я работал ассистентом в медицинской лаборатории, мой босс однажды использовал женщину, эндокринная система которой была полностью выведена из строя предшествующими экспериментами, и я отлично помню, что это чуть не испортило результаты исследования. Я так рисковать не хотел. И, кстати, я знал, что, в соответствии с предписаниями, имею неукоснительное право на свежий подопытный материал: привычка постоянно отправлять одних и тех же породила своего рода непотизм, вследствие чего некоторые талантливые и мужественные добровольцы могли вообще не дождаться случая принести себя в жертву и получить толику дополнительной славы. Разумеется, все сотрудники Службы Добровольного Самопожертвования уже заслуживали больше почестей, чем остальные, но особенно жесткое самоотречение считалось личной наградой; впрочем, учитывая ущерб, наносимый профессией, вознаграждение все равно было заниженным.
Мужчина выпрямился и принес извинения от лица своего отделения. У них действительно больше некого послать. Сейчас особенно интенсивно работают военные лаборатории, и у Службы Добровольного Самопожертвования горячая страда днем и ночью, каждый человек на учете. Лично № 135 чувствует себя превосходно, а в оправдание изъяна в левой руке, сообщает, что рана от воздействия боевым газом должна была давно излечиться – даже химик, который ее нанес, не понимает, почему этого до сих пор не произошло – поэтому № 135 считает себя в любом случае свежим и надеется, что незначительное повреждение боевым газом не помешает работе.
«На самом деле это вообще неважно», – подумал я и, успокоившись, сказал:
– Нам нужны не руки, а ваша нервная система. Могу также заранее известить, что эксперимент не болезненный и увечий вам не нанесет, даже временных. – № 135 еще шире, насколько это было для него возможно, расправил плечи. Ответ прозвучал почти как фанфары:
– Я сожалею, что Государство не требует от меня большей жертвы. Я готов ко всему.
– Разумеется, я в этом не сомневаюсь, – серьезно ответил я.
Он наверняка говорил то, что думал, но мне не понравилось выпячивание собственного героизма. Ученый в лаборатории тоже способен быть мужественным, даже если ему пока не удалось это продемонстрировать. Кстати, возможность для этого наверняка появится: его слова о горячей страде в военных лабораториях означали, что на горизонте война. Я обратил внимание и на другой настораживающий момент, обсуждать который ни с кем не намеревался, чтобы не прослыть пессимистом и кверулянтом – за последние месяцы заметно ухудшилось качество пищи.
Итак, посадив мужчину в специально принесенное для эксперимента удобное кресло, я согнул ему руку, продезинфицировал локтевой сгиб и ввел иглу небольшого шприца, наполненного светло-зеленой жидкостью. Как только № 135 ощутил укол, его лицо напряглось и стало почти красивым. Передо мной сидел герой, мне пришлось это признать. Одновременно он слегка побледнел, к чему светло-зеленая жидкость отношения не имела, поскольку не могла подействовать так быстро.
– Как вы себя чувствуете? – ободряюще спросил я, пока содержимое шприца уменьшалось. Опять же из предписаний я знал, что подопытному следует задавать как можно больше вопросов, потому что это поможет ему ощутить себя равным и преодолеть боль.
– Спасибо, как обычно! – ответил № 135, но его речь явно была замедлена, он пытался скрыть, что у него дрожат губы.
Пока он сидел, ожидая эффекта от инъекции, мы изучали его карточку, которую он положил на стол. Год рождения, пол, расовый тип, телосложение, группа крови и т. д., наследственные особенности, перенесенные заболевания (разумеется, целый ряд, и все как следствие экспериментов). Необходимые сведения я вносил в собственную тщательно продуманную карточную систему. Смутил меня только год рождения, что, впрочем, было закономерно. Еще работая ассистентом, я слышал от других и видел сам, что подопытные люди из Службы Добровольного Самопожертвования, как правило, выглядят на десять лет старше своего возраста.
– Ну вот все и готово, – я снова повернулся к № 135, который заерзал в кресле. – Как вы себя чувствуете?
Мужчина с детским удивлением рассмеялся.
– Я так хорошо себя чувствую. Я никогда раньше так хорошо себя не чувствовал. Но мне страшно…
Момент настал. Мы слушали, мы внимательнейшим образом вслушивались. Мое сердце громко стучало. Что, если он сейчас вообще ничего не скажет? Если ему нечего скрывать? Если расскажет что-нибудь совершенно неважное? Как тогда мне убедить куратора? И как мне самому быть уверенным? Теория, даже прекрасно обоснованная, остается теорией, пока ее не опробовали на практике. Я мог ошибиться.
И тут случилось то, к чему я был не готов. Взрослый человек вдруг горестно всхлипнул. Он оплыл в кресле, тряпкой повис на подлокотниках, начал медленно и ритмично раскачиваться вперед-назад и протяжно стонать. Не могу передать, насколько это было мучительно, я не понимал, как нужно вести себя. Самообладание Риссена, надо признать, оказалось на высоте. Даже если он и был так же неприятно задет, как я, то немедленно это скрыл.
Так продолжалось несколько часов. Мне было стыдно перед боссом, ведь это по моей вине он стал свидетелем подобных сцен. И возможность предвидеть, что именно вскроется в результате эксперимента, по-прежнему отсутствовала. Ни я, ни вся наша лаборатория не имели права распоряжаться подопытными: их присылала единая диспетчерская, которая обслуживала все близлежащие учреждения.
Подопытный наконец успокоился. Всхлипывания стихли, он принял более достойную позу. В стремлении поскорей завершить это унизительное шоу, я поспешил спросить:
– Как вы?
Мужчина поднял взгляд. Вероятно, он не помнил, кто мы такие, но явно осознавал наше присутствие и понимал наши вопросы. Отвечая, он смотрел на нас, но не как на начальство – он обращался к нам как к безымянным слушателям из его собственного сна.
– Я так несчастен, – вяло произнес он. – Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, выдержу ли я.
– Выдержите что? – спросил я.
– Это все. Я боюсь. Я всегда боюсь. Не сейчас, но в других случаях, почти постоянно.
– Боитесь экспериментов?
– Конечно, экспериментов. Сейчас я не понимаю, чего я боюсь. Либо будет больно – либо не очень, либо я превращусь в калеку – либо останусь здоровым, либо умру – либо буду жить дальше… Чего тут бояться? Но я постоянно боюсь – глупо, почему мне так страшно?
Первоначальную заторможенность сменила хмельная беспечность.
– А еще… – он помотал головой, как пьяный, – …еще страшнее, что они скажут. Скажут, что ты трус, а это страшнее всего остального. Ты трус. Я не трус. Я не хочу быть трусом. Кстати, что будет, если я на самом деле трус? Что будет, если они скажут, что я трус, когда я действительно трус? Но если я потеряю место, то… Я, наверное, получу другое. У них найдется применение каждому. Во всяком случае, вышвырнуть меня они не успеют. Из Службы Добровольного Самопожертвования я уйду сам, добровольно. Добровольно, как когда-то пришел.
Он помрачнел, но несчастным больше не выглядел, теперь он пытался гасить злость.
– Я их ненавижу, – продолжал он сквозь зубы. – Ненавижу их, сидят в лабораториях, целые и невредимые, не боятся ни ран, ни боли, ни побочных действий, предвиденных и нет. Потом идут домой к жене и детям. Как вы думаете, такой, как я, может иметь семью? Однажды я пытался жениться… да, но ничего не вышло, вы же понимаете, что ничего не вышло. С такой жизнью ты слишком занят собой. Ни одна женщина этого не выдержит. Я ненавижу женщин. Понимаете, они сначала тебя завлекают, а потом не выдерживают общения с тобой. Они фальшивые. Я их всех ненавижу, кроме моих товарищей по Службе, разумеется. Женщины в Службе – это уже ненастоящие женщины, в них больше нет ничего, что можно ненавидеть. Мы не такие как остальные. Нас тоже называют бойцами, но что у нас за жизнь? Мы живем в Доме, мы просто лом…
Его голос превратился в невнятное бормотание, он повторял: «Ненавижу…»
– Босс, – произнес я, – желаете, чтобы я сделал ему еще один укол?
Я надеялся, что он ответит «нет», ибо подопытный вызывал у меня глубокую антипатию. Риссен, однако, кивнул, и мне осталось лишь повиноваться. Пока в кровь подопытного № 135 поступала дополнительная доза бледно-зеленой жидкости, я довольно жестко сказал:
– Вы сами совершенно справедливо отметили, что это называется Службой Добровольного Самопожертвования. Так на что же вы жалуетесь? Жалобы взрослого человека на собственные действия у добровольцев вызывают отвращение. Вас, равно как и всех прочих, никто не принуждал записываться именно сюда.
Я испугался, что мои слова обращены не к подопытному, который под воздействием препарата, видимо, стал невосприимчив к порицанию – а больше к Риссену, чтобы он понял, как к происходящему отношусь я.
– Конечно, я записался сам, – пробормотал № 135 растерянно и сонно, – но я не знал, что это означает. Да, я был уверен, что придется страдать… но по-другому… и придется умереть… но сразу и с восторгом. А не умирать капля по капле каждый день и каждую ночь. Мне кажется, что умирать прекрасно. Размахивать руками. Хрипеть. Однажды я видел, как кто-то в Доме умирал – он размахивал руками и хрипел. Это было ужасно. Но не только ужасно. Потом уже ничего не сделать. С тех пор я все время думаю, как прекрасно было бы повести себя так же, всего один раз. Это не остановить. Добровольность здесь неприемлема. Но ее здесь и нет: никто и ни для кого не вправе это остановить. Это просто происходит с тобой и все. Когда ты умираешь, ты можешь вести себя как угодно, и никто не может тебя остановить.
Я вертел в руке стеклянную бюретку.
– Этот человек в некотором роде извращенец, – сказал я Риссену. – Боец в здравом уме так не реагирует.
Риссен не ответил.
– Вы действительно столь безрассудны, что готовы возложить ответственность… – обратился я к подопытному с некоторой долей патетики, но заметил на себе взгляд Риссена – долгий, холодный и одновременно насмешливый; я почувствовал, как краснею при мысли, что Риссен решил, будто я набиваю себе цену. (Мысль была бы крайне несправедливой, отметил я.) Так или иначе, предложение следовало закончить, и я продолжил, сменив кнут на пряник:
– …что готовы возложить на других ответственность за выбор профессии, которая, как выяснилось, вам не подходит?
Смену интонации № 135, разумеется, не заметил, он отреагировал только на вопрос:
– На других? – произнес он. – Я? Но я не хотел. Хотя нет, хотел. Из нашего отряда подали заявку десять человек, больше, чем в других отрядах молодежного лагеря… Я часто думал, как так случилось. Все упиралось в Службу Добровольного Самопожертвования. Лекции, фильмы, беседы: добровольное самопожертвование. В первые годы я еще думал: да, оно того стоит. И мы подали заявки, понимаете? И когда ты смотрел на того, кто рядом, то больше не видел человека. Эти лица, понимаете… Они пылали, словно были из огня, а не из плоти и крови. Святые, божественные. В первые годы я думал: мы переживаем то, что никогда не испытает простой смертный, сейчас мы отдаем долг, мы можем, после всего, что мы видели… Но мы не можем. Я не могу. Я больше не могу удерживать воспоминание, оно ускользает все дальше и дальше. Иногда бывают проблески, когда я этого не хочу, но всякий раз, когда я пытаюсь вспомнить… мне же нужно снова найти смысл собственной жизни… каждый раз я понимаю, что память не поддается, а ускользает еще дальше. Мне кажется, я истрепал ее слишком частыми обращениями. Иногда я лежу без сна и размышляю, что было бы, если бы я выбрал обычную жизнь… если бы мне раньше хоть раз довелось испытать такой же великий момент, или если бы я его еще не испытал… или если бы вся жизнь была пронизана этим величием… тогда бы в ней все-таки был смысл… во всяком случае, она бы не проходила так безнадежно мимо. Понимаете, у вас должно быть что-то в настоящем, а не только одно ушедшее мгновение, за счет которого можно жить весь отпущенный век. Не хватает сил это выдержать, хотя однажды тебе и пришлось его пережить… Но тебе стыдно. Стыдно предавать тот единственный миг твоей жизни, который чего-то стоил. Предательство. Почему предательство? Я же хочу лишь обычной жизни, чтобы снова найти в ней смысл. Я взял на себя слишком много. У меня нет сил. Завтра я пойду и заявлю, что ухожу.
Он как будто расслабился. А потом снова прервал тишину:
– Как вы считаете, такой момент повторится еще раз – когда ты умрешь? Я много думал об этом. Я бы очень хотел умереть. Если от жизни ждать больше нечего, то пусть будет хотя бы это. Фраза «у меня нет сил» значит «у меня нет сил, чтобы жить». Она не значит «у меня нет сил, чтобы умереть»… потому что на это силы есть, умереть можно всегда, потому что тогда ты будешь таким, каким хочешь…
Он замолчал и замер, откинувшись на спинку кресла. Лицо постепенно приобретало бледно-зеленый оттенок. Тело едва заметно вздрагивало. Руки неуверенно нащупывали подлокотники, казалось, что его охватывает удушающее беспокойство. Что, кстати, неудивительно после двойной дозы. Я протянул ему успокоительные капли в стакане воды.
– Сейчас он придет в себя. Ему нехорошо, только пока действует препарат. Впоследствии самочувствие нормализуется. Сейчас ему предстоит в некотором роде самая неприятная часть работы: у него восстановятся прежние стыд и страх. Смотрите, босс! Думаю, это будет любопытное зрелище.
На самом деле взгляд Риссена уже был прикован к № 135, и, судя по этому взгляду, стыдно было Риссену, а не подопытному. Человек перед нами имел весьма безрадостный вид. Вены на висках проступили и вздулись, губы дрожали от подавляемого ужаса, превосходящего тот, который он пытался скрыть в начале эксперимента. Глаза с мучительным усилием он держал закрытыми, словно до последнего надеялся, что его слишком четкое воспоминание превратится в дурной сон.
– Он помнит все, что произошло? – тихо спросил Риссен.
– Боюсь, что да. И кстати, не знаю, достоинство это или недостаток.
Преодолев крайнее нежелание, подопытный открыл глаза ровно настолько, чтобы увидеть путь к выходу. Сгорбленный, он сделал несколько неуверенных шагов к двери, не решаясь смотреть в нашу сторону.
– Благодарю за службу, – произнес я, усаживаясь за стол. (Традиционно требовалось, чтобы в ответ прозвучало: «Я всего лишь исполнял свой долг», но даже такой формалист, каким в то время был я, не требовал строгого исполнения правил приличия от подопытных после эксперимента.) – Я немедленно выпишу справку, вы можете сразу же пойти в кассу за вознаграждением. Это будет «Восьмая категория» – умеренный дискомфорт, не вызывающий увечий. Боль и тошнота, разумеется, в расчет не берутся, и, по сути, здесь должна быть «Третья категория». Но, насколько я понял, вам… хм… как бы это сказать… немного стыдно.
Он с отрешенным видом сжал в руке бумагу и, припадая на ногу, направился к двери. У выхода застыл на пару секунд в нерешительности и пробормотал:
– Я, наверное, должен сказать, что сам не понимаю, что на меня нашло. Я как будто был не в себе и говорил не то, что думаю. Никто не любит свою работу так, как я, и мне, разумеется, даже в голову не придет ее бросать. Я очень надеюсь, что смогу проявить добрую волю, страдая в самых сложных экспериментах на благо Государства.
– По крайней мере, пока не заживет ваша рука, вы гарантированно останетесь на службе, – легко произнес я. – Иначе вас не возьмут на другую работу. Чему вы, кстати, учились? Насколько мне известно, ресурс, выделяемый на переобучение бойцов, весьма ограничен, и в вашем возрасте кардинальная смена деятельности обычно не практикуется, особенно учитывая, что на «инвалидность» в связи с выбранной профессией вам рассчитывать не стоит…
Я до сих пор осознаю, что говорил с ним как надменный начальник. Дело в том, что мой первый подопытный внезапно вызвал у меня сильную антипатию. Поводов для нее было более, чем достаточно: трусость, эгоистичная безответственность, которые он умело скрывал от руководства, надевая маску мужества и готовности к самопожертвованию. Да, директивы Седьмого Бюро были у меня в крови. Закамуфлированная трусость омерзительна, я и сам это понимал, но не замечал скрытую скорбь. И не видел еще одну причину моего неприятия, которую осознал позднее: это снова была зависть. Этот во многом ничтожный человек говорил о мгновении великого блаженства, ушедшем и почти забытом, но все же мгновении… Его краткий, исполненный восторга путь в отдел пропаганды молодежного лагеря в тот день, когда он подал заявку в Службу Добровольного Самопожертвования – вот почему я ему завидовал. Возможно, именно такой миг помог бы мне одолеть ту ненасытную жажду, которую я пытался утолять с Линдой? Впрочем, тогда я эту мысль до конца не додумал, но у меня возникло чувство, что этому человеку была дарована милость, а он вел себя неблагодарно, и меня это ожесточило.
Между тем Риссен совершил то, что поразило меня. Он подошел к № 135, положил руку ему на плечо и произнес с теплой интонацией, с которой не обращаются ко взрослому человеку, тем более к мужчине; таким голосом обычно разговаривают с маленькими детьми чрезмерно заботливые матери:
– Ничего не бойтесь. Вы же понимаете, личное останется между нами? Считайте, что вы ничего не говорили.
Мужчина робко посмотрел на Риссена и быстро исчез за дверью. Мне кажется, я понял его смущение. Будь он на толику достойнее, он бы плюнул в лицо боссу, который так фамильярно вел себя с подчиненным. А потом я подумал: разве такого босса можно почитать и слушать? Тот, кого никто не боится, не заслуживает уважения, разумеется, нет, ибо уважение всегда предполагает признание силы, превосходства и власти – а сила, превосходство и власть всегда опасны для окружающих.
Мы с Риссеном остались вдвоем, в помещении повисла тишина. Паузы Риссена мне не нравились. Не отдых и не работа, нечто среднее.
– Я полагаю, что догадываюсь, о чем вы сейчас думаете, босс, – произнес я, чтобы прервать молчание. – Вы думаете, что это ничего не доказывает. Я мог проинструктировать его заранее. То, что он сказал, конечно, его скомпрометировало, но это ненаказуемо. Вы так думаете?
– Нет, – ответил Риссен, как будто очнувшись. – Нет, я так не думаю. Более чем очевидно, что человек говорил именно то, что думает и в чем никогда бы не признался. Ошибиться невозможно: и признание, и последующий стыд были искренними.
В моих интересах было бы обрадоваться его доверчивости, но в действительности она меня раздразнила: подобное отношение показалось мне слишком поверхностным. В нашем Мировом Государстве каждый боец с детства приучен к строжайшему самоконтролю, и № 135 вполне мог сыграть правдоподобный спектакль, хотя в данном случае это было не так. Но от критики я воздержался и в ответ произнес:
– Если я предложу продолжить, я нарушу дисциплину?
Этот странный человек меня, похоже, не услышал.
– Своеобразное открытие, – проговорил он в задумчивости. – Как вы его совершили?
– Я основывался на предыдущих разработках, – ответил я. – Препарат с подобным действием был получен еще пять лет назад, но он обладал выраженно токсическими побочными эффектами, вследствие чего все без исключения подопытные оказывались в доме для умалишенных уже после первого эксперимента. Изобретатель препарата уничтожил большое количество людей, за что получил строгое предупреждение, а проект приостановили. Однако мне сейчас удалось нейтрализовать токсические побочные эффекты. И я, признаюсь, с огромным напряжением ждал практических результатов…
И спешно, как бы мимоходом, я добавил:
– Надеюсь, мое изобретение будет названо «каллокаин» в честь меня.
– Наверняка, – равнодушно произнес Риссен. – Вы сами понимаете, несколько важным окажется ваше изобретение?
– Пожалуй, да, понимаю. Говорят, где нужда велика, там и помощь близка. Вы же знаете, что суды наводнены лжесвидетельствами. Едва ли найдется хоть одно дело, в котором показания очевидцев ни противоречили бы друг другу, причем отнюдь не по причине ошибки или халатности. Трудно сказать почему, но это так.
– Полагаете, трудно? – спросил Риссен, пробарабанив пальцами по столу, эта привычка действовала мне на нервы. – Трудно понять почему? Позвольте мне задать вопрос… если не захотите, можете не отвечать. Вы считаете ложные показания злом при любых обстоятельствах?
– Разумеется, нет, – ответил я, слегка рассердившись. – Если того требует Государство – другое дело. Но к мелким делам это отношения не имеет.
– Да, но задумайтесь, – с лукавой ноткой предложил Риссен, чуть склонив голову на бок. – Разве не благо для Государства, если мерзавца осудят, даже если он не виновен в том, в чем его обвиняют? Разве не благо для Государства, если осудят моего недостойного, никчемного, ущербного и крайне несимпатичного недруга, даже если по закону он не совершил ничего предосудительного? Он, разумеется, требует присмотра, но кто же будет особо присматривать за отдельно взятым бойцом…
Я не вполне улавливал, куда он клонит, а время шло. Я спешно позвонил, чтобы позвать второго подопытного, и пока делал женщине укол, ответил:
– Как бы ни было, это дурной поступок, который не приносит Государству никакой пользы, наоборот. Но мое открытие позволит решить проблему играючи. Контролировать теперь можно не только свидетелей – необходимость в них вообще отпадет, поскольку после небольшого укола преступник радостно и без оговорок признается во всем сам. Нам известно о дискомфорте, связанном с допросом третьей степени, поймите меня правильно, я не критикую его применение при отсутствии иных средств, но вы не можете сочувствовать преступнику, когда знаете, что ваша совесть чиста…
– Похоже, ваша совесть на редкость безупречна, – сухо произнес Риссен. – Или вам удалось вжиться в роль? По моему опыту, среди бойцов старше сорока нет ни одного с по-настоящему незапятнанной совестью. У некоторых она, возможно, была чиста в молодости, но потом… Хотя вам ведь еще нет сорока?
– Нет, – ответил я, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. К счастью, я стоял, повернувшись к новому подопытному, и мне не нужно было смотреть Риссену в лицо. Я был задет, но в первую очередь не его наглостью по отношению ко мне. Гораздо сильнее меня разозлили его утверждения. Он изобразил невыносимую картину – все бойцы зрелого возраста испытывают хронические муки совести! Хотя напрямую он этого не сказал, но я уловил в его речах некое покушение на ценности, которые считал самыми святыми.