Читать онлайн Уиронда. Другая темнота бесплатно
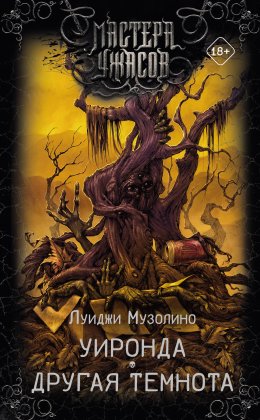
Luigi Musolino
UIRONDA
UN BUIO DIVERSO
В оформлении обложки использована иллюстрация Михаила Емельянова
UIRONDA © 2018 Luigi Musolino
UN BUIO DIVERSO © 2022 Luigi Musolino
© Марина Яшина, перевод, 2024
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Уиронда
Остров и Бездна
Когда Умберто Барбьери был подростком, ему часто снилось искореженное железо.
Вот он стоит на мосту над дорогой и видит, как серая машина, летящая по полосе, на полной скорости врезается в несущийся навстречу грузовик, на стальной кабине которого играют блики от фар. Через секунду Умберто оказывается на месте этой чудовищной аварии, и в нос ударяет запах бензина и гудрона.
За рулем грузовика никого нет.
А в легковушке с разбитыми вдребезги стеклами, между рулем и сиденьем водителя, сплющен в жуткую гармошку из плоти его собственный изуродованный труп: шея сломана, голова лежит между рычагом переключения передач и ручником, спутанные волосы все в крови.
Полузакрытые глаза, остекленевший взгляд – словно у мумии какого-нибудь святого.
Слышится потрескивание раскаленного металла, воняет бензином.
Умберто пытается открыть дверь: во сне ему кажется, что самое главное – вытащить труп, так он будет в безопасности. И как только она поддается, мертвый Умберто открывает глаза с торчащими из них осколками и, ухмыляясь, орет, как сумасшедший: «Двадцать восемь. Двадцать восемь, идиот! Бум, бум, придурок!»
Потом все вокруг становится красно-синим, и огненный шар пожирает обломки, дорогу и весь мир…
В этот момент Умберто обычно просыпался в своей комнате. Без крика, без стука крови в висках. Просто лежал и смотрел на желтоватый свет уличных фонарей, просачивающийся в темноту из-за закрытых ставен, а потом засыпал снова.
Со временем ночной кошмар перерос в какую-то внутреннюю уверенность, что его ждет именно такой конец, стал историей, которой можно щегольнуть перед друзьями, сидя вечером в баре за кружкой пива.
– Я умру в двадцать восемь в автокатастрофе. Говорю вам. Мне это часто снится.
Но вот ему исполнилось двадцать восемь, а потом двадцать девять, и хотя жизнь его порядком потрепала, в другой мир он пока не отправился.
Когда же Умберто стукнуло тридцать, он, как и все люди (хотя многие не хотят это признавать), начал понимать, что есть много способов умереть, и какой уготован именно ему – неизвестно.
Сердечный приступ. Вполне возможно. Умираешь быстро, как дядя Бруно. Или опухоль. Она была у дедушки, и у папы, а учитывая, сколько я курю, мне вряд ли удастся дожить до преклонного возраста, а близким – сказать: «Он умер безмятежно, во сне».
Сейчас тридцативосьмилетний Умберто, вцепившись в оторванный хвост гидросамолета в тысяче километров от своей квартирки в Пинероло, подумал, что каким-то образом все же попал в тот сон – хотя время и ситуация оказались другими.
Бум, придурок!
Увидев мальдивского пилота, который по-прежнему сидел в наполовину снесенной кабине, с прижатым к груди подбородком, схватившись за ручку управления, Умберто почувствовал любопытство, смешанное с ужасом. Если бы верхнюю часть черепа не отрезало куском железа, можно было бы решить, что пилот просто решил вздремнуть. Умберто смотрел на него, барахтаясь в воде, и оттуда голова мальдивца напоминала алую чашу с серым, прогорклым супом.
– Э-э-эй! Кто-нибудь меня слышит?
Он удивился, что смог закричать. Горло сдавило, легкие пропитались морской солью, а сознание было совершенно пустым и находилось где-то далеко от тела. Умберто принялся перебирать ногами в прозрачной воде,
цел, я цел
как вдруг на него обрушилась волна, и пальцы, вцепившиеся в кусок металла, разжались. Он хлебнул воды. Перепугавшись, начал барахтаться изо всех сил и почувствовал прикосновение чьих-то волос.
Рядом с ним плавал труп с грустным выражением на застывшем лице. Он узнал молодую девушку, которой еще совсем недавно принадлежало это тело: грива волос вишневого оттенка из рекламы Pantene, неизменная сигарета Merit во рту и томный взгляд, сменявшийся досадой, когда дым щекотал ресницы. Марта. С ней – и с девятью другими итальянцами – он познакомился пять дней назад в Мале.
У нее была оторвана нога. Умберто не понял, правая или левая. Эти загорелые ноги еще не так давно он представлял в своих фантазиях, лежа на кровати отеля в столице Мальдив.
Из кармашка трупа выплыла пачка сигарет; бумага раскисла, а фольга блестела на солнце, как чешуя рыбок, стайками снующих вокруг похолодевших мертвых губ.
Умберто решил, что надо кричать – даже под водой, – потому что ничего больше не остается, совсем ничего…
– Э-э-эй!
От крика, просочившегося сквозь толщу воды, Умберто вздрогнул. Как безнадежный пессимист, он уже решил, что все остальные погибли и ему придется вытаскивать себя из этого дерьма в одиночку.
Умберто сделал пару беспорядочных гребков, всплыл на поверхность и ухватился за толстый кусок поролона от пассажирского кресла. Чихнул, от соленой воды зажгло в горле. Сквозь выступившие слезы разглядел очертания двух голов – это были явно не трупы.
– Я тут!
– Умберто? Ты в порядке?
Умберто узнал сицилийский акцент Эннио – парня из Трапани с копной вьющихся волос.
– Да. Вроде да.
– Сможешь до нас доплыть?
– Сейчас попробую.
Держась руками за кусок поролона и перебирая ногами, Умберто поплыл туда, откуда доносился голос. Поверхность океана медленно вздымалась длинными убаюкивающими волнами, которые лениво поглаживал ветер; через несколько минут Умберто добрался до покореженного желтого крыла самолета, на котором сидели четверо уцелевших. На их лицах был написан ужас. Вокруг плавали куски обшивки.
Отдых в тропическом раю обернулся адом.
Пятеро из одиннадцати. Пятеро из одиннадцати по-прежнему в мире живых. Даже не половина.
Умберто, Эннио, Дэни, Самоа и Валентина. Сидя на краю крыла, Валентина качалась взад-вперед, впившись ногтями в щеки. Пустое лицо, ничего не выражающие, как у насекомых, черные шарики глаз со зрачками, расширенными от ужаса.
– Я не хочу умирать, – беспрерывно твердила она. – Я не хочу умирать, нет, пожалуйста.
Эннио бросил на нее взгляд, а потом помог Умберто забраться на импровизированный плот.
– Так, так, аккуратно. Все. Ты как?
Умберто лег на металл, пытаясь восстановить дыхание. На какую-то секунду из органов чувств у него осталось одно зрение: вот монохромная необъятная вселенная, чью лазурь испачкал только медленно тающий след самолета, вот кристально чистое блюдце океана, все в ослепительных солнечных бликах.
Интересно, а их можно увидеть сверху? Наверное, нет.
– Я… я в порядке, да. Вроде бы. А вы?
– Нас немного потрепало, но могло быть и хуже, – отрезала Самоа, усаживаясь рядом с ним. Эта сорокалетняя уроженка Генуи даже сейчас оставалась такой же невозмутимой, как раньше. Ее правая бровь была рассечена, и сочащуюся из длинной царапины алую кровь она то и дело вытирала клочком намокшей ткани. – Вот только Валентина в шоке. Совсем тронулась, – добавила она, махнув рукой в сторону девушки.
– Мы… Видимо, только мы… – запинаясь, проговорила подошедшая Дэни и закусила губу. Бермуды у нее задрались, обнажив дряблые белые бедра в сеточке капилляров. Прилипшая к телу майка обрисовывала обвисшую грудь и живот – ни дать, ни взять карикатура на идола изобилия. – Я видела Энцо, и Сабрину, и пилота, и… Их раны… Боже, боже мой.
Разрыдавшись, она стала выглядеть отталкивающе – толстая, сопливая, жалкая. Упала на колени и попыталась справиться со слезами. Никто и пальцем не пошевелил, чтобы ее утешить.
– Я Марту видел… Она тоже… Что произошло, черт подери? – с этими словами Умберто вскочил, пытаясь понять, нет ли у него самого ран или синяков. Хорошо хоть почти исчезло мучившее чувство, будто это не он решает, что ему говорить и что делать, будто он – всего лишь марионетка, которую дергает за ниточки безжалостный кукловод. Теперь адреналин слепил внутри комок вопросов, страха и тошноты.
– Я услышала какой-то грохот, – начала Самоа, – и в иллюминаторе увидела пламя. Потом гидросамолет перевернулся, и что-то случилось, я не поняла. А через секунду оказалась в воде рядом с Эннио.
– Так и было, – подтвердил сицилиец. Он резко и неестественно размахивал руками, как робот, и весь дрожал. – Наверное, двигатель взорвался. Самолет ударился о воду и развалился на две части. То, что мы живы, это… это чудо. Чудо, – улыбка, которая должна была успокоить окружающих, сделала его похожим на угря на разделочной доске.
Умберто посмотрел по сторонам, рукой прикрывая глаза от палящего солнца.
– Перед падением я мельком видел атоллы, но отсюда…
– Мы где-то в Индийском океане, к югу от Мальдивских островов.
– Большое спасибо, Самоа. Сразу стало все понятно, – фыркнула Дэни, которая смогла взять себя в руки и теперь вглядывалась в стеклянную наковальню горизонта.
– Слушай, жирдяйка, если можешь сказать что-то поумнее, так говори, или закрой свой поганый…
– Эй, прекратите, прекратите немедленно! – закричал Эннио. – Сейчас не время ссориться, вы что, не понимаете? Нам нужно просто подождать. Мы вряд ли далеко от Адду. Скоро нас спасут. Валентина, как ты себя чувствуешь?
Несколько секунд девушка смотрела на него молча; белки ее глаз напоминали дно грязного стакана. Солнечный свет нарисовал черные пятнышки на сережках из черного коралла, купленных на рыночке в Мале. Казалось, это было так давно… На щеках Валентины виднелись вмятины от ногтей в форме полумесяца.
– Я… Мы умрем, да?
– Нет, не умрем. Эннио прав, нужно продержаться всего несколько часов. Давайте лучше поищем еду и воду среди обломков, кто со мной?
После этих слов Умберто вдруг почувствовал, как стало жарко, хотя его Sector показывали всего полдесятого утра. Обжигающее белое солнце застыло в пугающе неподвижном небе цвета индиго.
И тут он понял, какая же глупость – надеяться, что их вот-вот спасут. Они вылетели из Мале рано утром, чтобы добраться до острова Ган, самого южного в архипелаге, а возвращение самолета Maldivian Air Taxi в столицу планировалось только поздним вечером. Вряд ли на этих маленьких самолетиках есть системы SOS или что-нибудь такое.
Господи, а пилот был босиком и без рубашки…
Их начнут искать только вечером – и это в лучшем случае.
Он проглотил слюну и в порыве ярости, вызванной паникой, проклял Элену.
Море он не любил. Никогда не любил.
С какой стати она все время лезет, куда ее не просят? Почему постоянно заставляет меня делать то, что я не хочу?
Поехать на Мальдивы, в «холостяцкий тур», который ему подарила заботливая сестра, после долгих уговоров он согласился только из вежливости.
– От подарка нельзя отказываться, нельзя, – убеждала Элена, помахивая перед его носом глянцевыми брошюрками. – Может, там ты познакомишься с какой-нибудь хорошей девушкой, вы начнете жить вместе и сделаете меня тетей.
Или единственным ребенком…
Стараясь отогнать мрачные мысли, Умберто принялся разглядывать своих товарищей по несчастью: Эннио, парень с юга Италии чуть моложе его, обаятельный и уверенный в себе, единственный, кому удалось в первый же день на Мальдивах переспать с девушкой – ирландкой, с которой он познакомился в Мале Норд.
Самоа – сорокалетняя генуэзска, которая держится особняком, любит дайвинг и местную кухню и ездит на любимые Мальдивы уже пятнадцать лет, – единственная, кто сохраняет спокойствие или хотя бы делает вид.
Дэни – застенчивая толстушка, проводившая большую часть времени за чтением. Она приехала на Мальдивы в надежде найти любовь, но пока ей остается только радоваться тому, что она не стала кормом для разноцветных рыбок, живущих в рифах.
Валентина – лет тридцати – младшая из них, молчаливая, все еще не отошла от пережитого кошмара.
Описал он и себя – кратко и довольно нелестно: Умберто Барбьери, заурядный офисный работник, которому давно пора в спортзал; в жизни он разочаровался, и теперь его самое большое приключение – пинта пива субботним вечером в захудалом прокуренном баре; в этом аду он оказался только по прихоти богатой сестры.
Не очень-то они похожи на выживших смельчаков или наследников Робинзона Крузо.
Эннио и Самоа прыгнули в воду и достали два рюкзака и несколько бутылок ананасового сока, выпавших из гидросамолета при аварии. Для Умберто сама мысль снова оказаться в воде была противна: вдруг он опять прикоснется к трупу – к тому, что осталось от человека, с которым еще пару часов назад он вместе завтракал, обсуждал, куда бы поехать, смеялся.
От жизни к смерти. От осознанного существования к небытию.
Почувствовав головокружение, Умберто хотел сесть, как вдруг пухлые пальцы Дэни тисками сжали его плечо.
– Смотрите, смотрите! Там земля! – Она метнулась на другой конец крыла и чуть его не перевернула. Ткнула пальцем в горизонт. В темное пятно в паре километров. Там был остров какого-то странного цвета – то ли серого, то ли коричневого. Его зубчатые очертания на фоне ясного неба напоминали спину динозавра, а в центре виднелось возвышение в форме конуса.
Инородное тело в бескрайней глади океана.
Эннио и Самоа вскарабкались на крыло самолета, держа в руках то немногое, что смогли отыскать.
– Вы видите?
Разглядев островок, они кивнули.
– Странно. Очень странно, – наконец пробормотал Эннио, свесившись с обломка, чтобы выловить бутылки, качающиеся на волнах.
– Что странного? Это наверняка один из самых маленьких островов атолла Адду. Надо бы до него добраться. Если получится, мы будем в безопасности, – сказала Самоа и прищурилась, как будто хотела удостовериться, что суша – не мираж.
– Да уж, в безопасности… Еще не известно, где безопасней… В путеводителе Lonely Planet написано, что в архипелаге больше тысячи островов, из которых населены меньше двухсот. И все они ниже двух метров над уровнем моря. А на этом, по-моему… возвышенность, – попытался объяснить свое удивление сицилиец. – Предлагаю остаться здесь, рядом с местом аварии. Так больше шансов нас найти. Как думаете, у гидросамолета был радиомаяк?
Никто не ответил. Из горла Валентины вырвался стон, похожий на визг испуганной собаки.
Они стояли на обломке крыла, рассматривая видневшиеся в синеве очертания острова.
– Мне кажется, нас туда сносит, – наконец произнесла Дэни.
Действительно, течение медленно, но верно несло их в ту сторону. Вокруг – бескрайняя пустыня воды. Тишина, которую не нарушали ни плеск волн, ни крики чаек. И полоса молчания между людьми и берегом, которая постепенно сокращалась.
Дэни одной рукой обняла Валентину за плечи. Эннио, закусив верхнюю губу, качал головой. Самоа с похоронным видом смотрела на обломки самолета.
Минут десять они стояли почти неподвижно, как будто стараясь смириться с ужасом того, что произошло так внезапно.
Молчание нарушил Умберто:
– Что будем делать?
– Ждать. Больше ничего не остается.
Они медленно приближались к островку, и Умберто не понял, чей ответ он услышал – своих товарищей по несчастью или бормочущего океана.
* * *
Конечно, про Умберто нельзя было сказать, что он исколесил весь мир, но кое-что все же повидал. Путешествовал в основном в студенчестве, во время недолгой и далеко не блестящей учебы на факультете истории и философии, который бросил через два года.
Побывал он и в загадочных местах, где сохранились диковинные сооружения далекого прошлого, и там, где природа позабавилась, играя со стихиями. Видел ирландскую Дорогу гигантов – причудливое скопище шестиугольных базальтовых колонн, про которое в пабах, пропахших табаком и «Гиннессом», по-прежнему рассказывают легенды; видел каменный круг Стоунхенджа, молочно-белые скалы Дувра, гору Музине неподалеку от Турина, знаменитую своими мистическими историями про НЛО. В таких местах Умберто порой чувствовал себя неуютно, не в своей тарелке. Дискомфорт был на уровне подсознания, а то, что он читал и слышал, весьма впечатляло и лишь усугубляло это чувство.
Ослепительное солнце, двигавшееся по параболе, стреляло огненными дротиками, пока они дрейфовали – а это, казалось, длилось целую вечность. Ребята успели поплакать, успокоиться и даже вывести из оцепенения Валентину.
А когда Эннио, со своим смешным сицилийским акцентом, стал напевать старую итальянскую песенку, они захохотали как сумасшедшие, до слез, а потом принялись шутить и подбадривать друг друга, стараясь не падать духом.
В конце-то концов, они выжили.
Не всем так повезло.
Пока что только это и имело значение в королевстве соленой воды и коралловых рифов.
Часа через два их прибило к острову.
Когда обломок самолета, на котором они сидели, врезался в берег, ничего особенного не произошло. Но в глубине души, на каком-то клеточном уровне, Умберто ощутил ужас, пустоту и растерянность.
Все сразу почувствовали, что в этом плевке земли есть что-то зловещее. Своими унылыми пепельно-серыми и светло-коричневыми красками он очень сильно отличался от остальных атоллов, образовавшихся из отложений известняка и кораллов, – ярких, разноцветных.
– Что же это, черт возьми, такое? – казалось, Эннио обращается к небу, требуя ответа у какого-то божества.
Крыло самолета с унылой монотонностью постукивало о серо-бурый каменистый берег.
– Ну и атолл… совсем не похож на другие, – сказала Дэни. – Эннио был прав, здесь есть какой-то холм.
Действительно, в самом центре островка, покрытого редкой растительностью, возвышался холм высотой двести-триста метров, из-за пологих склонов напоминавший приплюснутый конус.
Наверное, остров не больше километра в диаметре, прикинул Умберто, хотя с берега судить было трудно. И скорей всего бесплодный – на таком вряд ли выживет какое-нибудь млекопитающее. Серо-бурый покров, похожий на пустыню, простирался до самой возвышенности. Солнечные лучи, стоило им коснуться поверхности, тут же затухали – или отступали…
Инстинктивно Умберто помолился, чтобы на островке оказались фруктовые деревья, кокосовые пальмы и грызуны. Вдруг все будет хуже, чем они надеялись.
– Как думаете, остров большой? – спросила Самоа, словно прочитав его мысли. Все еще сидя на обломке, она вытянула мускулистую ногу и дотронулась до берега голыми пальцами. Вопрос сменился удивленным возгласом. – Мягкая!
Стопа на несколько сантиметров погрузилась в почву.
– Не трогай! – закричал Умберто, сам не зная почему. Мурашки пробежали у него по спине, по всему телу, от затылка до задницы.
Через несколько секунд след Самоа исчез, как вмятина на поролоновом коврике.
– Какого?..
– Я думала это камень, а она мягкая… как резина или пластик.
Эннио наклонился и воткнул указательный палец в землю. Поморщился, вытащил. Круглая дырка исчезла через пару мгновений.
– Что это такое, по-вашему?
Но ему никто не ответил, потому что в ту же секунду Валентина закричала и запрыгала, как чирлидер.
– Э-э-эй! Мы здесь, помогите! Помогите нам! Э-э-эй! Мы здесь!
Обернувшись, Умберто чуть не разрыдался – спасибо, Господи. Вскочившие с места Самоа и Эннио заплясали и стали размахивать руками. Умберто передразнил их.
В нескольких сотнях метров виднелись очертания двух дхони – традиционных мальдивских лодок с изогнутым носом. Они приближались. В каждой сидело по двое смуглых худощавых мужчин, которых жара заставила раздеться по пояс.
Самоа была права – раз рыбаки смогли доплыть досюда на таких простых суденышках, значит, до самых южных островов архипелага действительно недалеко.
Потом Умберто долго вспоминал, с какой радостью они обнимались, когда увидели дхони, – как старые друзья, не встречавшиеся сто лет. Вспоминал удушающие мягкие объятия Дэни, неуклюжее приплясывание Валентины, возгласы Эннио – «боже мой, боже мой, да, да, да, охренеть!» Вспоминал, какое облегчение они почувствовали от того, что им не придется рисковать и высаживаться на странный остров, куда их притащило течение.
В нескольких десятках метров от острова дхони остановились, качаясь на волнах. Рыбаки оживленно спорили и подталкивали друг друга – сначала на большой лодке, а потом и на той, что поменьше. Весла болтались в уключинах. Минут пять рыбаки кричали и размахивали руками, а потом схватили весла и поспешно ударили по воде.
Они уплывали.
– Какого черта? Э-э-эй! Хэлп! SOS! – Умберто протянул руки к лодкам, будто хотел заставить их остановиться. Он не верил своим глазам. – Они уплывают? Уплывают? Может, за спасателями…
– Ханйехун! Ханйехун! – во все горло завопила Самоа, вспомнив пару мальдивских слов, выученных во время многочисленных поездок на Мальдивы.
– Что это значит? Что ты говоришь? – спросил Эннио.
– Пиццу заказываю, блин! Что я могу говорить, по-твоему? Помощи прошу! Ханйехун!
Услышав крики на родном языке, мальдивцы бросили весла. Посоветовались друг с другом и снова поплыли к острову. Медленно-медленно. Один из рыбаков – жилистый старик с копной седых волос – сложил ладони рупором и заорал:
– Ресси! Ураа нубаи! Дириури!
– Хэлп! Хэлп! Ви хэд эн эксидэнт, ви нид хэлп![1] – прокричал в ответ Эннио с чудовищным акцентом, а потом спросил Самоа. – Что они говорят?
– Понятия не имею. Что-то про остров. «Ураа» вроде бы значит «маленький остров». А «дириури», если не ошибаюсь, – «жить».
Целый час потерпевшие крушение, не теряя надежды, молили рыбаков о спасении, а мальдивцы то делали несколько сильных гребков, приближаясь к острову, то отплывали подальше. Они без конца повторяли одни и те же слова на своем грубом наречии, пронзительно кричали, ругались и дрались. Итальянцы перепробовали все, чтобы убедить их пристать к берегу.
Наблюдая за происходящим, Валентина совсем потеряла контроль над собой. Из ее горла вырвался крик – мольбы, оскорбления, слюна, – все вперемешку.
– Почему они не хотят нас спасти? Почему? Помогите! Помогите нам, пожалуйста! А ну плывите сюда, ублюдки! Мерзкие троглодиты!
Когда наконец дхони приблизились достаточно, чтобы можно было разглядеть выражения лиц рыбаков, Умберто понял: они их не спасут, ни за что. На лицах мальдивцев был написан ужас, смешанный с любопытством и изумлением. Морщины на лбу старика, кричащего им что-то непонятное, напоминали русла высохших рек, покрытых пылью животного, парализующего страха.
Не отрывая взгляда от сероватого холма, от странной, словно резиновой поверхности острова, рыбаки все время кланялись – как будто умоляли о чем-то или просили прощения.
Это были мальдивцы явно не с туристического атолла: очень худые, с первобытными татуировками, зарубцевавшимися на впалых животах, с гривами грязных темных волос, заплетенных в косы. Аборигены из племени, которому удалось выжить на каком-то удаленном атолле в Индийском океане.
Дальше все произошло так быстро и неожиданно и настолько потрясло уцелевших жестокостью, что затмило в памяти аварию гидросамолета.
– Да твою ж! – выругалась Самоа. До лодок было метров пятнадцать. – Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.
И прыгнула в желтоватую воду прибоя. У ребят уже было время, чтобы оценить физическую форму мускулистой девушки. Эннио бросил красноречивый взгляд в сторону оставшихся.
– Ребята, надо плыть, – сказал он, скорчив придурковатую физиономию, как у комика в голливудском фильме, а потом нырнул дельфинчиком вслед за Самоа.
– Куда вы? Боже мой, куда, куда? Я плохо плаваю… – Дэни принялась бегать туда-сюда по крылу самолета, не зная, прыгать ей или оставаться на обломке.
Валентина по-прежнему всхлипывала, только теперь стала еще и взывать к своей матери.
Увидев, что Самоа и Эннио приближаются, рыбаки отчаянно замахали руками.
Держитесь от нас подальше. Не подходите. Умберто не знал языка,
Ресси! Хураа нубаи Дириури! Ресси! Хураа нубаи! Дириури!
но то, что они хотели сказать, понимал и так – по безумной жестикуляции охваченных паникой рыбаков.
Не вздумайте плыть сюда, не смейте!
Тем временем Самоа, которую мощными гребками безуспешно пытался догнать Эннио, добралась до самого большого дхони, а Умберто почти что уговорил Валентину и Дэни прыгнуть в воду.
Вопли мальдивцев перешли в истерику. Самоа вцепилась в борт лодки, перелезла через него и схватила ближайшего рыбака за щиколотку.
Она довольно улыбалась. Получилось! Теперь они будут спасены!
Пытаясь вырваться, рыбак хотел пнуть Самоа, но плюхнулся назад на дно лодки, как тарантул. Умберто видел, как он изо всех сил махал руками и ногами. Самоа протянула к нему руку и еще раз попросила помощи на мальдивском:
– Ханйехун! Ханйехун!
Они убили ее копьями – грубо заточенными палками, которые лежали в лодках. Самоа даже не успела закричать.
Первое копье, брошенное старым рыбаком, пронзило правое плечо, острием зацепив ключицу. С его конца свисал кровавый кусок плоти, похожий на сердцевину яблока.
Умберто даже показалось, что он слышит хруст костей, но он приписал это воображению.
Да, все это, должно быть, лишь плод воображения.
Откуда-то издалека до Умберто доносились вопли Дэни и Валентины – гул голосов, приглушенных океаном, белый шум старого сломанного радио.
Самоа издала какой-то булькающий звук, а потом подняла руку, словно пытаясь защититься, но тут же еще два копья вонзились в грудь и голову.
Одно застряло в теле, а второе прокололо левый глаз и вышло под затылком, над шеей. В кристально чистой воде расплылось алое пятно крови, похожее на блестящий красный лук.
Умберто чуть не стошнило, когда он увидел, с какой силой и каким безразличием рыбак вытаскивает копье из черепа Самоа. Так вынимают крючок изо рта пойманной форели. Потом ее сбросили за борт. По телу Самоа волной прошли предсмертные конвульсии, как будто она плыла на спине. Наконец все было кончено, и труп пошел ко дну.
Убив Самоа, рыбаки набросились на соплеменника, к которому она прикасалась. Нескольких сильных ударов плоской частью весел по кадыку, нанесенных с невообразимой яростью и жестокостью, – и он был мертв.
Дэни схватила Умберто за руку, но тот ее оттолкнул, ошалев от происходящего.
Не дотрагиваясь до трупа рыбака, его сбросили в воду, подцепив копьем и накинув на шею петлю. Голова у него болталась, как у дохлой курицы, которую собираются ощипывать.
Валентина упала в обморок прямо в пухлые руки Дэни, исчерканные грязными дорожками соли и слез.
Последнее, что Умберто помнил отчетливо, – это то, как Эннио плыл назад. Он никогда не видел, чтобы кто-то несся с такой скоростью – не человек, а настоящая торпеда. Рыбаки же, подняв копья к небу, уходили от острова, прокричав напоследок: «Ресси! Хураа нубаи Дириури!» Запомнил Умберто и облако в форме мультяшного толстячка, из-за которого все происходящее казалось еще более нереальным и уродливо-комическим.
Потом в сознании Умберто все потемнело, будто из фильма его жизни кто-то вырезал кусок пленки.
Когда он снова вернулся в реальность (в ту же, которая была несколько часов назад, или нет?), то обнаружил, что стоит в кругу с тремя оставшимися в живых, босиком на дряблой серо-бурой земле: они только что сошли на берег, и кто-то говорит, что у них семь бутылок воды, три банки сока, швейцарский складной нож, завалявшиеся на дне рюкзака бутерброды, несколько намокших книг, а прежде чем наступит ночь, нужно осмотреться.
Закат был ярким, как взрыв оранжевой краски. Тут и там виднелись выступающие из вод хрустального океана кораллы.
Смерть и страх искажали время – то ускоряя, то замедляя его бег по своему усмотрению.
Наступил вечер.
Они остались на острове.
Кое-как обследовать его удалось за пару часов: этого было достаточно, чтобы первое впечатление полностью подтвердилось. Негостеприимное место, безжизненная, бесплодная поверхность, внушающая страх.
Касаясь босыми ногами мягкой земли, Умберто чувствовал тревогу, тоску и уныние. Они, словно мелкие паразиты, ползали по нему, пытаясь отложить бледные, жирные личинки в его душе. А разум изо всех сил старался понять – что это за почва, в которой тонули ноги? Мох? Какие-то кораллы? Неизвестная геологическая порода?
Сложно было поверить, что где-то совсем недалеко от этого странного, бесформенного острова в райских уголках и пятизвездочных отелях, напичканных всевозможными удобствами, бурлит жизнь.
Сначала они гуськом обошли остров по периметру, следуя за Эннио и не проронив ни слова. Решили, что диаметр этого клочка суши не больше полутора километров. Потом отправились к склонам невысокого холма и перебрались через глубокий овраг цвета глины, на полметра заполненный стоячей зловонной солоноватой водой.
Ни животных, ни насекомых, ни растений. Только невысокие, какие-то странные, чужеродные кустарники. Они не нашли ничего съедобного или того, что могло бы как-то пригодиться, и не увидели ничего, что порадовало бы глаз. Очевидно, Бог – или кто там наверху – давным-давно забыл про этот Остров Ничего, как окрестила его Валентина.
– Давайте заберемся на вершину холма. Это недолго. Оттуда наверняка будет видно лучше, – предложила запыхавшаяся Дэни, с которой ручьями стекал пот. – Может, сигнальный костер разожжем?
– Как? Как ты собираешься разжечь этот костер, черт тебя дери? – Эннио уже не был так уверен, что их скоро спасут, а Валентина снова начала терзать щеки ногтями.
Тем временем солнце наполовину спряталось за горизонт, превратившись в золотой купол, и на остров легли длинные тени. Тогда уцелевшие молча поплелись обратно к крылу самолета, которое они, проклиная тяжесть и жару, еще днем вытащили на берег. Решение приняли единодушно, даже не обсуждая, – обменявшись испуганными взглядами и поспешными кивками. Оставшуюся часть острова и холм они осмотрят завтра. Никому не хотелось провести ночь в центре этого клочка земли, у подножия возвышенности или среди чахлых трехлистных кустиков, тут и там торчащих из земли, словно иголки. По всей видимости, это единственная растительность на острове, да и вообще единственное живое, что здесь есть. Таких кустов – темно-зеленых, чуть ли не угольно-черных, усеянных бледно-розовыми плодами, они никогда раньше не видели.
В тропическом небе, освещенном огненными отблесками заката, с закрученными штопором облаками, одна за другой открывали глаза звезды.
Многие из них, подумал Умберто, уже давно умерли, превратившись в скопления газа и мусора.
А мы? Мы уже умерли?
Никому не хотелось спать на мягкой земле, поэтому они легли на обломок самолета, плечом к плечу. Женщины в центре, мужчины по бокам. И уставились на тонкую полоску света, стиснутую между небом и океаном.
Умберто пытался смотреть на пляшущие отблески заходящего солнца и ни о чем не думать. Да, такого заката он не видел никогда в жизни. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы нас начали искать.
Мы же итальянские туристы, максимум за пару дней…
– Как думаете, почему ее убили? – Валентина, постаревшая за несколько часов на двадцать лет, обвела их взглядом.
– А видели, как они набросились на другого рыбака, до которого дотронулась Самоа? Почему? – воскликнула Дэни.
– Какое-то местное суеверие. Понятия не имею.
– Трудно сказать. Но, как только мы вернемся в Мале, в посольстве обо всем этом узнают, уж я позабочусь…
– Эннио, – одернул его Умберто, – давай думать о том, что происходит сейчас, а не о том, что будет. Сейчас мы на этом чертовом острове… Нужно установить норму еды и воды, мы ведь не знаем, сколько нам предстоит здесь просидеть, – Умберто принялся рыться в рюкзаке.
И достал оттуда намокшую книжку с загнутыми на многих страницах уголками. Оказалось, это карманный итальянско-мальдивский словарь Самоа. Кое-где чернила растеклись, но большинство слов все еще можно было прочитать.
– Что нам кричали рыбаки? – взволнованно спросил Умберто, вставая. – Самоа сказала, что они говорят о маленьком острове и повторяют слово «жить», помните? Ураа…
– Ураа… – подтвердил Эннио, хрустя пальцами. – Ресси ураа нубаи дириури. Или что-то похожее. Они сто раз повторили!
В лучах заходящего солнца Умберто принялся листать словарь. Нашел «ураа» – действительно значит «маленький остров». Быстро просмотрел остальные страницы и нашел перевод других слов.
Ресси: призраки в мальдивском фольклоре.
Нубаи: невезение.
Дириури: жить.
Умберто поднял голову и увидел жуткую тень от холма, расплывшуюся по земле, как нефтяное пятно. Шмыгнул носом, стараясь скрыть волнение.
Остальные молча смотрели на него в ожидании.
– Ну что?
– Ничего. Я ничего не нашел, – ответил Умберто, убирая словарь в рюкзак. Снова уселся на обломок, а колени хрустнули, как сухие ветки. – Эх, сигаретку бы сейчас…
На Острове Ничего стало очень влажно и темно. Поднявшийся с океана туман вскоре закутал выживших в теплый липкий молочный кокон, приглушающий звуки.
– Давайте поедим и попробуем заснуть, – предложил Эннио, и только тогда Умберто понял, как устал за день.
У него обгорели плечи и спина. Сначала их жгло, потом он почувствовал озноб. Других солнце тоже не пощадило – красные лица были в пузырях. Туман светился мрачными размытыми красками.
Пропитавшиеся морской водой бутерброды есть было невозможно. Только Дэни все же взяла один и стала жевать, перепачкав весь подбородок. Когда ей сказали, что соленую воду пить не стоит, она и бровью не повела.
Каждому досталось по три глотка сока. Валентина в шутку сделала вид, что хочет выпить больше, чем договаривались, но Дэни озлобленно выхватила бутылку у нее из рук.
– Жирдяйка, – прошипела Валентина.
– Да пошла ты!
– Завтра вечером мы будем в безопасности, вот увидите, – с этими словами Эннио лег на спину и положил руки под голову – вылитый турист, который собирается провести ночь, наблюдая за звездами.
Но звезд больше не было – все окутал туман, от зноя закручивающийся завитками у них над головой.
Умберто вспоминал истории, которые читал в детстве, – о чудовищах, о жутких приключениях путешественников, потерпевших кораблекрушение и ставших каннибалами, – скучный фильм с Томом Хэнксом. Но вскоре, убаюканный приглушенными всхлипываниями Валентины, задремал.
Остальные тоже уснули, и во время чуткого, беспокойного сна у них подрагивали веки и мышцы.
И тогда из темноты выбрались сны острова, чтобы навестить чужаков.
* * *
Самоа, с пробитым мальдивцами черепом, вставила два пальца в рану на плече и двигает ими вверх-вниз, между разорванными мышцами, вверх-вниз, легкими фрикциями двигает кости, будто мастурбирует в ране, заполненной морскими личинками; язык высунут, на лице маска агонии и желания, а в глубине мертвых глаз – межзвездная пустота и потухшие галактики.
Кости исполинских размеров на морском дне, усыпанном изуродованными кораллами, в которых спариваются и поедают друг друга рыбы и твари немыслимых размеров.
Словно в бреду вальсируют китообразные божества, пробудившиеся ото сна в могилах из раковин и костей, кружатся в танце черепахи-планеты, вернувшиеся к жизни, чтобы утолить голод и заполнить бездонную пустоту.
В вонючем панталассовом бульоне зияют катаракты тьмы, континенты со скрежетом сталкиваются друг с другом и взрываются лавой, серой и паром.
Половые органы размером с китов пульсируют и фонтанируют гирляндами сперматозоидов-планктона, моря, чтобы очиститься, всасывают вязкую жидкость, ультразвук чертит знаки вечных символов водорослями и космической пылью.
Половые железы-скалы покрыты пленкой слизи, инопланетные яйца спрятаны в расщелинах Времени.
Пиявки с кожей из космоса и материи.
Войны.
Эпохи.
Мгновения.
Гомункулы-микробы, швыряющие с утлых лодчонок тысячи костяных гарпунов в хребты, покрытые городками, улицами, башнями, замками, возведенными, чтобы бросить вызов небесному своду.
А потом падение.
А потом снова сон.
Новое пробуждение.
Новая любовь, новые цивилизации, новые конфликты. Новые поколения, новые смерти.
Циклы.
Болезни.
Исцеления.
Вопли микробов.
Ресси Ураа Нубаи Дириури!
Значимость пустоты.
Никчемность тщеславия.
Возвращение всего сущего, до самого последнего атома, к первобытной рвоте, исторгаемой вселенной.
Двадцать восемь, идиот! Бууум, придурок!
Фрррррр! Фррррр!
* * *
Умберто очнулся, задыхаясь, не чувствуя своего тела, совершенно без сил. Вата тумана окутала его с головы до ног. Парализованный ужасом от кошмарных видений, прилипших к нейронам где-то на подкорке мозга, он не мог пошевелиться и только слышал вздох гигантского существа
Фррррр! Фрррр!
который отдавался внизу живота.
Он на самом деле это слышит? Или ему снится? Откуда этот звук?
Странное шипение, хрип неизлечимо больного, дыхание какого-то зверя, затаившегося в сырой норе… Умберто решил, что это просто ветер, шелестящий трехлистными кустами.
Вдруг он ощутил невероятно сильную эрекцию, упирающийся в штаны член, и вздрогнул, почувствовав, что на бедрах засохла корочка ночной поллюции.
Проснулись и остальные, и тоже лежали молча и неподвижно, как статуи, глядя в полумрак широко раскрытыми глазами. Валентина бормотала что-то неразборчивое: «Блах агуат форс».
Начавшийся рассвет окрасил туман лазурью. Над миром страха и мглы, в котором затерялись четверо оставшихся в живых, по-прежнему разносился низкий гул, оказавшийся саундтреком к их трагедии.
Фррррр! Фррррр!
– Что это? Что это такое, ребята? Я хочу пить, – хриплым, болезненным голосом нарушила молчание Дэни. В этом тумане она казалась еще толще, чем была, – настоящий двуногий бегемот. – Это ветер? Мне такое снилось… какой-то бред. Кошмары. Мои руки и…
– Мне тоже. Но, наверное, в этом нет ничего странного, ведь вчера много всего случилось… – Умберто проговорил это так, будто убеждал самого себя. Порывы ветра били по щекам, обломок крыла противно вибрировал.
Слава богу, туман очень плотный. Хоть член и испачкан засохшей спермой, по крайней мере, не видно, что он стоит. Умберто поднялся, а за ним и Эннио. На фоне окружающей серости копна его волос напоминала куст, искалеченный бурей.
– Мне тоже снилось что-то странное, – выдохнул сицилиец, а потом тихо-тихо, словно стыдясь, стал рассказывать без всякого выражения. – Мне приснилось, что нас спасли, и я вернулся домой, но в аэропорту, когда увидел друзей и семью, я вдруг понял, что мертв, мертв! Будто это я – но в то же время и не я. У вас когда-нибудь было такое? У меня внутри пусто, я как марионетка… которой кто-то управляет. Мама посмотрела на меня с ужасом и убежала, а папа начал чертыхаться… И все, все вытаращили глаза и бросились врассыпную, как будто увидели дьявола. У ограждения стоял полицейский, и я спросил у него, что случилось, а этот дурак начал смеяться, дурак, представляете… а потом достал пистолет, и я подумал, что он хочет убить меня, чтобы перестать смеяться, а вместо этого он вставил ствол в рот и, хохоча, нажал на курок…
– Эннио, хватит, хватит, пожалуйста, – пробормотала Валентина; впалые щеки и спутанные сырые волосы превратили ее в старуху. Ей тоже приснился кошмар, об этом можно было догадаться по изумленному, зачарованному взгляду, все еще блуждающему где-то в другой реальности.
Но Эннио продолжал говорить, словно не слыша ее, – медленно, уставившись невидящими глазами в океан. С ним что-то происходило. С ним явно что-то происходило. Рассвет наконец-то окончательно победил туман, и Умберто заметил, что у Эннио дергаются веки, а сам он качается, как лунатик.
– Полицейский выстрелил себе в нёбо и рухнул на пол, как мешок с тряпьем, а через секунду я вдруг увидел себя со стороны – с потолка, как будто стал его частью. На голове у меня лежала медуза – огромная, больше воздушного шара. Но это была не обычная медуза из фильмов о природе, а древняя, первобытная. Она говорила со мной, лизала мой мозжечок, и мне было больно и хорошо одновременно, и шептала мне, что не все острова – это острова, и не все медузы – это медузы, и не все, что мы видим, на самом деле является тем, что мы видим. Вы меня слушаете, да? Эта медуза высасывала мой мозг через дырку в черепе, а когда высосала все, у меня в голове осталась только пустота, и эта гнилая пустота взорвалась на тысячу осколков, бум, и заполнила весь аэропорт и… там были еще какие-то существа, я плохо помню… Наверное, сирены. Да, точно. И Самоа. Боже мой, ведь Самоа убили мальдивцы. Сирены и спруты. И всякие твари… Да, огромные, размером с дом. С остров.
Услышав, что всегда прагматичный Эннио говорит такое, Умберто вздрогнул. Положил руку ему на плечо. Потряс.
– Эй, ты в порядке? Эннио?
Сицилиец моргнул, вздрогнул, а потом с изумлением уставился на остальных.
– Что случилось?
– Ты спал стоя. Говорил странные вещи. Все в порядке?
– Ну да. Вроде бы.
В утренних лучах тропического солнца туман начал рассеиваться и стало жарко. Видимость значительно улучшилась.
Умберто повернулся к Валентине. Настоящая дикарка. Тридцатилетняя девушка со спутанными волосами, грязными ногтями и в разорванной майке, открыв рот, с изумлением и отвращением смотрела на Дэни. На опухшие ото сна веки и двойной подбородок в подтеках слюны. На то, как Дэни весело разглядывает собственное предплечье.
Точнее, кость предплечья. На локтевой и лучевой костях осталось лишь несколько кусков плоти и мышц, с отчетливо видневшимися полукруглыми следами укусов.
– Я хотела есть. Очень сильно. И пить. Я умираю от жажды, – затараторила Дэни, оправдываясь, как девочка, которую поймали на краже варенья. А потом издала чудовищный вопль и всем своим весом рухнула на крыло.
– Что за херня?!
Один прыжок, и Умберто очутился рядом с Дэни. Ему показалось, что в воде, в паре метров от берега, плещется какая-то масса – как раз в том месте, где над океаном нависают оставшиеся облака тумана, похожие на клочки грязной ваты. Неужели прошло меньше суток, как их самолет разбился? А кажется, целая вечность.
– Дэни! Дэни! Что случилось, черт возьми?
– Я очень хотела есть. Очень. В животе было совсем пусто, – глаза у нее закатились, и Умберто с ужасом увидел, что рот и зубы Дэни все в крови. Между резцами застряли ошметки кожи и жира.
Она обглодала собственную руку до костей. И Умберто не сомневался, что это случилось, пока она спала.
Во сне.
– Валентина! Дай полотенце! Дай что-нибудь, надо ее перевязать!
Он смотрел, как Валентина, потрясенная, словно в трансе, дрожащими руками роется в рюкзаке. Наконец, она протянула ему парео.
– Дэни, нельзя сдаваться. Ничего страшного не случилось, – соврал он. – Подержите ее. Надо… перевязать рану.
Когда он был бойскаутом, их учили накладывать повязки на небольшие ранки и царапины. Но никогда в жизни ему не доводилось видеть рану такого размера, видеть голые кости, порванные сухожилия, мышцы со следами укусов. Даже обработать ее было нечем – только если обмыть водой да прикрыть грязным парео. Он сделал все, что мог, то есть почти ничего. Спрашивал себя, как быстро начнется заражение и сколько крови потеряла Дэни в состоянии шока, пока кричала целую минуту в руках Эннио и Валентины, пока бормотала извинения и что-то непонятное о «кишках острова». До того, как потеряла сознание.
Умберто потрогал ее лоб, приложил ухо к внушительной груди. Сердцебиение было совсем слабым. Поднял взгляд и встретился глазами с перепуганными Эннио и Валентиной.
– Не знаю… выживет ли она, – пробормотал он.
– Что происходит? Скажи мне, что мы все еще спим, – попросил Эннио.
Но Умберто нечего было ответить. К его ладоням, испачканным теплой кровью Дэни, прилипли кусочки мяса. Навязчивые кошмары спутали все мысли. Теперь туман поднялся совсем высоко, не имея больше сил прятать синеву неба и волн, и стало видно, как из воды, словно из арки подводного храма, выходит больное солнце.
Умберто добрел до кромки океана, и его желудок исторг горький поток желчи и отчаяния. У берега, казавшегося резиновым, поднимались брызги соленой пены, а черные водовороты рассеивали рвоту по воде.
Ветер высушил слезы, но когда Умберто увидел длинный след пены, бурлящей у побережья, как у борта корабля, он понял, что это вовсе не ветер гонит волны на проклятый атолл, на котором они оказались.
– Мы двигаемся! – заорал он. – Черт подери, эта сволочь шевелится!
Эннио и Валентина у него за спиной вглядывались в волны, поднимавшиеся у берегов все выше и выше.
Фрррр! Фрррр!
Откуда-то глубоко из-под земли доносилась странная вибрация, словно исполинский двигатель начал работать после долгого простоя.
– Валентина, останься с Дэни, – попросил Умберто, а потом посмотрел на Эннио. – Пойдем. Надо посмотреть, что там, на гребаном холме.
* * *
Это оказалось сложнее, чем они думали. Холм действительно был невысоким, с уступами на склонах, но совершенно гладким, мягким и скользким, в соленых разводах, что очень сильно затрудняло подъем.
Они соскальзывали, падали, поднимались на несколько десятков метров и снова падали, как мешки с картошкой, но вставали снова и снова, поддерживая друг друга. Умберто был уверен, что им вообще не удалось бы вскарабкаться наверх, если бы не прочно сидевшие в земле редкие кустики, за которые можно цепляться.
Пройдя половину пути, парни остановились на каком-то выступе перцового цвета, чтобы перевести дух.
– Я вообще перестал понимать, что происходит, – растерянно произнес Эннио. На осунувшемся лице резко выделялись скулы и глаза. – Недавно смотрел документалку о плавучем острове, который нашли в Новой Зеландии. Из пемзы лавового происхождения. Он плыл по течению, а через несколько дней затонул. Что думаешь? Может, мы на таком острове?
– Не знаю, – пробормотал Умберто, стараясь не смотреть, как волны плещутся у берегов. С возвышенности было еще лучше заметно, как двигается остров. Судя по положению солнца, на юг.
Движение казалось Умберто осознанным, да еще это непрекращающееся фррр, фррр, фрррр… Будто дыхание. Дыхание какого-то живого существа.
Вдруг в голове его промелькнуло детское воспоминание. И он решил рассказать Эннио.
– А может, мы высадились на Заратане.
– Зара-чем?
– На Заратане. Ты в детстве приключения Синдбада-морехода читал?
– Нет. Что за фигню ты несешь?
– Ну… Заратан – это живой остров, про него написано в нескольких старых сказках и даже в средневековых справочниках по зоологии. Это – спина кита или огромной черепахи, которым тысяча лет. Если кит или черепаха долго не уходят под воду, то на спине могут вырасти всякие растения, трава и даже поселиться маленькие животные. Иногда моряки принимали ее за настоящий остров и высаживались на него. Так, например, сделали Синдбад и его матросы, которые плыли по Индийскому океану, как и мы…
Сицилиец расхохотался и с таким исступлением начал чесать бороду, что стал похож на наркомана.
– Чушь какая-то. Не думаешь же ты, что…
– Нет. Да и вообще. Я не знаю, что думать. Но слышишь этот шум? Это точно не ветер, похоже на дыхание. Идет откуда-то снизу. И земля здесь какая-то странная. Как будто… кожа, жесткая и толстая кожа. И ты не можешь отрицать, что мы двигаемся.
– То есть ты всерьез думаешь, что мы стоим на спине Зара-что-то-там?
– Да нет. Но, может, это и правда какое-то животное, китообразное или… Не знаю, зачем я все это говорю.
– Старик, да ты совсем помешался.
– Может быть. Но вспомни, как вели себя мальдивские рыбаки. Самоа дотронулась до острова, а потом до одного из них, и они убили обоих. А знаешь, что они говорили? Я вчера ничего не сказал, чтобы не напугать девчонок.
– Ну.
– Духи моря, остров, несчастье, жить. Может быть, они пытались сказать, что этот остров живой! Про́клятая…
– Если ты ждешь, что я поверю во весь этот бред, то ты ошибаешься.
– Я ничего не жду, Эннио. Мне вообще все равно, окажись мы хоть на Сатурне. Я просто хочу вернуться домой.
– Я тоже. Пойдем, – Эннио смахнул пот со лба, сплюнул и стал взбираться по склону. Посмеиваясь. Через несколько шагов остановился и посмотрел на Умберто с мрачной иронией.
– И чем же кончается история Синдбада?
– Не помню. Вроде как остров-кит погружается в воду, и все тонут. Все, кроме Синдбада, – ответил Умберто, а потом замер, наморщив лоб. Снял рюкзак, встал поустойчивее на полусогнутых ногах, чтобы не съехать вниз.
– Что ты делаешь?
– Хочу кое-что попробовать. Это только сейчас мне в голову пришло.
Он достал из нагрудного кармана швейцарский складной нож Invicta, который они нашли в воде вместе с другими вещами. И вдруг почувствовал волнение, будто в его ничем не примечательной в течение тридцати восьми лет жизни должно произойти что-то из ряда вон выходящее.
Может, он жил не зря. Может, вся его жизнь нужна была, чтобы столкнуться с существованием немыслимого.
Умберто встал на колени, вытащил клинок и резким движением вонзил его в сероватую землю. В глубине разрез был темным, почти черным, как мякоть под рассеченной кожурой. Умберто воткнул лезвие поглубже и вытащил из земли дряблые влажные ошметки, похожие на губку.
Сначала ничего не произошло. Потом Эннио издал стон отвращения, и Умберто поспешил отойти от получившейся щели. С краев потекло вязкое зеленое вещество, напоминавшее смолу. В нос ударил запах тухлой рыбы.
Они пошли дальше, не говоря ни слова, то и дело поглядывая на усеченную вершину холма. Только Эннио с чувством выругался на родном диалекте.
Тут Умберто увидел Валентину, которая медленно, шаг за шагом, цепляясь за кустики, поднималась вслед за ними по склону.
Они решили подождать ее и стали вспоминать, что ждет их дома, что им было бы жалко потерять. Оказалось, не так уж и много. Друг друга они особо не слушали. Слова тонули в шуме. Они говорили только для того, чтобы не думать о пульсирующем хрипе, выходившем из-под земли.
Когда Валентина добралась до них, у нее уже не хватило сил объяснить, почему она пошла следом. Но это было и не нужно. Они и так поняли, что выжить Дэни не удалось.
* * *
Валентину вместе с рюкзаками пришлось оставить на уступе. Она едва держалась на ногах и вряд ли смогла бы пойти дальше.
Еще через полчаса парни добрались до вершины. Чем ближе они подходили, тем более приторным становился и без того тошнотворный сладковатый запах.
Они подошли к краю обрыва, неровному, черному, покрытому синеватыми пятнами, похожими на лопнувшие капилляры. И увидели перед собой кратер диаметром метров пятьдесят.
– Видишь? Это просто остров вулканического происхождения, – сказал Эннио, ложась на живот и цепляясь за края кратера костлявыми пальцами, чтобы посмотреть вниз.
– Осторожнее.
Умберто стоял у него за спиной, стараясь не обращать внимания на безжалостно припекающее солнце. Отхлебнул воды из бутылки, которую они захватили с собой, и уставился на сицилийца, вытянувшего голову над кратером.
– Что там?
Тишина.
– Эннио?
Умберто на локтях подполз к нему и лег на живот. Так вибрация острова чувствовалась особенно сильно и отдавалась в груди. Эннио, не моргая, смотрел вниз. И шевелил губами, пытаясь что-то сказать, но не издавал ни звука.
Умберто подтянулся еще немного, ухватился за край кратера и приподнялся.
Охнул.
Он был готов увидеть все что угодно, но только не это. Захотел отползти, но не смог.
Это было великолепно.
Невероятно, потрясающе.
На секунду он вспомнил Валентину, Дэни и всех, кто умер: как жаль, что их здесь нет, что они не могут увидеть это своими глазами!
Бездна.
Живая, голодная, волнующая.
Ну конечно! Они чувствовали ее и раньше, подсознательно, в вялом течении жизни, в тот миг, когда гидросамолет потерял высоту. В кошмарах. Ночами, когда захлестывало отчаяние. С того момента, когда пришли в этот мир.
Умберто попытался подобрать слова, чтобы описать увиденное у себя в голове, но сознание затуманилось. Сколько же сотен лет этому живому острову, на который они попали совершенно случайно? В его природе он больше не сомневался. Сколько сотен лет бьется это сердце, бурлит эта бездна и куда она ведет?
Фррр! Фрррр! Фрррр!
Кишка безжалостной бездонной тьмы с бордовыми стенками, покрытыми слизью и перепонками: рот-кишечник-глаз-дыхательное отверстие-волосок-нейрон-сфинктер, клыки и когти, кости и призраки, кошмарное и божественное, бездна, которая вбирала в себя и переваривала всю историю мира.
Вглядываясь в недра острова, в ту пропасть, где смешались самые низменные человеческие инстинкты, призраки и истории забытых эпох, Умберто Барбьери испытал какое-то экстатическое восхищение: в ней, в этой бездне, было что-то истинное. Откровение пустоты, ощущаемой каждым разумным существом, вакуум между звездами и галактиками, между Богом и людьми, между Добром и Злом. Пустота, которая является частью каждого существа и которая связывает их, связывает каждую молекулу и атом как паутина, пустота, без которой материя, мечты и вселенные не могли бы существовать и развиваться, пустота, необходимая для жизни, смерти, возрождения.
Остров Ничего. Остров Всего. Нет, он совсем не похож на зверя, которого встретил Синдбад-мореход или описал Плиний Старший.
Нет, черт возьми, нет.
Заратан видел сны, и они видели сны вместе с ним, касались его нечестивого сердца, ловили едва уловимое сердцебиение.
И во всех это отзывалось по-разному.
Умберто вспомнил о Дэни, съевшей во сне собственную руку, о кошмаре про аэропорт, который приснился Эннио, о собственных страшных видениях, возбудивших и заставивших кончить во сне.
Каждый заполняет пустоту по-своему, размышлял он.
Сотрясаясь в рыданиях, Умберто поднес руку к глазам. Он плохо видел. Веки слипались, как после долгого нездорового сна. Умберто отвел взгляд от разумной бездны и посмотрел на кончики пальцев. Алые. Он плакал кровью, и эти слезы упали в чрево острова. Бездна, казалось, сморщилась, приветствуя его и выражая одобрение.
А Эннио все еще смотрел вниз, вцепившись в край кратера с такой силой, что костяшки пальцев совсем побелели. Умберто хотел окликнуть его, но изо рта вырвалось лишь какое-то карканье. Сицилиец не обернулся, словно не замечая, что Умберто рядом. Он завороженно смотрел в бездну, кричал и дико хохотал, как полоумная старуха, с которой плохо обращаются в доме престарелых, как убийца, выполняющий свою безжалостную работу, как отец, которому приснилось, что его сын гибнет на бессмысленной войне.
Созерцание бездны для него обернулось безумием.
– Заратан-тан-тан! – распевал он как ребенок. Потом оттолкнулся ногами и навис над пропастью всем телом. Изведенный судорогами, дрожащий, словно живущий собственной жизнью язык свисал изо рта, как толстый бифштекс.
Эннио поднес ко рту мускулистую руку, сжал в кулак и схватил ее другой. Подвигал кулаком вверх-вниз, а потом резко дернул. Раздался звук, будто хозяйка привычным движением рвет тряпку, в горле захлюпало, с обожженных солнцем губ на мертвые сосочки закапала кровь.
Ужас и ликование слились воедино, стирая грань между разверзшимися преисподними.
Заратан забормотал. Из зараженной бездны вылетел вихрь пара, несущий запах смерти, морских кладбищ и инфекций.
Эннио вырвало кровью, и он швырнул в пропасть собственный язык, – подношение Богу Ничего. А потом встал на ноги и прыгнул туда сам, улыбаясь окровавленным ртом.
Изумленный Умберто уставился на летящее вниз тело, бившиеся о стенки кишки, которые теперь были покрыты стеблями, глазами, шипами и нарывами.
ФРРРР! ФРРРР!
Остров-левиафан приподнялся, а затем рухнул в воду, и грохот океана, разбитого титанической массой, стал похоронным маршем для кудрявого парня, сгинувшего в недрах Бездны.
Умберто больше не хотелось возвращаться домой. А хотелось остаться здесь. Навсегда.
Вдруг он почувствовал – за спиной кто-то стоит. Даже не оборачиваясь, понял, что это Валентина. И что она тоже смотрит вниз, зачарованная и уничтоженная этим зрелищем.
Кровь, лившаяся из глаз, туманила взгляд, но кое-что Умберто еще видел.
Задыхаясь, он опустился на четвереньки, а потом снова поднялся и почувствовал, как Валентина взяла его за руку. Несколько часов они стояли, покачиваясь на краю Пропасти вместе с Заратаном, как двое молодоженов в шторм на палубе круизного лайнера.
Когда пришла ночь, Валентина пошарила в кармане шорт, пробормотала
– Ресси Ураа Нубаи Дириури! Тридцать восемь, идиот! Бум, придурок!
и перерезала себе горло швейцарским ножом, распиливая сонную артерию сантиметр за сантиметром, словно нарезая кабачок. Потом на фоне ночного неба, лишенного звезд, ее силуэт качнулся и, как труп жертвенной девы из старых фильмов ужасов, рухнул в бездонную тьму.
По острову растекались серебристые лучи пористой луны.
Умберто ждал, ждал и ждал, дыша вместе с Заратаном.
Фррр! Фррр! ФРРРРР!
Ему казалось, он ждет с тех самых пор, как выбрался из материнского чрева.
Рев океана нарастал, превращаясь в бурю стонов и пены.
Они плыли все быстрее.
Плыли по морю своего одиночества.
Сбросив одежду, Умберто стоял на ветру голышом, а потом на несколько шагов отошел от края кратера.
Разбежался, прихрамывая, и прыгнул вниз, размахивая руками и ногами.
Безумный вихрь закрутил в полете его тело.
Насытившись, Тварь-кариатида быстро и беспечно двигалась ко льдам Антарктиды, за колонны непознанного, преодолевая бренные буйки неизвестного; а когда погружалась в воду, возвращаясь в своих мечтах к бесконечности, из которой появилась, Умберто Барбьери с диким воплем все еще летел в Бездну.
Молочная кислота
Было пять тридцать вечера.
Вечера пятницы.
Серджио Бандини зашел домой, положил сумку с ноутбуком на диван и просвистел какой-то легкомысленный мотив.
Конец рабочей недели. Он немного устал, но в целом все идет отлично. Завтра ему тридцать два. А сегодня – вкусный праздничный ужин дома у родителей, подумал он, вынимая из заднего кармана джинсов мобильник.
Не переставая насвистывать, Серджио открыл список контактов и нажал на имя Кьяра. Три гудка – и раздался голос подруги.
– Привет! Ты уже дома?
– Привет, да, только что приехал. Как у тебя дела? Еще в офисе? – спросил Серджио, подходя к окну и окидывая взглядом улицу Мучеников свободы, очертания колокольни, небо над городком Орласко, уже слегка потускневшее в легких сумерках.
– Да, но скоро выхожу. Слушай, давай увидимся уже у твоих родителей? Я тогда прямо из офиса поеду к ним, домой заходить не буду, а то доберусь совсем поздно. А подарок у меня с собой, так что жди, подарю сегодня вечером.
– Да-да, встретимся у моих родителей, – смеясь прервал он Кьяру. – Отлично. – Она любила поболтать. – Слушай, раз уж сегодня мы ужинаем у папы с мамой, я схожу на пробежку. Ненадолго, пробегу километров пять-шесть и назад. Чтобы совесть не мучила из-за обжорства.
Кьяра залилась звонким, кристально чистым смехом.
– Да ладно, у тебя же завтра день рождения, хоть иногда можно дать себе поблажку…
– Да, но мне сегодня прямо хочется, ты же знаешь, для меня это разрядка. Очень расслабляет.
– Знаю, знаю, это как наркотик и все такое, – хмыкнула Кьяра, и он передразнил ее, как умеют только влюбленные.
– Ладно, детка, я пойду, а то времени мало. Пробежка, потом быстро в душ, и в семь с небольшим встречаемся у родителей, окей?
– Давай, до встречи. Надеюсь, твоя мама приготовит тирамису.
– Разумеется! Пока.
– Серджио…
– Что?
– Я люблю тебя.
– Я… тоже – ответ прозвучал не так уверенно, как ему бы хотелось. Эти три простые слова Кьяра говорила редко. И каждый раз заставала его врасплох. Но они чертовски поднимали ему настроение.
Раздался щелчок сброшенного звонка. Серджио положил телефон на диван, рядом с ноутбуком, еще раз глянул в окно гостиной, пытаясь вспомнить мотив, который насвистывал несколько минут назад, и пошел переодеваться.
Стояла середина октября, но днем все еще было тепло. Можно ходить в шортах и легкой толстовке с капюшоном. Солнце сядет не раньше семи, вечером нехолодно и довольно светло. Он как раз успеет на небольшую пробежку.
Серджио снял костюм, натянул шорты, футболку и выцветшую толстовку Miami Dolphins. Взял Mp3-плеер и часы с GPS-трекером, чтобы отслеживать количество километров и среднюю скорость. Все, он готов. Надел кроссовки и пошел в ванную чистить зубы. Как всегда перед пробежкой. Своего рода ритуал.
Бе́гом он начал заниматься пару лет назад, когда, поднимаясь в квартиру, стал чувствовать одышку и желание откашляться. При том, что жил на первом этаже.
Он действительно набрал многовато лишних килограммов, и неудивительно – Серджио всегда был любителем покушать и пропустить пару стаканчиков, а сидячая работа и лень довершили дело.
Да, спортивным меня не назовешь, ухмыльнулся он, застегивая часы на запястье.
Его первая пробежка обернулась большим разочарованием.
Надев кроссовки на слишком тонкой подошве, он побежал по округе. Километры грунтовых дорог, прорезающих кукурузные поля, запыленные и заросшие травой колеи от гусениц тракторов, тропинки, ведущие к ручьям и оросительным каналам, почти культовые места для всех влюбленных парочек из Орласко и окрестностей, где они могли хоть как-то уединиться. В этом тихом городке он жил уже два года, но ни разу не выходил за его окраины. А тут перед ним открылся другой мир.
Где-то через километр в правом боку закололо, хотя бежал Серджио не так уж быстро, но он не стал сбавлять темп, решив, что боль пройдет. Еще через полкилометра резь в боку сменилась пульсирующей болью в груди. Весь мокрый от пота, он остановился.
Обратно Серджио поплелся, едва переставляя ноги, запрокинув голову назад и жадно глотая воздух широко открытым ртом; руки безвольно болтались вдоль тела. Немного отдышавшись, он отругал себя на чем свет стоит – как можно сдаться так легко, надо было потерпеть, боль бы прошла. Домой вернулся понурый и расстроенный.
Когда он рассказал обо всем Кьяре, то шутя, то разыгрывая драму, она хохотала до слез.
Серджио от своего не отступился. Продолжал бегать, спрашивал совета у друзей, читал статьи на эту тему в интернете, покупал подходящую одежду – нормальную обувь, комплект футболок из дышащей ткани, шорты и длинные брюки для тренировок зимой, смарт-часы. Он бегал по крайней мере три раза в неделю, после восьми часов работы в офисе, и постепенно обнаружил, что улучшить время и физическую выносливость можно только тренируясь регулярно.
Шаг за шагом, не нужно никуда торопиться, сказал он себе и постепенно вошел во вкус.
Потом, в один прекрасный день, после двух месяцев тренировок, ему удалось пробежать десять километров меньше чем за час. Может, это и глупо, но Серджио чуть не расплакался от радости. Все-таки для него это было определенное достижение.
Серджио стал тренироваться усерднее. Сбросил почти десять килограммов, наконец-то почувствовал себя подтянутым, в форме, и теперь готовился к своему первому полумарафону. Его ждал двадцать один километр страданий, пота и проклятий, но лучше пока об этом не думать. Впереди еще два месяца тренировок.
Он захватил ключи со столика в гостиной и спустился по лестнице, на ходу надевая наушники. Выйдя на улицу, остановился и посмотрел вдаль. На горизонте возвышались величественные Альпы, отбрасывая острые тени на городок на равнине. Из-за вершины Монте-Визо показались потрепанные пушистые сероватые облака. Солнечные лучи обвели их контуры яркой линией.
Серджио не спеша добрался до места, откуда обычно начинал пробежку (асфальтированная дорожка, которая через пару сотен метров переходила в извилистую грунтовую) и несколько минут посвятил растяжке.
Потом бросил взгляд на возвышающуюся над головой колокольню из красных кирпичей, покрытых мхом и голубиным пометом.
Нажал на кнопку, запуская секундомер часов, два раза подпрыгнул на месте и побежал.
Первую сотню метров его сопровождали цапли.
* * *
За десять минут Серджио преодолел всего полтора километра. Намного хуже, чем обычно.
Видимо, он не в форме. Ноги жесткие, одышка, боль в икрах. Что ж, бывает. Возможно, именно эта непредсказуемость и нравилась ему в беге больше всего. Можно выйти на тренировку полным сил и энергии, как будто тебе снова двадцать, и показать отвратительное время, или установить личный рекорд, хотя перед началом пробежки чувствуешь себя развалюхой. Результат зависит от множества факторов. Питание, сон, стресс. Не сказать, что Серджио слишком обо всем этом заботился. Все же он был любителем и не запрещал себе удовольствия в виде сытного ужина, вина и пары сигарет.
Серджио немного прибавил темп и бросил рассеянный взгляд на тополя, мимо которых пробегал. Их шевелюры из листьев и веток отбрасывали усталые тени на красноватую глинистую землю. Вдалеке виднелись едва различимые темные силуэты старых деревенских домов, где ютились те немногие жители Орласко, которые по-прежнему работали на земле.
В наушниках зазвучала старая песня группы «Rage Against the Machine». Названия он не помнил, но подзаряжала она отлично. По лбу, по соскам и по спине потек липкий пот. Порыв ветра капризно прошуршал в зарослях кукурузы и пронесся по дорожке, ударив Серджио по мокрому лицу. Он сбросил темп.
Бегал он всегда по одному и тому же маршруту. Почти идеальному кольцу, которое начиналось у колокольни и заканчивалось у плотины старого оросительного канала, в нескольких сотнях метров от дома. Серджио повернул направо и краем глаза увидел массивный силуэт колокольни, которая только что была у него за спиной. Во время первых тренировок, когда он еще плохо знал дорогу и мог заблудиться в лабиринте узких проселочных дорожек, этот ориентир сослужил ему неоценимую службу.
Он посмотрел на часы. Три километра за семнадцать минут и двенадцать секунд. Еще минут двадцать или даже меньше, и он будет дома, стоять под горячим душем.
Давай же. Шевелись! Слабо тебе, что ли? Если не выбежишь километр из пяти тридцати, никакой ты не мужик, сердито проворчал он. Серджио всегда подгонял себя так – а-ля мачо, хоть со стороны, наверное, звучало забавно. Обычно работало.
Но не в тот вечер.
Серджио почти добежал до места, где дорога поворачивала обратно, когда заметил тропку, вьющуюся по огромному зеленому лугу, на котором фермеры, видимо, пасли овец. Наверняка она была здесь и раньше, просто он не обращал внимания. Всегда бегал по привычной дороге, шедшей параллельно и маячившей в ста метрах впереди, в песчаной пыли, освещенной солнцем, лучи которого уже касались горных вершин. Скорей всего, эта, неприметная, тоже вела к небольшой плотине, где заканчивался маршрут.
Сам не зная почему, Серджио, отдуваясь, рванул по тропинке. Он устал и, наверное, надеялся, что она короче, а значит, быстрее приведет его домой. Поможет срезать путь.
Плеер включил «Run Like Hell» группы «Pink Floyd».
Он подумал о Кьяре и родителях, которые ждали его на праздничный ужин, и представил, как мать, с собранными на затылке волосами, накрывает на стол, красивая и немного грустная.
Серджио вытер лоб тыльной стороной ладони и пробежал триста метров, с силой выбрасывая бедра вперед. Тропинка была чуть шире, чем оставленный трактором след, вся в ямах и кучках щебня. Он бежал посередине, по зеленой полоске каких-то злаков, сорняков и завядших цветочков львиного зева. Через пятьсот-шестьсот метров, подумал Серджио, он выберется на главную дорогу.
Сплюнув в траву беловатый комок слюны, Серджио стал разглядывать тощие деревца, растущие по краям дороги. Буки. Чем дальше он бежал, тем гуще становились раздетые осенью заросли. Деревья, словно бездомные скитальцы, с мольбой протягивали к нему свои ветви. Чтобы увернуться от них, Серджио несколько раз переходил с одной стороны дороги на другую. Потом постарался ускориться. Если верить смарт-часам, в среднем он пробегал километр примерно за пять минут двадцать секунд. Хорошо.
Оторвав взгляд от циферблата, Серджио посмотрел направо. Вдалеке виднелись дубы, темно-зеленые верхушки которых решительно пригнул ветер. Их кроны напоминали огромные засохшие шарики сахарной ваты. Деревья качались над старым домом с провисшей местами кровлей; возраст и непогода оставили на черепице отчетливые следы. Вид дома нагонял тоску. Нет, он не выглядел зловещим – скорее заброшенным, а запустением веяло от всего пейзажа, от того, как солнце освещает его своими лучами, от теней, отбрасываемых постройками.
Серджио задумался: Я никогда раньше не замечал этих деревьев. Да и этого дома тоже.
Стараясь бежать быстрее, он удлинил шаг. Осенний ветерок, еще несколько минут назад приятно обдувавший потное лицо, стал промозглым и холодным. Тучи начали перебираться через Альпы, как армия пепельно-серых неуловимых воинов, пряча острый пик Монте-Визо и часть солнца, которому, однако, пока хватало сил, чтобы освещать равнину.
Еще один километр, – и я дома, подумал Серджио, и начал финишный спурт.
Пот липкой патиной покрывал спину и бедра, капли с груди стекали в пупок.
– Ну же, поднажми, – сквозь зубы процедил Серджио, пытаясь восстановить дыхание.
Заросли сгустились, а деревья, сплетаясь длинными, изогнутыми ветками, образовали темный, сырой коридор. Но через несколько метров стволы вдруг стали тоньше, и последние лучи заходящего солнца смогли просочиться сквозь кривые ветки. На какой-то миг Серджио ослепил резкий переход от тени к свету, и он зажмурился, прежде чем смог снова увидеть, куда ставит ноги.
Впереди, где заканчивались деревья и начиналось поле с высохшими стеблями кукурузы, показался конец тропинки, упиравшийся в дорогу.
Вот и все, осталось совсем чуть-чуть.
Серджио добежал до конца и повернул направо, но тут же почувствовал: что-то не так. Сначала не мог понять, что именно. А потом до него дошло.
Сотню раз он бежал домой и всегда видел колокольню.
Но сегодня ее не было.
Только дубы и ветхий фермерский домик, вызывавшие смутное беспокойство. Их он видел впервые. Колокольня, по всей логике, должна находиться на прямой линии между ним и домом или чуть-чуть в стороне.
Но никакой колокольни там не было. Она как сквозь землю провалилась! Точнее, это земля прожевала ее, проглотила и переварила.
– Вот дерьмо, – выругался Серджио, продолжая бежать на месте и крутясь во все стороны в попытке отыскать ориентир.
Невдалеке он увидел забор, а за ним участок. Да, забор знакомый, обычно там возилась пара рычащих комков шерсти. Сегодня собак не было, но бежит-то он в правильном направлении. В правильном ведь, да? Точно?
Какой же я дурак, что поменял привычный маршрут, подумал Серджио. А может, повернуть назад и через мрачный коридор буков вернуться на дорогу, по которой бегал десятки раз? Так он будет уверен, что спокойно доберется до дома… Но тогда придется пробежать лишние два-три километра, а праздничный ужин начнется уже через час…
Серджио решил не возвращаться и медленно побежал вперед, по знакомому деревянному мостику, перекинутому через ручей, – еще одно подтверждение, что он выбрал правильное направление. Вдруг справа от него показалась крыша колокольни. Сердце радостно забилось. Выдохнув, Серджио ускорил бег, подгоняемый адреналином и мыслью о роскошном ужине. У него не хватило духа признаться себе, что колокольня сейчас находится намного правее, чем обычно.
По небесной плите из голубоватого мрамора, сомкнув свои ряды, быстро мчались облака, словно готовые к бою солдаты захватнической армии.
* * *
Грунтовая дорога поворачивала направо. Серджио сбросил темп и сплюнул в придорожную пыль. Вытащил из ушей наушники, выключил плеер и убрал все в карман.
Вообще-то здесь дорога должна поворачивать налево по широкой дуге. А эта идет в другую сторону, спускается по склону и теряется на лугу с растущими кое-где тополями. Колокольня снова оказалась у него за спиной.
– Проклятье! – громко выругался Серджио, и ему показалось, что эхо передразнило его.
В тени тополей на лугу дорога оборвалась. Серджио побежал медленнее, потом остановился, задыхаясь, согнулся пополам и уперся руками в бедра.
Его дом должен быть в другой стороне, рядом с колокольней. Вот идиот, сказал себе Серджио. Надо возвращаться. Другого выбора все равно нет.
Он развернулся и медленно побежал назад. Через триста, максимум – четыреста, метров он должен пересечь ручеек, а потом добраться до буковой аллеи, которая и завела его в тупик.
Спустя несколько минут Серджио глянул на часы и не на шутку встревожился – он пробежал уже километр, а ни реки, ни тропинки все еще не было.
Казалось, злое божество вырвало откуда-то кусок дороги и приклеило на выбранную им тропинку, как в старом паззле, части которого можно соединить как захочешь.
Серджио хотел домой. Часы показывали половину седьмого, вечерело. Его тень, едва заметная, тянулась по земле, как неживая долговязая кукла.
Смеркалось.
Не было слышно ни звука.
Словно и ветер тоже потерял голос. Хотя продолжал настойчиво ворошить траву и гладить тучи, которые становились все гуще, все темнее, все зловещее.
Если бы он просто услышал карканье вороны, трещание цикад или рев трактора где-нибудь вдали, и то стало бы легче. Но в тишине раздавалось только его хриплое дыхание, да кровь громко пульсировала в висках, как река, вышедшая из берегов.
Серджио остановился, пытаясь отыскать взглядом какое-нибудь знакомое дерево, дом или хотя бы копавшегося в земле фермера, у которого можно спросить дорогу.
Но тропинка тянулась до самого горизонта. Казалось, у нее нет ни конца ни края. Не видно было ни одной пересекающей ее дорожки. Ни одного поворота. Только прямая полоска пыли и щебня, и убранные поля, и щебень, и клубы тумана, поднимавшегося от земли. Серджио зажмурился, открыл глаза, покрутился в разные стороны и вдруг увидел колокольню… и ахнул от неожиданности, прикрыв рот рукой.
Это невозможно. Она была так далеко! Еле заметный черный обрубок, силуэт которого вырисовывался на фоне неба, кособокая ракета из романа Жюля Верна. Сколько до нее километров? Семь? Восемь? Такого просто не может быть!
Серджио посмотрел на часы. Он пробежал уже почти одиннадцать километров.
Нет. Вернуться ему не удалось. Время и пространство словно шли своим собственным путем.
В груди заболело.
– Боже, – пробормотал Серджио и заметил, что слюна стала белой и вязкой. Она напоминала жирных скользких слизней, которые после осенней грозы выползают на тротуары. Закрыв глаза, он сделал два глубоких вдоха.
Его ждали дома. Кьяра, мама, папа. Ждали, чтобы отпраздновать день рождения. Он должен был прийти к половине восьмого. Но даже если бы сразу нашел правильный путь, то все равно бы не успел.
Он подумал о доме и немного успокоился. Представил, как отец открывает бутылку, барберу, да, насыщенно-рубинового цвета, и густая маслянистая жидкость рисует симметричные, блестящие узоры на стекле бокала. Ему казалось, что он чувствует яркий вкус вина во рту и благотворное тепло алкоголя.
Вот мать через освещенное стекло духовки смотрит, не готова ли лазанья, пенящаяся пузырьками расплавленного сыра. Вот Кьяра заливается звонким, мелодичным смехом. Дом наполняется запахом вкуснятины. А вот Леди, собачка родителей, завалилась на спину, чтобы ей почесали живот, и лазанья, да, лазанья…
У Серджио потекли слюнки, пришлось пару раз сглотнуть. Желудок заурчал – громко, будто бы с яростью.
Потом на нос упала капля. Ледяная. Картины в воображении стерлись, и он вернулся в реальность. Начинался дождь, и Серджио подумал, каким же дураком был, что не послушал мать, которая просила его брать на пробежку мобильник: мало ли что случится. Но он не хотел, – мол, телефон в кармане будет мешать, бегать с ним неудобно.
Идиот…
Он зажмурился, снова открыл глаза и обхватил локти руками. Становившийся все сильнее ветер продувал влажную от пота толстовку, холодил голые мокрые ноги. По небу метались черные облака, как призраки из пара и дождя, подгоняемые ветрами, которые рождались на ехидно ухмыляющихся горных вершинах.
Через минуту дождь заморосил сильнее. Но холод привел Серджио в чувство.
Ты поддался панике. Идиот. Умудрился заблудиться. В паре километров от собственного дома. Все это ерунда. Ничего страшного не произошло. Ищи дорогу домой.
Он пару раз глубоко вдохнул влажный воздух, отчего в груди снова заболело, а потом рассмеялся, качая головой.
Решение-то очевидно. Он заблудился? Окей, но ведь не обязательно идти по дороге!
Он побежит прямо через поле в направлении колокольни. Да, промокнет, промочит ноги и испачкается в сырой глине, но каких-нибудь двадцать минут – и он окажется в центре Орласко!
Позвонит домой, расскажет родным о своем маленьком злоключении, а потом они посмеются над этим, сидя за столом, все вместе, немного пьяные и счастливые. Серджио уже представил себе едкие замечания отца.
Но придется поспешить. Пока колокольню совсем не поглотили сумерки.
Да, надо торопиться.
Пока не стемнело.
* * *
Минут десять он шел быстрым шагом по этой вязкой, неприбранной земле, не сводя глаз с колокольни, как вдруг ему стали попадаться фруктовые деревья. Яблони, киви, кое-где – персики. Казалось, их высадили без всякой логики. По немногим еще не облетевшим листьям барабанил дождь, выстукивая оглушительную мелодию.
Стараясь уклониться от веток, Серджио, как слаломист, вилял между деревьями. Время от времени он оборачивался, чтобы посмотреть на дорогу, – надеялся увидеть автомобиль, трактор или фермера на велосипеде.
Когда дошел до конца сада, ему послышалось бормотание мотора. Резко развернувшись, он зашагал назад, не сводя глаз с линии горизонта. Вдруг споткнулся о корень, замахал руками, неуклюже пытаясь сохранить равновесие, и увяз по щиколотку в жидкой грязи, похожей на слизь. Как в зыбучих песках, мелькнуло в голове, когда он выбирался, ругаясь и пытаясь отряхнуть кроссовки. Ноги очень замерзли. Носки приклеились к ступням, словно вторая кожа.
– Черт!
Похоже, за рев двигателя он принял раскаты грома. Засверкавшие в небе молнии напоминали процессию скелетов, переливавшихся лиловым электрическим светом. Серджио снова приказал себе успокоиться. И продолжал идти вперед, лавируя между стволами.
Выйдя из странного фруктового сада, он оказался перед речкой, с зеленой, почти стоячей водой. Берега крутые, метра четыре-пять в высоту, но сама речка мелкая, извилистая, вся закиданная пластиковыми пакетами, покрышками и банками. Дождь рисовал на поверхности воды концентрические круги, похожие на глаза призраков в болезненном свете заката. Серджио покрутил головой по сторонам в надежде увидеть мост. Ничего. Ничего не было видно из-за стены дождя и страха.
Ну и ладно. Он перейдет ее вброд. Все равно уже вымок до нитки, да и вся-то речка – метров пять в ширину, не больше.
Серджио еще раз проверил, где находится колокольня, – да, по-прежнему прямо перед ним, тень среди теней, и начал спускаться, поглубже вставляя подошвы в глину, чтобы не упасть. Однако берег оказался более крутым и скользким, чем он ожидал. Хорошо, что можно цепляться за пучки травы, крепко державшиеся в почве. Руки измазались зеленью, но Серджио почувствовал себя увереннее.
Добравшись до середины спуска, он услышал лай собаки где-то вдалеке. Первый звук за двадцать минут (если не считать дождь и его собственное дыхание), но такой, что мороз пошел по коже.
Лай собаки… Похоже на то. А вдруг это плач ребенка, упавшего в колодец? Или крик фермера, ногу которого затянуло в комбайн? Или мольба о помощи проститутки, избитой толпой наркоманов? Или…
– Ты вообще нормальный? Что ты несешь? – прошептал дрожавший как лист Серджио, продолжая спускаться. Все это так странно: мысли будто бы принадлежали кому-то другому, но разбираться, откуда они взялись, времени не было. Серджио поскользнулся, шлепнулся на задницу и поехал вниз. Ушибся не сильно – спасли трава и мягкая рыхлая земля – и через пару секунд уже сидел на крошечной полоске песка и камушков перед самой речкой.
Встал, отряхнул шорты (улыбнувшись бесполезности этого занятия) и начал «переправу». Прыгая по серым булыжникам, которые словно подмигивали, когда на них набегала волна, он добрался до середины и на секунду остановился на большом камне, чтобы перевести дух. Потом отправился дальше, но было уже темно, плохо видно, и через пару прыжков он свалился в воду.
Как в колотый лед. Большие пальцы сразу закоченели. По водорослям и грязи, поднимая брызги, Серджио побежал к берегу. Крутой склон полностью скрыл колокольню из виду.
Его охватила настоящая паника. Что, если с другого берега ее не видно?
Он потерялся.
Здесь.
В грязи.
В пустоте.
В темноте. Промозглой. Ядовитой. Бездушной.
Он стал карабкаться по склону, цепляясь за землю, и, ударившись о камень указательным пальцем правой руки, почувствовал, что сорвал ноготь. В ту же секунду боль прострелила всю руку.
Стиснув зубы, он заставил себя не обращать на нее внимания.
И продолжал подниматься, постанывая и тяжело дыша. Скатывался вниз, но снова и снова вставал, словно бежал по дьявольской беговой дорожке, наклоненной на сорок пять градусов, покрытой скользкой глиной и травой. На четвертой попытке, когда он почти забрался на берег, из-под ноги выскользнул ком глины. Серджио рухнул, как марионетка. И даже не успел закричать.
В правый бок врезался черно-белый камень, торчавший из земли, будто сломанный зуб. Звук, напоминающий хруст сухой ветки, эхом разнесся по округе. За один выдох из легких Серджио вышел весь воздух.
Он попытался закричать, но не смог.
– Боже, Боже, Боже, Боже, – хрипло шептал он, извиваясь на земле.
Было больно. Очень. Дышать он не мог. А когда пощупал пальцами ушибленный бок, пламя боли охватило все тело, а из глаз брызнули искры.
За несколько лет до этого Серджио в пустяковой аварии сломал себе ребро. Сейчас ощущения были точно такими же.
Давай же. Вставай. Нужно добраться до колокольни, пока не стемнело окончательно.
Серджио пошарил вокруг, нашел довольно длинную ветку и встал на ноги, опираясь на нее, как на костыль. Он пытался представить себе, что сказала бы Кьяра, если бы увидела его в таком состоянии – испуганного, отчаявшегося, как ребенок, потерявший родителей в супермаркете.
И снова начал взбираться по склону.
Медленно.
Осторожно.
Опираясь на импровизированный костыль.
При каждом шаге он чувствовал острую боль в боку. При каждом выдохе – какой-то шум и легкое шипение, будто из сломанных мехов выпускали воздух. Он уже понял, что ужина в честь дня рождения не будет. Ни вина, ни лазаньи, ни смеха, ни задушевных разговоров за столом.
Если я смогу найти дорогу домой, то ночь проведу в больнице, тут и думать нечего. Собственное сомнение неприятно поразило его. Почему – «если»? Разумеется, найду! Я же. Здесь. В Орласко. Господи боже.
Стараясь не думать о боли, Серджио продолжал карабкаться дальше. Наконец выбрался из оврага. И как сумасшедший стал лихорадочно озираться по сторонам, пытаясь разглядеть силуэт колокольни.
Лил дождь. В центре Орласко зажгли фонари. И на фоне их бледного сияния, дрожащего на ветру, показался профиль колокольни.
Она стала ближе.
– Да! Да, черт возьми! – воскликнул Серджио и тут же пожалел об этом: тело пронзила молния боли.
Ничего не оставалось, кроме как идти вперед. Упрямо тащиться в направлении колокольни и мерцающих огней городка.
Он включил подсветку часов, загорелся циферблат.
Позади семнадцать километров. Почти полумарафон, подумал он, и расхохотался неестественным, зловещим смехом.
Полвосьмого.
Уже совсем стемнело, только вдалеке виднелся электрический свет фонарей. Маяк в ночи. Полярная звезда в океане смятения.
Снова послышался зловещий собачий лай. Казалось, он стал ближе.
Но Серджио упрямо шел вперед.
* * *
Ничего не видя в темноте. По полям. Под проливным дождем. Запинаясь о корни или траву и с помощью костыля пытаясь удержать равновесие. В боку сильно болело. Когда он несколько раз кашлянул, из легких вырвался какой-то пугающий звук.
Может, я сломал ребро, и оно пробило какой-нибудь орган. Может, я умираю.
Он почувствовал соленый привкус во рту и не мог сказать наверняка, мокрота это или кровь. Страх начал размывать плотину надежды.
Потеряться вот так?! Невозможно, просто невозможно! Это ночной кошмар. Один из тех жутких кошмаров, которые никогда не заканчиваются, а повторяются снова и снова. Из-за которых ты весь следующий день чувствуешь себя разбитым и подавленным.
Его мучила жажда. Он вымок до нитки, хотел есть. Руки и ноги окоченели. Зубы дробно стучали, словно укушенная тарантулом девушка играла на кастаньетах.
Жажда. Он подумал о вине. О просекко…
Голод. Лазанья в духовке, жареная картошка, грибы в панировке, тирамису, груда савоярди в маскарпоне…
Холод. Мать в детстве сушила его волосы феном, а самого укутывала в полотенце, снятое с батареи.
Усталость. В постели обнаженная Кьяра прижимает его к себе.
Низко опустив голову, Серджио побрел дальше. Он совершенно выбился из сил, но воспоминания немного успокаивали. Время от времени он бросал взгляд на колокольню.
Вдруг прямо перед ним из темноты возник куст ежевики. Огромный, черный, с густо разросшимися ветками. Почти живой. Шипы вцепились в толстовку, шорты, оцарапали руки. Серджио отступил. Штанина зацепилась за шип и порвалась до самого низа. Он автоматически стащил шорты и бросил на землю. Потом поднял голову.
Колокольня уже совсем рядом. Километрах в двух-трех. Воспряв духом, Серджио с проклятиями принялся лупить по ежевике палкой-костылем, пытаясь пробиться сквозь ветви, словно браконьер, расчищающий путь в джунглях с помощью мачете.
Но куст ежевики был неприступен.
Сил у Серджио не осталось.
У него болели плечи, как будто он нес тяжеленный рюкзак, и дрожали ноги. Молочная кислота. Враг всех спортсменов, она проникала в мышцы, ткани, плоть. Серджио представил себе эту токсичную жидкость, вырабатываемую собственным организмом, которая порабощала тело, как инфекция, эту белую вязкую сыворотку, которая впрыскивалась в клетки, поднималась по ногам, вверх, все выше, пока не добиралась до мозга, чтобы парализовать его, превратив в белую безжизненную губку. Он потряс головой, пытаясь избавиться от жуткой картинки.
«А молочная кислота действительно белого цвета?» – задумался он, и этот дурацкий вопрос, казалось, привел его в чувство.
Придется обходить куст. Пробраться сквозь него он не сможет – просто застрянет внутри, а через несколько месяцев кто-нибудь обнаружит его скелет в одних трусах и толстовке Miami Dolphins. Нет, нужно искать обход.
Он посмотрел направо и налево, чтобы выбрать, куда идти, и понял, что это не просто куст.
А настоящая стена.
Дорогу ему преграждала крепость из ежевики, простиравшаяся так далеко, куда только хватало глаз, уже привыкших к темноте. Колючая, неприступная стена несуществующего форта.
Творилось что-то странное, отрицать этого он больше не мог. В тот вечер творилось что-то странное, что-то ужасно неправильное, а у него уже не было сил, чтобы это исправить. А может, он бы и не сумел, может, все зависело не от него.
Дождь внезапно прекратился, словно в небе кто-то закрыл гигантский кран. Облака расступились, и желтая, как гной, луна вылезла из рваных кусков тумана, немного осветив округу.
Серджио, в одних трусах, с костылем в руке, рухнул в грязь. И разрыдался. Ему стало стыдно, но лишь на мгновение. Наплевать, как это выглядит, – у него больше нет сил, и он не знает, что делать. Остается только сесть вот тут и заплакать. Он просто не мог иначе.
Сначала Серджио тихо всхлипывал, потом отчаяние сдавило грудь, он зарыдал во весь голос и закричал: «Помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Мама! Папа! Мама! Ау, кто-нибудь меня слышит? Я заблудился, черт подери! Помоги-и-и-и-и-ите!»
Страх прорвал плотину надежды. Сидя в грязи, Серджио выл, как бродячая собака. Потом затих и попытался прокрутить в голове события этого вечера, но ничего не вышло. Его охватила тоска, завладевшая каждой клеточкой тела, как сыворотка, как молочная кислота.
Все вокруг стало другим. И он сам. То, что произошло за последние два с половиной часа, перевернуло его жизнь. Может, это было бы смешно, если бы не было так ужасно.
Сквозь пелену слез он посмотрел на часы.
Восемь вечера. Дома, наверное, уже волнуются.
Да! Точно! Они подождут еще чуть-чуть, потом попытаются дозвониться на мобильник и в конце концов вызовут карабинеров!
Нужно выбраться на дорогу. Все равно на какую. Просто встать на дороге и ждать. В худшем случае придется переночевать тут, а помощи искать уже завтра утром. Снова взойдет солнце, от его лучей на землю лягут тени, наступит новый день, город проснется, и люди выйдут на улицу, чтобы заниматься привычными делами, пахать поля и бегать. И все снова будет так, как должно быть.
Что со мной происходит?? Голова вообще перестала соображать. Вообще!
Он поднялся, подобрал мокрые рваные шорты и завязал их шнурком на поясе. Член совсем съежился и висел как мокрый, грязный кусок кожи.
Покачиваясь, словно пьяный бродяга, Серджио поднял глаза и увидел свет. Вдалеке в воздухе висел желтый прямоугольник. Окно. Окно деревенского дома.
Застонав от боли в боку, он наклонился из последних сил, подобрал палку-костыль и захромал в сторону света. Луна тускло освещала поля, но было слишком холодно. Неестественно холодно для конца октября. Пальцы на правой руке совсем онемели и едва держали костыль.
Он шел целую вечность, пока, наконец, не добрался до дороги. Время от времени оборачивался и, прищурившись, пытался разглядеть силуэт колокольни. Несмотря на лунный свет, ее не было видно.
Он добрел до конца поля. Там начиналась грунтовая дорожка, вся в жидкой грязи и лужах, в которых отражался бледный свет червивой луны. До освещенного окна оставалось метров триста. Казалось, дорога ведет именно туда.
Слава богу. Господи. Спасибо, спасибо Тебе.
Шагов через сто, каждый из которых был мукой, Серджио увидел пятно света недалеко от старого кривого платана. А подойдя ближе, понял, что перед ним – маленькая деревенская часовенка, где обычно стоит статуя Мадонны или какого-нибудь святого.
Серджио дошел до ограды часовни, освещенной парой фонарей, и ненадолго остановился, чтобы собраться с силами. При каждом вздохе в груди что-то царапало и скрежетало.
Да, перед ним была маленькая статуя Мадонны, а вокруг – несколько ваз с увядшими цветами.
Серджио облокотился на калитку, закрыл глаза. И непроизвольно пробормотал молитву, хотя не делал этого уже давно.
Потом открыл глаза, внимательно посмотрел на статую и отшатнулся.
У Мадонны не было ни рук, ни головы. Точнее, голова была, но чужая. Какой-то сумасшедший, а может, дети, приставили ей голову куклы. Без глаз, без волос, с широко раскрытым ртом, застывшем в вечном пластиковом крике. В темноте – совсем как мертвый ребенок.
Какое-то издевательство, дьявольская насмешка…
Серджио стиснул зубы и пошел дальше к домику. Спрашивая себя: что подумают его обитатели, когда увидят человека почти без одежды, вымокшего до нитки и… немного не в себе?
Да какая разница? Лишь бы согреться, убедиться, что ему окажут помощь, и обнять близких.
Кьяру.
Папу.
Маму.
Он добрался до забора, потом прошел еще метров сто и оказался перед дверью.
Внутри по-прежнему горел свет, просачивающийся наружу сквозь белые шторы. Это был обычный старый фермерский дом, в деревушках Пьемонта таких много. Часто казалось, что их хозяева отстают от жизни на несколько десятилетий, хотя они вполне обеспечивали себя, обрабатывая землю и держа домашний скот. Их презрительно называли «баротти».
Но Серджио не было дела до того, что их считают грубыми и неразговорчивыми. Ему просто нужен телефон, одеяло и какая-нибудь еда. Он позвонит Кьяре, скажет, что с ним все в порядке. Потом спросит адрес дома и вызовет скорую помощь. Во рту по-прежнему чувствовался привкус железа. А в боку, которым он ударился в камень, что-то царапало… изнутри.
Он едва держался на ногах. Хотелось просто сесть и не двигаться с места. Серджио поискал колокольчик на входной двери, но его не было.
Ладно. Можно и без него обойтись. Он постарается, чтобы его услышали.
– Эй! – закричал Серджио и почувствовал в горле невыносимое жжение. Сглотнул пару раз, а потом заорал снова: – Помогите мне, пожалуйста! Я… я упал, что-то себе сломал. Мне нужна помощь. Вы меня слышите?
Прошло несколько секунд. Тучи, чернее ночи, сгрудились вокруг луны и проглотили ее, заточив в своей утробе.
Тьма стала бы кромешной, если бы не слабый свет из окна. Прямоугольник света, обещавший спасение, избавление, отдых.
– Вы меня слышите? Откройте, пожалуйста!
За занавесками, качаясь, двигалась тень. Голова, растрепанные волосы, сгорбленные плечи, – возможно, старушка. Вдруг штору на несколько мгновений чуть-чуть отодвинули, мелькнула чья-то рука. Из дома кто-то пристально на него смотрел.
– Я здесь, – крикнул он из последних сил. – Здесь!
Потом в доме заходили, заговорили. Голоса почему-то показались ему знакомыми. Хорошо, значит, его заметили и услышали. Теперь он в безопасности.
– Спасибо! Спасибо! Спасибо вам! – попытался крикнуть он, но голос совсем ослаб.
Вцепившись в забор, Серджио стоял и ждал, пока из дома кто-нибудь выйдет. Тело обмякло, как у потрепанного огородного пугала, глаза превратились в щелки. Но вдруг свет в окне погас.
Все поглотила тьма – густая, как мед.
Серджио выпрямился и попытался уловить какое-нибудь движение. Хоть что-то. Но ничего не было видно. Наверное, его приняли за преступника, за вора или наркомана.
– Эй, – крикнул он. – Эй! Помогите! Мне просто нужен телефон, пожалуйста…
Но дом словно вымер, спрятался во тьме, в один миг застыл в вечной заброшенности и запустении. Серджио рухнул на колени и захохотал каким-то булькающим, безумным смехом.
Он словно лишился рассудка и, сотрясая калитку, принялся бормотать какую-то бессмыслицу. Хотел было перелезть через забор, но испугался, что невыносимая боль в боку станет еще сильнее.
– Открывайте! Открывайте же, ублюдки! – его пронзительный вопль напоминал крик умирающей птицы. Мрак отозвался жутковатым эхом. Чудовищный приступ кашля вывернул Серджио наизнанку, как носок, и он почувствовал во рту привкус железа и густую соленую жидкость. От прикосновения к губам пальцы сразу стали липкими. Больше сомнений не оставалось.
Это кровь.
Его тело истекало кровью – обильной, густой, – а он не мог ее остановить.
Серджио отошел от ворот и заковылял по дороге. А потом, собрав последние силы, свернул с грунтовки и решил обойти домик прямо по полю. С трудом доплетясь до заднего двора, увидел на земле светящийся прямоугольник. Позади дома забора не оказалось. Серджио подошел к окну.
Штор на окнах не было.
Серджио обхватил голову руками, прижался носом к стеклу, постучал в окно и замер.
Сквозь слезы он увидел кухню. Знакомые предметы. Повеяло покоем и теплом.
Спиной к нему за столом сидели три человека. Их позы и низко склоненные головы выражали бездонное отчаяние.
Две женщины и мужчина.
Не может быть…
Нет, точно.
Кьяра.
Мама.
Папа.
Лазанья в духовке.
Серджио отчаянно забарабанил по стеклу, но никто не обернулся. В ответ раздался только отвратительный крик – тот самый, который он слышал уже дважды и принял за собачий лай.
Где-то сзади.
Совсем близко.
Он медленно обернулся. И в нескольких метрах над дорогой увидел шар – клубок тьмы и ярости. Звук шел оттуда.
Шар приближался – медленно, спокойно, не торопясь.
И действительно, куда ему было спешить?
В мозгах Серджио что-то сломалось.
Он задрал голову и неуклюже завыл в ночное небо. Потом два раза подпрыгнул на месте и стремглав кинулся вперед, по полю, ничего не видя, как псих, сбежавший из сумасшедшего дома.
Молочная кислота терзала икры. В груди что-то заскрипело, как будто открывали дверь на ржавых петлях, и Серджио вырвало потоком темной крови.
Ему было все равно. Он больше ничего не чувствовал, словно принял сильное обезболивающее. Но и боль сейчас уже не имела бы значения.
Теперь самое главное – бежать. Бежать, и больше ничего.
И он побежит. Да, будет переставлять ноги, делать шаг за шагом, снова и снова, и рано или поздно доберется домой, найдет помощь и утешение, он в этом уверен, у него получится, он будет бежать, как октябрьский ветер, пока не почувствует, что теряет сознание, пока не почувствует, что умирает, чтобы заглушить злобу тьмы, которая гонится за ним.
Ночь в ночи
Ночи в больнице длинные и мучительные. Для всех. Ночи в больнице – это Божья кара.
Хрип из соседней палаты гулко разносился по коридорам отделения неврологии. Постепенно стихая, как дуновение ветерка. Становясь едва уловимым.
Стоял сентябрь. Небо Турина сочилось назойливой моросью, которую больничные фонари окрашивали в красноватый цвет. Из окна палаты 67 она казалась туманом.
В палате были только я, Эмма и две пустые кровати.
Кашель. Надсадный, где-то вдалеке.
Стук шагов по облезлому зеленому линолеуму коридора.
Переплетя пальцы, я вытянул руки над головой, а потом встал с пластикового кресла. Оно было ужасно неудобным – под задницей как будто решетка. Колени тут же ответили хрустом, с которым собака грызет кость.
Я просидел в нем всего два часа.
А кажется, два дня.
Положив кроссворды на тумбочку, осторожно сел на край кровати, на пахшие хлоркой простыни, и посмотрел на Эмму. Она спала. Спала искусственным сном благодаря обезболивающим и другим лекарствам, которые кололи ей в вену уже неделю.
Спала и умирала.
Кто знает, какие извилистые, неведомые мне дороги видели ее глаза, метавшиеся под веками. Пробивавшийся через приоткрытую дверь свет коридора нарисовал на прозрачной коже щек параллельные полосочки – тени от ресниц. Я протянул руку и хотел ее погладить, но в последний момент передумал. Испугался, что потревожу, нечаянно проникнув в какой-то ее особый мир. Боялся стать чужаком. Непрошеным гостем.
Эмма казалась спокойной. Может, ей снились сны? Что тогда значит это лихорадочное движение глаз? Страх, смятение, неверие, нежелание умирать? Или вообще ничего?
Я проверил капельницу, легонько щелкнув по стеклянному флакону. Маннит. Сахарный спирт, сладкое как мед лекарство, позволяющее уменьшить отек мозга. По крайней мере, так сказали врачи и медсестры. Большего я не знал и не хотел знать.
Сладкое лекарство в горькие времена, – усмехнулся я. – Что за бред.
Но потом, когда густая жидкость в капельнице закончилась, я вызвал дежурную медсестру и почувствовал себя нужным. Что я еще мог сделать? Только быть рядом, гладить руку Эммы, молиться – чего я не делал много лет – и сыпать проклятиями – что делал постоянно. Но ведь богохульство в каком-то смысле тоже молитва, правда?
Тогда мне было тридцать. Мы жили вместе. И были счастливы.
Однажды вечером, за несколько месяцев до этого дня, я готовил ужин. Эскалопы с грибами. Как сейчас помню. Грибы, помидоры, немного сливок и пол столовой ложки муки, чтобы соус был густым, как учила мама.
Эмма стояла в гостиной перед экраном телевизора. Время от времени я слышал ее смех. Подходил к двери и невольно улыбался. А потом шел обратно на кухню проверять эскалопы. Они пахли восхитительно. У меня просто слюнки текли.
– Чувствуешь, какой запах? – спросил я Эмму.
– Нет, ничего не чувствую. Совсем ничего. Они у тебя что, ненастоящие? – ответила она и залилась кристально чистым смехом, который я обожал.
– Хм… Посмотрим, что ты скажешь, когда я поставлю тарелку тебе под нос.
Она сказала то же самое.
– Я вообще ничего не чувствую.
И повторила снова – после того, как попробовала грибы и откусила хлеба.
Эмма больше не чувствовала ни вкуса, ни запаха. Сначала мы над этим шутили. Пару дней. А потом начали волноваться.
– Запах кофе. Это бесит меня больше всего! Не чувствовать по утрам запаха кофе.
Мы пошли к врачу. Я ходил с ней на все приемы, на взятие анализов, на МРТ.
Опухоль головного мозга, размером с рисовое зернышко, неоперабельная. Такая маленькая тварь, которая сидит внутри, – сказал доктор. Мне, конечно. При Эмме он выражался деликатнее.
Рисовое зерно росло и превратилось сначала в орешек. Потом в орех. В сливу. А за неделю до той ночи в ночи – был август, и духота стояла невыносимая, – Эмма выпила таблетку кортизона (часть ее лечения), пробормотала что-то нечленораздельное и рухнула на пол без сознания.
Врачи сразу сказали – надежды нет, но от того, что это знаешь, легче не становится.
Ее в срочном порядке госпитализировали, и вот она уже целую неделю в больнице, а я почти все время рядом с ней, особенно по ночам.
– Она может уйти в любую минуту, – предупредили врачи. («Уйти куда?» – хотел было спросить я.) – В сознание скорее всего не придет. Отек слишком обширный.
Я снова посмотрел на капельницу с маннитом и не смог сдержать слез. Мне так хотелось поговорить с ней. Сказать то, чего я никогда не говорил. Например, что как-то раз, когда мы приехали на барбекю к друзьям, я смотрел, как она играет в петанк. И не мог отвести глаз. Она была так прекрасна, что у меня даже сердце защемило.
Наверное, она не могла меня услышать, и все же я попытался что-то сказать. Но ее лихорадочно метавшиеся глаза как будто просили тишины. У меня опять ничего не вышло. Чтобы не разрыдаться на всю больницу, я чуть не до крови искусал костяшки пальцев.
Успокоившись, решил подняться на террасу. О ее существовании я узнал еще в первую ночь. Туда вела крутая лесенка, расположенная слева от входа в отделение. Она напоминала лестницу погреба – какого-нибудь сырого погреба с пятнами плесени на стенах в большом старом туринском доме. Только эта вела наверх. Хотя какая разница. Ступеньки – каменные, видавшие виды, – были отполированы сотнями измученных ног. Так и представляешь себе всех несчастных, которые поднимались по этой узкой темной лестнице, или медсестер, закуривающих сигарету на ходу, чтобы сэкономить время.
Лестница вела к маленькой двери; от ее ручки к крючку на стене тянулся жгут.
Здесь, на террасе, ты попадал в другой мир. Отсюда было видно почти всю столицу Пьемонта. Справа громоздились безликие здания больницы, и в освещенных мягким светом окнах время от времени мелькала голова какого-нибудь больного, устало покачивающегося из стороны в сторону, как механизм, который заело. Слева беспокойно мерцали огни Турина, тени и блики накладывались друг на друга в сумбурном коллаже. Только силуэт здания Моле Антонеллиана и суровой короны далеких альпийских вершин сохранял четкие линии в этом хаосе.
С тех пор как Эмму положили в больницу, я поднимался на террасу каждый вечер. Торопливо, жадными затяжками, выкуривал сигарету до самого фильтра и возвращался обратно – боялся, что Эмма проснется одна в полумраке палаты 67 и испугается, не понимая, где она. Хотя врачи сказали, что сознание к ней уже не вернется.
На этой террасе ужас, который здесь, в больнице, испытывал каждый, немного отступал. Она стала местом успокоения в море болезни, горя, слез и запаха дезинфекции.
Иногда я перекидывался парой слов с медсестрами или родственниками других больных. Буквально несколькими фразами, например: «Что поделаешь, так бывает, мы тут бессильны», а я думал: «Что значит “так бывает”, черт подери?! Не должен человек умирать от гребаного рака, когда у него впереди целая жизнь!»
Рано утром накануне пришел мой близкий друг, чтобы сменить меня у кровати Эммы, и принес горячие круассаны, которые мы решили съесть на террасе. В предрассветной дымке очертания домов казались размытыми. Наверное, это были самые вкусные круассаны в моей жизни. Мы говорили о том, как это все нелепо, и вспоминали Бога не самыми лестными словами. Поплакали, обнялись, выкурили по три сигареты и посидели молча, глядя на рассвет, стирающий тени.
В пустыне тоски, страха и остановившегося времени эта маленькая терраса стала оазисом покоя.
Я поцеловал Эмму в лоб, взял сигареты и зажигалку Zippo с нижней полки тумбочки.
Бросил взгляд на часы. Я устал. В глазах чувствовалось жжение, как будто под веки забралось полчище комаров. Или пауки сплели паутину. Было всего два часа ночи. Мама приедет подменить меня только к шести утра.
В коридоре никого не было, неоновый свет, отражавшийся от болотных стен, резал глаза. С трудом переставляя ноги по ступенькам лесенки, я сунул сигарету в рот. И вышел на террасу.
Дождь закончился. Влажная пелена, как смог, висела в воздухе, мешая нормально дышать и двигаться. Облака напоминали горки прокисших сливок.
Я тяжело опустился в принесенное сюда кем-то садовое кресло, возле ведра с песком для окурков. По телу прошла дрожь от безумной усталости. Я закурил и закрыл глаза, надеясь никогда не открывать их снова.
И понял, что хочу исчезнуть прямо сейчас. Я больше не могу.
Открыв глаза, я обнаружил, что уже не один. К перилам прислонилась тень – темный силуэт в клубах голубого дыма. Казалось, она полностью поглощена созерцанием панорамы города. Несмотря на сутулость, ее осанка была не лишена определенного благородства. Женщина. Я присмотрелся. Одета во что-то белое. Наверное, медсестра.
Я решил не отвечать. Разговаривать не было никакого желания. К тому же я сомневался, что мне удастся найти слова. Откуда-то донесся грохот трамвая и треск тока в проводах.
Медсестра заговорила со мной, когда я бросил окурок в ведро и встал с кресла, собираясь вернуться к Эмме.
– Дерьмовая ночка, а?
В голосе женщины слышались какие-то странные нотки, то ли металлические, то ли деревянные, будто железной пилой распиливали доски. Но он заставил меня подойти к ней на несколько шагов. Голос показался мне знакомым, хотя раньше я никогда ее не встречал.
– Да, дерьмовая, – согласился я. – Но не думаю, что здесь бывают хорошие ночи.
Женщина повернулась ко мне и облокотилась на перила. В темноте я не мог разглядеть ее лица – видел лишь сигарету во рту и черный силуэт на фоне огней Турина.
– Когда как. Бывают и хорошие. – Откуда-то с нижних этажей донесся душераздирающий стон, в котором было что-то звериное. Я вздрогнул, женщина посмотрела на меня. – Эта не из хороших, – пожала она плечами.
– Ну, я пойду вниз. К своей девушке. Спокойной ночи.
Убрав локти с перил, женщина подошла ко мне на пару метров. Она казалась призраком, парящим в нескольких сантиметрах над землей. Наконец я смог разглядеть ее лицо. Оно было уродливым. Почти до отвращения. Разные, криво посаженные, очень темные глаза, длинный, сморщенный, как увядшее растение, нос, тонкие лиловые губы.
И только тут я понял, что она невероятно высокая. Неестественно высокая. Ее голова в копне светлых волос возвышалась над моей. Незнакомка бросила сигарету на просмоленный пол, пнула ее под старый удлинитель и закурила еще одну.
– Что с твоей девушкой? Я буду на ты, если ты не против, – определить возраст женщины было невозможно.
Я махнул рукой, мол, хорошо, как хотите, на ты, так на ты. Проглотил слюну и уставился на размыто-серый город под ногами. Черно-белый снимок плохого фотографа.
– Опухоль… Неоперабельная, – пробормотал я. Учитывая в каком мы отделении, решил, что говорить, где она находится, нет смысла. Несколько секунд думал об этом, как о чем-то очень важном. Хотя может, так и было. – Опухоль все росла и росла, потом развился отек, и ей стало плохо, и…
Я не договорил. Медсестра подошла еще ближе. Да, она была слишком высокой, слишком худой, слишком призрачной и в то же время бесцеремонной.
– Твоя девушка умирает? – прошипела она. Вопрос прозвучал так, словно не требовал ответа.
– Д-да, – прошептал я. – Наверное, да. Может быть, скоро. Мне пора вниз.
Вытянув руку, женщина сжала мое предплечье. Мне показалось, что в тисках ее могучей хватки локтевая и лучевая кости трутся друг о друга. Невероятная сила для такой худой руки.
– Не уходи, побудь тут еще немного. Подыши воздухом, тебе полезно.
Окинув взглядом крыши Турина, я почувствовал, что умираю. По небу, словно табун лошадей, неслись вспотевшие тучи, фиолетовая вспышка молнии вдруг осветила террасу.
Я вырвал руку и увидел, что на лице медсестры появилась кривая ухмылка, которая окончательно его изуродовала. В ней читались напряжение, разочарование и грусть. Она пожала плечами и вернулась к перилам. Наклонилась вперед и стала почти нормального роста. Я застыл на месте, уставившись на нее.
– Диего, я хочу рассказать тебе одну историю, – ее голос скрипел, как стекло, перемалываемое жерновами.
– Откуда вы знаете мое имя?
– Наверное, прочитала в карточке твоей девушки.
Облака на несколько секунд расступились, позволяя луне разбросать свои позолоченные соцветия. Я понял, что за все время, пока Эмма лежала в больнице, эту медсестру не видел ни разу.
– Давно вы здесь работаете? – вопрос прозвучал намного суровее, чем мне бы хотелось.
Женщина усмехнулась.
– Слишком давно. Всегда. Так хочешь послушать историю или нет? Твоя девушка никуда не денется. И не умрет, пока ты здесь. Так очень редко бывает.
Я нерешительно подошел к перилам и закурил. Тучи соединились друг с другом, как края рваных ран. Я смотрел на молнии, которые мелькали все ближе.
– Ладно, рассказывайте.
Медсестра стояла в паре метров справа от меня. Наклонила голову набок, с какой-то скользкой ужимкой, не знаю, как это еще назвать, и заговорила.
– Давным-давно, когда еще не было электричества и люди не умели добывать огонь, они спали в темноте. Темнота окутывала весь мир, поглощала все вокруг. В мире черном как смола, человек оставался в одиночестве. Можешь представить себе что-то страшнее?
– Не знаю. (Что за бредовые истории она рассказывает? Только их мне еще не хватало.) Не знаю, – повторил я и пошел к лестнице.
Медсестра выпустила сигаретный дым через нос и продолжила.
– Рассвет значил все. Каждый раз, когда всходило солнце, эти несчастные смеялись и танцевали, каждый божий день они выползали из пещер, из своих вонючих убежищ, и радовались как идиоты тому, что все еще живы. Они проводили ночь, плача, дрожа от страха, они были постоянно настороже, даже во сне, постоянно боролись с кошмаром. Они проживали ночь внутри ночи, понимаешь? Ночь в ночи, а потом, наконец, видели свет. Но эта темнота оставалась с ними, пока не наступал следующий вечер.
Я опустил голову, бросил окурок через перила и несколько секунд смотрел, как он падает.
– Не понимаю, что́ вы пытаетесь мне сказать, – вздохнул я. – Это даже не история, а… чушь собачья. Мне нужно возвращаться к Эмме.
Женщина вздрогнула, и я снова обратил внимание, как она пугающе непропорциональна. Ее глаза впились в меня, и я увидел в них злобу – дикую, первобытную.
– Что значит «даже не история»? Это история каждого из нас, – негодовала она, яростно жестикулируя. – Это вечная история, которая будет повторяться снова и снова. До самого конца.
Потом она ткнула в горизонт костлявым, слегка подрагивающим пальцем. Возможно, свет падал как-то необычно, но я насчитал минимум пять фаланг. Не палец, а настоящий палочник. Меня начала бить дрожь. От холода. Или от страха. А может, от того и другого. Мне захотелось побыстрее уйти с террасы, вернуться к Эмме, погладить ее руку, проверить капельницу.
– Это история каждого из нас, – повторила медсестра, размахивая длиннющим пальцем, как сумасшедший дирижер, и показывая им в сторону туринских огней.
Именно тогда это и случилось. Сначала я увидел, что далеко-далеко, на самом горизонте, погасли фонари. Вспыхнули ярче, как при перегрузке, а потом погасли. Блуждающие огни современного мира. Умирающие светлячки. Угольки, брошенные в воду.
Потом все быстрее и быстрее темнота стала надвигаться на нас. Огни умирали один за другим – уличные фонари, рекламные вывески, окна домов, где горел свет или серыми искрами мерцали тусклые экраны телевизоров.
Тьма наступала стремительно. Накатывала неумолимо, как черная волна, казавшаяся одновременно и мертвой, и живой.
Почему-то мне вспомнились легенды о Турине, мистической столице Италии, рассказы о магических ритуалах и таинственных существах, обитающих в погребах и на чердаках домов мегаполиса. Обняв себя за локти, я сделал пару шагов назад.
– Что происходит? Электричество отключили? – спросил я, глядя, как волна тьмы несется на нас с бешеной скоростью. Виднелся только свет автомобильных фар, потерянно ползущий по дорогам. Некоторые машины остановились. Их крошечные огоньки напоминали фонари дайверов, заблудившихся в подводной пещере.
В конце концов, погасли и огни больницы. Свет уличных фонарей вдоль заросшего крапивой двора стал сначала синеватым, каким-то неживым, а потом… все окутал мрак. Даже маленький аварийный фонарик над дверью террасы замигал, затрещал и умер.
На меня как будто набросили черное покрывало: я погрузился в абсолютную темноту – в бездну, настолько наполненную мраком, что на какой-то миг решил: мне стало плохо и я потерял сознание.
Ночи в больнице длинные и мучительные. Для всех. Ночи в больнице – это Божья кара.
Но нет, со мной ничего не случилось, и с нижних этажей до меня донеслись голоса медсестер и пациентов:
– Что происходит?
– Свет вырубило.
– Почему не включились аварийные генераторы?
– Аппаратура! Проверьте, чтобы работала аппаратура, боже мой!
Сначала я хотел закричать, позвать на помощь, но сдержался, не желая показаться психом. Несколько секунд раздумывал, а не ослеп ли я. Это, должно быть, чудовищно. Потом повернулся направо и вытянул руку.
– Эй, вы еще здесь? Ничего не видно. Пойдемте вниз, пожалуйста. Пойд…
Я запнулся на полуслове. И замер. Медсестра исчезла. Бесшумно. От нее остался только окурок на перилах, похожий на злобный красный глаз. Через секунду он потух, и тьма снова стала кромешной. Но я тут же забыл об этой женщине, встреча с которой казалась безумием.
Эмма. Ведь она одна в палате! И вот тогда я закричал, наплевав на то, что подумают обо мне в отделении.
– Помогите! Что случилось?! Вы слышите меня?
В ответ только тишина.
Я стал пробираться сквозь темноту наощупь, чувствуя, что дыхание участилось. Споткнулся о какой-то выступ на полу, упал на одно колено, услышал, как рвутся джинсы. Содранную о неровный пол кожу начало больно саднить. Задыхаясь, я поднялся и снова пошел вперед, стараясь найти дверь.
Вперед.
И вперед.
Казалось, я шел несколько часов.
Нужно было отыскать лестницу, но я видел только плотную завесу темноты.
Но.
Двери.
Не было.
Двери больше не было.
Сомневаться не приходилось, хотя я понимал, что это невозможно. К горлу подступила паника. А потом меня вдруг осенило, – ну конечно, почему я не подумал об этом раньше?!
– У меня же есть зажигалка! – я хлопнул себя по лбу, и сердце перестало колотиться как бешеное.
Вспыхнул огонек.
Я покрутился в разные стороны. Пламя от чего-то отражалось. Точно, от перил. Дверь была справа, а я, оказывается, шел влево, куда терраса тянулась еще метров на двадцать. Когда нервничаешь, время тянется дольше. А расстояния кажутся бесконечными. Так часто бывает. Всегда.
Я сделал шаг к перилам и пошел по периметру террасы.
Эмма.
Мне нужно вернуться к Эмме.
Вернуться в палату 67.
– Найдите какой-нибудь фонарик или свечки! – кто-то сердито заорал снизу. Послышались торопливые шаги, крики, кашель.
Я нашел лестницу.
Скатился по ней чуть ли не кубарем, придерживаясь ладонями за стены, немного успокоившись, но все равно еще на взводе, а из головы не выходили каркающие слова медсестры.
В мире, черном как смола, человек оставался в одиночестве. Можешь представить себе что-то страшнее? Ночь в ночи. Это история каждого из нас.
Я чуть не улетел вниз головой с последней ступеньки. В разбитом колене пульсировала кровь, как будто в рану попала инфекция.
Дошел до неврологии. Здесь темнота, если это вообще возможно, стала еще гуще. Но по крайней мере, я уже был не один. Вокруг звучали взволнованные голоса, бегали какие-то люди.
– Что случилось? – язык прилип к нёбу, и из горла вырвался какой-то хрип.
– Свет отключили. А аварийные генераторы не сработали. Дурдом какой-то, – ответила то ли медсестра, то ли ординатор, вынужденная работать в ночную смену.
– Палата 67, где она? В какую сторону идти? – умоляющим голосом спросил я, почувствовав головокружение. Головокружение в темноте – это удар ниже пояса. Я был не в состоянии сориентироваться. Понять, где нахожусь. Но мне никто не ответил.
Я барахтался во мраке, размахивая руками, будто дайвер в море нефти. Сыпал проклятиями. Руками то и дело задевал стены, косяки, людей. Один раз даже забрел в какую-то палату, освещенную бледным светом луны.
Увидел старика с перевязанной головой и острым, как бритва, носом, старик качал головой, словно шизофреник, и протягивал руки в мою сторону. Я выскочил из палаты и бросился прочь.
Задыхаясь, пробежал по коридору, но вдруг наткнулся на кого-то. Потерял равновесие, сжал тело в объятиях и плавно, как в замедленной съемке, опустился на пол. В этот момент зажегся свет, в неоновых лампах что-то затрещало, будто вода попала в кипящее масло. После долгого пребывания в кромешной тьме свет ослепил меня. Я лежал на полу, сжимая в объятиях слабое тело, и бормотал: «Извините, простите, извините, извините, хорошо, что свет дали, хорошо».
Потом вдруг понял, кто этот человек, который обнимает меня за шею.
Это была Эмма.
Она проснулась и теперь лежала рядом со мной, на полу. В сознании. И смотрела на меня, не видя.
– Боже, боже мой! – сказал я или подумал, что говорю. Из вены, куда еще несколько минут назад была вставлена капельница, текла струйка крови. Под белой прозрачной тканью халата виднелись линии ее тела, которое даже сейчас оставалось гибким и притягательным.
– Эмма Эмма Эмма!
Я плохо помню, что было дальше. Кажется, медсестры помогли нам подняться, отвели в палату 67 и позаботились об Эмме.
Удивительно, как быстро темнота может превратиться в простое воспоминание.
Ночь. В ночи.
Эмма пришла в сознание, несмотря на все прогнозы врачей. Но ночь для нее еще не закончилась.
Отек надавил на какие-то зоны мозга, вроде бы на центр зрения. Точно не могу сказать. Эмма ничего не видела. И не очень четко произносила слова.
Она прожила еще полтора месяца.
Я успел сказать ей то, чего никогда не говорил. О том дне, когда она играла в петанк, а черный свитер развевался вокруг ее талии, как маленький торнадо. Она была такая трогательная, и этот образ отпечатался у меня в памяти ярче всех остальных. Она улыбнулась
Я сказал ей, что люблю ее. Я говорил это и раньше, но в тот раз признание получилось особенным, потому что при прощании все наши чувства обостряются до предела.
Она умерла через несколько дней, утром. Когда взошло странное оранжевое солнце.
Все могло сложиться иначе, я повторяю себе это каждый день. Все должно было сложиться иначе.
Но иногда говорю, – наверное, хорошо, что все так получилось.
Мне сразу становится стыдно за эти слова, и я начинаю плакать, проклиная себя. Тогда я выхожу на балкон, закуриваю сигарету и надеюсь, что наступит новая ночь в ночи, чтобы понять, как жить дальше.
Иногда мне вспоминается тот день, когда отключили свет.
Та медсестра – высокая, нескладная, нереальная.
Никто в отделении ее никогда не видел.
Может быть, и я тоже.
Ньямби (Переход)
– Просто это несправедливо! Так не должно быть! Наши мужчины, итальянцы, надрываются, чтобы прокормить свои семьи, чтобы свести концы с концами, а эти приезжают сюда и… – оратор возмущенно выдохнул в микрофон, а потом ткнул пальцем в сторону обшарпанных стен старого отеля «Жаворонок».
Стоявшие рядом с ним люди размахивали флагами и смотрели на окружающих, как на врагов.
У некоторых – бритые головы, на шеях повязаны шарфы «Дома Паунда»[2].
Были здесь и журналисты, и несколько полицейских.
Из окон заброшенной гостиницы на улицу с опаской выглядывали темнокожие парни, чьи лица при дневном свете казались графитовыми масками.
Все довольно мирно. Пока мирно.
Этторе Рачити отдалил микрофон от мужчины, у которого брал интервью, и посмотрел на небо Лампедузы. Лазурное, ненастоящее, как на обработанной фотографии, оно лежало на черепице гостиницы, подчеркивая ее жалкий вид: плющ, обвивающий покосившееся крыльцо, декор в стиле либерти, облезлые, ухмыляющиеся лица старых лепных украшений, красная ржавчина на перилах, полусгнившие ставни. Во дворе – кучи видавших виды кресел, матрасов и сушилок с сильно заношенной одеждой.
Этторе посмотрел на красный огонек камеры. Надеялся, что выглядит нормально – волосы, выражение лица, одежда. Оператор Джанни поднял большой палец кверху, другой рукой удерживая Panasonic HXV.
Жарища. Асфальт нагрелся и начал вонять. Этторе Рачити очень хотелось, чтобы интервью побыстрее закончилось. Это был уже пятый дубль. А все из-за того, что Иван Поретти, член городского совета Турина, представитель Лиги Севера[3] и лидер движения «Остановим вторжение», не мог и трех слов сказать, не вставляя выражений, которые были слишком крепкими даже для зрителей канала Rete Padania. Поретти прославился своими, мягко говоря, радикальным взглядами. Этторе хорошо его знал. Они встречались на ужинах пару раз, но это было в тот период жизни, вспоминать о котором Этторе не любил.
– Синьор Поретти, – произнес он как можно более нейтральным тоном, – вы, как и другие представители Лиги Севера и движения «Остановим вторжение», вместе с простыми людьми приехали в Лампедузу из Турина, чтобы выразить возмущение фактом проживания здесь примерно тридцати мигрантов. Что вы требуете?
Поретти поскреб щеку, на которой остались следы подростковых прыщей. Он был мокрый, как мышь. Этторе едва сдержался, чтобы не ухмыльнуться: если Поретти не перестанет пить столько граппы и перехватывать на ходу что попало вместо нормальной еды, ему совсем скоро светит инфаркт. Из-за чего он, Этторе, уж конечно не будет убиваться.
– Мы требуем, чтобы их отправили обратно! – заорал Поретти, брызгая на микрофон слюной. Послышались одобрительные возгласы. Крики чаек. И несмолкаемое бормотание моря, вечная мелодия острова – песнь о надеждах и потерях.
Этторе кивнул Ивану, чтобы тот продолжал.
– Правительству наплевать! Несколько лет назад они сделали из заброшенной гостиницы центр приема этих… этих животных, и теперь это их территория! Они захватили здание, сейчас их никто не проверяет. Они высаживаются с лодок или сбегают из центров приема беженцев, укрываются здесь, а стоит им немного очухаться, как они уже норовят слинять в Турин, Милан, Рим или какой-нибудь другой город. Даже не сомневаюсь, что среди этих зверей есть террористы и сторонники радикальных группировок, эти обез…
– Синьор Поретти, прошу вас выражаться корректно.
– Да, обезьяны, как их еще назвать?! – огрызнулся Поретти, выпучив глаза и не обращая внимания на просьбу журналиста. Этторе чувствовал угрызения совести при мысли о том, что всего три года назад он сам думал примерно так же, хотя его взгляды и не были столь радикальными.
Но это было раньше.
До того, как он увидел последствия кораблекрушения у берегов Лампедузы в 2013 году. До того, как увидел трупы, выловленные из моря, – распухшие, серые, как брюхо рыбы, те самые трупы, которые время от времени навещали его во сне.
Некоторые вещи меняют точку зрения.
Некоторые вещи и есть точка зрения.
– Власти обещали разобраться, и что они сделали? – спросил Поретти, с возмущенным видом глядя в камеру. Может, до сердечного приступа ему даже ближе, чем Этторе показалось сначала. – Ничего! Кроме нас всем плевать, но людям надоело все это терпеть, и мы приехали сюда, чтобы открыто заявить о проблеме! Никто не знает, что происходит здесь на самом деле… Почему бы вам, журналистам, не сходить туда, чтобы все увидеть своими глазами?! Но нет, вы же болтаете только о том, о чем хотите! Сборище бездельников!
– Стоп! Стоп! Стоп! – наконец не выдержал Этторе, с досадой махнув рукой и отступив в сторону. Оператор выключил камеру и, хмыкнув, опустил ее.
– Боишься, что я скажу правду, а, Рачити? – рявкнул Поретти под одобрительные крики своей банды. – Боишься меня, ведь ты больше не на нашей стороне, ты теперь заодно с этими черномазыми, да? Я понял тебя, Иуда, ублюдок. Такие, как ты, хуже всего, – перебежчики, трусы. Это из-за вас Италия в такой жопе, из-за вас!
Этторе сжал кулаки, ногти впились в ладони, пот заливал лоб. Он едва смог удержаться, чтобы не расквасить этому придурку нос.
Подбежавший Джанни осторожно взял его за локоть.
– Не связывайся с ним, не связывайся, он кретин. Сейчас поужинаем, поспим, а утром сделаем монтаж и уедем отсюда…
Идя с оператором к фургону Tele Nove, Этторе немного успокоился. Краем глаза увидел, как двое мужчин показывают живущим в гостинице беженцам средний палец.
– Надо было набить ему морду, Джанни, – процедил сквозь зубы Этторе, когда они сели в машину. Сунул сигарету в рот, уставился на бушующее море.
– Да брось ты, это того не стоило.
– Еще как стоило. Заодно и сам лишний раз вспомнил бы урок, который получил три года назад.
Этторе молча откинулся на спинку сиденья, выдувая завитки дыма на лобовое стекло. Включил магнитолу. Послышались грустные пассажи саксофона – именно то, что сейчас нужно. Он смотрел, как чайка летит в синеве, а потом бросается в волны за добычей. Как маяк капо Грекале парит на фоне ясного неба, взмывая вверх над плоской гладью моря. Как вереницы белых облаков, напоминающих спины огромных морских существ, которые хотят заглянуть в мир людей, появляются и исчезают на горизонте, там, где море встречается с небом.
Здесь красиво. И, кажется, так спокойно. Будто ничего не происходит. А внизу… Там, внизу… – подумал Этторе, и в следующую секунду слишком знакомые образы возникли перед глазами.
Он назвал этот образ «Кораблем утопленников», словно это настоящая картина, кистью автора которой водила дьявольская рука, словно это чудовищный кадр из сюрреалистического фильма. Он поселился в его снах с того проклятого дня три года назад, когда Этторе сел на корабль береговой охраны, чтобы снять репортаж о самой масштабной трагедии с иммигрантами в Средиземном море.
– Езжай туда и покажи всем, что будет, если Италия не закроет границы для беженцев, – сказал ему главный редактор Rete Padania, а потом подмигнул и добавил. – Эти дикари приезжают, чтобы отобрать у нас работу – и вот какой конец их ждет: буль-буль-буль, и они уже плавают с рыбками.
Этторе не возражал – это был хороший шанс продвинуться по карьерной лестнице, вероятно, шанс всей жизни, возможность громко заявить о себе и стать известным. Но если бы он мог отмотать время назад, то наотрез отказался бы от командировки в Лампедузу.
Однако Этторе поехал. Сделай хороший репортаж, сказал он себе, расскажи о работе волонтеров, о том, что необходимо остановить лодки, отплывающие из Северной Африки, добавь пару провокационных идей, не совпадающих с мнением большинства, – и начальство будет довольно, и ты – молодец.
Какая чушь.
Отплывшее из Ливии рыболовецкое судно затонуло 3 октября 2013 года, став подводным мавзолеем для 366 человек – в основном из Эритреи и Уганды. Береговая охрана начала спасательную операцию в ту же ночь, но «большая рыбалка», как кто-то ее назвал, затянулась на несколько дней.
Шестого октября, когда в свинцовом небе появились просветы, сделав его похожим на плохо вытертую грифельную доску, Этторе стал свидетелем того, как спасатели обнаружили тело женщины.
– Черт, и трех дней не прошло – а посмотри, что с ней сделала вода… – прошептал ему один из моряков, когда его товарищи подняли на борт тело. В блестящих глазах парня отражались пепельные волны. – Ты только посмотри, что сделали рыбы. Бедные люди.
Его тогдашний оператор украсил палубу полупереваренной колбасой и картошкой. Чуть позже Этторе сделал то же самое, но успел на автомате перегнуться за борт.
Этот запах.
К вони от трупа примешивалось что-то менее ощутимое и более пугающее. Запах неутомимого моря, запах соли, обжигающей ткани.
Этторе набрался смелости – ему хотелось самому посмотреть на тело, останки притягивали, как магнит, – стер с губ капли рвоты и подошел к морякам, перекладывающим труп в мешок с номером для опознания. Вот она, жизнь, от которой осталась лишь табличка с номером, а вскоре не останется ничего, кроме безымянной могилы, над которой никто не будет плакать.
Тело закрывала серая пленка. Лицо, когда-то, возможно, красивое, с тонкими чертами, раздулось и посинело, глаза впали, а волосы походили на клубки гнилых водорослей, – зрелище не из приятных.
И еще эта дряблость. Труп чем-то напоминал медузу, и Этторе не мог поверить, что когда-то эти пальцы, толстые, как сосиски, сжимали чью-нибудь руку или гладили чье-то лицо, а рот, на котором не было губ, когда-то улыбался. Черт подери, неужели это распухшее от воды тело и разбитые мечты всего пару дней назад были человеком?
На следующий день они подняли из воды троих мужчин и двух детей.
Дети.
Дети напоминали кукол.
Как их крутили волны, как они кружились в водоворотах прибоя, как…
* * *
– Эй?! Этторе! – голос Джанни словно за волосы втащил Этторе в настоящее, которое, однако, было не более обнадеживающим, чем мир воспоминаний. С каждым днем все больше иммигрантов пытались добраться до берегов Италии, и на границах толпы отчаявшихся прорывались через кордоны и чуть ли не устраивали баррикады… – Эй? Все в порядке? Ты как будто отключился.
– Да, да, в порядке, извини.
– О чем думал?
– О монтаже, – соврал Этторе. Потом уселся поудобнее и добавил. – Знаешь… это все так нелепо. Идиотизм какой-то. Видел глаза Поретти и его дружков? Сколько в них ненависти? А от того, что я когда-то был таким, не легче…
– К счастью, человек может изменить точку зрения, Этторе. Ты оставил это дерьмо позади… Думаю, тебе не стоит приезжать сюда после того, что ты видел в 2013-м. Брось это все. Займись чем-нибудь другим.
– Я приезжаю сюда по своей инициативе, Джанни, ты же знаешь, мы уже говорили об этом. Почему-то я чувствую себя в долгу перед этими людьми. Перед умершими.
– Знаю, но…
Вдруг в окно машины постучали, и Этторе от неожиданности вздрогнул. Обернувшись, увидел лицо иммигранта – острые, как черные клинья, скулы, боксерский нос над бледными, мясистыми, обветренными губами. Белки глаз лимонно-желтого оттенка, на шее – глубокие шрамы, напоминающие о том, что война и голод всегда оставляют свои следы. Но эти раны ничто по сравнению со страхом, который заставляет людей пускаться в опасное плавание, давая им шанс на спасение только после перехода через неизвестное.
Постучавший улыбнулся, обнажив идеально ровные белые зубы. Помотал головой и поднял руку, прося опустить стекло.
– Привет, друг, вы быть журналисты, да? – спросил он низким голосом на ломаном итальянском. Схватившие дверь руки были большими, кожа на ладонях потрескалась.
– Да, журналисты.
– И на сегодня мы закончили, – объяснил Этторе. – Ты живешь в бывшем отеле? Откуда ты приехал?
– Уганда, – ответил незнакомец. По глазам пробежала тень. – Да, сейчас мы жить в гостинице с другими, уехать из Ливии и приехать месяц назад, но пока плыть, мы утонуть, мы спать рядом, а потом большая волна нас вниз, понял, большая волна? – он сделал жест рукой, изображая большую волну, а потом тонущий корабль. – Почти все умереть, я чудо не умереть… мой брат тонуть, мой младший брат Патрик, – он не смог закончить фразу.
Этторе вытащил еще одну сигарету из пачки и сказал Джанни:
– Это, наверное, один из спасшихся при кораблекрушении месяц назад. Помнишь, маленькое рыболовецкое суденышко, примерно человек тридцать, в основном женщины и дети. Оно было битком набито, начался шторм, ну они и черпанули воду бортом… Не помню, сколько человек утонуло, но большинство… Почти все дети. Они спали. Многие тела не нашли…
Предвечернее солнце раскрасило море серебром, от мерцания которого было больно глазам. Еще пара часов, и рябь станет малиновой.
– Да, плохо, почти все мертвые, да, мертвые мертвые, в воде, мой младший брат Патрик, семь лет, он и другие дети, даже не заметить, они спали, мертвые, – на одной ноте пробормотал он. Потом провел руками по лицу и сунул голову в кабину.
– Ты сбежал из центра приема беженцев, да?
Парень не ответил. А потом, тихо, будто делился большим секретом, сказал:
– Меня звать Айеби, для вас клюзив есть, Айеби иметь большой клюзив для вашего канал. Вы дать мне немного денег, вы помочь мне – и я помочь вам показать клюзив, хорошо?
– Клюзив значит эксклюзив?
– Да, клюзив! О, очень большой, вы сегодня вечером идти со мной в отель, когда те уйдут, я вас пустить. Я показать вам большой клюзив. Самый большой, увидеть ньямби, который…
– Подожди, Айеби, успокойся… Ты должен объяснить нам, о чем говоришь. Хорошо? Ты понял? – перебил его Джанни. – Что еще за джамби?
– Не джамби, – поправил Айеби и повторил загадочное слово, вставив кончик языка между резцами. – Ньямби. Ньямби. Странная вещь, босс, ее сложно объяснить, нужно видеть, иначе ты мне не поверить! И можете поговорить с другими, записать интервью. Так вы идти?
– Нет, Айеби, вряд ли мы придем, у нас есть работа, а завтра мы уезжаем. Но главный здесь он. Этторе, что скажешь?
Тот жадно затянулся и немного подумал.
– Ну, сегодня мы почти ничего дельного не сняли. Да и потом, – ухмыльнулся он, – может, подвернется что-нибудь стоящее, и нам удастся сбить спесь с этого придурка Поретти. Сделаем репортаж об условиях, в которых они живут. И, может, клюзив тоже получится, кто знает. Нам нечего терять.
– Да, босс, верно! – воскликнул Айеби, поднимая руки к небу. – Дай пять!
Этторе хлопнул его по руке и искренне рассмеялся впервые с тех пор, как приехал на Сицилию.
– Ты ему доверяешь? – вполголоса шепнул Джанни. Угандиец тем временем принялся неуклюже танцевать на месте, как колдун в помятом костюме и кроксах. – Может, он просто хочет развести нас на деньги? И потом, кто знает, что у них там творится…
– Доверяю. Да и что плохого может случиться?
Этторе снова вспомнился «Корабль утопленников». После «большой рыбалки» 2013 года пробраться в отель мигрантов среди ночи казалось пустяковым делом – так, ерунда, маленькое приключение, благодаря которому, может быть, удастся сделать интересные кадры.
В работе журналиста сюрпризы порой встречаются там, где не ждешь.
Иногда – приятные, а иногда надежда получить стоящий результат лопается как мыльный пузырь.
Но того, что Этторе и Джанни увидели в отеле «Жаворонок», они никак не могли ожидать.
* * *
Джанни оглушительно храпел, но Этторе его не видел.
Он лежал без сна в темноте, густой, как море гудрона.
Через сколько часов они должны прийти в гостиницу?
Он ворочался на влажных от пота, вонявших затхлостью простынях, пытался заснуть и не думать о болезненном желании сходить в туалет, но от этого хотелось еще сильнее.
В конце концов он сел в кровати, матрас заскрипел. На секунду Этторе испугался, что ослеп, но потом заметил синие полоски – свет луны просачивался сквозь жалюзи.
Ступая босыми ногами по пушистому ковру, он пошел в туалет.
С удовлетворением помочился.
А нажав на слив, вдруг услышал пение – нестройный хор голосов, залетевший в комнату, как насекомое. Музыка доносилась снаружи, она звучала очень близко и в то же время бесконечно далеко.
Этторе, дрожащий от холода, несмотря на жару, вернулся в комнату и щелкнул выключателем.
Джанни уже проснулся и поднял жалюзи. Он стоял на балконе в одних трусах и, не отрываясь, смотрел на море. Бледная спина блестела в лунном свете.
– Джанни… ты не спишь? Что это за музыка? – От пения вибрировали ножки стула.
– Это не музыка… – оператор старался перекричать голоса, а на его лице был написан такой ужас, что Этторе чуть не бросился бежать. – Посмотри сам. Господи, боже, это не пение. Это плач. Крик.
Морской бриз щекотал кожу сквозь майку. Луна исчезла. Этторе почувствовал, как затвердели соски.
– Что там? Что я должен увидеть?
Джанни показал пальцем на горизонт, где море врезалось в небосвод, с немым изумлением на лице. Как будто растолстевший герой Дональда Сазерленда из «Вторжения похитителей тел», подумал Этторе.
К берегу мчались разъяренные тучи, запутанный клубок черных катаракт. Величественная и безумная гроза зажигала бледные веснушки на лице неба, и в точке, куда указывал палец Джанни, Этторе увидел знакомую картинку.
– Н-нет, – пробормотал он. – Черт, нет.
– Это… это корабль из твоих снов? – Джанни опустил руку, делая шаг назад. – Я не хочу туда, Этторе. Это твой кошмар. Пошло все к чертовой матери, бежим!
«Корабль утопленников», порождение психоделического сна, стал реальностью: он несся к берегу на огромной скорости, и в свете молний четко виднелась каждая деталь. Этторе слышал, как Джанни вернулся в комнату, но не мог пойти следом. Он должен был видеть этот кошмар. Изучить его, сделать о нем репортаж.
– Возьми камеру! – сердито крикнул он, понимая, что оператор наверняка уже сбежал.
Корпус, мачты, реи, нос и корма корабля были не из дерева. А из плоти и боли, из бездн, вернуться откуда можно только ценой вечного страдания в первом кругу ада для канувших в забвение, в общей могиле для тех, чье имя неизвестно.
Сотни изуродованных трупов, конечностей, истерзанной кожи, сотни женщин и детей, мужчин и стариков, гниющих костей и тканей были собраны воедино каким-то заклинанием черной магии и составляли форму и сущность этого корабля, который прославлял могущество моря и отчаяние тех, кто никогда не доберется до Дома.
Гниющие, раздувшиеся от воды лица были покрыты водорослями и ракушками. Хор голосов, вырывающихся из черных ртов, изливал тоску в оглушительном реквиеме. Грот-мачта – раскачивающийся обелиск из гнилой плоти, торсов и вырванных из тела конечностей, – бросала вызов небу. Паруса – огромные сероватые простыни из лоскутов кожи, сшитых между собой прядями волос, – хлопали на ветру.
Утонувшие на переправах надежды, дети бесчисленных трагедий на этом проклятом участке моря. Когда судно подошло еще ближе, Этторе пришлось зажать уши руками, чтобы не слышать крика, который разъедал внутренности, как кислота, разносился по переулкам Лампедузы и забирался в дома живых.
Этторе был абсолютно уверен, что, добравшись до берега, корабль развалится на части, а утопленники, собрав куски своих тел, начнут бродить по улицам и пляжам, волоча за собой опухшие ноги, и, оплакивая свое наказание, пустыми мертвыми глазами будут разглядывать мир своих несбывшихся надежд, чужой мир, где они – всего лишь призраки.
Раздался оглушительный удар грома, и стены заходили ходуном.
– Джанни! Джанни!
– Этторе! Этторе! – закричал в ответ оператор, а потом добавил. – Проснись же наконец! Что случилось?
Сквозь завесу слез Этторе увидел включенный торшер – фокус мира бодрствования. Между кроватями стоял Джанни и взволнованно на него смотрел. Он прижал руку к груди – сердце стучало, как тимпан.
– Твою мать, – сказал оператор, – я больше не лягу спать с тобой в одном номере. Меня от твоих воплей удар хватит… Тебе опять снился этот сон?
Этторе сглотнул горькую слюну и попил воды, прежде чем ответить. Ему было тяжело дышать, грудь словно зажали в тиски, – наверное, паническая атака. Он посмотрел на балконную дверь. Ставни закрыты. Слышатся раскаты грома.
– Да, но… в этот раз все казалось абсолютно реальным. Блин, я думал, это правда…
– Ты уверен, что хочешь…
– Конечно, мы все равно уже не спим, – отрезал Этторе. – Я-то точно больше не усну. Который час?
– Пятнадцать минут второго. Айеби ждет нас в два. Если он придет, конечно…
Этторе провел рукой по волосам.
– Айеби придет, – после паузы сказал он, тяжело вставая и подходя к балконной двери.
Джанни сходил в душ, потом стал возиться с камерой. Этторе вышел на балкон.
Облака и туман. Никакого корабля нет.
Но стоит закрыть глаза, и он снова здесь.
Этторе закурил Camel. Увесистые капли дождя забарабанили по улицам Лампедузы, словно слезы несчастных, падающие в пыль. Когда Этторе швырнул окурок вниз, через перила, море разбушевалось и заревело, яростно атакуя остров со всех сторон.
* * *
Айеби ждал их под покосившимся козырьком автобусной остановки, откуда они должны были отправиться в путь, в гостиницу, находившуюся примерно в полукилометре. В темноте его лицо казалось нарисованным мазками блестящей черной краски, а глаза напоминали фары, изучающие ночь.
Увидев Этторе, укрывшегося капюшоном от ливня, который, правда, теперь превратился в морось, Айеби, как кошка, вышел из тени.
– Вы прийти, хорошо! Готовы?
– Привет, Айеби. Да, мы готовы к твоему эксклюзиву! – Этторе чувствовал себя лучше. Свежий воздух разметал паутину тяжелого сна, оставив от нее неприятные липкие, но безобидные обрывки.
У Джанни были воспаленные глаза – как у человека, которого резко разбудили.
– И где тут вход?
– Позади гостиницы, – объяснил угандиец. – Те, которые не хотят нас… они уже уйти, когда солнце зашло, но лучше быть осторожными, да?
Этторе представил, как Поретти с дружками заваливаются в ресторан и опустошают тарелки, пожирая мидии и распивая бутылку за бутылкой.
– Идем, вы за мной.
Они пошли по улице с невысокими домами, на крышах которых стояли цистерны для сбора дождевой воды. Прежде чем повернуть за угол, Этторе обернулся и посмотрел на Средиземное море.
Может, я все еще сплю? Вдруг это бесконечный сон-«матрешка»?
Джанни присвистнул, чтобы его поторопить. Худощавый Айеби уверенно шагал вперед. Время от времени он оборачивался, следя, чтобы другие не отставали.
Они вышли на узкую аллею за гостиницей. Задний двор почти не отличался от территории перед фасадом, которую они изучили утром в поисках хороших кадров – кучи мусора и старого хлама между рядами засохших кустов и бетонных блоков. Забор во многих местах был сломан. За ним виднелся силуэт здания, где в двух окнах наверху мерцал свет – то ли от пламени свечей, то ли от самодельного очага. Гул голосов, говорящих на непонятном языке, плыл в ночном воздухе, как читаемая вполголоса молитва.
– Вот, мы туда войти, – останавливаясь, прошептал Айеби. И показал на невысокую постройку в форме параллелепипеда. – Снизу.
Когда гостиница работала, подумал Этторе, там, наверное, был погреб или подвал. И представил себе дверь, как в бункере, где прячутся от торнадо в американских фильмах. Потом глянул на недоверчивое лицо Джанни, шедшего за угандийцем.
Может, это не очень хорошая идея, подумал Этторе. Ведь, честно говоря, мы ничего не знаем ни об этом человеке, ни о других обитателях отеля… Да и что там? Там, внизу?
Джанни достал камеру.
– Как думаешь, пора снимать?
– Нет, нет, нет, – взволнованно зашептал Айеби. – Внутри, делать фильм внутри, где клюзив! Сейчас спешить, мы идем, чтобы увидеть ньямби, быстрее!
Они гуськом вышли из переулка. Волны, бьющиеся в берег почти в километре от гостиницы, поприветствовали процессию громким рокотом.
Шагов через пятьдесят они увидели коренастый силуэт, который двигался им навстречу, раскачиваясь из стороны в сторону, как игрок в настольном футболе.
– Какого хрена вы здесь делаете?
– Твою мать, Айеби, ты же сказал, что все ушли! – воскликнул Этторе. Он не видел лица человека, только живот и лакированные туфли, блестевшие в полумраке, но по голосу сразу догадался. Перед ними был Иван Поретти.
Сделав несколько шагов, политик оказался в конусе света фонаря. Он изрядно набрался, на щеках играл румянец, а само лицо было багровым, словно он только что застукал свою жену с сантехником, который проверял ее трубопровод. Поретти держал в руках маленький фотоаппарат.
– Какого хрена вы здесь делаете, с этим ниггером, с этим черномазым, а? – спросил он с чудовищным южным акцентом, который пьяному невозможно скрыть.
– А ты что здесь делаешь?
Заметив камеру в руках Джанни, Поретти разразился смехом, отдававшим граппой и никотином.
– Наверное, то же, что и вы, нет? Снимаю это дерьмо. Я пошел ужинать с парнями, потом в гостиницу, но заснуть не смог, и вернулся, чтобы сделать пару фото… Ну вот… А вы с этим негром куда идете, а?
Поретти закашлялся, сотрясаясь всем телом. Сплюнул на асфальт. Айеби смотрел на него с испугом.
Этторе решил сказать правду. Решил бросить вызов этому пьянице, который получал баснословные деньги за свою идиотскую болтовню.
– А мы внутрь пошли, Поретти. Айеби кое-что хочет показать нам. Ты же обвинил нас, что мы плохо делаем свою работу… Ну вот, мы и решили сходить, посмотреть.
– О, а это отличная идея…
– Не хочешь с нами? Раз ты такой смелый?
– Этторе, не стоит его звать, зачем…
– Он может идти, если хотеть, может идти с нами, – воскликнул Айеби, одобрительно закивав. – Мы не хотеть беспокоить, хотеть просто жить, просто нормально жить.
Губы политика искривила ухмылка. От него исходил целый букет запахов – чеснока, вина, сигарет, самбуки.
– О, да, я хотеть идти с вами, как говорит ваш друг. Хотеть идти с вами и посмотреть, что там за хрень… Только пусть обезьяны не подходят слишком близко.
– Мы не обезьяны, босс. Мы, люди, люди. И я обещать, никто не будет вас беспокоить, вы тоже должен увидеть ньямби, это важно. Ничего плохого не может случиться.
– Что еще за джамби? Олененок Бэмби для негров? – усмехнулся Поретти, лицо которого пугающе побагровело. – После вас, синьоры. Давайте посмотрим, что там делают ниггеры.
Стало очень тихо. Гроза отступила далеко, к берегам Африки, чуть слышно ворча и полыхая разноцветными молниями.
Добравшись до отеля, Айеби ловко перелез через сломанный забор и дал знак следовать за ним.
– Давай, давай, идти здесь.
Этторе и Джанни пришлось помогать матерящемуся Поретти, подталкивать его под толстый зад и придерживать за куртку, чтобы тот своей тушей не напоролся на острые прутья и не разделил участь курицы-гриль.
– Я и сам могу, не трогайте меня, – то и дело повторял Поретти, прежде чем перевалиться мешком на другую сторону. Сквозь дырку в заборе внутрь проскользнула кошка, державшая в зубах мышь.
Преодолев препятствие и украдкой оглядываясь, они быстро обошли двор.
Наконец Айеби остановился перед двухметровой коробкой со скошенным под сорок пять градусов верхом, примыкающей к фундаменту бывшей гостиницы. Как и предполагал Этторе, две металлические двери, покрытые вмятинами, перекрывали вход внутрь. Может, там гараж или склад. Ручки дверей были скреплены прочной цепью и большим замком.
– Хорошо, мы прийти и сейчас спускаться вниз, – сказал Айеби, вытаскивая из кармана джинсов ключ и оглядывая гостей. Потом точным движением жилистых рук вставил его в замок и отбросил цепь.
Джанни вытащил камеру и включил на ней светодиодную лампу. Они оказались в круге голубого света. Поретти немного отошел, фотографируя двор.
– Хорошо, хорошо, вы готовы, да? – Айеби взялся за дверные ручки и отвел их в стороны. От скрипа петель по спине Этторе пробежал холодок. Они вошли в широко раскрытый рот «Жаворонка», из которого дул слабый, теплый, влажный ветерок. Прямо за дверью валялись разбитые плитки, кучи листьев и грязи. Ступени уходили в темноту, со стен свисала паутина.
Пойти назад они уже просто не могли.
– Да, Айеби, отведи нас посмотреть… Ньямби, да?
– Ньямби, именно так!
– Вы ему доверяете? Вы действительно хотите спуститься вниз? – высокомерие в голосе Поретти пропало, но язык все еще заплетался.
– А что, ты передумал, Поретти? Неужели испугался? Это же просто обезьяны, что они могут с нами сделать?
Джанни с усмешкой проверил камеру.
– Все готово!
Айеби нырнул в проем и утонул в темноте. Этторе повернулся, чтобы еще раз посмотреть на море, но смог разглядеть только ослепительные вспышки грозы.
Он глубоко вдохнул воздух, пропитанный солью.
Кивнул своим попутчикам.
И они спустились в темноту.
* * *
Десяток ступеней привел их в помещение под землей, где когда-то находилась прачечная. При свете камеры виднелись перегородки из гипсокартона, который отслаивался от стен, большие чаны и ржавые скелеты профессиональных стиральных машин. Здесь царило запустение, в затхлом воздухе пахло тухлятиной и мокрыми тряпками.
Этторе успел почитать о гостинице – ее закрыли в конце девяностых. Туристический поток снижался, и падавших доходов перестало хватать на ее содержание. Поэтому в 2007 году «Жаворонка» отремонтировали и превратили в центр приема беженцев, но через два года ликвидировали из-за административных нарушений и скандала с фальсификацией договоров подряда. Это место оказалось ничейным и стало первым убежищем для несчастных, высадившихся на острове и сумевших сбежать от береговой охраны или из центров приема беженцев в надежде покинуть Лампедузу.
Они пошли по узенькому коридору, по обеим сторонам которого на проволоках висели старые простыни. Айеби первым, потом – журналисты. Последним шел Поретти, который вдруг пронзительно завизжал. Этторе покрутился в разные стороны, не зная, чего опасаться. Заметил в темноте между простынями какой-то вытянутый силуэт.
– Твою мать! Что это было? – Поретти стоял, схватившись руками за грудь и пыхтя, как скороварка.
– Крыса, наверное… – Джанни посветил вокруг себя светодиодной лампочкой камеры.
– Крыса, крыса да, здесь крысы!
– Да, конечно, крыса, щас. Он был размером с лабрадора! Прошел прямо мне по ногам. И потом крыса серая, а этот… беловатый.
– Да ладно, тебе показалось… Хочешь вернуться? – рявкнул Этторе, тут же почувствовав раскаяние. Словно он – Монтрезор, ведущий бедного Фортунато в подвал, чтобы замуровать заживо, как в рассказе По.
– Идите вперед! Черт, что за дерьмо, я все сфотографирую и пошлю в газеты, во влиятельные газеты, можете не сомневаться!
Они пошли дальше, подгоняемые Айеби, который, казалось, начал волноваться, – видимо, ему хотелось побыстрее привести их на место. Впереди был непроглядный мрак. Даже светодиодная лампочка не могла рассеять темноту. Как будто тьма глотала яркие лучи, засасывала их в свое чрево.
Миновав массивные колонны, они увидели первые следы недавнего человеческого присутствия: угли потухшего костра, брошенные на пол надувные матрасы, набитые одеждой и остатками еды целлофановые пакеты. Воняло фекалиями и мочой.
– Здесь мы иногда спать, но сейчас почти все там, молиться за ньямби. Идти еще недалеко, хорошо.
– Я все снимаю, Этторе, не хочешь сказать что-нибудь? – спросил оператор, знаком прося угандийца помолчать.
– Да, конечно. Скажи мне, когда.
– Хоть сейчас.
Этторе подошел к стене, изрисованной граффити, повернулся и уставился в красный огонек камеры.
– Меня зовут Этторе Рачити, я журналист Tele Nove, и мы находимся в бывшем отеле «Жаворонок» в городе Лампедуза. Нам удалось…
Но не успел Этторе закончить фразу, как Джанни с воплем отвращения опустил камеру:
– Твою ж!
– Что?
– Там кто-то есть. На трубах, у тебя над головой.
Этторе отпрянул от стены и задрал голову. Не очень-то хочется, чтобы крыса прыгнула сверху. Две толстые трубы в клочьях изоленты и паутины шли параллельно, в полуметре от потолка.
– Как хоть оно выглядело? Крыса?
– Не знаю. Оно… Оно было огромным!
– Я же говорил, что эта хрень – огромная! – гаркнул Поретти, чей голос эхом прокатился по маленьким боковым коридорам, уходящим в темноту. Видимо, он наконец протрезвел.
– Ты его снял? Включал запись?
Джанни кивнул и нажал на перемотку.
– Так, вот тут, должно быть примерно тут… – по маленькому экрану бежали картинки: снятый выше пояса Этторе в кадре казался немой марионеткой, а серый силуэт труб был едва различим.
Встав полукругом вокруг камеры, все увидели, как справа налево по экрану, по трубам, пронеслось какое-то белое нечеткое пятно.
– Вот он, видели? Еще раз отмотай назад…
Оператор послушно понажимал на клавиши.
– Вот-вот, вот он!
Они молча уставились на застывшую на паузе картинку. На ней Этторе выглядел как пиксельная скульптура, а над головой, на трубах, виднелось бесформенное пятно.
– Что это такое? Увеличить можешь?
– Немного. Могу даже качество сделать получ…
Сначала Этторе не понял. Не понял, почему слова коллеги оборвались, перейдя в приглушенный вопль, который вырывается из горла испуганного зверя. Не понял, почему Поретти, всегда такой бесстрашный, когда дело касалось, по его мнению, защиты итальянских интересов, вдруг начал надтреснутым голосом умолять увести его отсюда. Но в первую очередь, не понял, почему Айеби скрылся в темноте, двигаясь, как в замедленной съемке, будто стал частью сумасшедшей игры полусвета, пойманной в ловушку камеры. Исчез, попятившись в сторону, с улыбкой, в которой больше не было ничего обаятельного или дружелюбного, – нет, она превратилась в жесткую ухмылку, говорящую о признании вины и оправдании своих действий. Иногда жизнь ставит нас в ужасное положение, да, так бывает, мы ничего не можем с этим поделать, извините, у меня не было выбора…
Потом Этторе Рачити присмотрелся к маленькому изображению на экране, и редкие волосинки у него на шее встали дыбом, вонзившись в кожу, как крошечные булавки.
– Не может быть, – пробормотал он.
Это ни мышь, ни собака, ни случайный пиксельный хаос, сохраненный камерой.
Это ребенок. Голый ребенок, который полз по трубам в зловонном подвале бывшей гостиницы. Лет пяти или шести, но возраст не имел значения, потому что, глядя на него, становилось понятно – это не обычный ребенок.
Не живой ребенок.
Его лицо, точнее, то, что от него осталось, было повернуто к объективу, словно он хотел попасть в кадр, как маленькая звезда театра абсурда. Разорванная в некоторых местах кожа головы с копной темных локонов обнажала пучки мышц и кости черепа. Глаз не было. Вместо них в орбитах тонули две гнилые сливы, в которых при голубоватом свете камеры Этторе разглядел лишь пустоту и голод. Маленький вздутый живот, тонкие ножки-палочки, кривые мягкие ручки, вцепившиеся в трубы.
Кожа дряблая, как у утопленников.
Мокрая от воды.
Голова немного наклонена набок – так иногда делают собаки, когда не понимают, что происходит. Во рту, слишком большом для такого маленького существа, виднелись сотни крошечных острых зубов.
Рыбьих зубов.
Этторе затошнило, он сглотнул. И услышал, как что-то ползет справа от него, со зловещим тихим скрежетом и шелестом разрываемого бумажного конверта.
Но эти шорохи тут же заглушил другой звук. Который заставил всех троих сбиться в кучку, словно испуганных детей, оказавшихся в пещере.
Хохот. Смех маленького ребенка. Абсолютно счастливый, но совершенно неживой, сиплый и захлебывающийся, он напоминал бульканье морской воды в горле и создавал ощущение угрозы, неминуемой физической расправы.
Первым заговорил Джанни. Его трясло:
– Что это за чертовщина? Где Айеби? Айеби!
Оператора было не так-то просто напугать. Он успел поработать в Косово и Афганистане, а начинал со съемок дорожно-транспортных происшествий. Услышав его дрожащий голос, Этторе вышел из оцепенения.
Оторвал взгляд от камеры и увидел, как за колонной что-то шевелится. Взрывы смеха повторялись снова и снова, доносясь из разных углов комнаты. Сначала слева, потом справа, с потолка, из бокового коридора и, наконец, откуда-то издалека – из кромешной тьмы.
Поретти не выдержал и рванул к выходу, шепча бессвязные проклятия.
Этторе посмотрел на коллегу в поисках совета, но тот лишь засыпал его вопросами.
– Ты видел? Ты тоже это видел? Что это было? Что? Что, черт возьми, происходит здесь, в подвалах?
– Не знаю, Джанни. Не… Но надо уходить. Пошли! Давай убираться отсюда. К выходу!
Пока они бежали к двери, Этторе заметил существо, которое быстро ползло по стене, как толстая сколопендра-альбинос. Подвал и пространство под потолком наполнилось враждебными звуками. Коготки
тик-тик-свисккк
скребли по бетонным стенам, а маленькие существа с забитыми водой легкими что-то высасывали и вздыхали.
Камеру трясло, тени, собираясь в шеренги, атаковали яркое, искусственное кольцо света, которое оставалось для беглецов единственной – и слабой – защитой от страха.
Добравшись до лестницы, они наткнулись на Поретти. Этторе был насквозь мокрым, словно пробежал марафон. Джанни тяжело дышал, открыв рот.
По прачечной разносились проклятия политика:
– Они нас здесь заперли! Сволочи, эти сволочи нас заперли! Помогите! Помогите!
Крича, Поретти изо всех сил дубасил кулаками по металлическим дверям. Журналисты подошли к нему и уперлись спинами в металл. Но ворота не поддавались, удерживая пленников взаперти так же надежно, как гранитная плита или крышка саркофага.
Этторе выругался,
вот дерьмо, мы в ловушке,
вынимая вспотевшими руками мобильник из кармана. Ни одной полосочки. При свете экрана его лицо напоминало карнавальную маску, которыми пугают детей.
– Сети нет. Нам не позвонить!
Другие тоже достали телефоны, и по выражениям их лиц Этторе понял, что помощи ждать неоткуда.
– Что нам делать? Что нам теперь делать? – визгливо запричитал Поретти, снова заколотив в дверь.
Этторе тяжело опустился на ступеньку лестницы, и в памяти всплыло жуткое изображение на экране камеры.
Дети походили на кукол.
Джанни и Поретти смотрели на Этторе в надежде, что он придумает, как выбраться из этой передряги. Видимо здесь его считают главным, хм? Но он ничего не мог им предложить.
– Поретти, ты сказал кому-нибудь из дружков, куда идешь? Они будут тебя искать?
Иван поморщился, став похож на дряхлого, перепуганного старика.
– Нет. Я никому не говорил. – Потом его лицо исказилось гневом. – Это вы виноваты, что мы здесь оказались, вы!..
– Тебя никто не заставлял. Да какая теперь разница. Я… наверное, нам нужно идти обратно. Искать другой выход.
– Нет, нет, нет. Нет, нет, нет, – политика заколотило. – Я туда не вернусь. Ни за что!
– Айеби сказал, что они все там «молятся за ньямби». Может, с противоположной стороны есть другая лестница, еще один выход. Сидеть здесь все равно нет смысла.
Джанни сглотнул и пару раз тяжело вздохнул.
– Хорошо. Я с тобой.
Поретти сполз на ступеньки и залился слезами, но стоило журналистам спуститься по лестнице, как он побежал следом, словно верный лакей.
– Не бросайте меня здесь одного. Пожалуйста.
На последней ступеньке они остановились и внимательно осмотрели свисающие простыни, колонны, грязные чаны – ждали, что в любой момент кто-то может выскочить из темноты.
– Ладно, прорвемся, – хмыкнул Этторе. Хотя и сам в это не верил.
* * *
Не говоря ни слова, они пошли к тому месту, где исчез Айеби. Вздрагивали при каждом скрипе, чертыхались каждый раз, когда приходилось идти по темным боковым переходам, выходившим в главный коридор. То и дело поднимали глаза к трубам на потолке. Но когда Поретти заговорил о ребенке без лица,
Это действительно был ребенок? Они и правда это видели?
Этторе одним взглядом заставил его замолчать.
Заметив при свете камеры в углу какую-то груду – судя по всем, груду костей, – они не стали останавливаться и разглядывать ее, а молча прошли мимо. На колоннах виднелись красноватые подтеки – отложения соли.
– Смотри… там что-то блестит, – вдруг сказал Джанни. Метров через двадцать, за дверями в перегородке, они увидели у задней стены лестницу с низкими металлическими перилами. Однако надежды, что она выведет их на поверхность, тут же рухнули: ступеньки шли вниз, все глубже и глубже, и присмотревшись, Этторе с Джанни разглядели внизу лестничную площадку и еще один пролет.
– Мы никогда не выберемся отсюда, никогда… – запричитал Поретти, но тут же получил тычок под ребра от Этторе. Потом журналист перегнулся через ограждения и попросил Джанни посветить вниз.
– Боже мой…
Запах. Не очень сильный, едва уловимый, который поднимался из недр «Жаворонка» и щекотал ноздри. Этот запах он чувствовал только один раз в жизни, и, узнав его, отшатнулся, словно получил пощечину. Воспоминания перенесли его на лодку береговой охраны, где матрос с печальными глазами говорил,
– Черт, и трех дней не прошло – а посмотри, что с ней сделала вода…
а он с отвращением наблюдал, как поднимают на борт раздувшееся тело безымянной женщины…
Запах неутомимого моря, запах соли, которая обжигает ткани и слизистые…
Джанни присел на корточки, колени захрустели. Потрогал пальцем какую-то штуковину, висевшую на перилах.
– А это еще что? Ну и дрянь!
Только тогда Этторе заметил, что к перилам лестницы проволокой прикручены непонятные предметы, и подошел поближе, чтобы их рассмотреть. Они были привязаны через равные промежутки вдоль всего поручня, дальний конец которого тонул в темноте. Связки косточек, разноцветные ленты, ракушки, камни, скелеты каракатицы, щепки и еще какие-то странные штуковины, обвитые веревками и водорослями.
– Как думаешь, что это? – с ужасом спросил оператор.
– Ну… талисманы, наверное. Какие-нибудь амулеты. Подношения богам. Откуда мне знать.
– Мы в дерьме, да? Что нам делать?
– Спускаться. Выбора все равно нет, – ответил Этторе. – Снимай все. Снимай каждую мелочь.
На несколько секунд профессиональное любопытство Этторе взяло верх над страхом. А ведь Айеби не врал. В этом грязном подземелье, среди разбросанного мусора и ржавых моторов стиральных машин действительно можно сделать эксклюзив, хотя он, конечно, еще не знал, о чем именно говорил угандиец.
Кивнув друг другу, они начали спускаться. Вдруг Джанни задрожал, вцепился в перила и направил свет своей верной камеры в сторону.
На Ивана Поретти. Они едва успели заметить, что с ним случилось. Какая-то сила, которую Этторе и Джанни не могли ни видеть, ни понять, затягивала Ивана в темный боковой коридор, а он сопротивлялся как мог. Его руки тщетно искали спасительные перила, чтобы удержаться на ногах, а из разинутого от ужаса и страдания рта не выходило ни звука. Это было самое страшное. Ни крика, ни мольбы о помощи, ни богохульства – сочного, из тех, что сделали Поретти звездой телевидения. Ни одного стона.
Этторе вспомнился один старый научно-популярный фильм про астронавта, уносившегося в космическое пространство и канувшего навеки в бескрайние немые воды Вселенной. Когда Этторе смотрел на Поретти, он успел заметить маленькие ручки, ощупывающие тело и ноги политика, и сероватую, издающую слабое свечение массу, которая, как отвратительная пиявка, уселась Ивану на шею. Лицо у этого существа было обвисшим и сморщившимся, как вареная груша.
Звук присасывания, хрип – и Поретти упал и остался лежать, как выброшенная на сушу рыба.
Журналисты стояли, вцепившись в перила. Этторе постарался взять себя в руки и, набравшись смелости, спросил:
– По-поретти, с тобой все в порядке?
Нет, конечно же нет, какое там в порядке, что за вопрос, все не в порядке и никогда уже не будет в порядке, даже если я смогу выбраться…
– Ты… ты меня слышишь?
Поретти не ответил.
Вместо него это сделал кто-то другой: раздался металлический визгливый смех, от которого оператор понесся вниз по лестнице туда, откуда исходила вонь, вниз, где сливались в хор низкие голоса, одержимо повторяющие одно слово:
– Ньямби! Ньямби! Ньямби!
Без света камеры все вокруг на мгновение погрузилось в кромешную тьму. Только в нескольких метрах от Этторе светились две точки – выцветшие изумруды, бездны пустоты и голода, – и изучающе, хищно вглядывались в него, а потом кинулись за Джанни.
На стенах вдоль лестницы висели старые выцветшие плакаты с рекламой виноделен и фанерные доски, обклеенные этикетками от бутылок. «Неро Д’Авола – аромат Сицилии», – прочитал Этторе в свете тусклого сияния внизу и чуть не расхохотался, потому что единственный аромат, который ощущал он, – это запах гнили, стоявший в сыром воздухе. Сырость пропитала его одежду, а вонь с каждой ступенькой становилась все сильнее, и Этторе пришлось закрыть нос рукавом плаща, чтобы его не стошнило. Джанни бежал впереди.
– Подожди меня!
Но оператор не останавливался. Он несся по лестнице, отбрыкиваясь от беловатой грязи и мигом преодолев один пролет. Перила вибрировали и звенели амулетами, будто кто-то раскачивал их сверху.
Или спускался по ним.
– Джанни, остановись!
Оператор обернулся и посмотрел на Этторе. У него было такое же выражение лица, как в том кошмаре, когда Джанни увидел кровавый «Корабль утопленников», несущийся к берегу в грозу. К мокрому лбу оператора прилипли пряди волос. Страх и инстинкт самосохранения прорвали дамбу.
Хор голосов, кричащих «Ньямби, Ньямби», становился все громче.
Этторе уже почти добрался до середины второго пролета, как вдруг увидел дверь, ведущую в большое помещение, вдоль стен которого стояло бесчисленное количество свечей, воткнутых в горлышки больших и маленьких бутылок. В этот момент ноги Джанни заплелись. Он полетел вниз головой по ступенькам, как брошенная тряпичная кукла.
– Осторожнее! – закричал Этторе, порываясь удержать оператора, но тот был слишком далеко. Все, что Этторе мог сделать, – проводить его взглядом.
Не успев подставить руки, чтобы смягчить падение, оператор рухнул лицом на битумный пол. Камера разбилась, экран погас – остался только тусклый свет свечей.
Этторе добежал до места падения и увидел, что пострадала не только камера.
– Боже. Ой, ой, ой!..
Все лицо Джанни было в крови и ссадинах. Видимо, у парня, подумал Этторе, сломаны кости – на лбу и скулах виднелись вмятины размером с монеты, глубокие, как следы от пальцев, которые непоседливый ребенок делает в тесте для пиццы.
– Тихо, тихо, все будет хорошо, ничего, я вытащу тебя отсюда, – прошептал Этторе, стараясь утешить друга и положив его голову себе на колени.
Одно запястье у Джанни было согнуто под странным углом, наверное, сломано, а на полу, как снежинки на черном мраморе, блестели выбитые зубы. Глаза оператора не могли смотреть в одну точку и косили вправо.
– Этторе, помоги, мне больно, мать твою!
Джанни шумно дышал, прижимая руки к груди. Расширенные зрачки напоминали костяные пуговицы. Может, сотрясение мозга или просто последствия шока.
Этторе рассматривал раны друга целую вечность, потому что не хотел поднимать глаза – за порогом, рядом с ним, стояли люди, глядя на него в упор, повторяя проклятое слово, ради которого он и Джанни спустились сюда, и при свете свечей их острые тени на стене тянулись к нему, как зубы свирепого зверя, готового проглотить свою добычу.
Он услышал шаги.
И знакомый голос.
– Хорошо. Вы приходить, да. Теперь вы видеть ньямби.
Айеби.
Подняв голову, Этторе уперся взглядом в суровое лицо угандийца. Выражение глаз у него было задумчивым.
– Мне очень жаль вас, босс. Я не хотеть, серьезно. Но ньямби должен жить. Ньямби хотеть есть.
В воздухе плыл дым от свечей, делая вонь совершенно невыносимой.
– Айеби, послушай, – начал Этторе, но вдруг почувствовал, как угандиец, наклонившись, берет его за подмышки, заставляя встать.
И следовать за ним.
– Идти со мной, – сказал Айеби, хватка которого не допускала возражений, и измученный Этторе, не в силах сопротивляться, позволил угандийцу тащить себя за собой.
Помещение оказалось меньше, чем то, что было наверху, – наверное, в годы работы гостиницы здесь находился погреб для элитных вин. Теперь же подвал превратился в нечто вроде храма, где поклонялись тому, что может привидеться только в бреду, святилища, где смешались священное и мирское, как в религиях сантерии и вуду.
На полу валялись пустые бутылки и разбитые в щепки деревянные полки, а с кирпичного потолка свисали кованые люстры, на которых были развешены всякие амулеты, рыбьи кости, распятия, мыши, казавшиеся мумифицированными, большие ракушки, морские звезды, отполированные морем деревянные доски, напоминавшие идиотские маленькие обелиски, кости, клубки четок, мягкие игрушки, крабы и большие сероватые креветки. Некоторые были еще живы, шевелили усиками и, словно нахмурившись, наблюдали за происходящим вокруг своими глупыми глазами.
Лежавший у основания лестницы Джанни что-то крикнул, но слова заглушило пение десятков ртов с мясистыми губами: это пели мужчины и женщины, стоявшие вдоль стен. Сложив руки, они восторженно смотрели перед собой, как будто находились в склепе святого. Никто из них не обращал на Этторе внимания. То, что он находится здесь, казалось само собой разумеющимся. Позы людей выражали покорную готовность принять неизбежное, выполнить свой долг.
– Ньямби! Ньямби! – начал подпевать Айеби, очень осторожно подталкивая Этторе к центру помещения, в желтоватый полумрак, куда почти не добирался свет свечей.
Вонь стала еще сильнее. Айеби улыбнулся и жестом циркового зазывалы показал Этторе на то, что казалось невозможным.
– Вот. Вот они! – провозгласил угандиец с таким выражением лица, с каким отец смотрит на больного сына.
В глубине подвала Этторе увидел огромную деревянную бочку диаметром метра три, из которой сделали нечто вроде шалаша. Вдоль изогнутых досок белой краской столбиком были нарисованы блестевшие в темноте странные символы, черепа и пристально смотрящие на зрителей причудливые существа. Рядом, на ложе из тряпок и поролона, сидела женщина, закутанная в пестрый халат и обвязавшая шалью лицо, чтобы спастись от вони.
Этторе посмотрел ей в глаза – черные, влажные, глаза несчастной, но не потерявшей надежду матери, – а потом, увидев, что она держит на коленях, сделал попытку сбежать. Но Айеби, словно тисками сжав его предплечье, пригвоздил Этторе к месту.
– Что это? Кто они, черт возьми? – закричал рыдающий Этторе, с ужасом глядя на копошащуюся в объятиях женщины карикатуру на ребенка. Существо было очень похоже на то, что они сняли камерой, но…
Но реальное, не искаженное объективом, оно казалось еще ужаснее.
Беловатая дряблая кожа, совершенно черные глаза, мягкие, как щупальца кальмара, ножки… Чудовищный гибрид новорожденного и моллюска.
Пародия на жизнь.
Пародия на смерть.
Почти такое же существо, только крупнее, сидело в глубине бочки. В распухших пальцах оно держало плюшевого мишку и причмокивало сизыми губами, как гурман, перед которым поставили деликатес. В трещине его разбитого черепа виднелась сероватая кашица. Увидев Этторе, ребенок высунул голову из бочки, и его вырвало.
Вонючей, соленой водой.
Морской водой.
Айеби сделал шаг назад, чтобы на него не попали брызги.
Существо, сидевшее на коленях у женщины, прижималось к ее груди и, как насекомое, качало головой, а с его изуродованных губ срывался стон, напоминавший одно слово:
– Мамааа. О, мамааа.
– Отпустите меня, обещаю, я ничего не скажу, клянусь, – взмолился Этторе.
Но Айеби, казалось, не слышит его. Взгляд угандийца блуждал где-то далеко.
– У нас, в Уганде, говорят, что ньямби – это мертвец, который не мертв. Мертвец, который не… хм, как вы говорить?.. Мертвец, который не видеть, когда пришла смерть, вот, – прошептал Айеби, щелкая пальцами, словно объясняя совершенно очевидную вещь. – У нас говорят, что человек, который умирать и не видеть, как пришла смерть, он может вернуться как ньямби, потому что все еще хотеть жить. Дети не заметили, когда наша лодка затонуть, они спали, когда тонуть, да? Много детей не нашли, но потом трое из них вернуться из моря, из волн. Понимаешь, босс? Мы приехать сюда, в гостиницу, мы хотели немного переждать здесь, а потом попытаться уехать в Германию. И мы каждый вечер ходить на берег, молиться за наших умерших, а потом один раз вечером трое из них прибить к берегу волны. Большой страх и большая радость, и мы принести их сюда, понимаешь, босс? Ньямби – это чудо, ему нужно поклоняться. – Он показал на пугающие амулеты, которые свисали с потолка. – Ньямби просто хочет жить. А мы должны помочь. Они быть просто дети, которые хотеть жить. Наши дети, да. Этот, который держать плюшевого мишку, – Пепе. Ему очень плохо. Его ранило. Он очень хотеть есть. А это Рафаэль. Когда он тонуть, ему чуть больше года, но теперь он вернуться к матери, – объяснил угандиец, погладив ребенка, которого держала женщина в пестром халате.
Существо, услышав свое имя, вырвалось из объятий матери. Оно двигалось быстро, резко меняя направление движения – как косяк рыб, – оставляя после себя черноватый, слизистый след. Отрешившись от происходящего, Этторе подумал, что эти дети вместе со своими родителями, отплыв из Африки, собирались пересечь море, а на самом деле пересекли границу между жизнью и смертью.
Рафаэль – ребенок-труп-рыба-ньямби – вылез из бочки и шлепнулся на пол, как комок слизи. А потом хлопнул в ладоши жестом, который казался таким ужасным именно потому, что был совершенно естественным, радостным, детским. Не в силах смотреть на это, Этторе отвел взгляд. Существо колыхалось, копошась в темном углу, а потом выползло на свет, сжимая толстую серую крысу. Мать смотрела на него блестящими от гордости глазами и что-то бормотала.
– Господи боже, – пролепетал Этторе, когда Рафаэль прижал морду крысы ко рту. – Господи боже, сделай так, чтобы я потерял сознание.
Ребенок сосал свою добычу.
Он высасывал из крысы дыхание, высасывал жизнь, чтобы продолжить свое существование в этом вонючем подвале.
Крыса сминалась с шелестом бумажного конверта – точно так же, как это произошло с лицом Поретти, и превратилась в лепешку, а потом неподвижно застыла у разъеденных морем губ Рафаэля.
– Они ловить крыс, а мы приносить других живых существ, кошки и собаки, но мы думать, что этого может быть мало, – улыбнулся Айеби и с этими словами немного смущенно положил руку на голову Этторе. – Может, если они высосать что-то большое, они стать такими, как раньше. Хорошие дети, как раньше. Мы просто хотеть нормальная жизнь для них.
Этторе изо всех сил пытался вырваться из рук угандийца. Вдруг за спиной раздались отчаянные вопли оператора.
– Джанни!
Собравшиеся встали на колени и начали вполголоса читать молитву. Теперь они смотрели на Этторе, и в их глазах была жалость и надежда.
Крики Джанни внезапно смолкли, словно кто-то выключил барахлившее радио.
– Я думаю, твой друг встретить мой маленький брат, Патрик. Вы уже видеть его наверху, да? Твой политик тоже видеть, да? – пробормотал Айеби, и с другого конца погреба к ним, смеясь, заковыляло существо непонятной формы, присвистывающее, как чайник. Этторе заплакал. – Патрик уже не малыш, и он очень хотеть есть, понимаешь? Я сейчас знакомить вас, босс. Сейчас он прийти.
Содрогаясь всем телом, Этторе Рачити повалился на пол. Он зажмурил глаза и закрыл голову руками, чтобы не видеть существа, которое к нему приближалось. Хотел прочитать «Отче наш», но не мог вспомнить слов.
В эти бесконечные секунды в его сознании плыл «Корабль утопленников», и Этторе спросил себя – станут ли они его частью? Он, Джанни, Поретти. Узнает ли он по ту сторону переправы, которая ему предстояла, секрет ньямби и тайну этого куска моря, с его утопленниками, его историями и призрачными иллюзиями? Или после переправы его ждет только ледяная вечная пустота, жидкая и бесчувственная?
Потом его пальцы сжала маленькая влажная ручка.
В ее прикосновении не было злобы или обиды – только неутолимый голод тех, кто хочет спастись.
Черные холмы истязаний
Отражение грязных ламп со свечами мечется в стакане с горькой настойкой, как обезумевший мотылек. Не думал, что до этого дойдет – у меня стали трястись руки. Ничего не поделаешь.
Усталость, мысли.
Холмы.
Мы слышим, как по дороге мчится машина – судя по всему, бензин еще есть, – и рев мотора, приглушенный засаленными коврами на стенах и голосом Вильмы Гоич, напоминает жужжание больничной аппаратуры.
– Кто-то еще решил попробовать? – спрашивает Эральдо, бармен. Он настоящий профи: обычно без слов понимает, чего ждет от него клиент: молчания, вопросов или еще одну порцию.
Но не сегодня. Нельзя всегда быть идеальным. Сегодня мне хочется просто посидеть за стойкой и помолчать, а не выдавливать из себя слова.
Я вздыхаю и смотрю на Эральдо. При свете свечей его глаза – как две желтоватые тряпки, испачканные чернилами. Эральдо – единственный друг, который у меня остался. Да и раньше их было немного.
В баре только я, он и Вильма Гоич[4], поющая «Холмы цветут».
Окна с решетками, пустые бутылки из-под ликера, кислотно-зеленая обивка в мелкий цветочек, пародия на модерн, – вот и все наши декорации.
Некогда белоснежные усы Эральдо грязны, как щетка, которой вычищают налет из швов кафельной плитки. А сами швы – это бороздящие его шею морщины с въевшейся в них черной грязью, по́том, мертвой кожей. В Орласко, где раньше жило полторы тысячи человек, а теперь – раз-два и обчелся, гигиена больше не в моде. Есть вещи куда важнее.
– Не знаю, – говорю я и откашливаюсь, потому что мне не нравится, как безразлично звучат мои слова. – Вряд ли кто-то еще захочет рискнуть. После случившегося со священником ряды добровольцев… поредели.
– Хм. А сам ты думал об этом? Ты говорил, что может быть… – перебивает меня Эральдо, и его глаза загораются в ожидании моего ответа. Или он просто пьян. – Мне бы хотелось когда-нибудь снова увидеть свою дочь.
Я достаю из кармана рубашки самодельную сигарету с сухой травой и остатками чая, ссыпанными из жестянки. Зажигаю ее. Какое дерьмо.
– Я уже год об этом думаю. Сам знаешь. Ты же спрашиваешь меня почти каждый вечер. Господи боже. Я пока не готов, – бормочу я, хотя на самом деле решение уже принял. Просто не хочу говорить.
– Да ладно тебе. Хорошо. Извини, зря я… Что у нас новенького? Грабежи, самоубийства?
– Пока Кармело Печче – последний.
Я проглатываю домашнюю настойку, которую Эральдо выдает за дижестив, опираюсь руками на пыльную барную стойку и встаю, бормоча проклятие из-за прострелившей спину боли.
Песня, изрыгаемая нашей вселенной – нашей маленькой вселенной, – заканчивается и начинается снова.
Прошел уже почти год с тех пор, как ты ушел… Любимый мой, вернись, холмы цветут, а я, любимый мой, умираю от боли…
Однажды эта песня зазвучала во всех уголках городка и больше не замолкала ни на минуту, будто невидимый космический музыкальный автомат стрелял в нас привязчивыми децибелами. Непрерывный раздражающий фон, саундтрек к чему-то непонятному.
Песня играла не так громко, чтобы невозможно было разговаривать, но достаточно, чтобы сводить с ума, заставлять биться в истерике и бредить.
Я к этому привык.
- Любимый мой, вернись, холмы цветут…
Наклоняюсь и бросаю в керамическое блюдце с надписью БАР РИМ пять евро. Эральдо ухмыляется, я беру купюру и кладу обратно в карман. Это просто традиция, на самом деле деньги больше не нужны. Ведь я единственный, кто сюда ходит.
– До встречи.
– Да. Береги себя.
Не спеша выхожу на улицу, и звук шагов по деревянным доскам крыльца разносится по всей округе погребальным звоном. Закуриваю еще одну вонючую сигарету и смотрю, как по площади бежит таракан размером с кулак, в хитиновом панцире которого отражаются звезды, – висящие не на своем месте, они никогда не казались мне такими далекими, как сейчас. От небосвода у нас осталось только маленькое синее кольцо. Я больше не жду, что увижу на нем след самолета или дельтаплана, или безмолвную стекляшку спутника.
На улице Мучеников свободы темно и холодно, как в коридорах морга. С губ срывается воспаленное дыхание, сухое, словно наждачка. Ветер швыряет в лицо ледяное конфетти, приносит запах мяса. Кто-то готовит ужин.
Судя по вони, жарят мышей.
Идя домой, я стараюсь не смотреть на них, стараюсь смотреть на землю, заставляю себя это сделать, Да Господи боже мой, гляди себе под ноги, или на колокольню, или… но не могу.
Над Орласко, как трибуны амфитеатра, возвышаются вершины, склоны которых внизу скрыты домами: неровное кольцо холмов с изрезанным краем, черного цвета абсолютной пустоты, чернее позднего январского вечера и темноты подвала, чернее самого черного, какой только можно себе представить. И все вокруг такое. Ночное небо пытается соревноваться с холмами, но стать темнее их не может.
На холмах видны известковые дорожки – чуть более светлые, чем все остальное, как капилляры, как трещины в огромном безжизненном организме.
Холмы. Они пугают и угнетают, они сломали нас – таких, какими мы были и какими могли бы стать. Но их суровое величие впечатляет. Если смотреть на них долго, кажется, что видишь, как населяющие их существа скачками носятся по склонам, как тяжеловесные скопления василькового оттенка сползают по темным пятнам отрогов, как шевелятся живые катаракты, сбежавшие из кошмаров криптозоолога. Но все это мне только кажется, убеждаю я себя.
Приближаюсь к дому.
Захожу внутрь, ложусь на матрас и зарываюсь под два пуховых одеяла, тяжелых, как сырая земля. При слабом свечении окурка, который я держу во рту, вижу на тумбочке беруши. Нет, сегодня я не буду их вставлять. Гашу сигарету об изголовье кровати.
Засыпаю под щебетание Вильмы Гоич о том, что день – это год, а год – это чертовски долго.
Завтра будет ровно год с того, как все это началось. Да, это долго.
Чудовищно долго.
* * *
Лука Нордорой. Родившись, он не издал ни звука, никак не потрудился объявить о своем появлении на свет, несмотря на то что акушерка настойчиво похлопывала его по щекам. Просто скрестил ручки, сморщившиеся в околоплодных водах, будто ему не было совершенно никакого дела до мира, который его принял.
В четыре года он уже неплохо рисовал и спрашивал отца, почему еж, тело которого они нашли в саду, умер, или как человек чувствует, что у него есть зубы, а под кроватью – пыль. И почему ему часто снятся холмы – черные, как во́роны.
Отец, раздраженный вопросами сына и немного встревоженный, чаще всего не знал, что ответить.
Лука рос в каком-то своем мире.
Его родители, влиятельные люди, были вечно в делах. Они жили на красивой вилле с мраморным портиком и увитыми изумрудной зеленью изгородями. Постоянно занятые, помешанные на карьере и успехе.
Их первенец родился поздно, когда они уже потеряли всякую надежду, когда «наверное, было бы лучше, если бы он вовсе не родился».
Вот так.
Синьор Нордорой часто уезжал по делам. Он руководил известным издательством, очень успешным на тот момент, под названием «Сумасшедший книготорговец». Деньги, «мерседесы», командировки, вечера в компании шлюх, кокаин и алкоголь… В те редкие моменты, когда гуляка приезжал в Орласко, он засиживался в баре «Рим», угощая всех посетителей спритцем и пивом, вместо того чтобы проводить время с семьей.
Синьора Нордорой очень любила своего мужа – любила больше, чем худосочного сына, больше всего на свете. Ей было тяжело мириться с его отъездами и расстоянием, которое все увеличивалось между ними, а с рождением Луки, казалось, стало непреодолимым.
Узнав о том, что муж завел очередную интрижку, на этот раз с восемнадцатилетней девчонкой, она поставила в проигрыватель пластинку с песней Вильмы Гоич «Холмы цветут» и приготовила себе аперитив из водки, имбиря и фенобарбитала.
Луке тогда было восемь. Именно он нашел мать с розовой пеной на губах, спящую вечным сном на кровати с балдахином. По виниловым канавкам с шипением скользила игла проигрывателя.
Для синьора Нордороя случившееся не стало трагедией. Он уронил пару слезинок на похоронах и вернулся к привычной жизни, в которой дела и сиюминутные удовольствия сменяли друг друга. О Луке заботились няньки.
В долгие туманные дни, проведенные в одиночестве, мальчик начал исследовать свой мир светотени.
* * *
Выходя из дома в безветренное утро, я смотрю на пик, поднимающийся на севере; всего тысяча метров, не больше, но он самый высокий из всех, и острый, как на детском рисунке. Да, точно такой, как на детском рисунке.
Холодно. Я останавливаюсь во дворе рядом с засохшим кустом розмарина. Солнце на востоке еще не успело перебраться через холмы. Мы увидим его часов в десять, и оно, тщетно стараясь рассеять гнетущий мрак вершин, будет светить до четырех, пока его не проглотит черная стена на западе, как горячий кофе – блестящий кусочек сахара.
Наш город съела тень холмов. Нас больше нет.
Я возвращаюсь в дом, сам не зная зачем, киваю стенам, вытираю слезы, а потом снова иду на улицу, за ворота, насвистывая «Simple Kind Of Man» группы Lynyrd Skynyrd. К черту Вильму.
За спиной у меня рюкзак, мешающий ускорить шаг, но ведь я никуда и не спешу. В рюкзаке две припасенные банки фасоли, несколько бутылок воды, толстовка, штаны и пара поджаренных мышей. Пистолет, который месяц назад мне дал Эральдо, торчит из-за пояса. Я держу его под рукой. Поближе к голове.
Переходя через виа Рим, вижу церковь Святого Духа: вырванные с мясом деревянные ворота, длинные перевернутые скамейки, распятие с изможденным телом Иисуса Христа, завернутое в плащаницу из паутины.
Дон Беппе был последней надеждой для многих. Особенно для стариков – слепо доверяющих его богу и его проповедям, с каждым днем все более безумным, превратившимся в средневековые разглагольствования о грехе, дьяволе и вечном проклятии.
То, что священник не смог это сделать – его крики, его богохульства до сих пор стоят в ушах, – стало для многих тяжелым ударом.
Я иду дальше, с тревогой вглядываясь в поля. Пейзаж меняется, цвета блекнут. Многие деревья умерли или умирают. Они засыхают, скрючиваются, а там, где отломаны ветки, из ствола вытекает жидкость, по консистенции напоминающая семенную, только иссиня-черная: она пахнет плесенью, затхлостью посудомоечных машин, канализацией.
У подножия холмов трава быстро желтеет и превращается в сухую трухлявую солому. Стебли овощей и ветки фруктовых деревьев в садах и огородах завиваются штопором и уродливо гнутся на ветру – словно хотят вдохнуть воздух с холмов и при бледном свете дня синтезировать их токсины, чтобы совершить невероятное растительное самоубийство. Поэтому люди перестали есть овощи. И когда еда закончилась, начали ловить мышей.
– Холмы опоясывают город. Как инфекция. С виду все как будто гниет, но при этом живет – только по-другому, – сказал мне как-то раз Эральдо, дом которого стоит на южной окраине Орласко. Он показывал плющ, растущий у него во дворе: листья завяли, почти умерли, а жилки стали темными, словно их пожирала гангрена. Если приглядеться, можно было уловить едва заметную пульсацию, а сами листья открывались и закрывались, как жутковатые ладошки. Мы сре́зали плющ и хотели сжечь в жестянке. Но от него повалил черный дым, который стал сгущаться и на фоне красноватой черепицы принял форму лица страдальца – огромные глаза, острые скулы, размозженная голова. Поэтому мы потушили его водой.
Однако избавиться от гангрены, отрезав ноготь на мизинце, невозможно.
Теперь в Орласко постоянно ходят сплетни, слухи и истории, обмусоленные со всех сторон.
Говорят, животные мутируют, их кости скручиваются и взрываются, превращая живую плоть в мешок черноватой гнили; у них образуются шишковатые опухоли и выпадают мышцы, коллаген, сухожилия и хрящи, поэтому тела животных приобретают нелепые, чудовищные формы; говорят, моча кошки с огромными, как у жука-оленя, челюстями, разъела всю крышу Пунцьяно; что павлин, живший в семье Ицция, исчез, испарился из своей дорогущей клетки, расписанной в стиле Прованс, но некоторые клянутся и божатся, что слышали, как по ночам он летает над домами и виллами, выкрикивая песню Гоич кошмарным голосом; синьора Мартини утверждает, крестясь, что портреты умерших на кладбище изменились, хоть и едва заметно, что теперь они неодобрительно косятся и язвительно ухмыляются, а в ноздрях у них волокна тьмы, и что даты захоронения стали более поздними, а таблички на могилах натерты до блеска, будто мертвые на самом деле еще не умерли и завтра непринужденно и безмятежно станут прогуливаться по площади, потягивая аперитив. Кто-то даже узнал силуэт своего умершего родственника, перебиравшегося в сумерках через вершины холмов, как в китайском театре теней. Некоторые уверены, что неописуемые уродцы, спускающиеся с гор цвета сажи, собираются захватить городок. Самые же отчаянные то и дело заводят разговоры о трагическом конце Джорджо Маньяски – единственного спустившегося, – но им быстро затыкают рты, потому что эту историю многие хотели бы забыть.
Ближе всех к холмам, буквально в паре десятков метров от подножия, жил Кармело Печче. Несколько дней назад он сжег себя в сарае. Всю ночь в городе виднелись танцующие языки огня, оранжево-красные, как у Данте в одном из кругов ада, вытолкнутом на поверхность дьявольской рукой.
Печче стал очередным жителем Орласко, не выдержавшим бессмысленной изоляции от мира, в которой мы теперь живем, – так считает большинство, но некоторые перешептываются между собой, что фермер, дескать, на самом деле переродился в существо, не имеющее ничего человеческого: его торс стал похож на грудину доисторического зверя, а из ушей выросли иссиня-черные пучки острых кристаллов.
Слухи, сплетни, обрывки историй. В городке, где живет жалкая тысяча человек, непросто отличить сплетни от правды, выдумки от фактов, фантазии от реальности.
Это и раньше было сложно, что уж говорить про нынешние времена.
Птицы, по всей видимости, улетели туда, где весна и жизнь – не просто воспоминание. Я завидую им, хотя не знаю, что с ними стало. Может, они разбились о вершины, может, так и не смогли подняться в воздух и просто ушли умирать все вместе на какое-нибудь уютное тихое кладбище пернатых; но мне нравится представлять, как они, прекрасные и свободные, вылетают из чудовищного круга холмов, из клетки, в которой заперты мы.
В любом случае, птицы больше не поют – слышится только нескончаемое заунывное лепетание Гоич. Три дня назад синьора Петрини проткнула себе барабанные перепонки отверткой, только чтобы больше не слышать эту песню.
Любимый, возвращайся, холмы цветут…
Но эти холмы не цветут. На них ничего не растет, они мертвы, это кладбищенские надгробия тьмы, загадочные и неприступные.
* * *
Лука Нордорой начал рисовать холмы, когда ему исполнилось девять, вскоре после смерти матери, и рисовал их до того дня, как ушел. Сначала использовал маркеры Uniposca с широким стержнем – с силой проводил ими по грубой бумаге Fabriano формата А4, потому что, как он однажды признался знакомому, ему хотелось получить «действительно черный цвет».
Маркеры ему нужны были больше, чем кислород.
Злые языки, которых, как и везде, в Орласко хватало, не упустили случая высказать предположение, что на Луку – мальчика и без того нелюдимого, со сложным характером, – смерть матери повлияла плохо.
Когда он выходил на улицу, уткнувшись в альбом для рисования, чтобы сделать набросок церкви или тополиной аллеи, с высунутым от усердия языком, сплетники перешептывались и ухмылялись, думая о том, какое это счастье, что чокнутый Нордорой – не их сын.
Они называли его отца бесчувственным ублюдком, обвиняя в том, что мальчик предоставлен сам себе гораздо большее время, чем следовало. По крайней мере, большее, чем они считали допустимым.
– Надо бы показать его какому-нибудь специалисту, – говорили они, стоя у школы возле своих внедорожников и постукивая пальцами с безупречным маникюром по виску.
Лука держался особняком. Ему вообще больше нравилось сидеть одному. Он не участвовал в мероприятиях, организованных приходом, не ходил в летний лагерь, не играл в футбол и не любил соревноваться с одноклассниками.
Он читал. Думал. Ставил в проигрыватель пластинку матери на 45 оборотов и посвящал себя холмам.
А еще подолгу гулял по окрестностям Орласко, уносясь мыслями в таинственные миры, к полярным рассветам, к забытым теням и тайнам, вселенным и культурам, разрушенным разобщенностью и непониманием.
Он учился всему сам и питался собственной фантазией.
Луку совсем не тянуло к общению с другими людьми. Намного больший интерес у него вызывали темные возвышенности, появившиеся из какого-то уголка его сознания.
От сюрреалистических рисунков Луки, от этих двухцветных призраков, живущих в его необыкновенной, загадочной душе, веяло черно-белой тоской. Нордорой рисовал свой городок Орласко (его можно было узнать по некоторым деталям – по колокольне, улице Мучеников свободы, площади) и нависающие над ним горы торфяного цвета, которые почти соприкасались друг с другом вершинами, образуя тоннель. Все его картины походили друг на друга, менялись только перспектива и детали пейзажа. На одной виднелась площадка перед детским садом, горки, качели и цветущие платаны. На другой – ратуша и старая тропа, убегающая в поля мимо школы. На третьей – бар «Рим», над которым нависала угрожающая громада жилого комплекса «Бриллиант». Муниципальные дома. Виды Орласко с высоты, напоминающие древнюю карту, где изображены перекрестки и двухмерные строения, сгрудившиеся, как современные новостройки.
И на каждой Лука неизменно изображал холмы.
Рисование увлекло его совершенно.
Стало навязчивой идеей.
Лука рос в зловещей тени воображаемых холмов, получая мрачное удовлетворение от своего искусства.
Школьные годы (он учился в старшей школе с техническим уклоном, куда поступил по настоянию отца, не одобрявшего художественные порывы сына) дались Луке нелегко. Он ни с кем не разговаривал, отвечал, только если обращались к нему лично, не отличался ни красотой, ни обаянием. Хотя – нет. Просто был слишком худым – кожа да кости. Со слишком темными волосами. И огромными, как у насекомого, грустными глазами.
Он был слишком непохож на других подростков. Злые звереныши, хищники, они всегда собираются стаями, чтобы нападать на самых слабых.
Гиены.
Они измывались над Лукой.
Как его только не обзывали: трус, кислятина, придурок, чокнутый, язык-в-жопу-засунул, гребаный художник.
Повернутый на холмах. Повернутый на холмах.
Невозмутимый, как морской прибой, в ответ на издевки и оскорбления Лука просто рисовал – это казалось ему единственно разумным и приносило утешение. И за это его ненавидели еще больше.
В десятом классе одноклассница стащила рисунок Луки из парты, спрятала, а на перемене залезла на кафедру, чтобы всем было лучше видно, и, брызгая слюной от хохота, разорвала его в клочки на глазах у всего класса.
Спокойный, безобидный, чудаковатый Лука Нордорой встал со стула, подошел к девочке, молча столкнул ее с импровизированной сцены и под вопли перепуганных одноклассников вонзил острие циркуля в ее правый глаз.
Шестнадцать раз.
* * *
Я прохожу мимо дома супругов Биолатти и вспоминаю, что их нашли в ванной, со вскрытыми венами на запястьях и лодыжках, в воде багрового цвета, где плавали лепестки роз, в последнем кровавом объятии.
Они первыми попытались сбежать отсюда вот так, покончив жизнь самоубийством. За ними последовали другие, и с каждым месяцем тех, кто добровольно прощается с жизнью, становится все больше. Я тоже об этом думал. Каждый из нас думал.
Я чувствую на себе чьи-то взгляды. Они следят за мной из окон жилого дома, из полуоткрытой двери гаража, сквозь щели заколоченной досками и листами металла арки.
Взгляды, выражающие ненависть, презрение, надежду, сомнение.
И еще я чувствую холмы. Когда смотрю на них, отрывая глаза от замусоренного асфальта, мне кажется, они пульсируют, как сердце, качающее яд, как легкие, которые вдыхают страх и выдыхают отчаяние, галлюцинации и безумие.
Контраст между небом и отвратительной черной стеной поражает воображение. Издалека холмы кажутся плоскими, холодными, бездушными и темными настолько, что я вряд ли удивлюсь, если увижу, как на их фоне пронесется спутник или астероид. Их цвет, если его вообще можно определить, напоминает космическую пустоту, черное пространство между галактиками, полное отсутствие чего бы то ни было.
Невыносимо. Невыносимо думать о том, как все изменилось после их появления, после того, как они вдруг откуда-то беззвучно выросли за одну ночь.
Год назад Орласко разбудил голос Гоич, зловеще круживший в танце по улицам и забирающийся в квартиры, в тот час, когда ночь уже закончилась, а рассвет еще не начался, в Час волка из воспоминаний Бергмана, когда многие рождаются и умирают, когда сон глубже, а кошмары страшнее.
Заспанные люди в халатах выскочили на улицу, как будто началось землетрясение, чтобы выяснить, откуда взялся этот звук, и на фоне ночного неба отчетливо увидели холмы. Тогда многие решили, что спят.
Некоторые до сих пор так думают.
– Рано или поздно, – говорят они, – рано или поздно все закончится. Это просто страшный сон, кошмар, который начинается снова при каждом пробуждении, кажется, он будет длиться вечно, но на самом деле рано или поздно все закончится.
Холмы появились из ниоткуда, как срочная новость, ворвавшаяся в скучное дневное ток-шоу, и возвели преграду между нами и всем остальным миром.
Я тоже выбежал на улицу, услышав песню, крики, сирену пожарной машины. Помню взволнованных соседей с широко раскрытыми от удивления глазами, помню, как некоторые плакали, как член городского совета щипал себя за щеки, чтобы проснуться, помню взволнованные разговоры собравшихся на маленькой площади Орласко, оказавшейся в центре круга из мрачных холмов, вдруг ставших нашим горизонтом.
– Что это? Черт подери, что происходит?
– Вы не могли бы выключить ее, пожалуйста? Кто-нибудь может сделать так, чтобы эта чертова песня заглохла, ПОЖАЛУЙСТА! Это просто невозможно, вырубите ее, пожалуйста!
– Это сон. Наверняка. Точно сон.
– Давайте вызовем карабинеров, да, нужно срочно вызвать карабинеров!
Тогда-то мы и обнаружили, что больше не работают ни мобильники, ни стационарные телефоны, ни интернет. Все устройства превратились в ненужное пластиковое барахло, осколки рухнувшей цивилизации.
Телевизор тоже не показывал – изображение просто мерцало.
Включались только радиоприемники. Работают они и сейчас, хотя электричества нет уже много месяцев. Все настроены на одну волну, где играет одна и та же песня.
- Любимый, вернись, ничего страшного, ничего страшного…
Все связи порваны. Порваны снаружи, порваны внутри.
Тот, кто жил в Орласко давно и имел неплохую память, конечно, вспомнил бессменный сюжет картин Луки Нордороя, но вслух его имя не произнес никто, даже я. Он ушел год назад, и неизвестно было, где он и что с ним.
Широко раскрыв рот, я стоял на площади, а мое лицо, наверное, выражало удивление, растерянность и ужас. Помню, Эральдо положил руку мне на плечо, не переставая повторять одно и то же (как молитву):
– Это невероятно, это просто невероятно. Пресвятая Дева, это невероятно.
Некоторые разошлись по домам еще до того, как мы оправились от оглушительного первоначального шока, наивно полагая, что, заперев за собой дверь, они оставят тайну снаружи, спрячутся от неизвестного.
Но ничто не могло заставить Вильму Гоич замолчать: казалось, звук исходит из каждого атома в городе.
Адриано Николоди, начальник пожарной охраны, сел в казенный «Фиат Стило» и из открытого окна невнятно пробубнил стоящим рядом испуганным жителям: «Чьи-то шутки, наверное, сейчас проверю. Ждите здесь».
Потом свернул на улицу Мучеников свободы и поехал на юг, в сторону соседнего городка Гарцильяно. Там холмы казались пониже, словно между ними было небольшое плато из базальта. Рассвет золотыми мазками украсил их свинцово-розоватые вершины, и холмы стали выглядеть еще массивнее, будто на равнину поставили перевернутый гигантский утюг.
Мы проводили «Фиат» взглядами, пока свет задних фар не исчез за поворотом в голубоватом облаке выхлопных газов.
Автомобиль нашли на следующий день: водительская дверь была открыта, а цепочка следов прерывалась у подножия холма перед тропкой полуметровой ширины, вьющейся по склону.
С тех пор об Адриано Николоди ничего не слышно. Он, как и почти все, кто пытался перебраться через холмы, числится пропавшим без вести.
* * *
Глаз, по какой-то невероятной случайности, удалось сохранить. Хотя не очень понятно, хорошо это или плохо, потому что повреждение привело к атрофии зрительного нерва; глаз стал косить и напоминал вялую сливу, а зрение очень сильно упало. Родители девочки написали заявление, выиграли суд, и Луку отстранили от занятий на две недели. Это означало, что экзамены в конце года ему не сдать, и отныне за ним окончательно закрепилась репутация психопата.
Синьора Нордороя заставили идти с сыном к психиатру. Он был в ярости. Ему что, больше делать нечего? Пришлось прерывать приятнейший отдых в термах Пре-Сен-Дидье, ехать домой и вправлять мозги этому засранцу, который заперся у себя в комнате и рисует как ни в чем не бывало, будто выколоть однокласснице глаз – это сущие пустяки.
Нордорой опять поймал себя на мысли, что почти ничего не чувствует к своему родному сыну.
Психиатр ограничился банальными рекомендациями: подростковая депрессия, апатия, ангедония, вспышки гнева, это пройдет, пусть мальчик принимает вот такие капли три раза в день, вы должны больше времени проводить с ним, период взросления очень непрост, он потерял мать, за прием с вас сто двадцать пять евро, я выписываю квитанцию?
Лука вернулся в школу, но учился откровенно плохо. Немного оживал только на уроках изобразительного искусства, которых было всего два в неделю. И когда в конце года провалил экзамены, стало понятно, что на диплом ему плевать.
Все больше времени он посвящал занятиям живописью, не отвлекаясь ни на что другое. И добился невероятного прогресса для самоучки. Много экспериментировал и научился прекрасно рисовать не только на бумаге, но и на холсте, на дереве, на ткани, – на любой поверхности. Вместо маркеров стал использовать кисти, угольные карандаши, акварель. Но только одного цвета. И придумал название своим произведениям:
Черные холмы истязаний
Название было всегда одним и тем же, будто каждый рисунок – лишь часть какого-то другого, огромного, видеть который мог только он.
В таланте Луки никто не сомневался, но от его рисунков исходила аура какой-то исключительной неправильности. Тому, кто смотрел на них долго, становилось не по себе. Казалось, так нельзя рисовать, так не принято, хотя в картинах не было ничего непристойного, провокационного или устрашающего.
Лука рисовал угрюмые холмы, нависающие над Орласко, – и больше ничего.
Но владельцам галерей и любителям искусства вряд ли пришелся бы по вкусу странный стиль, когда мазки густой черной краски в несколько слоев щедро накладывались на белый холст, а крошечные домики словно отступали в поисках укрытия, видя перед собой изрезанный контур холмов.
Как-то летним вечером Лука тихим голосом сказал отцу, что хотел бы бросить школу и заняться живописью. Ему было восемнадцать лет.
Синьор Нордорой только что вернулся с ужина с руководителями издательства, где узнал, что долгожданный совместный проект с важной издательской группой, который он так активно продвигал в совете директоров в обмен на взятки и щедрые подарки, не получил большинства голосов и не попал в ближайшие планы «Сумасшедшего книготорговца».
Нордорой пытался залить разочарование алкоголем и разжечь пульсирующий у основания черепа гнев кокаином. Он был нечист на руку и теперь боялся, что все махинации выплывут на поверхность и его уволят – через несколько недель так и случилось.
А тут еще и сынок – сидит в гостиной, слушает Вильму Гоич, таращит на него свои огромные глаза с обмякшими, тонкими, как крылья бабочки, веками и заявляет, что собирается стать художником-нищебродом.
– Пап, ну, что скажешь? – спросил Лука своим пронзительным и в то же время глухим голосом, похожим на скрип металлических частей робота. – Можно?
Пап, ну, что скажешь? Можно?
На мгновение взгляд синьора Нордороя затуманился. А в следующую секунду он выплеснул на сына все свое разочарование и злость. Отвесил пощечину, дал пинка под зад, отшвырнул Луку на диван, а сам кинулся в его комнату, круша мольберты и кромсая холсты.
– Так вот, что ты хочешь сделать со своей жизнью! Хочешь всегда оставаться таким же ничтожеством, как сейчас?! – заорал он, брызгая слюной, и подскочил к большому полотну, на котором был изображен Орласко со второго этажа, из окна маленькой библиотеки матери.
Лука повел себя так же, как в случае с одноклассницей.
Оскалив зубы, словно дикий зверь, он с нечеловеческой яростью бросился на отца, прыгнул ему на спину, стараясь выцарапать глаза и укусить за нос. По комнате летали клочки бумаги, банки с чернилами и тюбики с черной краской, пока дерущиеся не рухнули на пол, как мусорные мешки с гнилыми листьями, и остались лежать – опустошенные, безжизненные, бесчувственные.
Наконец синьор Нордорой встал, посмотрел на Луку подбитыми кровоточащими глазами, поднялся в свою комнату и, совершенно измученный, лег на кровать.
И заплакал.
На следующий день он пришел в бар к Эральдо и заявил, что после неприятной ссоры сын ночью ушел из дома, забрав свои рисунки и пластинку матери.
Нордорой сообщил в полицию, но там и пальцем не пошевелили, чтобы найти Луку. Мальчик был уже совершеннолетним, а про его напряженные отношения с отцом все знали и не сомневались, что ушел он добровольно.
В Орласко быстро забыли об одном из самых молчаливых и странных жителей, и весь год до появления холмов никто не знал, где Лука и что с ним.
* * *
Я останавливаюсь перед домом Эральдо, у двери из темного ореха. Вчера, после того как я ушел из бара, он, наверное, допил свою домашнюю настойку, закрыл дверь и поплелся домой, едва держась на толстых ногах. А сейчас наверняка еще спит.
Я поднимаю кулак, чтобы постучать, но почему-то медлю. Может, не стоит его будить? Я хотел поговорить с Эральдо в последний раз, рассказать, как все было на самом деле, попросить проводить меня до подножия холмов, – но зачем?
Я должен идти один.
Эральдо и так сделал больше, чем следовало. Я не был с ним откровенен, даже и близко, но он все равно каждый вечер наливал мне и составлял компанию. И дал оружие. Я чувствую, как пистолет, «Беретта», весь исцарапанный, упирается в бедро. Скорей всего, мне придется стрелять из него через пару часов. Не для защиты. А чтобы избежать истязаний, которым подверглись другие.
Я наклоняюсь, подбираю кусок кирпича и пишу на земле перед дверью: СПАСИБО.
По пути на главную улицу вспоминаю вопрос, который Эральдо задал мне несколько месяцев назад, когда мы курили.
– Если бы Лука все еще был в Орласко, мы могли бы спросить его, да? О его холмах.
– Да. Если бы он все еще был в Орласко, то да. Но он ушел. Его здесь нет, – ответил я бармену.
Это был первый и последний раз, когда мы говорили о Луке.
Я прибавляю шаг. До холмов уже совсем недалеко. Выходя на окраину города, куда дотягивается их тень, я чувствую что-то вроде смирения, и это греет душу. Но смирение не в силах развеять ни страх, ни чувство вины.
Не отрываясь, я смотрю на возвышающуюся передо мной стену, черный, как уголь, камень, брошенный с неба на землю жестоким божеством.
Я совсем рядом. Подняться с этой стороны никто никогда не пробовал. Я выбрал это место, потому что оно находится дальше всего от моего дома.
Справа на лугу, как сгустки желтоватой пыльцы, среди тополей плавают огромные глазные яблоки. За мной наблюдают сотни зрачков, но когда я останавливаюсь, чтобы разглядеть их повнимательнее, вижу только мертвые ветки тополя и тушу кабана, который лежит на спине, а четыре слишком длинные ноги, как у паука, как у слона Дали, торчат в небо.
Я знаю, что скорей всего не доберусь до вершины черных холмов, хоть и решил бросить им вызов. Учитывая все случившееся в последние месяцы, надежды мало. Но даже если это мне удастся, то смогу ли я спуститься с другой стороны? И с чего я взял, что эта «другая сторона» существует? Вдруг черные холмы – огромные, зловещие, холодные – покрывают континенты, океаны, всю планету?
Что, если Орласко – последний уцелевший город, окруженный бескрайним пространством ничего? Что, если он исчез с карты вместе со всеми нами и оказался перенесен в другое измерение, о котором нам не дано знать?
Останавливаюсь у подножия холма, рядом с канавой, в которой бурлит черноватая жидкость. Из нее на мгновение высовывается бледная клешня – я успеваю уловить смутное очертание.
Кто-то заметил, что я ушел. Мужчины и женщины смотрят на меня издалека, прижимая руки к груди. Теперь это всего лишь силуэты, окутанные серо-фиолетовым туманом. Мне кажется, что некоторые машут мне рукой – то ли подбадривая, то ли желая доброго пути, но я не отвечаю.
Отворачиваюсь и усаживаюсь на насыпь. У меня осталась последняя «мальборо». Я медленно выкуриваю ее, убеждая себя, что так или иначе скоро стану свободным.
* * *
Несколько недель понадобилось жителям, чтобы почувствовать себя отрезанными от остального мира. Удивительно, как быстро заканчивается еда, если в магазины никто не привозит продукты, а ведь мы считали это само собой разумеющимся. В домах и во дворах стал накапливаться мусор, отравляя воздух. Электричество и газ перестали работать на второй неделе, в один момент, будто кто-то перекрыл кран. Кстати, о кранах, – к счастью, у нас по-прежнему есть вода, хотя привкус у нее какой-то странный, сладковатый.
Люди не горят желанием помогать друг другу. Они и раньше этого не делали, а сейчас и подавно.
Каждый заботится только о себе; в кошмарном измерении, которое встречает нас при каждом пробуждении, нет места милосердию, состраданию и поддержке.
Безразличие, недоверие, жестокость, подозрительность, злоба. Вот так жители Орласко пытаются справиться с ужасом.
Я все ждал, когда люди начнут убивать за консервы. За одеяла. За мышей и собак. Или просто ради того, чтобы разнообразить монотонные дни.
Сначала начались бессмысленные грабежи и вандализм, а месяца три назад синьор Каппелларо убил свою жену молотком для отбивания мяса, размозжил им каждую кость трупа и выбросил его на лужайку перед домом. Тело лежало на спине, лоб был залит кровью, а мертвые глаза смотрели в пустое небо.
И никто не стал вмешиваться. Вы же не будете спрашивать – «почему?»
Синьор Каппелларо принялся ходить вокруг трупа, собирать цветочки, разговаривать сам с собой и подпевать Вильме Гоич, но всегда забывал слова, хотя слышал песню тысячу раз, и никто не осмелился остановить его, заставить похоронить разлагавшееся тело жены, от которого теперь уже ничего не осталось, кроме лохмотьев и обломков костей, как будто обессиленное дряхлое пугало рухнуло здесь в траву.
Власть, полиция, закон, работа, – в Орласко больше не знают этих слов.
Однако сразу после появления холмов и исчезновения начальника пожарной охраны горожане попытались обсудить ситуацию с точки зрения логики, хотя с логикой она не имела ничего общего. Обнаружив машину пожарного, горожане собрались в здании школы. Из ее окон виднелся зловещий контур холмов, похожий на гигантскую волну из битума.
Кое-как справившись с истерикой, люди начали рассуждать, почему это произошло и что теперь делать.
– Уверен, это эксперимент. Военные что-то придумали. Если это так, то мы в жопе.
– Марсиане. Это сделали марсиане.
– А песня? Почему она не перестает играть? А?
– Скрытые динамики. Кто-то пошутил.
– А я говорю, что нужно подождать. В соседних городках наверняка уже заметили холмы. Они пришлют кого-нибудь на помощь. Вертолеты, солдат. Да ведь? Разве нет?
– Виноват Нордорой. Вы же помните, что́ он рисовал?
Мэр Андреоли был единственным, кто осмелился произнести вслух мысль, сидевшую в голове у каждого. Повисла тишина, жители испуганно уставились друг на друга. Потом многие повернулись в мою сторону.
– Он прав, – проворчал кто-то.
– «Художник», – это слово было произнесено насмешливо-презрительно, – ушел год назад. Что вы имеете в виду?
– Мы… Мы словно попали в его мир, в его жуткие отвратительные картины…
– А вы? Что вы скажете? – обратилась ко мне женщина с растрепанными волосами и выражением лица, как у сумасшедшей; она смотрела на меня с недоверием, презрением, тревогой, дай волю – так живьем и проглотит, разинув свой морщинистый рот.
– Не знаю. Я не знаю. Извините, – ответил я, сделав шаг назад. Это было правдой. Слишком потрясенный увиденным, я не мог рассуждать здраво. Только в следующие месяцы я пришел к выводу – зло и равнодушие возвращаются к нам с лихвой, и порой таким изощренным способом, что это нельзя понять, а можно лишь почувствовать интуитивно.
– В любом случае нужно перебраться через них и посмотреть, что там. Они не очень высокие. Ерунда какая-то, – сказал выступивший вперед парень с мощной шеей и положил руки на плечи двух друзей – молодых, сильных, красивых, мускулистых, уверенных в себе, – таких, которые не привыкли проигрывать. Я знал всех троих. – Мы быстренько соберемся и через час пойдем туда, встречаемся рядом с домом Берторетти. Хорошо? Через час. Я уверен, что всему этому… что всему этому есть логическое объяснение.
Десятки голов закивали.
– Молодцы, какие молодцы! – пробормотала старушка.
Потом все разошлись. Я тоже пошел домой. С улицы было хорошо видно, как в гостиных мелькают склоненные головы, как люди яростно размахивают руками, ссорясь или обсуждая происходящее, как они не отрываясь смотрят на неожиданную преграду, угрожающую их безопасности. Дети плакали, женщины кричали, Вильма Гоич грустила.
Через час почти все жители Орласко пришли к указанному месту, где уже собрались парни в толстовках Quechua с рюкзаками на плечах. Я впервые подошел так близко к холмам, и от их темноты закружилась голова.
А ведь это – единственный цвет, который видят слепые, – подумал я, – который видят те, кому раньше выжигали глаза горячими углями.
– Что ж, пожелайте нам удачи, – сказал старший из парней, надевая наушники, чтобы не слышать песню.
Троица переглянулась, а потом уставилась на препятствие, бросавшее вызов их храбрости. Казалось, парни уже не так уверены в себе. Они чем-то напоминали маленьких перепуганных дрожащих от страха детей, которым впервые в жизни предстояло прыгнуть с шестиметрового трамплина. Но отступать было поздно.
– Ребята, вы можете отказаться, не нужно этого делать, если вы не… – попытался отговорить их я.
– Удачи, парни, – перебил меня мэр и бросил в мою сторону взгляд, бьющий, как стилет.
Словно получив приказ командира, ребята показали большой палец и зашагали по одной из многочисленных тропинок, ведущих в неизвестность.
Мы молча смотрели на них, затаив дыхание, задрав подбородки, как верующие перед амвоном. Они шли не спеша, шаг в шаг, с опаской озираясь по сторонам. Время от времени кто-нибудь из них оглядывался назад, и мы видели на черном фоне розовый круг его лица.
В конце концов они превратились в светлые точки на эбеновом склоне. Метров двести оставалось до вершины – до шишковатого горба, или скорее – кулака из узловатых костяшек, грозящего небосводу.
– У них все получится. Я уверена, – дрожащим от волнения голосом сказала стоявшая рядом девушка.
Один за другим, как тающие на асфальте снежинки, ребята исчезали в темноте, словно сворачивали за выступ этого отвратительного нароста на теле земли или спускались в овраг, недоступный нашему взгляду.
Прошло несколько минут томительного ожидания.
А потом раздались вопли, которые накладывались на пение Гоич и казались почти ненастоящими.
Их невозможно описать словами. Это был вой, предсмертный стон людей, подвергавшихся немыслимым истязаниям. Три голоса слились в один страдальческий крик. Душераздирающие вопли скатывались с холмов, обрушиваясь на нас лавиной боли или проклятий. Время от времени отдельные крики напоминали какие-то слова, мольбу о пощаде, но даже самые отчетливые разобрать было невозможно, потому что звучали они на другом, нечеловеческом языке, и слышалось в них не признание поражения, а предупреждение тем, кто пытался нарушить одиночество холмов.
Мать одного из парней упала на колени и стала рвать на себе волосы. Ее утащили прочь. Дон Беппе, лицо которого выражало страдание, начал читать «Аве Марию». Пино Дзагария, парикмахер, затараторил, что холмы двигаются, что на них кто-то копошится, словно они съедают кого-то и потом переваривают, и при этом по ним медленно проходит волна, и что это напоминает ему, «как мы торчали от психоделиков».
– Нужно… пойти посмотреть, что там происходит. Может, им надо помочь, – отважился сказать какой-то мальчишка, но никто не пошевелился. Потрясенные происходящим на холмах (а что там происходило?), мы прятали друг от друга глаза, отдавшись во власть нашей трусости.
Это было невыносимо. Вопли не стихали несколько часов. Мы онемели от ужаса и сгрудились в круг, и я не мог понять, как можно так долго кричать, не срывая голос, и почему мозг не дает человеку отключиться.
Наконец вопли стихли, ветер ослабел, повисла тишина. Краем глаза я увидел руку Эральдо, указывающую в сторону холмов.
– Смотрите. Смотрите!
Примерно там же, где парни скрылись из виду, появилось пятно, которое начало ползти вниз по странной траектории – зигзагами, словно шарик в пинболе. Это возвращался один из ребят, ходивший в «первую, дерьмовую экспедицию», как стали называть ее потом.
По тому, как он спускался, стало понятно, что попытка перебраться через вершину не увенчалась успехом. Парень несколько раз падал на землю, катился кубарем и вставал только минут через пятнадцать. Это был его личный крестный ход, оказавшийся нелегким испытанием.
– Давай! Давай! – слышались подбадривающие крики.
Мы стояли и ждали. Никто не пошел ему навстречу.
Энрико Маучери, пенсионер, любивший наблюдать за птицами, сбегал домой за биноклем. Выражение его лица, когда ему удалось разглядеть того парня, я не забуду никогда. Как и лица других жителей Орласко, увидевших Джорджо Маньяски, который наконец сполз к подножию холмов, туда, откуда ребята отправились в путь.
Он был голым. Изувеченным.
Большинство собравшихся, зарыдав, разбежались, а несколько женщин упали в обморок.
Джорджо Маньяски просил о помощи: он протягивал руки (или то, что осталось от рук) к толпе и пытался произнести слово «помогите» (тем, что осталось ото рта), но все шарахались от него, как от зачумленного. После Джорджо многие пытались перебраться через холмы, в том числе Дон Беппе. Но никто не вернулся.
Никто, кроме Маньяски, и я целыми днями раздумывал почему.
Части его тела – руки, плечи, половина лица, половые органы, большая часть туловища – казались целиком вывернутыми наизнанку. С безразличием, с которым выворачивают старые носки или перчатки перед тем как выбросить.
Голые пучки мышц, огромные сетки хорошо видимых капилляров, скопления органов и лимфатических узлов, свисающих, как спелые, сочные плоды; пульсирующий комок почек, влажные виноградины яичек, серое вещество мозга и этот вывернутый глаз, который вращался, фокусируясь на том, что не могли видеть мы.
На изуродованной плоти пенилась черная субстанция, – похоже, именно она обеспечивала способность двигаться.
– Боже. Боже мой.
Я сделал шаг назад, споткнулся, задыхаясь от подступившей к горлу кислой рвоты; десятки глаз заметили это, десятки ног сделали шаг назад вместе со мной.
А парень, который когда-то был Джорджи Маньяски, упал на спину, забрызгав все вокруг органическими выделениями, и поднял руки и ноги вверх, к мраморной плите сумерек. Это было последнее, что я увидел перед тем, как развернуться и побежать домой.
Вильма Гоич все пела, пела и пела, и пока я бежал, мне безумно хотелось захохотать и смеяться, смеяться, смеяться, но я прикусил язык и щеки изнутри до боли, до слез.
Я был уверен: стоит начать, и мне уже не остановиться.
* * *
Встаю – колени хрустят – и неуклюже перепрыгиваю через канаву. Стону, как раненый зверь, наклоняюсь и сплевываю на землю. Из-за того, что я выкурил кусочек фильтра, во рту – привкус сгоревшего целлофана или резины.
Толпа людей за спиной стала больше. Видимо, кто-то видел, как я шел по улицам города, по дороге, с рюкзаком за спиной, и рассказал остальным.
Городок маленький, слухи расползаются быстро.
Теперь я отчетливо вижу, какие у людей изможденные лица, как они измучены плохим питанием, изоляцией от мира, безумием того, что весь этот год происходит внутри оцепленного холмами круга. Водянистые, пустые глаза, в которых больше не загорается огонек. Но я чувствую, что они все равно волнуются, чего-то ждут от меня, и это связывает нас невидимыми нитями.
Маленькая девочка с раздутым животом прижимается к рваной юбке матери. В руке она держит кусок дряблой плоти и грызет его с таким удовольствием, словно это настоящая паста или крапфен с кремом. Я не хочу знать, что это был за зверь.
Я больше ничего не хочу знать.
Многие верят, что у меня получится или что я смогу, по крайней мере, разрушить чары черных холмов истязаний.
– Ты решился наконец? – спрашивает какой-то мужчина, не подходя ко мне близко. Он похож на выжившего узника концлагеря, едва стоит на ногах. Я не знаю, кто это.
– Вроде да… – мои слова отдаются эхом в неподвижном утреннем воздухе.
– Пора. Сейчас самое время.
– Ага.
– Удачи, Нордорой.
Я приподнимаю воротник пиджака, чтобы закрыть шею, и смотрю на холмы. У подножия все изрезано трещинами, как будто кто-то с силой воткнул их в землю. Здесь не растет даже серая трава.
Еще раз проверяю, на месте ли пистолет, делаю глубокий вдох и иду вперед. Путешествие начинается. Запрещаю себе оборачиваться и искать поддержку в лицах стоящих неподалеку. Это слишком жалкое утешение. А губы шевелятся в такт песне: Любимый, вернись, холмы цветуууут…
Широкими шагами я поднимаюсь по черной тропинке; со лба в глаза течет пот. Черный, густой, как чернила, как краска. Чем дальше иду, тем темнее становится. Чувствую, как тьма – живая, холодная, разумная – проникает в каждую клеточку тела, заполняет поры, легкие. Словно ты заперся в темной комнате и свернулся калачиком под толстым ватным одеялом, пахнущим пылью и старьем.
Я больше ничего не вижу, но понимаю, куда идти.
В смоляном лимбе я снова проживаю тот роковой вечер: вот Лука с пустыми глазами, брызгая слюной, бросается на меня, а я толкаю его, бью и осыпаю оскорблениями, он падает между мольбертами и ударяется виском о тумбочку, где стоит проигрыватель, хрясь! – и его череп раскалывается, как кокосовый орех; я смотрю на труп в луже крови, среди разбросанных картин, эскизов, холмов.
Я проникаю все дальше в царство тени, горячий ветер терзает лицо, сжигает волосы, крестит меня пеплом.
Думаю о сыне, похороненном во дворе дома вместе с его рисунками и пластинкой Вильмы Гоич, рядом с розмарином.
Останавливаюсь.
В темноте слышится хруст костей, и кто-то с леденящей душу хищной улыбкой приглашает меня идти следом.
Уиронда
«Я так больше не могу», – подумал Эрмес Ленци.
За пятнадцать лет работы дальнобойщиком он намотал ни одну сотню тысяч километров дорог, как игла проигрывателя, годами скользящая по все той же виниловой пластинке. По черному диску, где бороздки – это шоссе, по которым он водил свой старый грузовик «Сканиа», а единственная песня – рев двигателя и глухая пульсация боли в спине.
Чьи это воспаленные грустные глаза смотрят на него из зеркала заднего вида? Не его, нет, не может быть.
«Когда не узнаешь свое отражение, пора начинать беспокоиться, дорогой мой», – подумал Эрмес, чувствуя резь внизу живота, как будто в его кишках и мозгах орудовали раскаленной поварешкой.
– К черту, – прошептал он голосом человека, которого достали вечные бутерброды из придорожных закусочных, пережаренный кофе и вонь выхлопных газов. – К черту эти дороги, похожие одна на другую как две капли воды. К черту проклятую боль в спине. К черту Даниэлу. К черту все.
Из-под козырька от солнца над пассажирским сидением на Эрмеса с улыбкой смотрел его сын, семилетний Симоне, обнимающий женщину, голова которой была оторвана с фотографии. Эрмес сделал этот снимок одним солнечным утром, когда небо так сияло голубизной, что на него было больно смотреть. Он хорошо помнил те счастливые мгновения. Теперь у него другая жизнь, а сам он стал частью другого пазла.
На заднем фоне виднелись деревья, изумрудный луг и плавные изгибы двух холмов.
У девушки на фото ухоженные, покрытые кислотно-желтым лаком ногти. Волосы Симоне фантастически рыжие, как пылающий закат, а глаза лазурного цвета бросают вызов небу.
Голову жены Эрмес оторвал с фотографии в приступе ярости, когда, рыдая, сыпал проклятиями в ее адрес. Прошел год с тех пор, как она бросила его, отняв дом, сына и почти все уважение к самому себе.
– Тебя никогда нет рядом, Эрмес. Я не могу растить Симоне в одиночку. Мы больше не семья… Не знаю, кто мы. Я… наверное, я тебя больше не люблю.
В общем, на прощание Даниэла вырвала из его груди сердце, бросила на землю и станцевала на нем тарантеллу.
Не помогли ни протесты, ни обещания, что он будет меньше времени проводить в разъездах, ни слезы, ни извинения, ни апатия сына. Шло время, но ничего не менялось, только ссоры продолжались изо дня в день.
Она хотела развода.
– Если женщина все решила, то она не передумает. Помни об этом, – однажды сказал ему отец, тоже дальнобойщик. Но Эрмес не очень-то верил его словам и стал просто одержим навязчивой идеей вернуть Даниэлу. Потом узнал, что она встречается с другим – с менеджером намного старше себя, который работает в небольшой туринской компании.
Тогда Эрмес словно с цепи сорвался.
Вместо того, чтобы умолять Даниэлу, как раньше, принялся названивать ей посреди ночи, преследовать и устраивать сцены.
Как-то вечером подкараулил любовника Даниэлы и сломал ему два ребра и скулу. Если бы не вмешались прохожие, избил бы его до смерти.
Адвокату бывшей жены хватило заявления в полицию о преследовании и нанесении телесных повреждений, чтобы оставить Эрмеса ни с чем.
Теперь почти все, что он зарабатывал, уходило на оплату судебных издержек и алиментов на жену и сына, которого Эрмес имел право видеть только один раз в месяц. Он стал жить в кабине грузовика, где стояли кровать, холодильник, телевизор размером с почтовую марку и две электрических плитки. Как цыган, как бродяга.
У Эрмеса начались панические атаки, он напивался до потери сознания, долгое время не работал. Но жизнь мало-помалу входила в свое русло. Он постепенно пришел в себя, но больше не видел смысла в своем существовании.
Счастливые воспоминания преследовали его, как голодные звери, высасывая костный мозг, отнимая все силы. Его жизнь превратилась в путешествие без цели по дорогам, которые никуда не вели. Вонючие придорожные кафешки, печенье Grisbì, туалеты, дальний свет фар, сигареты, душевые на заправках, массажные тапочки, невкусная еда, мрачные мысли, ароматизаторы Arbre Magique, остановки. Ему было сорок два, ни друзей (почти), ни денег – накопить он сумел только долги, лишние килограммы на заднице да проблемы со здоровьем. Рентгеновский снимок говорил прямо: «Ну, большую часть последних двадцати с хвостиком лет ты провел, сидя за рулем, так что грыжу межпозвоночных дисков рано или поздно придется оперировать».
Ему было очень одиноко. До чертиков, до отчаяния. Бродяга на дорогах жизни, которого никто нигде не ждал.
Все чаще, проезжая эстакаду, он задумывался о том, чтобы съехать на аварийную полосу, выйти из грузовика и прыгнуть вниз. Раз – и все, и больше никаких проблем и нервов. Может, дело не в Симоне… Когда он видел его в последний раз? Эрмес не смог вспомнить. Но в тот день Симоне выглядел не очень хорошо. Похудел, вокруг глаз темные круги… Видно, как тяжело сын переживал развод.
Сигнал, резкий, как крик умирающего на больничной койке, вернул Эрмеса в реальность.
Он ударил по рулю, сунул в рот Camel и постарался сосредоточиться на дороге, которая должна была привести его на склад в отдаленном районе Кракова: он вез очередную партию мебели «made in Italy»[5].
Ехать еще очень далеко.
Цифровой хронотахограф, который контролировал скорость, продолжительность периодов отдыха и пройденных километров, сообщил, что в течение получаса он должен остановиться в первый раз. Правила безопасности передвижения коммерческих автомобилей были жесткими – сорок пять минут отдыха каждые четыре с половиной часа, максимум девять часов в день за рулем, не больше пятидесяти шести часов в неделю. Некоторые обманывали систему, подключая к хронотахографу всякие дорогие приборы, которые искажали его показания, но Эрмес удерживался от искушения. Ведь если поймают – лишат прав месяца на два, не меньше.
Он вел грузовик по трассе А4; примерно через пятьдесят километров будет съезд на Верону. Впереди еще одиннадцать-двенадцать часов за рулем. Из Турина он выехал в четыре утра, когда только показавшийся из-за горизонта огненный шар восходящего солнца зажигал на отбойниках ослепительные блики. Может, включить радио Си-Би – сибишку, как они называли его между собой, – и поболтать по дороге с коллегой, который ехал в ту же сторону? Нет, не стоит. Опять будут одни и те же разговоры. Они ему не помогут.
На шоссе становилось все оживленнее. Сотни людей, закрывшись в своих металлических коробках, привычно выехали на дорогу, чтобы добраться до офиса и окунуться в рабочую рутину. За стеклами машин виднелись ничего не выражающие лица, а руки, лежащие на руле, были безжизненными и бледными, как у манекенов в витринах магазинов.
Сначала Ленци уставился на колеса проезжавшего мимо грузовика, точно такого, как у него, а потом снова посмотрел на дорогу. Метрах в трехстах стая ворон прыгала по аварийной полосе, поклевывая мягкую ткань и с жадной решимостью вырывая куски плоти.
Заинтригованный Эрмес немного отпустил педаль газа – лежавшее на асфальте тело было слишком большим для кошки или собаки и вроде бы шевелилось.
– Что это за херня?..
Проезжая мимо, он наклонился в сторону пассажирского сидения, чтобы получше все разглядеть, и едва не выронил сигарету изо рта.
Среди трепыхавшихся черных крыльев, суетившихся одинаковых голов и клювов он мельком увидел руку, упирающуюся в асфальт и покрытую сгустками крови, руку, которая могла принадлежать миниатюрной девушке или ребенку. Все остальное закрывали тела огромных птиц с блестящими, как битум, перьями.
Пара секунд, и видение исчезло.
Эрмес посмотрел в зеркало заднего вида, но увидел только, как вороны чистятся и перелетают на запущенную, заросшую сорняками площадку, которую они облюбовали. Никакого тела не было. Никакой руки. Эрмес потер глаза и сунул сигарету в пепельницу.
Нужно остановиться и выпить кофе, да. Сделать очередную остановку в «потрясающем», как обещала реклама, «несуществующем» месте, выпить очередной эспрессо, получить очередную изжогу.
Он съехал с шоссе и через десять минут припарковал «Сканиа» на стоянке для грузовиков.
Эрмес отдал бы все что угодно, лишь бы прогнать боль в спине и стереть из памяти картинку, как лупоглазые вороны топчутся вокруг маленькой беспомощной руки.
Слишком много масла. В круассанах на заправке было слишком много масла. Но он все равно их ел – всегда один и тот же привычный вкус. Это вызывало приятное чувство стабильности.
Эрмес выпил кофе, поблагодарил толстую кассиршу с выцветшими глазами, которая выжимала апельсины за стойкой, и потащился в туалет.
В нос ударил запах застоявшейся мочи и моющих средств. Почему-то подумалось о бывшей жене и сыне. Прошло несколько секунд, прежде чем он смог вспомнить их черты, их смех и то, как они произносят его имя.
Ногти, покрытые желтым лаком, волосы морковного цвета.
Эрмес умылся перед зеркалом и проглотил пакетик Oki[6], не запивая. Боль в спине, расползающаяся теплыми лучами чуть выше ягодиц, никак не отпускала.
В туалете никого не было. Протяжно пукнув, Эрмес подошел к ближайшему унитазу, не глядя на свое отражение в зеркале.
«Есть, спать, ходить в туалет, страдать, умирать. Какая все-таки странная хреновина – человек», – подумал Эрмес, поражаясь мрачности своих мыслей.
Он тщательно вытер сиденье туалетной бумагой, сел на унитаз и занял себя чтением надписей на стенах. Еще одна постоянная в неопределенности жизни. Куда бы он ни забрался на своем грузовике, на какой бы заправке не зашел выпить кофе, стены туалета всегда хранили письменные свидетельства побывавших здесь путешественников. Все эти люди, выцарапавшие на ДСП или нарисовавшие несмываемым маркером свои каракули, казалось, только что закрыли за собой дверь.
Как обычно, процентов девяносто надписей были непристойными, – в основном предложения или поиск сексуальных услуг с номерами телефонов.
Взгляд Эрмеса задержался на объявлении:
МОЛОДАЯ ПАРА ИЩЕТ ВОЛОСАТЫХ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ ДЛЯ ВСТРЕЧ
И еще:
ШЛЮХА ГАЙЯ – ПОЗВОНИ И ТРАХНИ
Ему стало так противно, что губы невольно искривились в горькой улыбке. А потом Эрмес посмотрел на дверь и почувствовал ком в горле. Среди непристойных надписей и нарисованных членов его внимание привлекли слова, выведенные кислотно-желтым маркером. Они выделялись среди других.
И не только цветом.
- Не сбежать с дороги,
- от черных омутов, глотающих смолу,
- сверни на развязке, доберись до Уиронды,
- стань частью этого царства!
Уиронда. Именно это название заставило Эрмеса вздрогнуть. В памяти словно щелкнул переключатель, воскресив воспоминание, которому… сколько лет? Тринадцать-четырнадцать, не меньше, – в то время он только начинал работать дальнобойщиком, был молод, полон надежд и добрых намерений, и дорога ему еще не надоела.
Уиронда. Тогда он впервые услышал это слово, а теперь видел его на стене. Странная штука – человеческая память. Она может хранить всякую бессмыслицу, дурацкую историю, которую рассказал незнакомец. Эрмес слышал ее один раз, на заправке в районе Ро Фьера, где когда-то остановился поспать, и теперь, как по волшебству, эти воспоминания, не утратившие своей яркости, снова воскресли.
Тогда, подремав в кабине, он вышел из машины, чтобы выпить кофе и позвонить Даниэле, которая в то время была его девушкой. На краю клумбы сидели, потягивали пиво и спорили трое дальнобойщиков – от сорока до шестидесяти лет. Парень с татуировкой и длинной бородой до пояса кивнул Эрмесу, протянул банку пива из тазика с водой и льдом.
– Давай к нам, парень, посиди на свежем воздухе, – улыбнулся он, показывая два ряда желтых от никотина зубов. – Не переживай, дорога никуда не денется.
Эрмес не стал отнекиваться, назвал свое имя и услышал, можно сказать, сюрреалистический спор.
– Приятно познакомиться, Эрмес. Я Массимо, а это – Витторио и Роби. Мы говорили о всяких странностях, – объяснил парень с татуировками, показывая жестом на двух других. – Когда проводишь большую часть своей жизни в дороге, с тобой чего только не приключается!
– О да, – согласился Витторио, худой тип с кожей, как у игуаны, и глазами в красной сетке капилляров. В расширенных зрачках читалось желание поговорить. – Я как раз рассказывал, как болтал по сибишке с дальнобойщиком из Бари, Амосом. Амос – это его позывной. Мы часто пересекались, когда ездили между Турином и Миланом, и болтали, пока радио ловило. Так вот. Как-то раз я ехал ночью – дерьмовая была ночка, из тех, знаете, когда опаздываешь и нет времени остановиться, а ты только и думаешь, как бы выпить рюмашку, принять душ и завалиться спать. Мы с Амосом настроились на канал номер пять, несколько секунд поболтали о том о сем, но я его очень плохо слышал. Его голос показался мне странным, измученным, доносившимся откуда-то издалека. Я пару раз спросил у него: «Амос, у тебя сибишка работает, все в порядке, ты уже вне зоны, что ли? Просто такое чувство, что ты где-то далеко». А он ответил: «Да, Витторио, далеко. Я просто хотел попрощаться. Это наш последний разговор. Хорошей дороги», – связь оборвалась, и сибишка как с ума сошла. Послышался треск, странные звуки, какие-то крики… а потом… все замолкло…
Витторио приложил к вспотевшему лбу банку пива, замолчал, загадочно улыбнулся и посмотрел каждому прямо в глаза. Массимо, почесывая бороду, попросил его рассказать, что было дальше; его взгляд говорил о том, что он слышал эту историю уже десятки раз. Другой дальнобойщик, Роби, самый старый и молчаливый, с редкими волосами и грустными глазами, курил вонючую сигарету, низко опустив голову. Витторио продолжил говорить, глядя прямо на Эрмеса.
– Я попытался снова связаться с Амосом, но не получилось. Через несколько минут на частоте появился еще один дальнобойщик, мы начали болтать о всякой ерунде. А потом он вдруг спросил: «Ты об Амосе слышал?» Он тоже был с ним знаком. И тут у меня засвербило где-то в копчике, знаете, когда чувствуешь, что сейчас скажут то, что тебе точно не понравится. Я отвечаю: «Что я должен был слышать? Я несколько минут назад болтал с ним по сибишке, но связь была очень плохой. Все время пропадала. Он говорил какие-то странные вещи». Тогда тот парень замолчал на несколько секунд, а потом выдал: «Витто́, черт подери, да это просто невозможно. Ты ошибся, точно тебе говорю. Амос вчера утром разбился. Свернул с дороги на виадук Гамбетти и полетел вниз. Я думал, ты знаешь. Ты не мог с ним разговаривать. Может… тебе это приснилось?» Клянусь вам, у меня мурашки по коже пошли, ноги затряслись, пришлось даже остановиться на аварийной полосе, чтобы прийти в себя. И я сразу вспомнил слова Амоса: «Да, я далеко. Просто хотел попрощаться. Это наш последний разговор. Хорошей дороги». В общем, это самое странное, что случалось со мной за тридцать лет работы дальнобойщиком, – подытожил Витторио, подмигивая Эрмесу, который слушал его увлеченно и немного недоверчиво.
Тогда-то и вмешался Роби, третий дальнобойщик. Именно от него Эрмес услышал слово, написанное желтым маркером на двери грязного туалета: Уиронда.
Голос у Роби был тихим и немного детским. Завитки сигаретного дыма смягчали морщинистые черты его лица, и скрюченные пальцы, привыкшие сжимать руль и рычаг переключения передач, не казались такими кривыми.
– Неплохая история, Витторио, – сказал он, раздавив сапогом окурок, – но у меня есть и получше. Ну, может и не получше, но уж точно интереснее, чем банальное привидение на дороге.
Несмотря на тихий голос и грустные глаза, от старика исходило ощущение жизненной мудрости, а это вызывало невольное уважение.
– Вы когда-нибудь слышали о Уиронде?
Остальные покачали головами и достали по второй банке пива из тазика, не обращая внимания на гудки на дороге и рев двигателей за бетонно-стеклянным ограждением заправки.
Роби почесал заросший щетиной подбородок и несколько раз открыл и закрыл рот, как будто не мог подобрать слов.
– Уиронда – это съезд с дороги, которого нет, но который есть, ведущий в страну или город, которого нет, но который есть. Точнее, он действительно есть, но не в этой реальности. А там, где наша реальность иногда пересекается с той, другой. Уиронда – это мираж. Слухи о ней ходят среди самых старых дальнобойщиков, что-то вроде городской легенды. Когда я только начинал работать, мне рассказал ее один румын.
– Чего, чего? – перебил его парень с татуировками. – Никогда не слышал ни о какой Виронде.
– Уиронде.
– Объясни понятнее.
– Ну, тот румын тоже говорил не очень-то понятно. По его словам, Уиронда – это место, куда можно попасть или которое можно увидеть хотя бы мельком, если слишком долго колесить по одним и тем же дорогам, мимо одних и тех же строений, если привычки не меняются годами, а на сетчатке глаз навсегда отпечатались ночные огни придорожных фонарей. В общем, если твои мозги настроены на нужную волну. Иногда едешь несколько часов, а пейзаж не меняется – все те же бесконечные отбойники, дома, полосы, – тебя будто загипнотизировали, замечали такое? Ты как в трансе, сознание словно отключается, и тут легко заснуть за рулем. Вот тогда-то и можно увидеть съезд на Уиронду: когда находишься на краю, в отчаянии и растерянности, когда ты умер внутри, когда дорога отняла у тебя слишком много часов сна и лишила слишком многих мгновений жизни. Тогда ты можешь увидеть съезд на Уиронду и… свернуть туда. Так мне говорили.
– Что это за чертовщина?
– Такая легенда, которую передают друг другу в нашем узком кругу. За сорок лет, что я вожу грузовик, это название я слышал много раз – его шепотом повторяли в туалете на заправке, его горланила на стоянке пьяная шлюха, его выкрикивали в сибишку…
Эрмес, который слушал Роби очень внимательно, сделал шаг вперед. Он тогда любил научную фантастику, покупал книжки, чтобы почитать перед сном, и история Роби его захватила.
– Значит, Уиронда – это что-то вроде параллельной реальности, я правильно понимаю? Другое измерение, как пишут в научной фантастике?
– Да, что-то вроде этого. Вы когда-нибудь думали о жизни, которой живем мы, дальнобойщики? Если сравнивать с обычными людьми, мы же постоянно находимся как бы в другой реальности. Шоссе, кафе на заправке, стоянки – обычно здесь люди долго не задерживаются, приезжают, уезжают и забывают… Такие места для них, можно сказать, и не существуют. А мы проводим тут кучу времени, чуть ли не всю свою жизнь. Уиронда – что-то вроде альтернативной реальности в альтернативном измерении. Что-то такое, да, парень.
– А можно спросить, что находится в этой Уиронде, профессор Роби? И почему она так называется? – ироничным тоном поинтересовался Витторио, не сдерживая смеха.
– Человек, который рассказал мне эту историю, тоже толком ничего не объяснил… Сначала сказал, что в Уиронде собираются мертвецы. Мертвецы, которые погибли на дорогах. Они приходят туда, чтобы провести вечность в царстве металла и бетона. А потом заявил, что в Уиронде находится то, что каждый из нас никогда не хотел бы видеть, но в то же время хотел бы, причем больше всего на свете. Самые отвратительные и позорные желания, самые затаенные страхи, самые мрачные надежды, совершённые зверства. А название… ну, я не знаю. Уиронда. Название как название, обычное название для необычного места.
– И кто-то… кто-то утверждает, что там бывал? Вы лично знакомы с тем, кто говорит, что бывал в… Уиронде? – спросил Эрмес, допивая оставшееся на дне банки пиво.
– Да нет никакой Уиронды, мальчик. Это просто легенда среди дальнобойщиков, – говоривший выплюнул на асфальт желтоватый комок слюны. – И если кто-то утверждает, что был там… ну, или он врет, или свихнулся.
* * *
Еще несколько секунд Эрмес просидел на унитазе, уставившись на желтую надпись, но не видя ее, прокручивая в голове воспоминание о том, как впервые услышал о Уиронде. Потом встал, подтерся, надел штаны и вытащил мобильник из кармана джинсов.
Два раза сфотографировал стихотворение, а потом прочитал вслух:
- Не сбежать с дороги,
- от черных омутов, глотающих смолу,
- сверни на развязке, доберись до Уиронды,
- стань частью этого царства!
не зная зачем.
Может, чтобы иметь доказательства.
Чтобы помнить.
Может, чтобы от скуки рассказать другим эту странную легенду об Уиронде.
Вымыв руки и лицо, Эрмес вернулся в бар. Заказал второй кофе. Он чувствовал, как тяжелеют веки, словно их посыпали пылью. Вместо толстухи за стойкой теперь стоял старый карлик с лохматыми усами, которыми пытался скрыть заячью губу. А надетая набекрень кепка от сети забегаловок делала из него клоуна.
Эрмес завороженно наблюдал за тем, как карлик заваривает кофе – копошится, как насекомое, вся кожа на шее в морщинах и уродливых пигментных пятнах. Ему могло быть и семьдесят лет, и сто.
– Ваш эспрессо, синьор Ленци, – хмыкнул карлик, с усмешкой протягивая ему чашку. У него было слишком много зубов. Слишком много крошечных зубов.
– Спасибо большое, – ответил Эрмес, протягивая руку, чтобы взять сахар. Но вдруг замер. Низ живота прострелила боль. – Откуда вы знаете, как меня зовут?
Старик посмотрел на него с недоумением, чуть-чуть наклонив голову на древней, как у динозавров, шее.
– Что вы сказали? Извините, я не расслышал, – заячья губа задрожала.
– Моя фамилия. Вы сказали: «Ваш эспрессо, синьор Ленци». Откуда вы ее знаете?
– Синьор, вы ошиблись, – хмыкнул старик. Теперь его лицо стало мертвенно бледным и строгим, как у покойника. – Вам показалось.
Эрмес открыл рот, собираясь что-то сказать, но только проглотил воздух, как выброшенная на берег рыба. Он вдруг почувствовал усталость, беспокойство, страх. Потом все же заговорил, но совсем не о том, о чем собирался.
– Скажите, вы когда-нибудь слышали об Уиронде?
Что ты несешь? – рассердился Эрмес сам на себя. И огляделся в надежде, что его никто не слышал. Оказалось, в кафе больше никого нет. Ни одной живой души. В спертом воздухе пахло сгоревшими тостами и выхлопными газами.
Старый бармен устало и горько рассмеялся. Снял кепку и положил на стойку, мотая головой из стороны в сторону. На черепе карлика виднелись вмятины, похожие на следы от ударов.
– Нет. Я никогда не слышал об Уиронде, – усмешка говорила, что он врет. – Но разрешите кое-что сказать вам… Смерть бывает разной. Иногда тело умершего человека остается на земле, а иногда – исчезает вместе с душой. Обычно это происходит, когда человек умирает в одиночестве, и раз никто не видел его смерти, говорят, что он потерялся или уехал в долгое путешествие. Вы понимаете, о чем я, синьор Ленци?
Карлик снова улыбнулся, показав крошечные острые зубы, и Эрмес не сдержался.
– Откуда вы знаете мое имя? – заорал он во все горло.
Старик стоял рядом с кофемашиной, смотрел на Эрмеса и смеялся.
Развернувшись, Эрмес выбежал из пустого кафе. Последним, что он услышал перед тем, как захлопнуть дверцу грузовика, был хриплый голос карлика за спиной: «Эспрессо за счет заведения, синьор Ленци! Надеемся увидеть вас снова!»
* * *
Через полчаса после того, как он снова сел за руль, Эрмеса начали грызть сомнения, все ли хорошо у него с головой. Он вспоминал о старике из кафе на заправке, о маленькой ручке среди ворон, об Уиронде, и ему начинало казаться, что депрессия и отчаяние сделали свое дело.
Но ведь стихотворение, которое он прочитал, было реальностью – вот его фотография в смартфоне. Хоть это ему не привиделось.
Сейчас бы вернуться домой. Отдохнуть. Провести выходные с сыном, съездить на море, в горы, куда угодно, только не видеть дорогу, не колесить по ней с утра до вечера. Он посмотрел на фотографию Симоне, обнимавшего Даниэлу с оторванной головой.
Включил радиоприемник, но несмотря на все старания, в эфире слышались только треск и странное, заунывное пение. «Радио Мария»[7], не иначе. Наверное, антенна сломалась, подумал Эрмес и решил показать приемник мастеру на следующей остановке.
Он бросил попытки включить музыку и поехал на автопилоте.
В 11:57 заметил, что машин стало необычно мало. Был почти обед, а в такое время этот участок кольцевой среди уродливых химических заводов со стенами в пятнах от органики обычно перегружен: если простоишь в пробке всего десять минут – считай, повезло. Но сегодня «Сканиа» ехала по пустой дороге, а небо заволакивали тучи мерзкого желтоватого цвета, несущиеся навстречу.
Эрмес уставился на помятую Multipla, которая хотела его обогнать. Пассажиры в машине выглядели странно – лицо у водителя как будто лишено черт, голова раздавлена и свисает на слишком тонкой шее, а женщина рядом положила руки на приборную панель и низко наклонила голову, словно ждала сильного удара. На заднем сидении, в автокресле, лежало что-то больше похожее на огромный кусок мяса, чем на ребенка. Эрмес прибавил газу, пытаясь не отставать от Multipla, но та тоже ускорилась, выплюнув клубы желтоватого дыма, а потом и вовсе скрылась за широким поворотом. Ленци показалось, что за задним стеклом обогнавшего автомобиля сидят причудливые создания и стучат по стеклу – черные, блестящие, с челюстями, как у жука-оленя, экзоскелеты каких-то экзотических насекомых.
«Они едут в Уиронду?» – с удивлением подумал Эрмес. Он никак не мог выбросить из головы эту историю.
Вдруг почувствовав свою удивительную отстраненность от всего остального мира, Ленци потер глаза, стараясь сосредоточиться на вождении, думать только о дороге и больше ни о чем, но километров через двадцать его сердце бешено застучало в груди как барабан – он понял, что на шоссе остался один.
Один.
Никаких машин рядом. Только его видавший виды грузовик, кабина которого больше не блестела новенькой сталью, с прицепом, скрипучим, как дряхлое кресло-качалка. Эрмес притормозил и уставился в окно: его не покидало чувство, что он вторгается на чужую территорию.
Этому должно быть объяснение.
Наверное, я задумался и пропустил знак дорожных работ, а теперь еду по закрытому участку шоссе…
По небу навстречу ему неслись тучи цвета охры, зловещий водопад тумана, разрезаемого розоватыми молниями. Их вид нагонял тоску. Эрмесу снова вспомнились слова старого карлика на заправке, и он почувствовал, как кожа на руках покрылась мурашками.
Смерть бывает разной. Иногда тело умершего человека остается на земле, а иногда – исчезает вместе с душой. Обычно это происходит, когда человек умирает в одиночестве, и раз никто не видел его смерти, говорят, что он потерялся или уехал в долгое путешествие.
Машин не было даже на встречке, отделенной отбойником. Вдоль обочины кольцевой тянулись длинные корпуса заводов, торчали водонапорные башни, однобокие бетонные коробки, как будто натыканные друг за другом по команде «копировать-вставить», – все одинаковые, серые, вселяющие тоску. Он ездил здесь тысячу раз, но сейчас на глаза не попадалось ни одного знакомого здания. На верхнем этаже мрачного дома, битые стекла в окнах которого напоминали сломанные зубы, он заметил две фигуры – кажется, женщины и мальчика. Интересно, что они делают в этом заброшенном месте?
Скоро пойдет дождь. А может, и град. Запахло озоном и железом – вот-вот разразится гроза. Тучи быстро надвигались. Они выглядели совершенно больными. Подозрительно похожими на гнилой лук, слишком желтыми, слишком осязаемыми.
Обычная поездка Эрмеса Ленци превращалась в кошмар.
Он не мог оторвать взгляд от горизонта. Под порывами ветра облака стали плотнее, и на несколько мгновений Ленци показалось, что он видит в небе лысую голову, гигантское лицо без носа, белые глаза, перекошенные ядовитой ухмылкой губы. Глухой, раскатистый удар грома стер ужасные черты, и Эрмеса охватил страх.
Животный, необъяснимый, которого он никогда раньше не испытывал.
А уж ему ли не знать, каким бывает страх. Тут и говорить нечего. После разрыва с Даниэлой Эрмеса мучили частые приступы паники. Несколько раз он искренне считал, что умер. Но сегодня все было иначе. Казалось, каждая клеточка его тела, каждая извилина мозга содрогается от ужаса, который совсем не похож на страх смерти или боязнь исчезнуть без следа.
Первое, что пришло на ум, – развернуться. Остановить машину, развернуться и на полной скорости понестись назад, куда угодно, только подальше от этих жутких туч, от этого пустынного шоссе. Вернуться туда, откуда он приехал, пусть даже на заправку со странным карликом за стойкой и пугающей желтой надписью на двери туалета.
Должны же ему встретиться машины, люди, хоть кто-то.
Эрмес закурил, стараясь унять дрожь в руках, и попытался подумать здраво.
Развернуться и поехать назад нельзя. Глупо садиться в тюрьму и терять работу из-за того, что от нервотрепки последних месяцев у него поехала крыша.
– Твою же мать! – выругался он. – Дыши. Дыши.
Нужно продолжать ехать вперед, до следующей развязки. Она должна быть совсем скоро, другого выхода все равно нет. Сколько минут назад он останавливался?
Эрмес посмотрел на цифровой хронотахограф, и его затошнило. На экране, где высвечиваются пройденные километры, время с момента остановки на заправке, сейчас не было ни одной цифры – только семь простых символов, как сумасшедший дорожный знак:
УИРОНДА
Сигарета выпала изо рта прямо на колени. Он смахнул ее резким движением, съехал на аварийную полосу и остановился. Грудь словно сжимало клещами.
Вылез из кабины, чтобы не видеть этого слова. И понял, что остановил машину метрах в десяти от знака развязки. Металлическую табличку тускло-желтого цвета пересекали ржавые полосы. На ней не к месту изящным курсивом была сделана нелепая надпись.
Следующий съезд – Уиронда
Он стоял и смотрел на знак, безвольно опустив руки. Мир – какой мир? – охватила пугающая, мертвенная тишина. Ленци опустился на колени на теплый асфальт, закрыл лицо руками и стал похож на изображающую страдание живую статую из плоти, воздвигнутую в знак вызова дороге и надвигающейся грозе.
* * *
Он хотел позвонить бывшей жене и паре друзей, но сети не было. Тогда Эрмес, как толстая гусеница, с трудом заполз в кабину грузовика. Непрекращающаяся боль – сторожевая собака – снова пронзила основание позвоночника. И эта мучительная пульсация почему-то ввергла его в состояние тихой покорности. Он опустился на сидение, положил руки на руль и стал делать дыхательные упражнения, чтобы преодолеть паническую атаку, чтобы найти ниточку здравого смысл в этом клубке безумия.
Но разве он никогда не хотел остаться последним человеком на Земле? Разве не хотел исчезнуть, чтобы ни о чем не беспокоиться, чтобы сбежать от проблем? Разве временами не чувствовал острой необходимости остаться в одиночестве?
Почему же ты не рад? Машин на дороге нет, людей, с которыми нужно иметь дело, тоже нет. Нет ничего. Только ты и дорога, только ты и место назначения, конечный пункт: Уиронда.
Улыбаясь, Эрмес порылся в нагрудном кармане рубашки. Нашел последнюю смятую сигарету в пачке. Решил приберечь ее до лучших времен. Потом повернул ключ, воткнул первую передачу и дал газу, минуя указатель, который совсем недавно вызвал у него шок.
Он ехал по шоссе в ожидании развязки. Вернуться он не мог, нет. И если она действительно ведет в Уиронду, ну что ж… он поедет туда, в место суеверий и легенд. Он и представить себе не мог, что в его пустой, безрадостной жизни появится что-то необыкновенное, вызывающее дрожь, вспыхнет какая-то искра, которая зажжет в нем любопытство и желание жить. Это его шанс.
Уиронда.
Ветер бросил первые капли дождя на лобовое стекло. И тут же на землю обрушилась гроза. Дворники не могли смыть льющуюся сверху желтоватую грязь, лишь размазывали по стеклу жирную кашу. Может, это буря из Африки, поэтому столько песка и земли. Эрмес поднял стекло и выдавил педаль газа, бросая машину навстречу яростной стихии.
Такое чувство, что въезжаешь в туннель, затопленный жидкой пылью. От фар почти не было толку – они едва могли отыскать разделительную полосу на дороге.
Хронотахограф окончательно сошел с ума и стал показывать какие-то бессмысленные цифры. Время от времени, как при вспышке стробоскопа, на дисплее высвечивалось название съезда – Уиронда, мираж, несуществующее место, легенда старых дальнобойщиков вроде Роби – единственного человека, от которого Эрмес слышал это слово.
Он стиснул зубы и прищурился, стараясь сосредоточиться на дороге и надеясь как можно быстрее проехать грозу. Прицеп раскачивало сильными порывами ветра. В такую погоду он еще никогда не сидел за рулем. Хлещет как из ведра, видимость почти на нуле. Крик ветра напоминал вой умирающего зверя, а в желтоватом тумане Эрмес заметил темные фигуры, которые плескались перед лобовым стеклом.
Бестелесные силуэты. О чем-то умоляя, они тянули к нему скрюченные руки. Он старался не обращать на них внимания. Решил включить сибишку и настроить ее на пятый канал.
– Меня кто-нибудь слышит?.. Прием, – прошептал в трубку Эрмес. Он едва узнал свой собственный голос – не голос, а скрип песка. – Это Эрмес, кто-нибудь меня слышит?
В приемнике захрюкало, послышался треск и неразборчивые слова.
– Если… если меня кто-то слышит, то… я, наверное, заблудился. На шоссе ни одной машины, вокруг буря, она взялась непонятно откуда. И… – Эрмес сглотнул. Ему не нравился свой срывающийся голос. И слезинки в уголках глаз. Кажется, он вот-вот запаникует, зарыдает и закричит, как ребенок, потерявший маму в супермаркете. Ленци постарался собраться с духом. – Если кто-то меня слышит, ответьте, пожалуйста. Я не знаю, где я. Прием.
Наконец ему ответили. Знакомым, приветливым голосом. И Эрмесу стало еще страшнее. Нет, это невозможно.
– Папочка?
– Си-Симоне?
Это говорил его сын. Глухие, едва слышные слова доносились откуда-то издалека, но сомнений в том, что это голос Симоне, не было.
– Да, папа, это я. Когда ты приедешь домой, папочка? Я соскучился.
Эрмес Ленци окончательно перестал понимать, что происходит, и сдался на произвол судьбы. Он изо всех сил пытался подавить рыдания, которые разрывали ему грудь.
– Симо, папа скоро приедет, не переживай. Папа скоро приедет, и мы сходим в кино, хорошо? Папа приедет, как только сможет.
Он вдруг понял, что лжет. Почувствовал ужасную уверенность в том, что никогда больше не увидит своего сына.
– Мы с мамой тебя ждем, – пробормотал Симоне. Теперь это был его голос – и в то же время не его. В нем слышалось какое-то бульканье, больше похожее на звук захлебнувшегося двигателя, чем на человеческий голос. – Мы с мамой ждем тебя дома. В Уиронде. Приезжай.
– Еду. Я уже скоро. Папа скоро приедет, Симо.
Но ему никто не ответил.
Эрмес Ленци вжал педаль газа в пол, его лицо исказила безумная ухмылка.
– Не сбежать с дороги, от черных омутов, глотающих смолу, сверни на развязке, доберись до Уиронды, стань частью этого царства! – начал напевать он.
Так продолжалось до тех пор, пока буря не закончилась, а длилась она, казалось, вечно. Но наконец его встретили небо без единой звезды и ночь – черная и холодная, словно проклятая навечно.
* * *
Виадук в пустоте, смоляной язык, старающийся дотянуться до призрачного горизонта. Одна полоска асфальта, без ограждений, висела над пропастью, над темной Бездной, в которой ничего не отражалось. Такова теперь была реальность Эрмеса Ленци. Везде взгляд его проваливался в кромешную тьму. Даже фарам «Скании» едва удавалось найти дорогу.
Ехать приходилось со скоростью тридцать километров в час. Любая ошибка – и он погрузится в вечную пустоту, откуда не выбраться, как потерявшемуся космонавту в космосе. Ему вспомнился научно-фантастический фильм, который они смотрели с Даниэлой (названия он не помнил). Там был космический корабль – такой металлический бегемот, летавший благодаря тому, что внутри него двигалась искусственно созданная черная дыра; там оживали кошмары и сводили пассажиров с ума. И как же закончился тот фильм – хорошо? Ничего хорошего. Совсем ничего. Эрмес сказал себе, что хэппи-энды – для слабаков. В реальной жизни их не бывает.
Где-то далеко, справа, вдруг появилась яркая точка. Красная. Может, фонарь, плывущая по небу планета или звезда?
Нет.
Чем дальше он ехал, тем больше становилось ярко-красных точек, и теперь они напоминали рой светлячков, усыпавших неподвижную гладь озера.
Похоже на огни деревушки или маленького городка.
Эрмес чувствовал, что осталось недалеко. Чувствовал это всем телом, каждой косточкой. Боль в спине прошла. Он, не отрываясь, смотрел на светящиеся соцветия, появляющиеся на горизонте.
Уиронда?
Не задумываясь, опустил стекло, и в лицо ударил теплый ветер, вонявший гнилью. Стало трудно дышать. Интересно, что поведала бы ему вездесущая темнота за окном, если бы могла говорить? Рассказала бы историю Уиронды, откуда она взялась, открыла все ее секреты? Он надеялся, что скоро получит ответы на роившиеся в голове вопросы.
Дорога пошла на подъем. Сначала пологий, но заставивший поработать двигатель старого грузовика; потом все более и более крутой – в конце концов Эрмесу показалось, что он едет по вертикальной стене.
Возможно, так и было.
Затерянный в темноте, он спрашивал себя, есть ли здесь смысл в таких понятиях, как направление и гравитация. Ему нужно просто ехать дальше. И все. Слушаться дорогу, как всегда.
Огоньки не гасли. Они стали ближе, ярче. Красные фонарики, ярко освещавшие реку или дорогу.
Поскорей бы добраться до места. Он прибавил газу.
И в этот самый момент услышал звук, продирающийся сквозь рев двигателя. Он доносился из-за его спины, из кабины, ставшей ему домом в последние месяцы. Это были глухие удары, будто кто-то дубасил кулаками по стене или бил кого-то. Удары сменились визгом, глухими хрипами, воплем.
– Не надо, Эрмес! Остановись, ради всего святого!
Эрмес хотел затормозить, но тут фары осветили знак – первый с тех пор, как обрушилась гроза.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УИРОНДУ
Через сто метров дорога разделялась на две, и одна из них резко забирала вправо. Грузовик сам повернул, словно им управляла невидимая сила. Колеса завибрировали, когда машина вошла в крутой поворот, обращенный к морю темноты; на миг показалось, что она накренилась на сорок пять градусов, и Эрмесу пришлось изо всех сил вцепиться в руль. Наконец старая «Сканиа» вздрогнула, выпрямилась и выехала на прямую, плюясь дымом и оглушительно грохоча поршнями.
И тогда она появилась.
За лобовым стеклом.
Прямо перед Эрмесом.
Блестящая, беспощадная, мертвая.
Уиронда.
Трущиеся об асфальт шины протестующе завизжали, и грузовик остановился в нескольких сотнях метров от городских стен.
Бесконечных, розоватого оттенка, от которых веяло теплым ветром смерти.
Эрмес вышел из кабины и направился к городу-миражу. Глаза его блестели, рот был широко открыт.
Уиронда выглядела совсем не так, как описывал ее Роби.
Никаких мертвецов, погибших на дороге, никаких строений из железа и бетона.
Для него Уиронда оказалась совсем другой.
Плотью и истязанием. Страшной ошибкой – непоправимой ошибкой, – которую совершил человек, стоящий на грани сумасшествия, ошибкой, уничтожившей то немногое, что ему удалось создать за всю свою жизнь.
Охватить глазами пространство, понять, что он видит перед собой, разглядеть отдельные фрагменты Эрмесу удалось далеко не сразу.
Безумные, гнусные поступки ведут в безумные, гнусные преисподние.
Сначала он рассмотрел мелкие детали, если так можно назвать части тела высотой в несколько десятков метров – ноздрю, губу, похожую на слизня, ухо. Потом отошел назад и, как исследователь, впервые оказавшийся перед огромным горным хребтом, на несколько мгновений смог окинуть взглядом всю панораму.
Ноги и ягодицы, живот и ребра, предплечья и руки были равнинами, плато, холмами, горами. Волосы – экзотическими деревьями, морщины – дорогами, а кровь – водой в реках.
Изуродованная плоть. Ошметки эпидермиса, порезанные мышцы, вырванные суставы. Огромные раны-двери, царапины – окна, синеватые кровоподтеки – как мозаика заброшенных античных храмов.
Такой была его Уиронда.
Два гигантских тела, обнимающихся в последнем кровавом объятии; мрачный анатомический город на столе вскрытия – неверие, боль и, наконец, окончательное осознание того, что он натворил.
Тела женщины и ребенка.
Эрмес закричал. Но не криком ужаса или раскаяния. Это был крик изумления, когда сомнений больше не осталось, когда он все понял и все вспомнил. Эрмес увидел поднятую к небу руку высотой с небоскреб, накрашенные желтым лаком ногти размером с кита. Розовые холмы груди. Темный портик пупка.
Вдали что-то горело. Сначала Эрмес подумал, что это причудливое пшеничное поле красного цвета. Теплый, воняющий гнилью ветерок качал стебли.
Волосы фантастически рыжего цвета – как пылающий закат.
Рот ребенка, приоткрытый в тщетной попытке не задохнуться от удушения.
Симоне.
Эрмес долго бродил по Уиронде. Смотрел на гигантскую рану в том месте, где была оторвана голова в порыве бессмысленного насилия и жажды мести.
Даниэла. О, Даниэла, мне жаль.
Два голубых глаза-окна размером с Нотр-Дам.
Эрмес заглянул в каждый уголок, прошел под арками зубов и по ресницам, по туннелям слизистых оболочек, забрался в пещеры с ушной серой. Повсюду виднелись алые лужи, под ногами хлюпало.
Он понюхал раны и порезы, смертельные следы от ударов ножа, которые не должна наносить рука ни отца, ни мужа, провел дрожащими пальцами по перерезанным венам, плача, оглядел предгорье вагины, увенчанной заброшенным теперь алтарем клитора.
Услышал хрип нервных окончаний, которые невозможно вернуть к жизни.
Когда Эрмес слишком устал, чтобы идти дальше, он лег в тени отрубленной головы Даниэлы, на матрас залитых мозговым веществом волос, и стал смотреть в темное небо, освещенное кровью Уиронды.
Закурил последнюю сигарету. От нее пахло дымом и плотью.
Остекленевшие глаза Симоне – огромные, какие бывают только у детей, – с упреком смотрели на него с северной окраины города-миража, открывшего ему правду.
Боже мой, что ты сделал? Боже мой Боже мой Боже мой…
Спину прострелило ужасной болью.
Точно такой же, которая пронзила его тело, когда он рухнул на камни, спрыгнув с виадука.
Ветер смерти больше не дул.
Кровавое свечение Уиронды потухло, как угли брошенного костра.
Незадолго до того, как Эрмес Ленци погрузился в сон без сновидений, он все еще сжимал в руках последнюю сигарету.
Потом его глаза закрылись, застывшая Уиронда заключила тело в своих объятиях, как властная и жестокая мать, но Эрмес чувствовал – город будет ждать, когда он проснется, чтобы снова заставить его пройти все круги ада и раскаяния.
Блестящий, беспощадный, мертвый.
И так будет всегда.
Муравьи
Он увидел их, как только глаза привыкли к полумраку, царившему во дворе. Их было несколько сотен.
Мирко выпрямился в шезлонге, где удобно устроился пару минут назад, чтобы насладиться весенним ветерком, и глубоко затянулся. В фонарь за спиной упрямо бился рой мотыльков, и звук напоминал тиканье часов, сошедших с ума. Облака цветов, о которых с такой любовью заботилась Лючия, лениво покачивались над клумбами, как пестрая толпа в ожидании начала концерта.
Он наклонился вперед, почти уткнувшись носом в стену сухой кладки, которая отделяла его двор от соседского: по ней, волоча кусочки листьев, крошки и песчинки, двигалась двойная колонна черных муравьев. То натыкаясь друг на друга, то топчась на месте, они упрямо шли вперед, чтобы затащить добычу в щель между камнями, размером с кулак, которая, конечно же, вела под землю. Наверняка, в большой муравейник. Интересно, сколько там муравьев? Вот бы узнать.
Они не обращали на Мирко никакого внимания.
Казалось, для муравьев имеет значение только работа, а гигантская человеческая вселенная их совсем не интересует.
Способность муравьев передвигаться по отвесной стене всегда поражала Мирко. И немного пугала. Ему не нравилось, как они ползают – подозрительно вытягивают головки, содрогаются от пульсации крошечных сердечек. Но самое противное – это, конечно, движение головы. Будто они специально наклоняют ее, чтобы быть настороже или лучше слышать, болтая между собой или обсуждая свои муравьиные секреты.
Инопланетяне. Эти существа – настоящие инопланетяне.
Мирко еще раз затянулся и поморщился, когда горький вкус никотина обжег горло. Потом выпустил дым в насекомых: озадаченные участники процессии на несколько секунд разбежались, а потом снова восстановили порядок и возобновили шествие.
Из-за облака выглянул месяц, похожий на сонный глаз, прикрытый морщинистым веком.
Мотыльки продолжали свой безумный танец. Было прохладно. Вечер как вечер, ничего особенного.
– Так ты придешь? – крикнула из спальни жена.
Хрипловатый голос просочился через приоткрытую входную дверь, пересек двор и эхом отскочил от гравия. Он представил ее в постели – полуголая, в ожидании мужа высчитывающая дни овуляции. Они пытались зачать ребенка, хотя Мирко боялся – а может, надеялся, – что уже слишком поздно. Им обоим, знакомым пять лет, женатым два года, было за тридцать пять.
Мирко сомневался, что готов стать отцом, – а если он сомневается в тридцать пять, то можно ли надеяться, что когда-нибудь перестанет? – но Лючия уже полгода только об этом и твердила, уверенная, что появление ребенка оживит их отношения, которые утратили новизну. Может, она права.
– Да, любимая, иду, иду. Сейчас докурю и приду, – громко ответил он, прежде чем еще раз затянуться сигаретой, от которой остался маленький смятый окурок. Потом фыркнул, напрягая мышцы ног. И понял, что не испытывает никакого желания заниматься сексом. Накануне, после двух раундов, несмотря на все усилия жены, член наотрез отказался вставать.
Мирко снова закурил и вдруг замер.
Уставившись на муравьев.
Взял зажженную сигарету большим и указательным пальцами, приметил муравья, который немного отошел от стройной колонны трудолюбивых сородичей, и нарочито медленно приблизил к нему тлеющий кончик.
Насекомое остановилось, уронив крохотную хлебную крошку. Потом подняло голову и покачало усиками, – видимо, нюхало воздух.
Мирко с интересом рассматривал его, не убирая сигарету.
Потом задержал дыхание.
В ветках плешивой сосны тоскливо закаркала ворона.
Захрустев сухими листьями, по двору пронесся порыв ветра.
Мирко выдохнул.
От жара усики муравья свернулись в комок, как брошенные в огонь целлофановые пакеты. В следующее мгновение та же судьба постигла и тело: оно задрожало, завибрировало, затряслось в конвульсиях, а потом, испуская микроскопические клубы дыма, съежилось в смертоносном пекле. Голова муравья резко дернулась вправо, потом влево, и Мирко представил, что слышит его крик. Это ему просто показалось? Или на самом деле до него донесся отчаянный предсмертный вопль?
Ножки насекомого защелкнулись на животе, как капкан, – обугленные, тоненькие, изуродованные.
– Ты придешь или нет? – не унималась Лючия. Голос звучал капризно, но игриво.
Окурок выпал у Мирко из рук. Он проводил его взглядом.
– Д-да, иду. Буквально секунду.
Мирко уставился на поджаренного муравья, висевшего на стене. Возможно, он приклеился к камням собственными органическими тканями, расплавившимися от огня.
Ужасный памятник тому, что все в этом мире тленно.
Зачем ты это сделал?
Вопрос, как упавшая на пол ваза, раскололся у него в голове. Точнее, вроде бы в голове – но в то же время звук разбитого стекла доносился словно откуда-то издалека.
Мирко вопросительно посмотрел на руки и покачал головой. Комар что-то злобно прожужжал в ухо. Мирко вяло отмахнулся, чтобы его прогнать. Попытался улыбнуться (Господи, чего он так переживает из-за муравья?), но в душе возникло неприятное чувство, что, посмотри он сейчас на себя в зеркало, увидел бы в своем лице то, о чем раньше и не подозревал.
Зачем ты это сделал?
Муравей. Этой козявки, поглощенной одним-единственным занятием – тащить крошку в муравейник, спрятанный в чреве стены, – больше не существовало. Вернее, муравей стал чем-то совсем другим.
Головешкой из угля и пепла, неподвижной, никчемной, застывшей во времени.
Почувствовав, как к горлу подкатывает комок, Мирко понял, что хочет передвинуть стрелки часов назад. На несколько минут, всего на несколько минут, чтобы спасти жизнь насекомому.
Он снова уставился на муравья, издав стон сожаления – самый дурацкий звук, который слышал в своей жизни. Сородичи обугленного муравья остановились. Положили свой груз и молча смотрели на скрюченное тело покойного работяги. Безмолвное бдение возле останков усопшего. Тысячи усиков, лап, туловищ, челюстей. Все головы повернулись к крошечному угольку, который еще минуту назад был живым существом, бодро спешащим по своим делам.
Зачем ты это сделал?
Да, зачем? И какая теперь разница? Интересно, о чем думают сотни муравьев, собравшиеся вокруг почерневшего трупа?
А они способны думать?
Кем был этот муравей, которого он убил, не задумываясь, которого зверски истребил, поддавшись импульсу? Какое место он занимал в иерархии муравейника, считался ли значимой единицей внутри огромного множества? Самец это или самка? А кто сейчас стоит вокруг – дети и друзья? Или это не взрослая особь, а подросток, у которого впереди была целая жизнь? А Мирко Кьятти, тридцатишестилетний клерк, – кто он для них? Какое-нибудь божество? Бог? Демон? Каприз Матери-Природы?
Мирко наклонился вперед; лежавшие на подлокотниках ладони дрожали. Вдруг он почувствовал, как отяжелела голова из-за десятка вопросов без ответа, из-за мыслей, запутавшихся в узел, который невозможно развязать. Мирко захотелось стать крошечным, взобраться на стену и походить среди муравьев, понять, что происходит, поговорить. Может быть, извиниться.
Пораженный тем, что совершенный пустяк произвел на него такое впечатление, Мирко поднялся на ноги. Он слишком много работает. Нервничает. Устает. Нужно лечь спать. Да.
Но пока Мирко искал эти наивные оправдания, он почувствовал, что они смотрят на него без обиды и без страха. Просто с любопытством.
Тысячи крошечных глупых глаз – полупрозрачных, красных, в которых отражался тусклый свет луны. Сотни сознаний, объединенных одним простодушным вопросом. Зачем ты это сделал? Зачем?
Мирко повернул голову. Обзор сузился, будто он смотрел на реальность через трубу. Отступил назад, споткнулся о шезлонг, чуть не свалился на гравий, замахал руками, стараясь удержаться на ногах, и заспешил к дому, не в силах отделаться от мысли, что муравьи продолжают за ним наблюдать, повторяя один и тот же вопрос, на который он не может ответить.
Зачем ты это сделал?
Он не знал, вот и все.
Закрыв дверь, Мирко запер ее – на всякий случай. Выключил фонарь на улице, и стена вместе со своей тайной исчезла в темноте. Зашел в ванную, умылся ледяной водой. Бросил взгляд в зеркало – сейчас он выглядел лет на десять старше. Дышать было тяжело. Решил не чистить зубы – хотелось оставить во рту новый горьковатый привкус, от которого щипало в горле.
Мирко прошел по коридору в спальню и чуть-чуть приоткрыл дверь. Торшер был включен. Но Лючия заснула. Она храпела, на груди лежала книга в черной обложке – «101 способ стать супермамой». Простыни, закутывавшие тело Лючии ниже талии, напоминали кокон. Эта мысль вернула его к муравьям.
Усыпанное веснушками тело жены со всеми его округлостями было белым и мягким, как брюхо форели. Испорченной форели.
Мирко пробрался в спальню, стараясь не шуметь – совсем как неверный муж, вернувшийся от любовницы посреди ночи. Если бы Лючия проснулась, ему пришлось бы выполнять свой супружеский долг.
Дотянувшись до кнопки торшера над пухлым телом жены, Мирко потушил свет. Лючия что-то пробормотала во сне, но он не пытался разобрать. Она часто разговаривала, когда спала. Легкая форма лунатизма – иногда Лючия даже вставала с кровати, шла на кухню, открывала ящики, духовку, а потом возвращалась в постель и на следующее утро ничего не помнила. Поначалу Мирко это раздражало. Но он привык. Это была его жена, что он мог сделать – отправить ее спать на диван?
Ко всему привыкаешь, ко всему, любил повторять отец Мирко.