Читать онлайн Ловушка для гения. Очерки о Д. И.Менделееве бесплатно
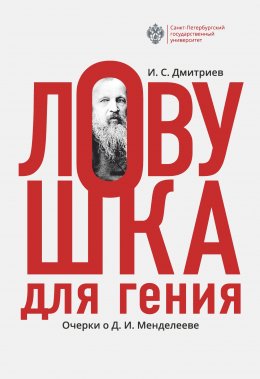
Своей бессонной мыслью, как огромным шалым прожектором, он раскатывал по черному небу истории; гигантскими световыми щупальцами шарил в пустоте времен; выхватывал из мрака тот или другой кусок, сжигал его ослепительным блеском исторических законов и равнодушно предоставлял ему снова окунуться в ничтожество, как будто ничего не случилось.
О. Э. Мандельштам, «Девятнадцатый век»
– Это был тяжелый человек, – отозвался при мне Блок о покойном тесте.
Б. А. Садовский, «Встречи с Блоком»
* * *
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2024
Читателю от автора
О Дмитрии Ивановиче Менделееве писали и пишут много, его жизнь, по выражению А. Блока, давно уже «сожжена и рассказана». Однако громадная личность ученого так завалена глупыми мифами, пустыми и пошловатыми славословиями («русский Леонардо», «великан мысли и труда» и т. п.) и фарисейскими умолчаниями, что реальная, а точнее, документированная история его научных поисков и жизненных перипетий видится как будто через мутное стекло.
Предлагаемая книга представляет собой собрание очерков о жизни и творчестве Д. И. Менделеева. Эти очерки посвящены первой половине жизни ученого, истории открытия периодического закона (здесь акцент сделан на тех аспектах, которым ранее не было уделено должного внимания), поискам мирового эфира и семейной драме. В одном из очерков рассказывается об истории создания Музея-архива Д. И. Менделеева Санкт-Петербургского университета. В книге использованы архивные материалы, а также свидетельства, документы и контексты, ранее не привлекавшиеся биографами ученого.
Предложенные изложение и трактовки во многом противоречат всякого рода предустановленным мнениям о Дмитрии Ивановиче. И это естественно, поскольку каждая эпоха видит прошлое через призму своих поисков, треволнений, предрассудков, бед и забот, и каждый исследователь выбирает свой инструментарий.
Считаю своим приятным долгом сердечно поблагодарить за критические замечания и помощь в работе Н. И. Кузнецову, И. Л. Тихонова, Т. М. Моисееву, И. С. Ивановскую, В. П. Крепостнову, директора Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН Н. А. Ащеулову и сотрудников этого института, а также Издательство СПбГУ.
И. С. Дмитриев
«Земную жизнь пройдя до половины…»[1]
А. Блок, «Возмездие»
- И нигилизм здесь был беззлобен,
- И дух естественных наук
- (Властей ввергающий в испуг)
- Здесь был религии подобен.
Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) прожил долгую, насыщенную событиями, великими озарениями и жестокими разочарованиями жизнь, которая охватила то время в мировой и российской истории, когда социально-политические, экономические, культурные и научные реалии коренным образом изменились. В год его появления на свет были живы Джон Дальтон (J. Dalton; 1766–1844) и Якоб Берцелиус (J. Berzelius; 1779–1848), А. С. Пушкин еще не закончил «Капитанскую дочку» и не начал издавать «Современник», а Н. В. Гоголь еще только обдумывал замысел «Мертвых душ». Ко времени же кончины ученого супруги П. и М. Кюри (P. Curie; 1859–1906; M. Curie; 1867–1908) и А. Беккерель (A. H. Becquerel; 1852–1908) получили Нобелевскую премию (1903) за исследование радиоактивности, А. Эйнштейн (A. Einstein; 1879–1955) уже написал свою знаменитую статью «К электродинамике движущихся тел» (1905), в которой изложил основы специальной теории относительности, а В. В. Маяковский и М. И. Цветаева начали свои первые поэтические опыты.
Д. И. Менделеев вел с эпохой долгий и сложный диалог. Он не все услышал и понял в своем времени, но и эпоха не оценила в полной мере его идей, тревог и прозрений.
Этот очерк посвящен первой половине жизни Дмитрия Ивановича, правда, не совсем в точном арифметическом смысле, поскольку реальной, некалендарной вехой, расколовшей его жизненный и научный путь надвое, уместнее, на мой взгляд, считать конец 1870-х – начало 1880-х годов. Очерк охватывает более краткий период: от рождения героя до начала его профессорской деятельности в Санкт-Петербургском университете (1867). Открытию периодического закона и событиям его жизни 1870-х годов посвящены три следующих очерка. Такой хронологический выбор представляется вполне оправданным, поскольку о событиях его жизни 1880-х – начала 1890-х годов я писал ранее [Дмитриев, 2004а], тогда как «палатский» период его биографии (т. е. время работы в Главной палате мер и весов) прекрасно освещен в трудах Е. Б. Гинак [Гинак, 2013].
Данный очерк ни в коем случае не следует воспринимать как книгу учета пусть даже значительной части трудов и дней Менделеева. В нем рассказывается о том, что мне представляется существенным. Допускаю, кто-то посчитает, что подчас я чрезмерно строг к Дмитрию Ивановичу. Возможно. Но елейных работ, изобилующих славословиями, за последние десятилетия накопилось предостаточно, пора обратиться к документам, контексту эпохи и более уравновешенному взгляду на его жизнь и творчество.
Избегая «латынского самообольщения»
Вот няню я любил, а латынь – нет…
Д. И. Менделеев[2]
Дмитрий Иванович Менделеев, родившийся 27 января 1834 года, – «в глухую морозную ночь» (уточняет его старшая дочь Ольга [Трирогова-Менделеева, 1947, с. 7]), стал последним, семнадцатым ребенком в семье директора Тобольской классической гимназии Ивана Павловича Менделеева (1783? – 1847)[3].
Ил. 1. Иван Павлович Менделеев. Неизвестный художник. Сер. XIX в. Музей-архив Д. И. Менделеева СПбГУ
Далеко не все братья и сестры Дмитрия Ивановича дожили не то чтоб до старости, но хотя бы лет до сорока. Восемь умерли еще во младенчестве, причем троих родители даже не успели крестить, в 15-летнем возрасте скончалась Мария (1811–1826), Аполлинария (1822–1848) умерла в 26, а Елизавета (1823–1852) в 29 лет. Семидесятилетний рубеж преодолели только четверо.
Часто приходится слышать вопрос о происхождении фамилии Менделеев. Отвечая на него, следует прежде всего учитывать обстоятельство, уже не раз отмечавшееся историками русской культуры. Вот что пишет по этому поводу Б. А. Успенский:
…Фамилии в России представляют собой относительно новое явление. Об этом в какой-то мере свидетельствует, между прочим, иностранное происхождение самого слова «фамилия»: это слово было заимствовано в XVII в., причем первоначально оно означало род, семью (в соответствии со значением латинского или польского слова familia); значение наименования выкристаллизовывается к 30-м годам XVIII в., но окончательно закрепляется за этим словом только в конце XVIII – начале XIX в. Показательно, что до XVIII в. в русском языке не было средства для адекватного выражения соответствующего понятия (такие слова, как «прозвище», «прозвание», могли недифференцированно обозначать как родовое, так и индивидуальное наименование).
Процесс образования фамилий, начавшийся в XVI в., закончился во второй половине XIX в.; при этом распространению фамилий, несомненно, способствовали культурные процессы XVII–XVIII вв. – ориентация на Польшу, а затем на Западную Европу. Будучи связан с бюрократическими потребностями Российской империи, процесс этот имел до некоторой степени искусственный характер. О его искусственности может говорить, между прочим, тот факт, что в русских деревнях крестьяне, не считающие себя родственниками, очень часто носят одну и ту же фамилию; обычны случаи, когда вся деревня или значительная ее часть носит одну фамилию.
В духовной среде употребление фамилий было настолько своеобразным, что мы вправе задаться вопросом: в какой мере соответствующие наименования могут рассматриваться как фамилии?
В самом деле, в духовном сословии фамилии, строго говоря, не были родовым наименованием, т. е. они не обязательно наследовались от отца к сыну. Американский путешественник, посетивший Россию в XIX в., с удивлением отмечал, что русские священники не носят фамилии своих отцов[4]. Действительно, до середины XIX в. это было обычным явлением. Образование в духовной среде с петровского времени приобретает сословный характер, т. е. сыновья духовных лиц получали, как правило, духовное образование[5]. Именно при поступлении в училище или семинарию они получали обычно новую фамилию. ‹…›
Как видим, изменение фамилии воспринималось как нечто вполне естественное и неизбежное. В дальнейшем фамилия могла меняться еще несколько раз: при переходе из училища в семинарию, из семинарии в Академию, при переходе из класса в класс и даже несколько раз в течение курса. В подобных случаях фамилия давалась ректором или же архиереем: в этих случаях, как правило, семинаристу не давалась фамилия какого-то другого лица… но он получал искусственно образованную фамилию [Успенский, 1994, с. 180–182].
Принимая во внимание исторические реалии, указанные в цитированном фрагменте, обратимся к происхождению фамилии Менделеев.
Иван Павлович был сыном священника Павла Максимовича Соколова. Точнее, Иван Павлович происходил из семьи потомственного священника, прямые предки которого известны с 1665 года и «все были священнослужителями (или их супругами) в церквях на севере современной Тверской области, в окрестностях города Удомля» [Судницын, 2004, с.18], возле реки Тихомандрицы. Различие в фамилиях отца и сына связано как раз с тем отмеченным выше обстоятельством, что фамилии в духовном сословии, строго говоря, не были родовым наименованием. В автобиографических заметках Дмитрий Иванович написал про отца: «Папенька, Иван Павлович Менделеев, урожденный Соколов» [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 14]. Четырем сыновьям священника Соколова в семинарии были даны, по обычаю того времени, разные фамилии. Ивану Павловичу досталась фамилия соседних помещиков. Так что, если б не семинарская традиция, мы бы сейчас имели Периодическую систему Д. И. Соколова. Сам Дмитрий Иванович, со слов брата Павла, излагал несколько иную, но скорее уточняющую, а не противоречащую вышеизложенной, версию происхождения фамилии своего отца: «…дана отцу, когда он что-то выменял, как соседний помещик Менделеев менял лошадей. Учитель (Тверской духовной семинарии, в которой учился Иван Павлович. – И. Д.) по созвучию „мену делать“ вписал и отца под фамилией Менделеев» [там же, с. 11]. Возможно, что так оно и было, но даже без всяких «созвучий» существовала практика давать сыновьям священников фамилии либо по названию топонимов (один из братьев Ивана Павловича носил фамилию Тихомандрицкий, по названию села, где служил священником Иван Павлович Соколов), либо по фамилиям соседних помещиков.
Что же касается «настоящих» Менделеевых, то они тоже сыграли свою роль в истории России [Экштут, 2018]. Как-то у одного из представителей этого рода, бывшего члена Государственного совета Российской империи, тайного советника и губернского предводителя дворянства Павла Павловича Менделеева (1863–1951) спросили, не родственник ли ему химик Д. И. Менделеев, на что Павел Павлович сухо ответил: «Дед химика был крепостным у его (Павла Павловича. – И. Д.) собственного прадеда» [Менделеев П., 2017, с. 14]. Разумеется, это ложь. Дед Дмитрия Ивановича не был крепостным. Род Менделеевых («настоящих») «татарского происхождения и записан в так называемую Бархатную книгу – родословную книгу знатных русских боярских и дворянских фамилий, составленную в 1687 году. Род сумел сохранить свое „дворянское гнездо“, потому что Менделеевы, предпочитая служить государству Российскому шпагой, из поколения в поколение рано выходили в отставку „по домашним обстоятельствам“ и в невысоких чинах оседали на земле. Высоко не поднимались, низко не падали. Не сделав карьеры, они сберегали родовое имение, а не проматывали его на государевой службе» [Экштут, 2018, с. 108].
К сказанному в очерке С. А. Экштута можно добавить любопытное свидетельство Ольги Дмитриевны, дочери Менделеева:
Однажды приехала к нему (Дмитрию Ивановичу. – И. Д.) молодая красивая дама с испанским типом лица и просила доложить, что г-жа Менделеева просит Дм. Ив. принять ее. Потом отец рассказал нам, что это была жена помещика Тверской губернии, от предков которого и началась наша фамилия. А было это в 1880 году.
Дама эта приезжала сказать Дм. Ив., что она назвала своих двух сыновей его племянниками, так как все вакансии в кадетский корпус были заполнены, но для племянников Дм. Ив. Менделеева было сделано исключение, и оба мальчика были приняты кадетами. По ее словам, иного выхода у нее не было. Дм. Ив. искренно смеялся и был с нею очень мил и любезен [Трирогова-Менделеева, 1947, с. 34].
Некоторые авторы подчеркивают особую роль отца в воспитании юного Менделеева:
Отец как педагог знал, что чтение – это основной способ интеллектуального развития ребенка. Поэтому он делал упор не только на выявление и последующее развитие читательского интереса у сына, но и на формирование у него с помощью книг и чтения черт, определяющих индивидуальность: самостоятельность мышления, умение сопоставлять, анализировать факты, пополнять свои знания, учил думать, отстаивать свои взгляды, доказательно вести спор [Баринов, Баринова, 2013, с. 24–25][6].
Все это не более чем незатейливые назидательные педагогические фантазии. О влиянии Ивана Дмитриевича на своего младшего сына, как, впрочем, и на остальных детей, известно крайне мало, во всяком случае для подобных характеристик. Даже точной биографии отца ни Менделеев, ни его брат Павел не знали, о чем свидетельствуют следующие фрагменты из родословной, составленной в 1880 году Павлом Ивановичем, и из автобиографических заметок Дмитрия Ивановича 1906 года:
– «отец Иван Павлович учился в Главном педагогическом институте и поехал учителем словесности в Тобольск, должно быть около 1808 г., где женился на Марье Дмитриевне Корнильевой. Скоро сделали директором Тамбовской, потом Саратовской гимназии (или обратно?)» [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 11];
– «мне кажется, по памяти, – пояснял Д. И. Менделеев приводившиеся им даты рождения отца (18 февраля 1783 года) и матери (16 января 1793 года), – что оба были старше, т. е. родились ранее» [там же, c. 15].
И дело не только в этом. Важный аспект различий между отцом и его младшим сыном отметил Е. В. Бабаев:
Ненависть к латыни в жизни Менделеева приобрела настолько гипертрофированные черты, что заставляет задуматься. Это не миф, он действительно разбивал камнями и жег учебник по латыни на Панином бугре, с нежностью цитировал свою няню, для которой «латынец» было ругательным словом, настаивал, что для России «Невтоны важнее, чем Платоны», требовал убрать мертвые языки и все «классическое» из учебных программ. Между тем стоит вспомнить, что устремления его отца были прямо противоположными: Иван Павлович всю жизнь усиливал классическую компоненту в образовании, о чем говорят его нововведения (курсы логики и риторики в Тамбове и Тобольске) и даже тайная страсть – так и не увидевший свет перевод «Латинских древностей». Возможно, что отрицание всего «классического» было скрыто в подсознании ребенка и вылилось в формулу протеста против идеалов безвольного отца в пользу деятельной матери, призывавшей избегать «латинского самообольщения» [Бабаев, 2009а, с.50].
На мой взгляд, очень точно сказано.
В год рождения Дмитрия Ивановича его отец стал слепнуть вследствие катаракты и потому вынужден был оставить должность в гимназии (к тому же в этом году он достиг предельного срока службы – 25 лет). Правда, в конце 1836 года он отправился в сопровождении дочери Екатерины («благоразумной Катеньки») и слуги Петра Григорьевича в Москву (где они пробыли с 16 января по 9 августа) к известному глазному хирургу Петру Федоровичу (Петру Готлибу) Броссе (1793–1857)[7], главврачу и директору Московской глазной больницы. Операция прошла удачно, зрение значительно улучшилось, однако вернуться на службу даже в качестве простого учителя Иван Павлович уже не смог. В итоге он устроился корректором в тобольской типографии. Его пенсии (1000 руб. ассигнациями, т. е. 275 руб. серебром) никак не хватало, чтобы обеспечить себя, жену и детей. Семья вынуждена была сократить свое хозяйство, чтобы кое-как сводить концы с концами. Все заботы о доме легли на плечи матери Менделеева Марии Дмитриевны (урожд. Корнильевой; 1793? – 1850).
Ил. 2. Мария Дмитриевна Менделеева (урожд. Корнильева). Неизвестный художник. Сер. XIX в. Музей-архив Д. И. Менделеева СПбГУ
Она была родом из известной сибирской купеческой семьи, первые сведения о которой восходят к началу XVIII века[8]. Из семейной переписки 1839 года известно, что Василий Яковлевич Корнильев и его сын Дмитрий «первые начали возводить фабрики в Тобольске, бумажную и хрустальную. Типография заведена ими в 1787 году в одно время с Франклином в Америке. Газета (ежемесячный журнал. – И. Д.) „Иртыш“ начала издаваться с 1789 года, печатались и другие книги» [Капустина-Губкина, 1908, с.135].
К этому надо добавить, что разрешение на создание первой в Сибири бумажной мануфактуры было дано в июле 1744 года. Фабрика начала работать в 1751 году. Она располагалась в пятнадцати верстах от Тобольска, на речке Суклёме (Суклёмке). Ее основателями стали тобольские купцы Евсевий, Антон и Иван Варфоломеевичи Медведевы. В 1778 году они продали половину мануфактуры тобольскому купцу второй гильдии Василию Яковлевичу Корнильеву, который позднее, в 1793 году, выкупил и вторую половину предприятия[9]. Фабрика поставляла бумагу в присутственные места 202 сибирских волостей[10].
Кроме того, В. Я. Корнильев основал первую в Сибири частную типографию[11], но не в 1787 году, как сказано в семейной переписке, а двумя годами позднее (соответствующее прошение было им подано 5 апреля 1789 года). Сравнение же с Б. Франклином вообще не выдерживает критики. Последний основал свою типографию в Филадельфии в 1727 году, она успешно работала многие десятилетия, и власти ее не закрывали. Судьбы же российских частных типографий, в том числе и корнильевской, были, как будет видно из дальнейшего, несколько иными.
Типографией Корнильевых, находившейся поначалу при их «стеклянной фабрике» в селе Аремзянском, а затем – в собственном деревянном доме Корнильева в Тобольске, было издано множество книг и журналов, в том числе труд П. С. Палласа «Описание растений Российского государства» [Паллас, 1792][12], а также журналы «Иртыш, превращающийся в Ипокрену»[13] и «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей»[14].
Разумеется, историки и краеведы стараются акцентировать внимание на позитивных сторонах тобольской жизни: культурное влияние ссыльных декабристов, концерты А. А. Алябьева (некоторые из них были организованы при участии И. П. Менделеева), визит А. фон Гумбольдта в 1829 году, частные библиотеки, типография Корнильевых и т. д. Однако в целом Тобольск был вполне провинциальным городом[15]. Петр Андреевич Словцов (1767–1843), историк и писатель, человек весьма затейливой биографии [Степанов, 1935], в книге «Прогулки вокруг Тобольска в 1830 г.» описывает воображаемую застольную беседу в Екатеринбурге. Хозяин дома предлагает супруге отправиться в Тобольск «послушать и посмотреть изящных искусств». На что та охотно соглашается: «Очень рада посмотреть Азию». И на уточняющий вопрос одного из гостей (Советника) – о каких изящных искусствах идет речь – хозяйка отвечает: «Да! Вы не слышали, что там с 20 Генваря 1829 г. начались по праздникам большие инструментальные и вокальные концерты». «Диковинка!» – восклицает Советник. «Нимало не диковинка, – замечает гость, приехавший из Тобольска, – когда поэзия уха и сердца управляется талантом известного музыкосочинителя Алябьева. Это наш Россини».
Далее собеседники заводят разговор о модах, преимущественно женских, и на вопрос одного из присутствующих: «Откуда получаются у вас модные наряды?» – один из гостей не без иронии замечает: «Без сомнения из ближайшей столицы, сиречь Бухары или Пекина».
Присутствующие интересуются также тобольскими мастерами изобразительных искусств. На вопрос тоболяку, есть ли в его городе «портретные живописцы», тот откровенно признает: «Есть, но правду сказать, с кистию мещанскою. Гостиные наши и залы, где есть залы, увешиваются портретами разными, начиная с хозяев или с начальников до городничих», на что следует восклицание хозяйки дома: «Вот прелестные пантеоны сибирского бессмертия» [Словцов, 1834, с. 173–177].
Слово за слово, и один из гостей спрашивает: «Сколько у вас публичных училищ?» – на что тоболяк сообщает: «Всех гражданских, духовных и военных наберется, кажется, до 6-ти». В ответ другой гость бросает реплику: «Изрядно! А питейных домов, недавно сказывал откупщик, который торговался на Тобольске, состоит в штате 29. В 6-ти заведениях можно кой-чему научиться, а в 29-ти – после от всего разучиться!» Видя, что градус беседы начинает расти, хозяйка примирительно предлагает: «Прошу дорогих гостей покушать водки или мадеры и закусить, что Бог послал. Заморив голод, авось разучимся мы от столь искренних переговоров» [там же, c.178].
Вернемся, однако, к Корнильевым.
Василий Яковлевич скончался в 1795 году, а спустя год типография была закрыта согласно именному указу Екатерины II от 16 сентября 1796 года «Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг; об учреждении на сей конец Ценсур в городах: Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при Радзивилловской таможне, и об упразднении частных типографий» [ПСЗ-I, т.23, № 17508]. Когда в 1802 году, уже при Александре I, частные типографии были вновь разрешены, Дмитрий Васильевич Корнильев и его брат Яков решили продолжить начатое их отцом дело. Возрожденная ими типография просуществовала недолго, с 1804 по 1807 год, когда начала работать казенная типография Губернского правления [Есипова, 2000; Соболевская, 1989].
Брат Марии Дмитриевны, Василий, некоторое время служивший управляющим делами и имениями князей Трубецких, знакомец А. С. Пушкина, который звал его «наш Корнилий», еще в 1828 году отписал сестре доверенность на управление маленькой стекольной («стеклянной», как тогда говорили) фабрикой, построенной купцами Корнильевыми в 1749 году в 25 верстах от Тобольска в селе Верхние Аремзяны[16] на пустопорожних землях[17]. Фабрика (которую иногда называли «заводом») в конце XVIII века юридически находилась в собственности сначала ее основателя Алексея Яковлевича Корнильева, а затем (после его смерти в декабре 1783 года) его сына Николая Алексеевича Корнильева, опекуном которого в сентябре 1792 года стал его дядя Василий Яковлевич, прадед Менделеева[18]. Документы свидетельствуют, что опекунство было взято по причине «пьянства и распутной жизни» Николая. По словам С. Мамеева, «с переходом фабрики в самостоятельное управление Николая Корнильева производство на ней стеклянной посуды настолько упало, что Тобольская казенная аптека, снабжаемая ранее в потребном количестве посудой с этой фабрики, принуждена была выписывать стеклянную посуду из России. Готовой посуды и оконных стекол не имелось в продаже даже местным жителям» [Мамеев, 2004, с.337].
После смерти Василия Яковлевича в январе 1795 года его вдова, Марфа Ивановна, бабка Марии Дмитриевны, пыталась заполучить аремзянскую фабрику вместе с крестьянами в свое и своих сыновей (Дмитрия и Якова) владение и затеяла судебное разбирательство в совестном суде. Но суд не смог «дойти до настоящей между спорящими… истины» [там же, c.338], после чего удалось-таки достичь между сторонами полюбовного примирения, в результате которого фабрика должна была перейти к Марфе Ивановне и ее сыновьям, а затем и внукам, но лишь юридически, поскольку Марфа Ивановна как новая владелица должна была оплатить долги Николая Алексеевича, чего она, однако, не делала. В итоге тяжба затянулась, и только в ноябре 1804 года Марфа Ивановна и ее сыновья были окончательно утверждены в правах на фабрику (Николай к тому времени уже пять лет как умер). От того, что у фабрики сменились владельцы, дела там не улучшились, да и старые долги Николая Марфа Ивановна и ее сыновья не выплатили, наделав к тому же много новых.
В итоге Тобольская палата гражданского суда приняла в сентябре 1809 года решение о продаже злосчастной фабрики с людьми и землею с аукциона. Но и это решение не было выполнено, фабрику не продали, и в результате она досталась в наследство титулярному советнику Василию Дмитриевичу Корнильеву, внуку Марфы Ивановны и родному брату Марии Дмитриевны, матери Менделеева.
Надо сказать, что Яков и Дмитрий Корнильевы фактически устранились от управления фабричными делами, поручив предприятие доверенным лицам. Одним из них в 1815 году стал титулярный советник Иван Павлович Менделеев, старший учитель Тобольской гимназии, муж Марии Дмитриевны (они обвенчались 23 июля 1809 года), который уже года два помогал тестю руководить фабрикой. Вверяя своему зятю управление, Дмитрий Васильевич писал:
Всемогущему Богу угодно было лишить меня сына, находившегося при мне, на которого я возлагал мою надежду. Хотя, по благости Создателя моего, имею я другого сына Василия, но сей, находясь на службе по Министерству юстиции[19], не может в скором времени сюда возвратиться. Дела наши с родным моим братом Яковом Корнильевым не терпят медленности. Вы, по смерти сына моего Николая, по личной просьбе моей, привели в известность задержанную (т. е. израсходованную. – И. Д.) им на производство фабрики сумму и с начала сентября сего года по сие время не переставали задерживать на сию фабрику собственный наш капитал, дабы, занимая людей работою, не довесть ее до прежнего расстройства, и тем не лишить меня с братом, а паче по нас следующих законных наследников оной. С моей стороны, желал бы я охотно, при помощи Вашей, действовать вкупе с моим братом Яковом или, с его стороны, с г. майором Таракановым[20], но, не видя по сие время ничего решительного, решился за отсутствием моего сына Василия и впредь до возвращения Вас, яко ближайшего родственника, обратить внимание Ваше на фабрику. ‹…› О сем просить Вас тем более имею побудительных причин, что Вам известно делопроизводство фабрики, что и доказали Вы двумя годами вашего управления оною[21].
Майор Тараканов тоже был не прочь возложить на Ивана Павловича бремя фабричных забот, поскольку по служебным делам должен был оставить Тобольск. Однако в октябре 1818 года И. П. Менделеев получил назначение в Тамбов директором Тамбовского главного народного училища[22]. В итоге фабрика перешла под управление вернувшегося из служебных разъездов майора Тараканова. Владение же ею в декабре 1820 года переходит к Василию Дмитриевичу Корнильеву, к тому времени вышедшему в отставку. «Известясь, – писал Дмитрий Васильевич сыну, – что брат мой Яков 20 ноября сего 1820 г. волею Божиею помре, после коего не осталось никого из наследников, кроме меня, старшего его брата, посему поручаю тебе, любезный сын, яко единственному по мне наследнику мужского пола, вступить в полное владение и распоряжение фабрикою»[23].
В 1822 году Василий Дмитриевич оплатил-таки все долги (что оказалось для него делом непростым и весьма накладным, пришлось взять ссуду из Тобольского приказа общественного призрения) и стал собственником аремзянской фабрики[24].
Еще с 1803 года тянулось дело по жалобе фабричных крепостных крестьян на притеснения со стороны хозяев. И только к концу 1822 года, когда бумаги дошли до Сената, оно «восприяло окончание». Сенат постановил, что фабричным людям Корнильевых надлежит «остаться при правах в привилегии», им ранее данной, т. е. сохранить все как было. Крестьяне же хотели не на фабрике работать, а заниматься своими делами. Тогда Василий Дмитриевич, чтобы погасить конфликт, решил озаботиться их жизнью: построил им новые избы, увеличил плату за труды на фабрике, предоставил льготы на время полевых работ, выплачивал их долги и т. д. К несчастью, в 1824 году случился пожар, принесший большие убытки. Тем не менее Василий Дмитриевич восстановил фабрику. Но вскоре, уволившись с должности советника Тобольского губернского суда (29 августа 1825 года), уехал в Москву, поручив вести фабричные дела приказчику. Воспользовавшись отъездом владельца фабрики, крестьяне начали писать жалобы и всячески выражать свое недовольство.
Когда Мария Дмитриевна стала управляющей, предприятие было в запустении. Но она сумела получить кредит у тобольских купцов для налаживания производства. Руководить фабрикой было делом весьма хлопотным, и Менделеевым пришлось всей семьей переселиться в Аремзяны. Однако крестьяне не желали, чтобы ими управляла женщина, более того, они вообще не желали работать на фабрике и отписали жалобу. Свой отказ подчиняться Марии Дмитриевне жертвы крепостного гнета аргументировали тем, что они-де вольные и к фабрике приставлены исключительно для временных работ.
Все попытки новой управляющей навести порядок фабричные упорно саботировали: «разбивали стекловаренные горшки, замучивали рабочих лошадей, крали и продавали дрова из господского леса, наотрез отказывались сеять хлеб, предпочитая кузнечный промысел» [Бабаев, 2009а, с.55][25]. Тогда, чтобы привести в чувство распоясавшихся пейзан, Мария Дмитриевна пригласила оценщиков имущества (поскольку ей нужно было получить кредит под залог фабрики). Угнетаемое крестьянство тут же встрепенулось, решив, что их собираются продать вместе с домами, и отписало жалобу прямо государю императору. Но добиться своего им, естественно, не удалось.
Или другой случай. Когда Мария Дмитриевна решила «уточнить» границы своих владений межеванием, у нее начался конфликт с соседом. Однако она пресекла его территориальные притязания, просто отняв лошадей у крестьян этого соседа, посягавших на ее пашни.
Позже Дмитрий Иванович утверждал, что его мать своих крестьян «исправляла любовью». Скорее, она умело сочетала кнут и пряник (скажем, школу для крестьянских детей построила) и в итоге своего добилась – причем фактически без помощи мужа, который был уже болен. Фабрика кое-как заработала, во всяком случае, производство достигло такого уровня, что Дмитрий Иванович на старости лет мог с удовлетворением констатировать: «…там, на стеклянном заводе, управляемом моею матушкою, получились первые мои впечатления от природы, от людей и от промышленных дел» [Менделеев, 1934–1954, т.12, с.562]. На деле это означало, что младшие дети, Дмитрий и Павел, фактически были предоставлены сами себе, отсюда впечатления «от природы», а видя, как тяжело было их матери разбираться с обнаглевшими рабочими и крестьянами, они, естественно, получили большие впечатления и «от людей». Впрочем, Дмитрию Ивановичу детство его представлялось счастливым и уютным (как он потом выразился, у него остались «приветливые, даже идеализированные воспоминания о прошлом» [там же, c.572]). Думаю, прав Е. В. Бабаев, заметивший по поводу отношения Менделеева к своему имению Боблово: «Именно туда, в деревню, он перевез своих сестер с их бесчисленными чадами и родней, что явно не способствовало уединению. Похоже, он все пытался вплоть до глубокой старости воссоздать вокруг себя мирок огромной и счастливой семьи, вернуться в то „первое детство“, в окружение любящих и любимых людей» [Бабаев, 2009а, с.48][26].
Иван Павлович помогал жене в меру сил: занимался заготовкой материалов для фабрики, ездил на ярмарки, где продавалась ее продукция, и т. д. Но основная ноша по управлению предприятием лежала на Марии Дмитриевне. Много лет спустя, в 1899 году, Менделеев, посетивший родные места во время поездки на Урал, не скрывая восторга, напишет:
Без пресловутого увлечения «женским вопросом» истинно русские женщины, сохраняя всю женственность, сыздавна умеют вести практические дела, не легкие и для мужчины, а в Сибири и вообще на северо-восточной России, где много старорусского сохранилось лучше, чем в краях, знавших нам привитый помещичий быт, это свойство русской женщины выступает с ясностью и уживается с большой начитанностью, не впадая ни в одну крайность современного колобродства [Менделеев, 1934–1954, 12, с. 573].
Если выразиться попроще, то Менделеев был в восторге от того, что «истинно русские женщины» могут всю жизнь работать от зари до зари без устали, при этом быть начитанными и сохранять женственность, т. е. рожать по 17 детей, а потом умереть лет в 50 от истощения, не увлекаясь пресловутым женским вопросом и уж тем более не впадая в крайности «современного колобродства». И все это в неповторимых климатических условиях северо-восточной России.
Разумеется, с годами жизненные наблюдения заметно обогащали взгляды Менделеева на женские возможности, о чем, в частности, вспоминал С. Л. Толстой, сын писателя:
В июле 1888 г. я поехал в имение Олсуфьевых… Дмитрий Адамович [Олсуфьев]… в то время был под обаянием своего соседа Дмитрия Ивановича Менделеева… Сделав верст 25 по живописной местности, мы подъехали к красивому барскому дому. Это был дом Менделеева, но он жил не здесь. В этом доме жила его первая жена со своей семьей. Сам же он, вместе со второй женой, жил в версте отсюда, в каменном доме…
Дмитрий Иванович любезно принял нас… Разговор перешел на развитие промышленности в России и особенно в Донецком крае, куда Дмитрий Иванович недавно ездил. ‹…› «Этот край имеет громадную будущность… русский Манчестер и Шеффильд. ‹…› Не надо стеснений для промышленности. Вот, например, у нас запрещают женщинам работать в шахтах. Это неправильно: женщинам легче сгибать позвоночный столб, чем мужчинам, пусть же и они работают в шахтах». Когда я на это попробовал возразить, Дмитрий Иванович ответил мне уже несколько раздраженно, что он против нарушения свободы труда [Толстой С., 1956, с. 162–163].
Сколь же тонко понимал Дмитрий Иванович возможности «истинно русских женщин»! Однако продолжим.
Из письма Марии Дмитриевны к дочери Екатерине от 3 марта 1847 года:
Богу угодно, чтобы я под старость, вместо ожидаемого мною покоя, трудами снискивала хлеб мой… Я прикащица фабричная и в то же время повариха на всю нашу семью. Мой день начинается с шести часов утра приготовлением теста для булок и пирогов, потом приготовлением кушанья с помощью Парасковии и Афимьи[27], и в то же время личными распоряжениями по делам, причем перехожу то к кухонному столу, то к письменному… Слезы мои часто капают на журналы, посудные и статейные книги, но их никто не видит. Я всею силою волей моей покоряюсь судьбе и утешаюсь тем, что, привыкнув к черным кухонным работам, могу без горя оставить Тобольск, когда надо будет везти отсюда учиться в университет Пашу и Митю; я не заставлю на старости лет мужа моего нанимать для себя прислуги, а сварю ему щи и испеку хлеб. За всем тем и в самой старости моей самолюбие еще так велико, что мне кажется тяжко вести жизнь или существовать для одних забот о чреве и не иметь свободной минуты для души, ума и сердца[28].
Забот, проблем и горестей на долю Марии Дмитриевны и Ивана Павловича выпало немало. После рождения первой дочери Марии в 1811 (или в 1812) году семья попадает в трудное материальное положение. Сохранилась закладная записка Ивана Павловича, тогда учителя философии, словесности и политической экономии Тобольской классической гимназии, в Приказ общественного призрения, согласно которой ему выдано 400 руб. в залог золотой табакерки, жемчуга и золотого креста. В 1826 году[29], когда семья жила в Саратове, дочь Мария умерла от чахотки. В 1839 году случилась печальная история со старшим сыном Иваном, родившимся, по данным «Летописи жизни и деятельности Д. И. Менделеева», в 1826 году [Летопись… 1984, с. 509].
Когда Ивану исполнилось 11 лет, родители отправили его в Москву к Василию Дмитриевичу Корнильеву, который устроил племянника в Благородный пансион при Московском университете и платил за его учебу 1000 руб. в год. Об Иване в «Летописи…» сказано следующее: «В возрасте 15 лет возвратился в Тобольск, где окончил гимназию. Служил чиновником в разных местах Сибири» [Летопись… 1984, с. 509]. Однако это сильно и неоправданно сглаженное описание событий[30]. В действительности, пребывание Ивана в Москве кончилось для него примерно тем же, чем завершились приключения Пьера Безухова в Петербурге. Иван за пьянство и дурное поведение весной 1839 года был исключен из пансиона[31]. Родители, особенно мать, тяжело переживали эту историю.
Из переписки Марии Дмитриевны (30 июня 1839 года):
Бедность никогда не унижала и не унизит меня, но краснеть за детей моих есть такое несчастье, которое может убить меня.
Ванечка, как старший сын, был опорою надежд моих. А теперь, пока участь Ванечки не будет устроена, до того времени спокойствие ко мне не возвратится.
Братец утешает нас тем, что Ванечка, поступив в Межевой институт, через три года сделается офицером и получит место с хорошим жалованьем, но я решительно, как мать, не могу на это согласиться[32].
Почему? Ведь предложение Василия Дмитриевича было вполне разумным. Не иначе как у его сестры открылся пророческий дар, о чем много позднее будет вспоминать Дмитрий Иванович (см. очерк «Эффективный Менделеев» наст. изд.).
Теперь мои глаза открыты, его порочные наклонности и укоренятся в сем институте, и сын мой, в 18 лет сделавшись свободным, снова предастся тем порокам, которые не будут исторгнуты испытаниями. Пусть он пробудет еще три года в гимназии и четыре в университете, ему будет 23 года[33], и страсти будут подавлены, или он погибнет, не вступая в свет[34].
Это – страдания материнские. Теперь – об отношении отца к случившемуся.
Из переписки Ивана Павловича (16 июня 1839 года):
Меня теперь крайне беспокоит жалкое состояние бедного моего Ванюши; не знаю, как его вызвать или достать из Москвы сюда (ну да, ведь его отцовское слово легче пуха, а чтобы вернуть сына, жена все сделает. – И. Д.). Пусть он учится под надзором родительским, а нам не хочется, чтобы он служил до времени по межевой части, где служащие, находясь всегда или большею частью на открытом воздухе, нередко согреваются искусственно; межемерная часть, как говорят в Тамбове, пьяная часть, след[овательно] боязно… Впрочем, я не совсем отчаиваюсь в своем Ванюше: он, правда, пакостлив, как кошка, а труслив, как заяц, и плаксив, след[овательно] предполагать надобно, что сердце его еще не окаменело и не огрубело совершенно в пороках…[35]
Иными словами, по мнению Ивана Павловича (профессионального педагога, Главный педагогический окончил), его Ванюша – человек хороший, поскольку хотя пакостлив и труслив, но при этом плаксив.
Один из биографов Д. И. Менделеева написал о его отце: «Взять на себя управление Аремзянским заводом Иван Павлович был просто не в состоянии – дело требовало купеческого таланта, которого он… был полностью лишен» [Беленький, 2010, с.21]. Боюсь, что Иван Павлович был лишен не только купеческого таланта.
В итоге Ванюша в августе 1839 года по настоянию матери вернулся на свою историческую родину, окончил в 1843 году гимназию, даже с похвалою, проучившись там по бедности семьи на казенном содержании. Ни в какой университет он не поступал, а отправился служить в Омск, дослужился до должности столоначальника Главного управления Западной Сибири, женился на купеческой дочери Серафиме Ивановне (урожд. Маршаловой, отец которой принимал для продажи посуду, изготовленную на Аремзянской фабрике), обзавелся детьми и умер в августе 1862 года, не дожив до сорока. Его десятилетнего сына Яшу привезли в декабре 1862 года в Петербург, где он жил в семье Менделеевых. В 1875 году Яша скончался в Боблово.
Историю с Иваном Мария Дмитриевна переживала тяжело, корила себя, что мало внимания уделяла детям.
Увлеченная желанием поддерживать честолюбивые виды своего звания, – признавалась она дочери, – и вступивши в бедственное для семейного моего блага управление имением, я забывала, что окружена детьми, которых будущность будет наградой попечений родителей. Забыла, что я мать семейства, и горечь настоящего через десять лет сняла повязку с глаз моих. Фабрика меня не обеспечила от нужд, я и дети мои все остаются без пристанища, без приюта, и я потеряла с сим управлением утешение и опору моей старости. ‹…› Я продала нравственность старшего моего сына за временное лучшее существование моей семьи. ‹…›
Между тем дела фабрики теперь требуют решительных мер, убытки за убытками следуют… Я уже не возвращусь туда и не брошу младших моих детей… Свой глаз алмаз во всяком деле, и я, живучи на фабрике, с утра до вечера посвящала мое время фабрике и заведениям, и оттого дети мои были сиротами без матери. – Завеса спала с глаз. Прилагаю последнее письмо братца, из коего вы увидите, что братец предупреждает меня в том, что я могу только надеяться на доходы с фабрики, а я в последнее пятилетие, перенося все огорчения из-за фабрики, только силою моего характера могла стоять выше обстоятельств. Силы мои истощились, я начала проситься в отставку с начала прошлого года и на все письма, на все жалобы получила в ответ, чтоб только трудилась в поте лица[36].
В итоге семья Менделеевых вернулась в Тобольск, оставив на фабрике наемного управляющего, при котором сбыт изделий шел все хуже и хуже. 10 июня 1839 года из Аремзян была вывезена вся домашняя живность. «Я возвратилась вчера во втором часу по полуночи, и вслед за мной в семь часов утра пришел обоз мой с курами, гусями, утками, индейками и их племенем, и нянюшкою, и дойные четыре коровушки с Гаркушею и его женой», – сообщала родственникам Мария Дмитриевна [Капустина-Губкина, 1908, с. 16–17].
Материальное положение семьи становится еще более тяжелым, «все расходы урезаются, штат прислуги минимален, а сестры (Поля, Лиза и даже 12-летняя Маша) шьют платья на продажу» [Бабаев, 2009а, с.49].
Прошло несколько нелегких лет, и в ночь на 27 июня 1848 года аремзянская фабрика Корнильевых, немного не дотянув до 100-летнего юбилея, сгорела вместе с амбарами, где хранились материалы и готовая продукция. В декабре второй пожар истребил конторские строения. Василий Дмитриевич не счел нужным восстанавливать фабрику. Да и фабричный люд не выразил никакого желания что-то делать, хотя уцелевшими при пожаре вещами и строениями благодарные крестьяне распорядились так, что место, где находилась фабрика, стало походить на пустыню. Впрочем, в этой печальной истории была и своя светлая сторона – Мария Дмитриевна «навсегда освободилась от заводских дел, которые ее так тяготили» [Младенцев, Тищенко, 1938, с.18].
Выйдя в отставку, Иван Павлович начал болеть и 13 октября 1847 года скончался. Ровно через три месяца после его смерти ушла из жизни дочь Аполлинария, которая была религиозной до фанатизма, к тому же попала в какое-то тайное религиозное общество и стала изнурять себя постами. Замужество она для себя, естественно, исключала и убедила никогда не выходить замуж свою сестру Елизавету.
Из письма Марии Дмитриевны от 5 августа 1847 года:
Полинька тает как воск и быстро приближается к невозвратной потере здоровья, и над нею изныло сердце матери. Да судит Бог тех, кои вовлекли ее в сети заблуждения и фанатизма. ‹…› Жалкое предубеждение отталкивает ее от матери, и она считает даже спасением для себя противодействовать не только воле, но и самым ничтожным желаниям моим[37].
Все описанные события, особенно история с Иваном, переключили в итоге внимание Марии Дмитриевны на ее младших сыновей – Павла и Дмитрия:
Я уже умерла для деятельности и буду жить для младших детей, покуда я им нужна…
Я проснулась от усыпления, и любовь к сыновьям-младенцам делает меня их наставницею и надзирательницею, и я возвратилась к обязанностям матери семейства, которыми пренебрегла, гоняясь за устройством имения. Покойна теперь в совести моей и умру спокойно, если исполню в отношении Паши и Мити долг и обязанности матери[38].
Нет, Мария Дмитриевна вовсе не «умерла для деятельности», но ее незаурядная энергия и настойчивость теперь сконцентрировались на младших сыновьях, а после того, как Павел, окончив гимназию, уехал в Омск на службу, – исключительно на Дмитрии.
Надпись на семейной иконе, которой Мария Дмитриевна, умирая, благословила сына, заканчивается словами: «Прощай, помни мать, которая любила тебя паче всех. Марья Менделеева» [Капустина-Губкина, 1908, с.101].
* * *
Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление от темы. И Иван, и Павел Менделеевы после окончания Тобольской гимназии отправились, как уже было сказано, служить в Омск. Это неслучайно. В Омске жила их сестра Екатерина Ивановна Менделеева (1818–1901) с семьей. В 1839 году она вышла замуж за Якова Семёновича Капустина (1797–1859), советника и начальника отделения Главного управления Западной Сибири, вдовца с двумя детьми. В начале 1850-х годов Главное управление было переведено в Омск, и семья Капустиных переехала туда же. «Дом Капустиных в Омске, – вспоминал современник, – представлял салон, в котором собиралась молодежь с высшим образованием, занимавшаяся литературой, живописью и пр. Все проезжавшие через Омск образованные люди – путешественники (как, например, П. П. Семёнов-Тян-Шанский, тогда, в 1856 году, еще Семёнов. – И. Д.), ссыльные, обязательно вводились в этот салон»[39].
Я. С. Капустин был знаком с Ф. М. Достоевским и послужил для писателя прототипом «заслуженного и хлебосольного чиновника Ивана Иваныча Гвоздикова, у которого было пять дочерей, разных лет, подававших прекрасные надежды» [Достоевский, 1972–1990, т.4, с.6].
Спустя несколько лет после смерти мужа Екатерина Ивановна переехала к брату, Дмитрию Ивановичу, в Боблово, а затем некоторое время жила в его университетской квартире в Петербурге (см. очерк «Невольник Гименея» наст. изд.). У Капустиных родилось восемь детей. Один из их сыновей, Фёдор Яковлевич (1856–1936), был женат на родной сестре Александра Степановича Попова, изобретателя радиотелеграфа, Августе Степановне (1863–1941), выпускнице Академии художеств.
Кстати, если уж речь зашла о семейных связях, то уместно сказать и о связи семей Менделеевых и Пестелей. Василий Дмитриевич Корнильев был женат на Надежде Осиповне (Иосифовне) (урожд. Биллингс; ок. 1805–1875), дочери Осипа Осиповича (Джозефа) Биллингса (ок. 1758–1806), английского и российского мореплавателя, капитана-командора русского флота, гидрографа (а до этого – участника третьего кругосветного плавания Джеймса Кука в 1776–1779 годах), и Екатерины Борисовны (урожд. Пестель; 1772–1827). Брат Екатерины Борисовны Иван Борисович Пестель (1765–1843) был женат на Елизавете Ивановне (урожд. фон Крок; 1766–1836), и у них было три сына, один из которых – Павел Иванович (Пауль Бурхард) (1793–1826) стал декабристом. Короче говоря, жена Василия Дмитриевича Корнильева, дяди Менделеева, была двоюродной сестрой декабриста Пестеля.
И еще об одном маршруте на генеалогическом древе Менделеева (впрочем, не вполне ясном) уместно рассказать. Для этого придется мысленно перенестись из Сибири в Астраханский край, южный форпост России. В 1849 году наказным атаманом Астраханского казачьего войска стал генерал-майор Михаил Антонович Врубель, из польско-прусского рода. Почти одновременно с его появлением в Астрахани губернию возглавил командир астраханского порта и главный командир Каспийской флотилии, известный картограф адмирал Григорий Гаврилович Басаргин, участник сражений с турецким флотом на Средиземном море, позднее воевавший на Северном море против флота французского. Адмирал Г. Г. Басаргин был женат на Анне Карловне (урожд. фон Краббе), дочери генерала К. К. фон Краббе, воевавшего под командованием А. В. Суворова.
У генерала М. А. Врубеля рос сын Александр, ставший впоследствии военным юристом, у адмирала Г. Г. Басаргина подрастала дочь Анна… Прошло время, и Анна Басаргина в 1855 году стала женой Александра Михайловича.
По словам В. М. Домитеевой, «культурным кругозором молодая жена Александра Врубеля была вполне под стать мужу, а родовитостью явно его превосходила. Идущий от ордынских пращуров древний дворянский род Басаргиных знаменит многими именами. Самое известное, конечно, – Николай Васильевич Басаргин, декабрист, 20 лет проведший в каторге, автор замечательных „Записок“ о сибирском житье ссыльнопоселенцев» [Домитеева, 2014, с.11][40].
5 (17) марта 1856 года у Анны Григорьевны и Александра Михайловича в Омске, где штабс-капитан А. М. Врубель служил в должности старшего штабного адъютанта Отдельного Сибирского корпуса Тенгинского пехотного полка, родился сын Михаил, будущий выдающийся художник.
Лично Д. И. Менделеев и М. А. Врубель познакомились в Венеции, где последний находился с ноября 1884 по апрель 1885 года.
Любопытно, что Менделеева и Врубеля соединяло сразу несколько жизненных нитей. Ненадолго оказавшийся в 1840-х годах на службе в Омском пограничном управлении сибирских казаков декабрист Николай Басаргин успел там жениться на Ольге Менделеевой, старшей сестре будущего ученого. И когда через десяток лет в Омск прибыли штабс-капитан Александр Врубель с супругой, урожденной Басаргиной, омичи Менделеевы встретили их по-родственному. Особенно сдружилась молодая чета Врубель с близкой им по культурным интересам семьей другой сестры Дмитрия Менделеева, Екатерины, вышедшей замуж за крупного местного чиновника Капустина [Домитеева, 2014, c. 139].
Другой маршрут по менделеевскому генеалогическому древу не менее интересен. Родная сестра Анны Григорьевны Басаргиной-Врубель Екатерина стала женой Александра Александровича Давыдова, в будущем адмирала. О Екатерине Григорьевне и Марии Врубель (сестре Александра Михайловича Врубеля, т. е. тетки художника) упоминал А. Дюма-отец в своих записках «Из Парижа в Астрахань»:
[Они] были очень образованны и находились в курсе дел нашей литературы; но они очень хорошо знали лишь произведения и очень мало об их творцах. Поэтому я должен был рассказать им о Бальзаке, Ламартине, Викторе Гюго, Альфреде де Мюссе и, наконец, обо всех наших поэтах и романистах. Невероятно, как справедливо, пусть инстинктивно, можно сказать, судили о наших замечательных людях молодые женщины, самой старшей из которых самое большее было 22 года! [Дюма, 2009, с. 185].
Дочь Давыдовых, Вера Александровна, стала женой Эрнеста Леопольдовича (Львовича) Радлова, философа, историка философии, филолога и переводчика, сооснователя Санкт-Петербургского философского общества, директора Публичной библиотеки в Петрограде в 1918–1924 годах [Шрадер, 2014]. Один из сыновей В. А. и Э. Л. Радловых, Николай Эрнестович, стал известным художником. Д. И. Менделеев был хорошо знаком с дядей Эрнеста Леопольдовича – химиком Эдмундом Федоровичем (Эдмундом Генрихом) Радловым (1828–1911).
Следует упомянуть также и о том, что Н. В. Басаргин был третьим браком женат на сестре Д. И. Менделеева Ольге Ивановне, которая в первом браке (1832) была замужем за ялуторовским купцом Иваном Петровичем Медведевым (ум. 1842), двоюродным дядей литератора П. П. Ершова.
Мать Н. В. Басаргина Екатерина Карловна (урожд. Бланк), была дочерью московского архитектора и инженера-строителя Карла Ивановича Бланка (наиболее известная его постройка – здание Воспитательного дома на Москворецкой набережной). Родной брат Екатерины Карловны Петр Карлович (дядя Н. В. Басаргина) был дедом известного географа, путешественника и государственного деятеля П. П. Семёнова-Тян-Шанского.
Надо сказать, что путешествие по генеалогическим древесам различных родов российской интеллигенции выявляет множество неожиданных сближений, и то, что было описано выше, – лишь часть из них.
* * *
Вернемся к прерванному рассказу. Когда фабрика сгорела, а старшие дети в большинстве своем обзавелись семьями и разъехались, Мария Дмитриевна решила, что может «без горя оставить Тобольск» [Шрадер, 2014], как это ранее сделал ее брат. Надо только дождаться, когда Павел и Дмитрий окончат гимназию.
Об учебе Менделеева в Тобольской гимназии следует сказать особо. Но перед этим – одно важное замечание.
Детство Дмитрия Ивановича совпало с пребыванием в Сибири ссыльных декабристов. Некоторые из них жили в Тобольске или в его окрестностях, как, например, И. А. Анненков, служивший с 1839 года в канцелярии губернского правления; М. А. Фонвизин, участник двух войн с Наполеоном (1812 и 1815 годов); А. Н. Муравьев, также ветеран войны 1812 года, в 1832–1833 годах исполнявший должность гражданского губернатора Тобольска, и др. Семья Менделеевых была самым тесным образом связана с декабристами.
Впоследствии Менделеев вспоминал:
…Тут жили почтенные и всеми уважаемые декабристы: Фонвизин, здесь Анненков, тут Муравьев, близкие к нашей семье, особенно после того, как один из декабристов, Н. В. Басаргин, женился на моей сестре, вдове Ольге Ивановне. Уже нет никого из тех в живых, и теперь можно говорить, что семьи декабристов в те времена придавали тобольской жизни особый отпечаток, наделяли ее светлыми воспоминаниями. Предание о них и до сих пор живет в Тобольске… [Менделеев, 1934–1954, т. 12, с. 571].
В чем именно выразилось их влияние на тобольскую жизнь? Здесь уместно вспомнить характеристику декабристов, данную Ю. М. Лотманом:
В 1840-х годах в литературе получила распространение исключительно плодотворная идея определяющего воздействия окружающей среды на судьбу и характер отдельной человеческой личности. Однако у каждой идеи есть оборотная сторона: в повседневной жизни среднего человека она обернулась формулой «среда заела», не только объяснявшей, но и как бы извинявшей господство всесильных обстоятельств над человеком, которому отводилась пассивная роль жертвы. Интеллигент второй половины XIX века порой оправдывал свою слабость, запой, духовную гибель столкновением с непосильными обстоятельствами. Размышляя над судьбами людей начала XIX века, он, прибегая к привычным схемам, утверждал, что среда была более милостивой к дворянскому интеллигенту, чем к нему – разночинцу.
Судьба русских интеллигентов-разночинцев была, конечно, исключительно тяжела, но и судьба декабристов не отличалась легкостью. А между тем никто из них – сначала брошенных в казематы, а затем, после каторги, разбросанных по Сибири, в условиях изоляции и материальной нужды – не опустился, не запил, не махнул рукой не только на свой душевный мир, свои интересы, но и на свою внешность, привычки, манеру выражаться. Декабристы внесли огромный вклад в культурную историю Сибири: не среда их «заедала» – они переделывали среду, создавая вокруг себя ту духовную атмосферу, которая была им свойственна [Лотман, 1995, с. 146–147].
Главное, на мой взгляд, не в том даже, что декабристы устраивали литературные и музыкальные вечера и вели умные разговоры. Это важно, но главный их урок, который они преподали окружающим, – это был урок нравственный. Как афористически точно сказал Ю. М. Лотман, не среда их «заедала», но они формировали свою культурную среду, вовлекая в нее окружающих.
Кроме того, другом семьи был также известный литератор П. П. Ершов, ученик Ивана Павловича, впоследствии преподаватель русской словесности в Тобольской гимназии, а с 1844 года ее инспектор.
В 1841 году девятилетнего Пашу отдали в гимназию. Учиться тогда брали в 8–9 лет, учебный год начинался 1 августа, а обучение с 1836 года стало семиклассным. Дмитрия приняли с условием, что в одном из классов он пробудет два года. В итоге в аттестате пятнадцатилетнему Менделееву приписали 16 лет (иначе документ нельзя было выдать). О гимназических годах Дмитрия Ивановича детально рассказано в монографии М. Н. Младенцева и В. Е. Тищенко [1938, с. 30–55], поэтому я ограничусь здесь краткими комментариями.
Дмитрий Иванович учился в гимназии неважно, особенно плохо ему давались латынь и немецкий. Приведу красноречивое свидетельство его биографов:
Общее впечатление, которое можно вынести при рассмотрении отметок Дмитрия Менделеева, таково, что перед нами способный ученик, занимающийся, однако, без особого старания, но лишь настолько, чтобы не оставаться на второй год в классе. Как только такая опасность грозила, он сейчас же подтягивался и отметки поправлялись. Старательно занимался и к экзаменам. ‹…› В младших классах он учился гораздо старательнее, чем в старших.
‹…›
Из своих гимназических испытаний, – вспоминал Менделеев на старости лет, – очень хорошо помню, что в немецком я был всегда плох, а отметка вышла годная для выпуска, потому что я удачно сумел в ответе на выпускном экзамене вставить знакомые стихи Шиллера:
- So willst du treulos von mir scheiden
- Mit deinen holden Phantasien…[41]
которые мне понравились по звучности и по смыслу, мне кем-то объясненному [Младенцев, Тищенко, 1938, c. 42, 48].
Иногда юный Дмитрий Иванович подбивал сестрицу Машу, вышедшую замуж за преподавателя Тобольской гимназии, разузнать, о чем будут спрашивать на экзаменах[42].
Говоря в 1901 году о своей гимназической учебе, Менделеев признавался, что сумел окончить гимназию только потому, что педагогический совет относился к нему снисходительно, или, как выразились менделеевские биографы, «очень осторожно» [Младенцев, Тищенко, 1938, c.49]:
«В большой семье я был последышем и развился поэтому рано. ‹…› Переходил без задержек и кончил [гимназию в] 15 лет… Это только благодаря Совету гимназии, а по нынешним временам вероятно бы меня много раз оставили (на второй год. – И. Д.) и даже исключили бы из гимназии» [Менделеев, 1934–1954, т. 23, с. 117].
И еще одно, более позднее признание:
Меня самого перевели из четвертого в пятый класс и из пятого в шестой (предпоследний. – И. Д.) при многих недостающих баллах, без сомнения ввиду того, что общая подготовка и должное развитие все же у меня были, и оставление в классе только бы испортило, вероятно, всю мою жизнь [Менделеев, 1995, с. 240].
Упоминание об «общей подготовке и должном развитии» – это акцентировка Менделеева, биографы его подчеркивают также и другое обстоятельство: «В целях объективности необходимо заметить, что положение Менделеева в гимназии, несомненно, облегчалось тем, что для него, как сына бывшего директора и родственника одного из преподавателей, делалось немало исключений из общего правила» [Младенцев, Тищенко, 1938, с. 49].
Говоря о детских годах Менделеева, важно отметить два обстоятельства, повлиявших на его карьеру, но, разумеется, не исчерпывающих весь запас символического стартового капитала его тобольского детства:
– от природы: наличие способностей («должное развитие» с большим уклоном в естественные науки) и живость темперамента;
– от внешних условий и влияний: избалованность (привычка делать только то, что ему интересно и хочется), либеральное отношение к нему учителей с элементами протекционизма и попустительства.
Но как бы там ни было, в июне 1849 года Дмитрий Иванович окончил, как мог, гимназию, бросил по гимназическому обычаю в огонь учебник латыни и… пошел домой думать, что делать дальше. Собственно, думать-то пришлось Марии Дмитриевне, которая, оставшись к тому времени с двумя детьми, Дмитрием и Елизаветой (остальные разъехались кто куда), отправилась с ними в Москву. Но прежде чем расставаться с детством Менделеева, стоит сказать несколько слов о времени, в котором ему довелось родиться.
Век Просвещения, «столетье безумно и мудро», равно как и павловская эпоха, стилизовавшая империю под рыцарский орден, и век «нечаянно пригретого славой» Александра I, – ушли в прошлое. Новое столетие к началу 1830-х годов стало ощущать свою сущностную, некалендарную новизну. В 1835 году Е. А. Баратынский напишет:
- Век шествует путем своим железным,
- В сердцах корысть, и общая мечта
- Час от часу насущным и полезным
- Отчетливей, бесстыдней занята.
- Исчезнули при свете просвещенья
- Поэзии ребяческие сны,
- И не о ней хлопочут поколенья,
- Промышленным заботам преданы.
В 1836 году Н. В. Гоголь, сбежавший в Европу от русской современности, писал М. П. Погодину, анонсируя начало работы над «Мертвыми душами»: «…в виду у нас должно быть потомство, а не подлая современность» [Гоголь, 1937–1952, т.11, с.77]. Д. И. Менделееву предстояло вписаться в это преданное промышленным заботам и научному прогрессу динамичное столетие.
Университетский тупик
После года учебы в Московском и трех в Петербургском университете, который он благополучно окончил в 1837 г., у него не создалось ощущения, что он получил хорошее образование…
В. В. Набоков, «Иван Тургенев (1818–1883)»
Принято считать, что Мария Дмитриевна, покидая Тобольск, намеревалась определить сына в Московский университет, надеясь, что в этом ей поможет ее брат Василий Дмитриевич Корнильев (1793–1851), человек состоятельный, в Москве известный; некогда, как уже было сказано, служивший управляющим имениями князей Трубецких[43], бывший в дружеских отношениях со многими университетскими профессорами (С. П. Шевырёвым, Т. Н. Грановским, М. П. Погодиным, П. Н. Кудрявцевым и др.). Однако, несмотря на все старания Василия Дмитриевича, устроить Менделеева в Московский университет не удалось, потому что «в то время действовал закон, согласно которому окончившие гимназии могли поступать лишь в тот университет, к учебному округу которого принадлежала данная гимназия. Для Менделеева был открыт лишь Казанский университет, так как Тобольская гимназия принадлежала к Казанскому учебному округу[44]. Перспектива жизни в Казани, однако, не соответствовала ни возможностям, ни желаниям Марьи Дмитриевны[45]. Она решила попытать счастья в Петербурге, в надежде на помощь влиятельных друзей и однокашников своего покойного мужа, еще служивших в петербургских учреждениях» [Фигуровский, 1961, с. 23–24].
Должен признаться, я тоже долгое время верил в эту историю с николаевским законом о приеме «из своих округов» прежде всего потому, что именно так ее описывал сам Менделеев:
В 1849 году кончил гимназию в Тобольске и с мамашей, сестрой Лизой и служителем Яковом поехали в Москву, чтобы поступить в Московский университет. Но государь Николай Павлович приказал принимать только из своего округа и, несмотря на дружбу Шевырёва, Кудрявцева и других профессоров с дядею В. Д. Корнильевым, меня не приняли. Поехали в Питер [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 14].
И о том же в третьей главе «Заметок о народном просвещении»:
Повезла меня, последыша, матушка (отец уже скончался тогда) в Москву, но в университет туда не приняли, потому что как раз тогда вышло распоряжение – принимать только из своих округов. То же было и в Петербурге, а потому год у меня прошел без ученья [Менделеев, 1901, с. 61][46].
Однако, когда я поинтересовался, что же это было за распоряжение такое относительно приема «только из своих округов», выяснилось, что никакого правительственного постановления на этот счет в царствование Николая Павловича не принималось. Ситуация складывалась иначе, и рассмотреть ее целесообразно в более широком контексте образовательной политики российского правительства в 1825–1855 годах.
«И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле»[47]
Император Николай I в детстве и юности, увы, не получил глубокого и всестороннего образования, хотя его учителя (М. А. Балугьянский, А. К. Шторх, Ф. П. Аделунг, В. Г. Кукольник) очень старались. Будучи типичным прагматиком, Николай Павлович обладал умом последовательным, но, как отметила королева Виктория, «необработанным», а его воспитание, по ее мнению, «было небрежно», «политика и военное дело – единственные предметы, внушающие ему большой интерес» [Татищев, 1889, с.28]. А. С. Пушкину на его «Записку о народном воспитании» Николай велел передать, что принятое поэтом «правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия… Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному, бесполезному» [Пушкин, 1977–1979, т.7, с.462].
Нравственность для его величества – одно из кодовых понятий, оно означало, что подданные «должны быть преданы самодержавию, верны православию и горды тем, что они русские» [Виттекер, 1999, с.155]. «Ученье и ученость я уважаю и ставлю высоко, – заверял император депутацию Московского университета, – но еще выше я ставлю нравственность»[48].
Что это означало на деле? Вспомним слова преподавателя уездного училища из «Мертвых душ», большого любителя «тишины и хорошего поведения»: «Способности и дарования? это все вздор… я смотрю только на поведение. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хоть он Солона заткни за пояс!» [Гоголь, 1937–1952, т.6, с.226].
Наделенный практическим складом ума и ценивший военную субординацию, единообразие и порядок, Николай Павлович превыше всего ставил три вещи: стабильность в государстве, «нравственный закон внутри нас»[49] и прилежание подданных на государевой службе. Такие правители, как правило, могут, культивируя тотальную бюрократическую исполнительность, более или менее успешно осуществлять вполне рациональные управленческие реформы, упорядочивающие различные сферы деятельности государства. Но только при отсутствии серьезных внешних и внутренних угроз проводимой ими политике или при возможности такие угрозы сравнительно легко нейтрализовывать!
В случае Николая I в качестве примеров можно указать на реформу организации управления деревней, упорядочение денежного обращения, формирование новой бюджетной политики, создание Свода законов Российской империи и т. д. Разумеется, николаевское царствование не давало простора государственному творчеству широкого размаха, но оно дало немало опытных деловитых администраторов, подготовленных университетами, лицеями, гимназиями, пансионами николаевского времени, без которых «не состоялось бы ни одно из реальных достижений пореформенной эпохи в области государственного строительства, общественной самодеятельности, наук, литературы, искусства» [Шевченко, 1998, с.101].
Иными словами, Николаю удалось сформировать контрастирующий с прежней, более гибкой манерой правления, новый, рациональный управленческий стиль, носителем которого стала профессиональная бюрократия, и тем самым противостоять дестабилизации обстановки в стране. Все это имело множество позитивных сторон, особенно заметных на начальном этапе правления (развитие торговли и промышленности, строительство железных и шоссейных дорог и т. д.)[50], и у современников были все основания сказать:
- Он бодро, честно правит нами,
- Россию вдруг он оживил
- Войной, надеждами, трудами[51].
«И жил он тем, что убивало многих»[52]
Однако позитивный ресурс авторитарного правления, сколь бы замечательные результаты оно ни демонстрировало поначалу, не рассчитан на длительные исторические дистанции и со временем становится все уязвимей для внешних воздействий, будь то реакция других стран на военно-политические игры режима или же растущее напряжение научно-технологической конкуренции с более развитыми государствами. С годами утилитарно-охранительные тенденции, присущие авторитарному правлению, при отсутствии понимания правителем глубоких изменений, происходящих в окружающем, непрерывно усложняющемся мире[53] и внутри страны (появление людей с новой ментальностью), неприятие им всего, что не укладывается в диапазон личных представлений властного самодержца и его личного жизненного опыта, примитивизм его политического мировоззрения и крайнее доктринерство приводят к нарастающей изоляции страны во внешней политике, к застою в экономике и к растущему напряжению между обществом (в первую очередь, его европеизированной интеллектуальной элитой) и государственной бюрократией.
Личностный потенциал Николая Павловича, пассионария русской бюрократии, мог обеспечить лишь консервативную стабилизацию уже сложившейся государственной системы. Как всякий авторитарный правитель, Николай I неплохо понимал действительность, но в силу некоторой природной обделенности не осознавал стоящей за ней реальности. Все достижения его тридцатилетнего правления, о которых любят говорить в последние десятилетия историки, формируя образ «другого Николая», действительно впечатляют, но только в контексте процессов и ритмов отечественной истории, тогда как в социальном и технико-экономическом отношениях империя продолжала значительно (на эпоху) отставать от развитых стран Западной Европы, уже прошедших стадию промышленной революции.
Да, отрадно читать, что, к примеру, с 1825 по 1860 год общая численность промышленных предприятий увеличилась с 4189 до 15 338 и началось строительство железных дорог: сначала, 30 октября 1837 года, открылась Царскосельская, на которой поезда развивали скорость до 60 км/ч, что изумляло современников и было воспето М. И. Глинкой в знаменитой «Попутной песне» на слова Н. Кукольника; а затем, в 1851 году, завершилось строительство Московской железной дороги и т. д.[54] Еще отрадней узнать, что, хотя для Царскосельской дороги локомотивы закупались в Англии и в Бельгии, а на строительстве Московской работали четыре американских паровых экскаватора, однако очень скоро удалось наладить свое производство и паровозов, и вагонов, и рельсов, что потребовало, в свою очередь, освоения новых технологий. Можно вспомнить о том, что в 1830-х годах в лейб-гвардии Саперном батальоне замечательный изобретатель барон Павел Львович Шиллинг (P. Schilling von Cannstatt; 1786–1837) продолжал начатые ранее опыты по электрическим запалам и подрывам и в 1834 году на Обводном канале у Александро-Невской лавры продемонстрировал Николаю I свои достижения, после чего в России начали создавать подводные минные заграждения. Или другой отрадный факт: на создание Пулковской обсерватории (открытие состоялось в 1839 году) было выделено около 600 тыс. руб. серебром, колоссальная по тем временам сумма. Подобных примеров можно привести немало. Но сколь бы впечатляющими ни были хозяйственно-технологические успехи николаевского царствования, в конечном счете важен его итог, подведенный Крымской войной, а он был неутешительным и тем более печальным, что впервые в послепетровское время Россия, встретившись с новой промышленной цивилизацией Запада, потерпела поражение на собственной территории[55], и только локальный характер войны спас империю от полного разгрома. В итоге российское правительство вынуждено было признать бесперспективность продолжения войны и принять требования союзников, что сильно ударило по престижу империи и способствовало внутреннему кризису. И либералы, и радикалы, и даже умеренные стали критиками режима.
Но самое печальное для власти обстоятельство заключалось даже не в самом факте отсталости империи, а в том, что для ее преодоления воспользоваться петровским опытом и петровскими методами было уже невозможно. Невозможно преодолеть системную отсталость порывами и призывами. Нужны были кардинальные реформы, в первую очередь – отмена крепостного права[56]. Николай I это понимал. Но, как и его предшественник на троне, понимал он и другое – действовать нужно крайне осмотрительно, чтобы лекарство не оказалось хуже болезни. Однако многочисленные кулуарные обсуждения паллиативных мер ни к чему не привели, разве что были освобождены без земли и с согласия помещиков прибалтийские крестьяне, приняты законы о «вольных хлебопашцах» (еще при Александре I, в 1803 году) и об «обязанных крестьянах» (1842), но эти косметические поновления проблемы не решали. Если технико-технологическая модернизация в общем не вызывала возражений, то общенационального консенсуса по крестьянскому вопросу не существовало, хотя Крымская война показала, что «крепостные не могут быть мобилизованы без предварительного освобождения», а потому «сохранение крепостного права как минимум вдвое уменьшало людские ресурсы России». «Удар завоевательной волны» изменил настроения в российском образованном обществе, способствуя его модернизации по европейскому образу (вестернизации), что также подразумевало освобождение крестьян (ибо в Европе уже не было крепостного права) [Нефедов, 2011, с.308].
Имея колоссальные природные ресурсы, Россия на протяжении практически всей своей истории хронически испытывала дефицит одного, но важнейшего ресурса – временнóго: страна теряла время, отпущенное ей для кардинальных реформ и развития, а потом в бешеном темпе пыталась наверстать упущенное любой ценой.
Мундирное просвещение
Что касается политики в области образования, то ее удачно, на мой взгляд, охарактеризовал М. М. Шевченко: «Николай I, отнесясь довольно бережно к наследию предыдущего царствования, в основном дал возможность развиться тем тенденциям, которые тогда были уже заложены в правительственной политике в области народного просвещения и печати. Но когда появились плоды этой политики в виде поколения подданных новой формации, он оказался совершенно к этому не готовым. Пришло время, когда, наряду с энергией, волей, здравым смыслом и практической сметкой, требовалась еще и солидная доля приобщенности к фундаментальному современному образованию. Не обладая последней, Николай I не был в состоянии правильно понять скромные усилия С. С. Уварова, направленные на то, чтобы не отталкивать новое поколение, не допустить нарастания у него политически опасного для самодержавной России чувства невостребованности. Мероприятия в области цензуры и просвещения 1848–1849 годов напрямую вели правительство к наступлению кризиса, в атмосферу нарастания морального протеста общественного мнения против компрометирующей себя политической системы» [Шевченко, 1998, с.115]. Даже самым замечательным словам императора перестали верить.
К началу 1850-х годов многие в России с нетерпением ожидали завершения этого осеннего царствования… И здесь на память снова приходят слова из цитированной выше «Попутной песни»:
- Коварные думы мелькают дорогой,
- И шепчешь невольно: «О Боже, как долго!»
Уже после кончины Николая I К. Д. Кавелин в письме Т. Н. Грановскому назовет покойного императора «исчадием мундирного просвещения»[57]. Но это все общие оценки. Теперь о некоторых конкретных действиях николаевского правительства в сфере образования. Для власти (и в России, и в Западной Европе) школа (любого уровня) – это орудие укрепления государства, а потому она должна находиться под неусыпным правительственным контролем.
Уже в самом начале царствования Николая Павловича, 14 мая 1826 года, при Министерстве народного просвещения был учрежден Комитет устройства учебных заведений[58] из десяти человек под председательством А. С. Шишкова с целью «обсуждения мер, необходимых для введения единства и единообразия, на коих должно быть основано как воспитание, так и учение» [Сборник МНП-2, т. 2, 1-е отд., № 11, стб. 25–26]. В частности, Николай повелел сравнить все уставы учебных заведений империи и привести их к «должному и необходимому единообразию» с учетом особенностей Дерптского и Виленского учебных округов [там же, стб. 22–24]. «Единообразие» было одним из любимейших слов российского императора.
Движение за наведение порядка и единообразия в университетах началось немедленно! 22 мая в Комитете министров была слушана записка министра народного просвещения «О дозволении казенным студентам Московского университета иметь на мундирах погончики», чтоб отличить их (казеннокоштных) от своекоштных. Решено было испросить на то высочайшего соизволения [Сборник МНП-2, т. 2, 1-е отд., № 11, стб. 28]. Спустя два дня император утверждает другой документ чрезвычайной важности: «О вицмундире для чиновников Министерства народного просвещения и подведомственных оному» [там же, стб. 28–29].
Мундир для власти, особенно авторитарной, не пустое дело. Студенческие мундиры были предметом тщательного внимания со стороны императора. «Я бы желал, – заявил Николай в трудный для него 1849 год, – чтобы эти молодые люди уважали мундир, который они носят, мундир, который уравнивает богатых и бедных, знатных и незнатных»[59]. Облаченные в мундиры студенты стали весьма походить на военных.
К концу июня добрались до учебных пособий. Чтобы «означить сочинения, по коим оные [курсы учений] должны впредь быть преподаваемы», решено было создать специальный комитет [Сборник МНП-2, т. 2, 1-е отд., № 15, стб. 29–30].
Комитет устройства учебных заведений при А. С. Шишкове (до его отставки с поста министра в апреле 1828 года) провел пятьдесят одно заседание, рассматривая самые разные вопросы, но такие темы, как ограниченность сумм, выделяемых на содержание преподавателей и чиновников, несовершенство уставов, недостаточное внимание к учебному делу со стороны попечителей округов и т. п., должного анализа не получили.
В 1827 году, ознакомившись с представленными ему бумагами, император написал:
Из всего этого извлекаю я следующее: чтоб были университеты у нас по делу, а не по одному названию, как ныне, нужно: 1. Уставы; 2. Профессоры; 3. Студенты. – 1. Уставы есть, но или нехороши, или худо соблюдаются; стало должно исправить и строжайше Министерству просвещения смотреть за их соблюдением. 2. Профессоры: есть достойные, но их немного, и нет им наследников; их должно готовить; и для сего лучших студентов, человек двадцать, послать на два года в Дерпт, и потом в Берлин, или в Париж, и не одних, а с надежным начальником на два же года; все сие исполнить немедля. 3. Студенты. Так как граф Строганов весьма справедливо заметил, у нас их нет, а называются такими сволочь шалунов, или мальчишек, не только не готовых следовать курсам университетов, но с трудом годящихся в высшие классы гимназий. Сие не исправится, доколе Комитет будет столь медленно заниматься порученным ему делом, а пройдет еще год до появления ожидаемых мной уставов низших училищ. Я требую непременно, чтоб дело шло поспешнее[60].
Однако, как бы то ни было, ситуация в большинстве российских университетов в первые два десятилетия николаевского царствования заметно улучшилась[61]: в 1832–1842 годах число студентов в университетах (без учета Польши и Финляндии) выросло с 2,1 тыс. до 3,5 тыс. (в том числе получивших диплом об университетском образовании – с 477 до 742)[62] и продолжало расти, в Дерптском университете был создан профессорский институт для подготовки университетских преподавателей, несколько десятков выпускников российских университетов было отправлено за границу за казенный счет для подготовки к занятию профессорских должностей[63], профессорские кафедры заняло 113 молодых ученых, прошедших зарубежную стажировку, в два с половиной раза увеличилось жалованье профессорско-преподавательскому составу (после принятия Устава 1835 года), на треть возросло число университетских профессоров, которые могли готовить учеников по самым высоким европейским стандартам, было принято (в октябре 1827 года) постановление «О распространении на все казенные учебные заведения предоставленного университетам права выписывать из-за границы беспошлинно разные учебные и художественные предметы» [Сборник МНП-2, т.2, 1-е отд., № 49, стб.101] и т. д. Этот комплекс мер и позволил сформироваться первому поколению русских ученых профессоров, в число которых входили А. А. Воскресенский, Н. И. Пирогов, М. С. и С. С. Куторги, Т. Н. Грановский, В. С. Печерин и др.[64]
А. И. Герцен отмечал, что в Москве «университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены – историческое значение, географическое положение и отсутствие царя» [Герцен, 1954–1965, т. 8, с. 106].
Конечно, события 1830-х годов (Июльская революция во Франции, Бельгийская революция, Польское восстание, холерные бунты в Центральной России) сказались на университетской политике правительства. В первом номере «Журнала Министерства народного просвещения» было ясно заявлено, что «только правительство имеет все средства знать и высоту успехов всемирного образования, и настоящие нужды Отечества» [ЖМНП, 1834, ч.1, с. IV], т. е. правительство объявлялось главным интеллектуалом империи.
«Мы, то есть люди девятнадцатого века, – доверительно делился своими мыслями назначенный в 1833 году министром народного просвещения граф С. С. Уваров[65], – в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее» [Никитенко, 2005, т.1, с. 362].
Особое внимание было уделено нравственному воспитанию студентов.
Дисциплинарные правила… очерчивали не только рамки учебной деятельности студента, но и нормы его поведения, а внутриуниверситетский надзор контролировал поступки и даже образ мысли учащихся. ‹…› Студент, независимо от возраста, не считался полноценным членом общества, время его обучения использовалось и для укоренения в неокрепших умах политической благонадежности и общественной нравственности. ‹…› Нравственность студентов определялась как залог их академических успехов (!), а также как условие воспитания «истинных сынов церкви, верных служителей престолу и полезных отечеству граждан» [Жуковская, Казакова, 2018, с. 94–95].
С начала 1830-х годов сценарий «родительской» опеки и присмотра за студентами со стороны руководства и преподавателей, как и вообще «семейный стиль» общения внутри корпорации, уступал место мелочному государственному контролю всех сторон жизни учебных заведений. «Государство стремилось максимально сузить правовое поле универсанта, поставить под контроль не только учебную деятельность, но и пространство частной жизни учащихся, их мысли и убеждения» [Жуковская, Казакова, 2018, c. 98]. В 1831 году был опубликован указ императора Правительствующему Сенату от 18 февраля, в котором говорилось:
Мы (Николай I. – И. Д.) с прискорбием усматриваем некоторые примеры стремления к образованию юношества вне Государства, и вредные последствия для тех, кои таковое чужеземное воспитание получают. Молодые люди возвращаются иногда в Россию с самыми ложными о ней понятиями. Не зная ее истинных потребностей, законов, нравов, порядка, а нередко и языка, они являются чуждыми посреди всего отечественного. В отвращение столь важных неудобств, Мы признали нужным постановить следующее: 1) российское юношество от 10 до 18 лет возраста должно быть воспитываемо предпочтительно в отечественных публичных заведениях, или, хотя бы и в домах своих, под надзором родителей и опекунов, но всегда в России; 2) изъятия из сего правила могут быть делаемы единственно по каким-либо важным причинам, и никогда иначе, как с Нашего разрешения; 3) юноши моложе 18 лет возраста не могут быть отправляемы в чужие края для усовершенствования в науках; 4) те, при воспитании коих не будут соблюдены вышеизложенные правила, лишаются права вступать в военную и во всякую другую государственную службу [Сборник МНП-2, т. 2, 1-е отд., № 156, стб. 423–424].
Меры, предусмотренные этим указом, а также другим, от 9 ноября того же года, в котором император повелевал, чтобы «впредь в студенты университетов никто не был принимаем, не окончив в гимназиях полного курса положенных наук и не получив одобрительного о том свидетельства» [Сборник МНП-2, т.2, 1-е отд., № 179, стб.458–459][66], фактически вынуждали дворян давать своим отпрыскам образование в России.
Тем самым все стороны жизни учебных заведений России были при Николае Павловиче определены, как выразился Т. Н. Грановский, «со всей возможной отчетливостью»[67].
Устав, высочайше утвержденный 26 июля 1835 года и предназначавшийся для четырех университетов (Московского, Санкт-Петербургского, Казанского и Харьковского), освобождал университеты от надзора за образовательными учреждениями в учебных округах, университеты потеряли ряд судебных привилегий, возросла роль попечителя (ему непосредственно подчинялось университетское Правление, и он мог приостановить любое решение Совета или ректора). Выборность ректора была восстановлена, хотя окончательно он утверждался императором, а проректор и деканы – министром. Функции Совета были ограничены. Менялась структура университета, он отныне состоял из трех факультетов: медицинского, юридического и философского с двумя отделениями: физико-математическим и историко-филологическим. Число кафедр увеличивалось до 53, впервые формировались кафедры русской истории, истории и литературы славянских наречий и др. В каждом университете открывалась общеуниверситетская кафедра богословия, церковной истории и церковного законоведения для всех студентов греко-российского вероисповедания.
Накануне высочайшего утверждения императором Общего устава российских университетов попечителям учебных округов были разосланы копии доклада С. С. Уварова Николаю I от 15 июля 1835 года «Об увольнении некоторых профессоров с полным окладом пенсии». В этом документе сформулирована важнейшая задача университетской реформы: удалить «профессоров без заслуг, но без нарекания, опоздалых на их поприще, малоспособных к преподаванию, одним словом, просто доживающих срок к получению пенсии»[68].
А чтобы уменьшить недовольство увольняемых, им была предоставлена в два раза большая пенсия (за счет Министерства финансов). Главным требованием к профессорам, согласно Уставу 1835 года (§ 76), стало наличие докторской степени, а не просто «дара преподавания». С. С. Уваров подчеркивал важность этого требования, поскольку необходимо, чтобы преподаватели излагали «не общепризнанные истины, а результаты собственных исследований» [Андреев, 2001, с.196]. В этой ситуации многим пришлось либо (как, например, С. П. Шевырёву) писать и защищать (причем в кратчайшие сроки) докторскую диссертацию, либо оставить преподавание (как Н. В. Гоголю, который, по отзыву попечителя Петербургского университета князя М. А. Дондукова-Корсакова, «едва ли может выдержать докторский экзамен»[69]). С апреля 1838 года путь к докторской степени был облегчен: отныне не нужно было проходить трудную и длительную процедуру письменных и устных испытаний и публичных лекций, а также согласования решений факультетского и общеуниверситетского советов, а просто представить текст диссертации [Сборник МНП-2, т.2, 1-е отд., № 538, cтб. 1036–1037].
Ил. 3. Сергей Семёнович Уваров. Портрет работы В. А. Голике. 1833. Муромский историко-художественный музей
В итоге, – и это особенно важно, – в 1830–1840 годы университетские кафедры стали заполняться интеллектуалами новой генерации, что повышало престиж российских университетов, и, как охарактеризовала ситуацию Ц. Х. Виттекер, «даже в русских Обломовках, описанных Гончаровым, смирились, что „уж все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, кресты и деньги не иначе, как только путем учения“» [Виттекер, 1999, с. 175].
И о том же писал М. Е. Салтыков-Щедрин:
К похвале помещиков того (т. е. дореформенного. – И. Д.) времени я должен сказать, что, несмотря на невысокий образовательный уровень, они заботливо относились к воспитанию детей, – преимущественно, впрочем, сыновей, – и делали все, что было в силах, чтобы дать им порядочное образование. Даже самые бедные все усилия напрягали, чтобы достичь благоприятного результата в этом смысле. Недоедали куска, в лишнем платье домочадцам отказывали, хлопотали, кланялись, обивали у сильных мира пороги… Разумеется, все взоры были обращены на казенные заведения и на казенный кошель, и потому кадетские корпуса все еще продолжали стоять на первом плане (туда легче было на казенный счет поступить); но как только мало-мальски позволяли средства, так уже мечтался университет, предшествуемый гимназическим курсом. И надо сказать правду: молодежь, пришедшая на смену старым недорослям и прапорам, оказалась несколько иною [Салтыков-Щедрин, 1965–1977, т. 17, с. 336].
Историки называют многие положительные стороны университетской политики Николая I, проводимой С. С. Уваровым: «…должность профессора и ученая степень доктора наук соответствовали довольно высокой ступени Табели о рангах – VI–VII классам, до 1845 года сообщавшим потомственное дворянство. Ученая карьера по обилию льгот и преимуществ была приравнена к другим отраслям гос ударственной службы, оставляя профессору университета бóльшую перед чиновниками других ведомств свободу распоряжаться своим временем и право на творческую деятельность. Ученому чиновнику были гарантированы не только государственная квартира или квартирные деньги, но систематическая прибавка к жалованию за выслугу, пенсионное обеспечение с возможностью продолжать чтение лекций еще в течение 5, 10 или 15 лет (по способностям), заграничные командировки с научной целью, отпуска для лечения и улаживания семейных и хозяйственных дел. Университетская корпорация при Уварове стала в национальном, профессиональном и социальном отношениях гораздо более монолитной и ощущала себя таковой» [Жуковская, Ростовцев, 2013, с. 95]. Кстати, и Д. И. Менделеев отдавал Уварову должное, главным образом за то, что министр «особенно неустанно хлопотал о науке и достиг в самом деле того, что высшие учебные учреждения в России стали переходить из немецких рук в руки русских» [Менделеев, 1991, с. 223].
С. С. Уваров делал все возможное, чтобы погасить опасения императора и многих высших чиновников относительно революционного потенциала высшего образования. Естественно, он не мог в полной мере реализовать в России идею гумбольдтовского университета, основанного на трех принципах: 1) академической свободы, или свободы преподавания и обучения («академическая свобода позволяет профессорам самостоятельно строить содержание своих курсов в рамках заданного предмета, а студентам – свободно выбирать изучаемые дисциплины, при отсутствии обязательного для всех учебного плана»); 2) единства преподавания и исследования (т. е. принципа, требующего «от профессора не гелертерского воспроизводства готового знания, а участия в научном процессе, от студента – сотворчества в научном исследовании»); 3) формирования университетов нового типа как центров науки, когда научная деятельность оказывается «главным критерием их полезности и основанием внутренней ротации кадров „ученого сословия“» [Жуковская, Ростовцев, 2013, с. 94–95]. Если, в соответствии с третьим принципом В. фон Гумбольдта, С. С. Уварову удалось серьезно обновить кадровый состав университетов, то, что касается первых двух принципов, их реализация была лишь частичной и ограничивалась многими бюрократическими препятствиями и практикой назначения попечителей и прочих чиновников от просвещения из числа лиц, чуждых и науке, и духу университета. Но даже частичное воплощение гумбольдтовского идеала дало замечательный результат: в России начала формироваться отечественная университетская наука, которая в своих лучших образцах оказалась зачастую не ниже западноевропейской. Да и бюрократический аппарат империи получил неплохое пополнение, о чем уже упоминалось выше. Но даже частичное воплощение гумбольдтовского идеала университета оказалось несовместимым с авторитарным правлением.
Коварная особенность бюрократической манеры управления чем бы то ни было, в том числе наукой, культурой и образованием, является тенденция захватывать все новые позиции, подчиняя себе все аспекты регулируемой таким образом деятельности, не оставляя место ни свободе выбора, ни здравому смыслу, ни учету подлинных государственных интересов. Все утопические надежды Уварова создать в России систему образования, воспитанники которой будут «русскими по духу и европейцами по образованию», рушились перед натиском идеологизированной (не без участия того же С. С. Уварова) бюрократии, ставшей раковой опухолью на теле российской культуры.
В 1839 году была введена плата за обучение, которая время от времени повышалась, а позднее, в 1847 году, был упразднен разряд приватных слушателей и ограничен доступ в университет посторонним лицам. Вскоре и без того неблагоприятная ситуация резко ухудшилась.
«По мне же, самодержец автократ – не варвар, но похуже во сто крат»[70]
Контроль над образованием и вообще над всякой интеллектуальной деятельностью в России еще более усилился, когда в Западной Европе разразилась гроза 1848–1849 годов, так называемая «Весна народов». В странах континентальной Европы начался новый период, когда власть перешла к «модернизаторскому руководству» [Black, 1966, p. 76][71].
Встревоженный революционными движениями император, «на мгновение потрясенный» (С. С. Уваров)[72], решил, что надо принять срочные и решительные меры по предотвращению чего-либо подобного в империи. Разумеется, 370-тысячная русская армия была срочно, уже летом 1848 года, сосредоточена у западных границ государства и через год выступила против восставших венгров. Но не менее беспокоила Николая I обстановка внутри страны. Следовало немедленно нейтрализовать распространение неконтролируемого вольномыслия. «Охранительная тревога» охватила российские верхи. «По сравнению с революционной заразой даже холера, снова вернувшаяся в Россию, уже не казалась такой опасной. Николая больше заботил карантин нравственный…» [Олейников, 2012, с. 287]. В марте 1848 года император сообщает И. Ф. Паскевичу в Варшаву: «Здесь все спокойно. Выезды за границу я совершенно запретил, сделай то же у себя; въезд к нам только за личной ответственностью министров и с моего предварительного разрешения, вели то же и в Польше; и в особенности прекрати свободный выезд по железной дороге»[73]. Необходимо было в срочном порядке умножить число «умственных плотин» (С. С. Уваров) [Барсуков, 1888–1910, кн.4, с. 85].
Прежде всего был усилен контроль над прессой. Внезапно выяснилось, что направление многих российских журналов «весьма сомнительное», да и вообще, какое издание ни возьми, в нем, как выразился князь П. А. Вяземский, «каждое слово есть обиняк» [Щебальский, 1862, 53], а посему был создан так называемый Бутурлинский комитет, или Комитет 2 апреля 1848 года (официальное название – Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений). Надо было срочно урезонить виртуозов пера, «обуздав единожды твердыми мерами врожденную строптивость периодических изданий» [Уваров, 1864, с.96] и особенно, как выразился его величество, «некоторую часть московских тунеядцев»[74]. Редакторам петербургских изданий было объявлено, что «за напечатание либеральных и коммунистических статей они подвергнутся личному взысканию, независимо от ответственности цензуры»[75].
В «мрачное семилетие» николаевского царствования (1848–1855), т. е. в период, который бросил тень на все тридцатилетнее правление Николая Павловича, Комитет проделал колоссальную работу по обеспечению доступными ему способами порядка и стабильности в империи, «храня целомудрие прессы»: по его докладам в 1848 году был сослан в Вятку М. Е. Салтыков-Щедрин, в 1852-м – выслан в Спасское-Лутовиново И. С. Тургенев и т. д. В 1849 году Комитет заблокировал принятие нового цензурного устава. Министр народного просвещения граф С. С. Уваров, поддержавший статью проф. И. И. Давыдова в защиту университетов и университетских реформ 1830-х годов [Давыдов, 1849], которая крайне не понравилась Николаю I, начертавшему: «Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя», 20 октября 1849 года вынужден был уйти в отставку[76], после чего, несмотря на болезни и переживания в связи со смертью жены, скончавшейся еще в июле 1849 года, он прожил последние шесть лет своей жизни вполне мирно, счастливо и деятельно. Оставаясь на посту президента Императорской Академии наук, даже магистерскую диссертацию защитил в Дерпте (о происхождении болгар), докторскую готовил…
Он предпочитал ничего не говорить о шагах властей после 1848 года, но одно стихотворение Байрона, им переписанное, возможно, выражает его разочарование и веру в правильность своего пути.
- What shall I say to Ye;
- Since my defence must be your condemnation?
- You are at once ofenders and accusers,
- Judges and executioners! – Proceed
- Upon your power! [Виттекер, 1999, с. 269][77].
Как умны, смелы и прекрасны бывают чиновники в отставке! Какое чудо природы такой человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Век бы слушать…
В начале 1849 года по Петербургу и Москве поползли слухи о предстоящем закрытии всех университетов. Однако сделать это Николай I не мог, образованные специалисты и чиновники империи были необходимы[78]. Но что-то предпринять было надо, чтобы, по выражению Уварова, «дух учебных заведений был по возможности огражден от заразы мнимого европейского просвещения, не совместимого ни с нашими учреждениями, ни с благоденствием Отечества»[79]. Как видим, в руководстве российским образованием смешались две разнородные тенденции – идеологическая и просветительская, причем первой был отдан безусловный приоритет.
В итоге выборы ректоров университетов были заменены их назначением министром (без определения срока пребывания в должности), с последующим утверждением императором, в целях «неупустительного прохождения» ректорами «своего важного звания». При этом ректор отбирался не из числа профессоров данного университета. Он, как и другие чиновники империи, должен был неукоснительно соблюдать все начальственные установления [Сборник МНП-2, т.2, 2-е отд., № 494, стб.1104–1105], и его (как и деканов) главной обязанностью стал надзор за преподаванием. Даже жениться ректор не мог без разрешения попечителя. Каждый профессор должен был представить декану подробную программу курса с указанием используемой литературы.
Программа утверждалась на собрании факультета. При ее рассмотрении имелось в виду, «чтобы в содержании… не укрывалось ничего не согласного с учением православной церкви, с образом существующего правления и духом государственных учреждений»[80]. Декан обязан был следить за точным соответствием лекций программам и докладывать о любом отступлении.
18 марта 1848 года был прекращен доступ в страну «всем вообще без исключения иностранцам и иностранкам, желающим отправиться в Россию для посвящения себя воспитанию юношества» [Сборник МНП-2, т.2, 2-е отд., № 428, стб. 897] (речь шла о «домашних наставниках», деятельность которых была неподконтрольна властям). Министерство народного просвещения постоянно проводило «мониторинг» состояния умов в учебных заведениях. Свод законов, инструкций, рескриптов, распоряжений и постановлений об образовании изрядно распух.
С весны 1848 года преподавание государственного права европейских стран было приостановлено. Заграничные командировки отменялись. В апреле 1849 года император запретил печатать в журналах статьи «за и против университетов как правительственных учреждений» [Лемке, 1904, с. 234].
21 марта 1849 года была проведена так называемая бифуркация в гимназиях: начиная с четвертого класса вводилось разделение курса в зависимости от склонности учащихся и их дальнейших планов (для тех, кто собирался поступать в университет, вводилось (также с 4-го класса) изучение латыни, но если гимназист намеревался поступить на первое (историко-филологическое) отделение философского факультета университета, он должен был с 4-го класса изучать еще и греческий язык) [ПСЗ-II, т. 24, отд. 1, № 23113][81]. Таким образом, изучение классических языков в гимназиях сокращалось. Кроме того, император делал все, чтобы дворянство шло не в университеты, а в военные учебные заведения.
В записке С. С. Уварова по поводу внесения изменений в уставы гимназий и училищ (от 21 марта 1849 года) было сказано: «…разграничивая точнее и решительнее предметы гимназического учения, полезно при этом случае оградить гимназии от умножающегося прилива как в эти средние, так и в высшие учебные заведения молодых людей, рожденных в низших сословиях общества, для которых высшее образование бесполезно: ибо, составляя лишнюю роскошь, оно выводит их из круга первобытного состояния без выгоды для них и для государства» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 476, стб. 105721]. Впрочем, все это было не ново. Еще 9 июня 1845 года Николай I просил С. С. Уварова «сообразить, нет ли способов затруднить доступ в гимназии для разночинцев» [там же, № 305, стб. 632]. И тот быстро сообразил, как именно следует «ограничить необдуманное стремление молодых людей из низших сословий к высшему образованию», но при этом «не лишая… трудолюбивое юношество способов к приобретению нужных специальных познаний» [там же, № 409, стб. 864].
Нет, Николай I вовсе не намеревался оставить низшие сословия без света знаний. Его позиция было иной: необходимо, «чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся», а потому каждому молодому человеку надлежит получить лишь «познания, наиболее для него нужные», чтобы он «не стремился чрез меру возвыситься» над тем состоянием (т. е. сословием), в коем ему суждено оставаться «по обыкновенному течению дел» [там же, 1-е отд., № 41, стб. 71]. Ведь если, допустим, крепостной или кто-то из низших сословий получит высшее образование, то от этого ему же хуже будет, поскольку это возбудит в нем «пагубные мечтания и низкие страсти» [там же, 2-е отд., стб. 72, № 41].
В 1850 году (уже при преемнике С. С. Уварова князе П. А. Ширинском-Шихматове, при котором в просвещении российском установилась, по выражению М. П. Погодина, «тишина кладбищенская») упразднили преподавание философии, а преподавание оставленных в учебных планах университетов логики и психологии возложили на профессоров богословия.
Пожалуй, только Академию наук Николай Павлович оставил в покое. И это понятно – она, как чисто научное учреждение, не представляла в его глазах никакой политической и идеологической угрозы[82].
Среди разнообразных мер по обеспечению порядка и стабильности в империи вообще и в ее университетах в частности была мера, которая представляет особый интерес в контексте настоящего очерка. 30 апреля 1849 года (т. е. спустя восемь дней после ареста петрашевцев, в кружке которых было немало учащихся и преподавателей университета или лицеев) статс-секретарь А. С. Танеев сообщил министру народного просвещения С. С. Уварову, что государь император высочайше соизволил, чтобы штат студентов в университетах «ограничен был числом 300 в каждом, с воспрещением приема студентов доколе наличное число не войдет в сей узаконенный размер» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., стб. 1066, № 480]. Кроме того, Николай Павлович потребовал, чтобы в университеты принимали «одних самых отличных по нравственному образованию» [там же]. Заметим – о способностях ни слова, ибо, как государь однажды изволил выразиться: «Мне не нужно ученых голов, мне нужны верноподданные»[83]. Последнее условие означало, что те выпускники гимназий, у кого, как у Д. Менделеева, в аттестате стояла четверка по поведению (т. е. «поведения был хорошего») и ниже, могли на предмет поступления в университет не беспокоиться.
Из воспоминаний П. Д. Боборыкина:
Когда я выправлял из правления (Казанского университета. – И. Д.) свидетельство для перехода в Дерпт, ректором был ориенталист Ковалевский, поляк, очень порядочный человек. Но инспектор, все то же животное в ермолке, аттестовал меня только четверкой в поведении, и совершенно несправедливо. А четверка считалась плохим баллом в поведении [Боборыкин, 1965, т. 1, с. 116].
Как справедливо заметила Ц. Х. Виттекер, «власти ошибочно полагали, что студенты из этих [низших] слоев, скорее всего, и есть главные виновники беспорядков; им еще только предстояло осознать, каков революционный потенциал мучимого совестью дворянина и сколь консервативен стремящийся наверх студент из низов, который рвется только „попасть в обойму“» [Виттекер, 1999, с.265]. К тому же хотя среди тех, кто ступил на революционную стезю, более всего было лиц с университетским образованием, однако большинство выпускников высших учебных заведений России верно служили престолу [там же, c. 177].
Что же касается требования императора уменьшить число обучавшихся в университетах, то С. С. Уваров такого не ожидал. Ведь рескрипт государя требовал сократить число студентов в университетах в четыре раза, с 4467 до 1180 человек! Тогда он обратился к императору с просьбой исключить 674 казенных стипендиата из числа сокращаемых. «Он напомнил царю, что эти студенты отличаются безупречным поведением и хотят стать учителями, так остро необходимыми России, либо являются уроженцами польских, кавказских и сибирских губерний, которым пойдет на пользу русификация в университетах. Кроме того, Уваров просил полностью освободить от сокращения медицинские факультеты из-за отчаянной нехватки врачей. Он ловко сыграл на главной тогдашней заботе Николая – его армии – и предупредил, что, если хотя бы один год студенты-медики не будут набраны, это существенно сократит число докторов, на которых рассчитывает военное ведомство» [Виттекер, 1999, с. 266].
11 мая Николай Павлович соизволил разъяснить: «об казенных и речи нет» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 482, стб. 1068]. Таким образом, ограничение касалось в первую очередь своекоштных, т. е. находившихся на собственном материальном обеспечении, студентов на всех факультетах, кроме медицинского[84]. Число же своекоштных студентов в университетах Российской империи (кроме Казанского, где оно было несколько меньше половины общего числа обучавшихся) заметно превышало контрольную цифру императора, в связи с чем С. С. Уваров в докладе, датированном 11 мая 1849 года, объявил, что «к предстоящему в августе месяце открытию новых курсов начальства университетские должны заблаговременно объявить по всей империи, что приема студентов в нынешнем году не будет» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 482, стб. 1069].
О численности студентов в университетах Российской империи в 1848–1850 годах дает представление следующая таблица.
Составлено по: [Высшее образование, 1995, с. 84][85].
Как видно из этой таблицы, хуже всего пришлось Петербургскому университету, где не было медицинского факультета. В других университетах можно было схитрить, поступив учиться на врача, а затем перевестись на другой факультет. Но в декабре 1849 года такой переход Николай I запретил [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 507, стб. 1125]. По данным Ф. А. Петрова, которые он, однако, не подтвердил никакой ссылкой на источники, в Петербургский университет, вопреки запрету, было принято 12 человек (некоторые – по протекции) [Петров, 2003, с.230]. Что касается Казанского университета, то благодаря тому, что там было много казеннокоштных студентов, сокращение общего студенческого контингента оказалось небольшим.
Казеннокоштных («штатных») студентов (к коим относили также пансионеров и стипендиатов «разных заведений и частных особ, ревнителей просвещения») [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 482, стб. 1069] в университетах было немного, они, как говорилось в постановлении, «образуются по распоряжениям правительства для особых назначений (т. е. это были, так сказать, „целевики“. – И. Д.), именно: для занятия звания учителей и профессоров в заведениях Министерства народного просвещения и других ведомств… уроженцы Царства Польского, Закавказских и Сибирских губерний присылаются… чтобы приготовиться для службы в тех краях, куда они и обязаны возвратиться» [там же, № 482, стб. 1068–1069].
С. С. Уваров опасался, что для выполнения требования Николая I о сокращении числа своекоштных студентов прием в Петербургский и Московский университеты придется прекратить лет на пять-шесть. Министр хотел было сыграть на милой сердцу императора мысли об ограничении в университетах числа разночинцев, поскольку именно последние при таком сокращении количества студентов заполнят университетские аудитории в качестве казеннокоштных, тогда как «дворяне, не имея позволения образовать детей своих в университетах, опять обратятся к домашнему или пансионскому иностранному воспитанию»[86]. Однако Николай I парировал это заявление министра тем, что дворянским отпрыскам следует готовиться поступать в военно-учебные заведения, а не в университеты. В итоге тем, кто хотел получить высшее университетское образование, приходилось искать обходные пути[87].
Кроме того, постановлением по Министерству народного просвещения, утвержденным императором 31 декабря 1848 года, повышалась плата за обучение: в столичных университетах – с 40 до 50 руб. в год, а в Харьковском, Казанском и Университете Св. Владимира – с 20 до 40 руб. [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 475, стб. 842–844].
По поводу новых образовательных инициатив государя Т. Н. Грановский писал А. И. Герцену в июне 1849 года: «Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением»[88].
«Все это, – писал позднее с возмущением Герцен, – принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшего на русское колесо» [Герцен, 1954–1965, т. 8, с.107][89].
Решение императора вызвало недоумение даже среди его сторонников. Барон М. А. Корф, директор Императорской публичной библиотеки, заготовил записку, в надежде передать ее государю через наследника, в которой писал, что «большим, однако, несчастием будет, если уменьшится число знающих и образованных чиновников, в котором и теперь нет избытка. ‹…› И триста молодых людей в университете, если нет за ними должного надзора умственного, нравственного и административного, могут быть гораздо вреднее тысячи». Однако, поразмыслив и приняв во внимание, что «государь не отходит так скоро от принятых мер, особенно когда они пошли от него непосредственно»[90], решил оставить написанное при себе. И правильно, не стоит перенапрягать высочайшие мозги и без того умного императора явно негабаритным для них грузом.
Ситуация начала меняться только при смене высшей власти. Поначалу Александр II не проявлял никакой склонности к преобразованиям в сфере народного просвещения, что было отмечено некоторыми современниками.
Из дневника А. В. Никитенко (19 июня 1855 года):
Наши дела идут менее успешно с нынешним государем, чем шли последнее время при покойном. Министр наш имел более значения при Николае, которому нравился тон откровенности и прямодушия, принятый Авраамом Сергеевичем [Норовым]. Покойный государь решал сам и скоро, и мы могли представлять ему о многом, не опасаясь отказа, особенно при известном искусстве редакции. Ныне не то [Никитенко, 2005, т. 1, с. 621].
У нового императора, «удрученного войною», забот хватало. Но после окончания Крымской войны (мирный договор был подписан в Париже 18 марта 1856 года) и окончания коронационных торжеств (сентябрь 1856-го)[91] в образовательной политике наметились заметные изменения.
Впрочем, еще 23 ноября 1855 года, спустя девять месяцев после кончины Николая Павловича, министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов представил новому императору всеподданнейшую докладную записку, в которой упоминал, что еще в декабре 1854 года испрашивал у императора Николая I дозволения начать неограниченный прием студентов хотя бы в два столичных университета и его величество тогда разрешил принять по 50 человек в каждый. И вот теперь, «принимая в соображение общее стремление нашего юношества к высшему образованию», министр обращается к императору Александру II с просьбой дозволить принимать неограниченное число студентов «во все университеты». На записку министра последовала резолюция: «Высочайше соизволил» [ПСЗ-II, т. 30, отд. 1, № 29849].
Короче говоря, началась новая эпоха. «После Севастопольской войны, неожиданно разрушившей призраки, в которые веровало русское общество, – писал профессор Санкт-Петербургского университета В. В. Григорьев, – наступил для него период новых заблуждений, еще более обманчивых… Одно из этих заблуждений заключалось в том, что родившийся позже тем самым умнее родившегося ранее, что знания можно и должно достигать без усилий, и что для приложения его к жизни не требуется умственной зрелости, обусловленной опытом, а достаточно одной доброй воли». В результате «в гимназиях приобретение положительных сведений стало, чем далее, тем более, заменяться „развитием“, а в университетах студенты вместо того, чтобы работать по указаниям профессоров, принялись рассуждать о преобразованиях и устройствах» [Григорьев, 1870, с. 307–308].
«Иная, лучшая потребна мне свобода»[92]
Дамы и господа, внутренней свободы нет вообще, это даже не иллюзия. Это вранье! Свобода… – одна. Она не делится как ломтик сыра или апельсин на части.
А. М. Пятигорский, «Лекции по философии»
Итак, – возвращаюсь к образовательным проблемам моего главного героя, – у Д. И. Менделеева (а точнее, у его матушки) выбор в 1849–1850 годах был невелик. Университеты отпадали, и не потому, что стали принимать из «своих округов»[93], а потому, что перестали принимать вообще. А кроме того, Менделеев не мог быть принят в университет по причине четверки по поведению и тройки по латинскому языку[94] в его и без того отнюдь не блестящем аттестате.
Можно, конечно, обсуждать весомость связей Василия Дмитриевича Корнильева и возможности как-то обойти императорский рескрипт, но крайне сомнительно (я мягко выражаюсь), чтобы кто-то из университетского начальства рискнул нарушить высочайшую волю (да и как учить это юное сибирское дарование с весьма посредственным аттестатом, если первого курса официально не было). К тому же дядя Василий, по-видимому, не шибко старался пристроить племянника в высшее учебное заведение, полагая (ссылаясь на свой и братьев Менделеева пример), что для счастья жизни Дмитрию будет вполне достаточно того образования, которое он получил в Тобольской гимназии, а потому предложил сестрице устроить сына на службу в канцелярию губернатора, с чем Мария Дмитриевна категорически не согласилась (видимо, у нее с братом по этому поводу произошла размолвка) и по весне 1850 года отправилась с сыном и дочерью в Петербург.
Хоть и недолгим было пребывание Менделеева в Москве у дядюшки, но кое-что в его памяти отложилось крепко.
Из воспоминаний Ивана Дмитриевича Менделеева:
Проездом через Москву, на пути в Главный педагогический институт, пятнадцатилетним мальчиком в доме своего дяди, В. Д. Корнильева, богатого мецената и «любителя муз», отец знакомится с Гоголем.
– Гоголь сидел как-то в стороне от всех, насупившись, – говорил отец. – Но взгляд и всю выраженную в его фигуре индивидуальность забыть нельзя. Я многое тогда в нем понял. Гоголь – явление необыкновенное. Он на много голов выше остальных наших писателей, исключительная величина в нашей литературе. Это – величина всемирная, которую еще, вероятно, по-новому оценят. Он будет все расти, когда вся наша современность забудется. Гоголь не понимал сам себя, много напортил, не вынес своего дара. Но то, что он дал, покрывает все [Тищенко, Младенцев, 1993, с. 351].
Мемуарные записки Ивана Дмитриевича точностью и достоверностью не отличаются. Но достоверно известно, что зиму 1849–1850 годов Гоголь действительно провел в Москве. То, что он сидел «насупившись», неудивительно, ибо был человеком болезненным, в частности, сильно страдал желудком. Кроме того, для Гоголя то было время творческого «оцепенения», о чем он писал В. А. Жуковскому 14 декабря 1849 года: «Мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? старость или временное оцепенение сил? Сплю ли я или так сонно бодрствую, что бодрствованье хуже сна? Полтора года моего пребыванья в России пронеслось, как быстрый миг, и ни одного такого события, которое бы освежило меня, после которого, как бы после ушата холодной воды, почувствовал бы, что действую трезво и точно действую. Только и кажется мне трезвым действием поездка в Иерусалим. Творчество мое лениво. Стараясь не пропустить и минуты времени, не отхожу от стола, не отодвигаю бумаги, не выпускаю пера – но строки лепятся вяло, а время летит невозвратно. ‹…› Никакое время не было еще так бедно читателями хороших книг, как наступившее. Шевырёв пишет рецензию (на „Одиссею“ Гомера в переводе В. А. Жуковского. – И. Д.); вероятно, он скажет в ней много хорошего, но никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими броженьями, за чтение светлое и успокаивающее душу» [Гоголь, 1988, т. 1, с. 223–224][95].
Что же касается оценки Менделеевым творчества Гоголя, то при всей ее риторичности некоторые особенности личности и таланта писателя в менделеевской трактовке можно соотнести с оценкой гоголевского дара В. В. Набоковым, особенно в пятой главе его повести «Николай Гоголь»: «…проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евклидов мир и открыл… многие теории, позднее разработанные Эйнштейном. ‹…› В мире Гоголя… ни нашей рассудочной математики, ни всех наших псевдофизических конвенций с самим собой, если говорить серьезно, не существует» [Набоков, 1996, с. 127–128].
В «Летописи…» про московские осенне-зимние месяцы 1849–1850 годов сказано, что это время «оказало несомненное влияние на формирование общекультурных интересов будущего ученого» [Летопись… 1984, с. 29]. Пустая казенная фраза. В действительности мы не знаем об этом периоде его жизни почти ничего.
В отличие от Ломоносова Менделееву не пришлось хитрить и лукавить, чтобы выйти «на более широкий жизненный путь» [Младенцев, Тищенко, 1938, с.77] в Москве или в Петербурге. Дмитрия Ивановича и в ту, и в другую столицу привезла мать, которая упорно не желала, чтобы ее «младшенький», окончив гимназию, пошел по стопам старших братьев, т. е. на госслужбу. Мария Дмитриевна твердо решила дать Дмитрию высшее образование. Чем она руководствовалась – трудно сказать. Согласно ходячей версии, она видела «исключительные дарования своего Митеньки» [там же], несмотря на то, что тот «окончил курс гимназии только удовлетворительно» [там же]. Возможно, сказались наблюдательность и материнская интуиция[96].
Итак, по весне Менделеевы отправились в Петербург в надежде устроить Дмитрия в одно из высших учебных заведений Северной столицы. Перед тем, как перейти к годам дальнейшей учебы Менделеева, мне бы хотелось сказать несколько слов об отношении Дмитрия Ивановича к николаевской эпохе вообще и к образовательной политике властей в эту эпоху в частности.
Прежде всего замечу, что николаевское время вовсе не было лишено ярких талантов и достижений в науке и культуре. Правда, многие из тех, чьи главные достижения пришлись на время правления Николая Павловича, сформировались ранее, до 1826 года (Н. И. Лобачевский, Н. В. Гоголь, В. Я. Струве, Н. Н. Зинин и мн. др.). А что касается тех выдающихся деятелей науки и культуры, которые родились и учились в николаевское царствование (как, например, Д. И. Менделеев), то их пример лишний раз подтверждает справедливость слов Ювенала: «…величайшие люди, пример подающие многим, / Могут в бараньей стране и под небом туманным рождаться» [Ювенал, 1994, с.104]. В каждой эпохе найдутся гиганты, удачно балансирующие на плечах карликов.
Если, скажем, Н. А. Добролюбов, который был на два года младше Менделеева и тоже учился в Главном педагогическом институте в Петербурге (на историко-филологическом отделении), разделял весьма радикальные политические взгляды (не буду повторять то, что хорошо известно о революционерах-демократах из учебников и необозримой литературы) и с директором института И. И. Давыдовым у него, в отличие от Менделеева, сложились весьма натянутые, чтобы не сказать враждебные отношения, то Дмитрий Иванович был человеком иного склада.
О николаевской эпохе он говорил как о времени «большого формализма», «губящего в России много живого и талантливого» [Менделеев, 1995, c.279, 241], уточняя, что «сухой формализм производит в одно и то же время как то, что называется „канцелярщиной“, так и то, что составляет беспощадные „утопии“, он же губит и многое верное в началах, а выход из круга, по-видимому заколдованного, дается лишь любовью не только к общему, но и к частному, или индивидуальному» [там же, c.346]. А с этим в России всегда были проблемы.
И еще один фрагмент из «Заветных мыслей»:
В стране с неразвитою или первобытною правительственною машиною и промышленностью нет спроса для истинного образования, особенно высшего, и там, где господствуют вялость и формализм, самостоятельные специалисты с высшим образованием не находят деятельности в общественных и государственных сферах, а потому впадают или в метафизические абстракты и уродливые утопии, или просто в отчаяние и излишества, а в лучшем случае – в ненужную диалектику и декадентское празднословие. Истинно образованный человек, как я его понимаю в современном смысле, найдет себе место только тогда, когда в нем с его самостоятельными суждениями будут нуждаться или правительство, или промышленность, или, говоря вообще, образованное общество; иначе он лишний, и про него писано «Горе от ума» [Менделеев, 1995, c. 225–226].
Д. И. Менделеев при всей своей проницательности был чужд того, что называл «политиканством». Как и М. В. Ломоносов, он, весьма трезво оценивая российские реалии, не выступал, однако, ни публичным критиком режима (именно режима, а не отдельных сторон российской действительности), ни, тем более, борцом с ним. Короче говоря, Дмитрий Иванович, «блюдя достоинство и честь, не лез во что не надо лезть» (П. Вейс). Он, – опять-таки, подобно Ломоносову, – предпочитал не критиковать действующую власть, но использовать ее для реализации своих целей, что, по его, как любил выражаться, «крайнему разумению», в итоге шло на общее благо.
Конечно, он все видел и понимал. Об этом свидетельствует фрагмент из его дневниковых записей:
19 апреля [1861].
Опять утро в университете. Потом дернуло меня в Департамент пойти сельск[ого] хозяйства. ‹…› Не забуду чиновника, бежал он к двери товарища министра, перед дверью выпрямился, спину даже назад выгнул, полуотв[орил] дверь и так изогнувшись и взошел в дверь – срамно видеть-то, право, было – мертвечина какая. ‹…› Ушел было, да дернуло воротиться. И хорошо бы сделал, если бы ушел. Возмутило меня, и вижу, что себе врежý. Позвали, встали, пригласили сесть – молодой, кажется, а нет, все корень тот же, все бюрократ с ног до головы и всякого просителем считает. И не важничает, а все покрикивать хочется, и все грубо выходит. Смутил он меня этим резким тоном и этой видимостью вежливости. ‹…› Смутился и я – не могу почти слова сказать – скверность обуяла, и теперь вся грудь дрожит – отравил он меня. ‹…› Не привык я ни носу задирать, ни шеи гнуть, а у них надо и то, и другое делать, средина исключена. Пусть их царство и цветет – не нам там место – унизительно, опошлеешь с ними – скверно, и плакать хочется, и злоба берет [Менделеев, 1951, с. 142].
В публичных же выступлениях, Менделеев умел высказаться как бы и откровенно, но без раздражающей начальство резкой прямолинейности. К примеру, упоминая об экспансионистской политике России, Дмитрий Иванович выразился весьма деликатно: «…чрез всю прошлую нашу историю проходит очевидное стремление к определению географических границ России» [Менделеев, 1882, с. 13–14].
Но иногда, особенно на старости лет, его прорывало, и мысли, которые в 1861 году он доверял только дневнику, в начале XX столетия стал высказывать публично: «… знал на своем веку, знаю и теперь очень много государственных русских людей, и с уверенностью утверждаю, что добрая их половина в Россию не верит, России не любит и народ мало понимает, хотя все… действуют и мыслят без страха и за совесть, или, говоря более понятно, теоретическими оправданиями своих мыслей и действий обладали» [Менделеев, 1995, с. 340].
Бывало и какому-либо высшему сановнику доставалось от Менделеева, чаще, правда, за глаза. Приведу любопытное свидетельство А. В. Амфитеатрова из его очерка о Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде.
В химическом павильоне Д. И. Менделеева вышел курьез другого рода. Царь в нем ни при чем, – зато любопытно выказали себя два очень крупных россиянина с громчайшими, каждый в своей деятельности, именами: Д. И. Менделеев и С. Ю. Витте. Сибиряк и одессит.
Одним из эффектов выставки было то, что в павильонах царю ее показывали и у витрин делали разъяснения не заведующие отделами, но их помощники и сотрудники, студенты разных специальностей. Царю это понравилось. Настолько, что, когда Витте в каком-то отделе вмешался было в объяснения, Николай остановил его:
– Сергей Юльевич, не будем мешать господину студенту.
Д. И. Менделеев, на своем веку десятки раз представлявшийся царям, начиная с Александра II и кончая Николаем, конечно, нисколько не нуждался лично в новом представлении «обожаемому монарху». Но в его отделе было много важных новостей химической промышленности. Подчеркнуть пред царем их значение для развивающихся русских производств Менделеев посчитал необходимым. А потому, когда Витте, опередив царя, прибежал в химический павильон проверить, все ли там готово к приему и приведено в порядок после града, Менделеев заявил, что он желает давать государю разъяснения сам, и просил Витте представить его.
– Конечно, – воскликнул Витте, – конечно, Дмитрий Иванович! кто же больше вас имеет право на это и кто же даст лучшие разъяснения?… А что именно намерены вы показать государю?
Менделеев начинает водить его от витрины к витрине и, увлекаясь, разъясняет препарат за препаратом. Так проходит минут двадцать. Витте смотрит на часы:
– Извините, Дмитрий Иванович. Государь может быть каждую минуту. Мне пора ему навстречу.
– Так не забудьте, Сергей Юльевич? – посылает ему вдогонку Дмитрий Иванович.
– Не забуду, Дмитрий Иванович, как можно забыть! – откликается на быстром ходу Сергей Юльевич.
Он действительно не забыл и представил Менделеева Николаю, но… после того, как царь осмотрел павильон. А при входе царской четы Сергей Юльевич быстро провел ее мимо напрасно выдвинувшегося было Менделеева и сам повел к тем витринам, о которых великий химик только что, незаметно для себя, прочитал ему коротенькую лекцию. И пустился указывать и объяснять. А Менделеев, ошеломленный, двигался сзади, едва веря ушам своим. И, в очередь, – сибиряк то крепко ругался втихомолку, к утешению окружающих, то по-сибирски же восхищался «ловкачом»:
– Ну и мастер! ну и память! Нет, вы послушайте: ведь полчаса тому назад он не знал аза в глаза, а теперь так и режет… хоть бы запнулся! так и режет!..
На долю Витте выпало царское изумление к его глубоким познаниям и пониманию насущных промышленных нужд своего престола-отечества. На долю Менделеева несколько любезных официальных слов, столько же деловику нужных, как прошлогодний снег. Старик был очень разозлен, но, хитрый в своем кажущемся простодушии, предпочел faire une bonne mine au mauvais jeu (делать хорошую мину при плохой игре). И на другой день, завтракая в ресторане «Эрмитаж», заменявшем выставочной администрации клуб, сам громко повествовал свою неудачу в самом юмористическом тоне, ловко пересыпая похвалы талантам и памяти Витте крепкими сибирскими аттестациями его ловкачеству. Побил-таки одессит сибиряка! [Амфитеатров, 2004, 1, с. 229–230].
Несколько иначе этот же эпизод изложен в воспоминаниях чиновника В. А. Рышкова: «Когда государь и Витте удалились, он [Менделеев] сказал окружающим: „А? Каков Витте? Настоящий министр финансов, даже в мелочах не может удержаться, чтоб не сжульничать!“» [Рышков, 2007, с. 380–381].
В минуты откровенности Дмитрий Иванович, вспоминая времена своей юности, отдавал должное подъему промышленной активности при Николае I, не забывая при этом отметить и другую сторону дела: «В настоящее время (т. е. в 1882 году. – И. Д.) мы, так сказать, получаем плоды прошлого времени, когда заводчика и предпринимателя каждый чиновник мог третировать, как третировал помещик крестьянина. Дело заводское считалось, правда, терпимою, но все же не более как прихотью предпринимателя, и заводчик только тогда мог считать себя свободным от разных стеснений, определявшихся отсутствием ясного закона, когда был богат и умел дарить. Мне рассказывал один крупный заводчик, как исправник просто бил его отца, тоже заводчика, за то, что он не выполнил какого-то из требований. Тогда только помещик да чиновник могли считать свою личность обеспеченною, а потому, по силе вещей, самый заводчик стремился сделать своих детей помещиками или чиновниками» [Менделеев, 1882, с. 38–39].
И далее непременная оговорка, что все это было в позапрошлом царствовании, тогда как царствование прошлое (Александра II) «изменило все это» [там же]. Правда, тогда непонятно, что имелось в виду под словами: «мы получаем (в 1882 году. – И. Д.) плоды прошлого времени», т. е. времени, когда чиновники третировали заводчиков. Ну да ладно… Не будем придираться к словам, а продолжим лучше рассказ о начале петербургской жизни Менделеева в «мрачное семилетие» николаевского времени.
«Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут…»[97]
…Совместная жизнь, отсутствие внешних забот, руководительство первоклассных профессоров… привычка к самодеятельности… – вот что вырабатывало учителей…
Д. И. Менделеев, «Заметки о народном просвещении России»
Итак, Мария Дмитриевна, отправляясь с детьми в Петербург, надеялась, что там ей удастся устроить сына в приличное высшее учебное заведение. Правда, некоторые авторы расширяют перечень мотиваций матери Дмитрия Ивановича. К примеру, А. Кушнарёв добавляет: «Мария Дмитриевна решила попытать счастья в Cеверной столице: все-таки поближе к царю» [Кушнарёв, 2017, с.18]. Полагаю, что Мария Дмитриевна надеялась не на государя императора, с коим не имела личного знакомства, а на старые связи своего покойного мужа. Так надежнее.
В Петербурге она решила остановиться у своей старой тобольской подруги и дальней родственницы Александры Петровны Скерлетовой, которая снимала квартиру на Сергиевской улице (д.35).
Кроме того, Менделеевы часто бывали в гостях у статского советника Владимира Александровича Протопопова на Фурштатской улице (д.11), который был братом первой жены П. П. Ершова и у которого жили три племянницы Протопопова: Феозва (милая, вполне заурядная, весьма болезненная особа, ставшая впоследствии первой женой Менделеева), Александра и Софья. Биографы Менделеева любят описывать впечатление, которое на молодого Дмитрия Ивановича произвел Петербург. Но поскольку сам Менделеев никаких внятных свидетельств на этот счет не оставил, то я воздержусь от подобных рассуждений.
После того, как «университетский вопрос» для Дмитрия Ивановича был решен, надо было подумать о других возможностях получить высшее образование. Сначала юноша направил стопы в Медико-хирургическую академию, но не выдержал пребывания в анатомическом театре, о чем впоследствии кратко упомянул в автобиографических заметках: «…присутствовав при вскрытии – дурно[98], отказался» [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 14]. Как выразились другие биографы Менделеева, Дмитрий Иванович «почувствовал, что для подготовки к деятельности врача не обладает достаточно крепкими нервами»
[Младенцев, Тищенко, 1938, с. 78]. Прекрасно сказано! Действительно, в характере моего героя иногда проявлялось нечто женское.
Вообще, поскольку определенного призвания юный Менделеев в себе еще не чувствовал, то, говоря современным языком, вузы перебирались в соответствии с материнскими амбициями в порядке убывания их рейтинга. В итоге остановились на Главном педагогическом институте (ГПИ) – как говорится, «нет дороги, иди в педагоги». Этот институт, который, напоминаю, в свое время окончили отец Менделеева и некоторые учителя Тобольской гимназии (что, впрочем, требует оговорок, см. примеч. 99), был задуман как высшая педагогическая школа и имел с Петербургским университетом не только общую крышу (оба располагались в здании Двенадцати коллегий), но и – что особенно важно – общую профессуру, в которую входили такие известные ученые, как физик Э. Х. Ленц, биолог Ф. Ф. Брандт, математик М. В. Остроградский, химик А. А. Воскресенский[99].
Поступление в ГПИ, кроме всего прочего, означало получение в перспективе не специального, но широкого естественно-научного образования, причем, повторяю, практически у тех же преподавателей, которые вели занятия в университете. Однако Марии Дмитриевне стоило большого труда добиться, чтобы ее сына туда приняли. Трудности с поступлением были связаны прежде всего с тем, что с 1849 года в ГПИ стали принимать раз в два года, и 1850 год был неприемным. Но помогли кое-какие знакомства, а также старые связи Ивана Павловича. «В Главном педагогическом институте Чижов (математик), товарищ отца, помог» [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 14], – лапидарно сообщает Менделеев в автобиографических заметках.
Дмитрий Семёнович Чижов (1784–1852), выпускник Тверской духовной семинарии, поступил в Педагогический институт, по окончании которого в 1808 году был отправлен за границу для «усовершенствования в науках». По возвращении на родину в 1811 году Д. С. Чижов назначается адъюнкт-профессором математики при пединституте, а с 1819 года преподает в Петербургском университете, где со временем занимает административные должности – декана физико-математического факультета (1835) и проректора (1836). К тому времени, когда Мария Дмитриевна обратилась к нему за помощью, Дмитрий Семёнович уже четыре года пребывал в отставке. Но былые связи сохранил и в университете, и в ГПИ, а к тому же пользовался заслуженным авторитетом у коллег. Он похлопотал и весьма удачно. В бумагах Менделеева сохранилась записка, датированная 17 марта 1850 года, в которой Дмитрий Иванович написал для памяти: «От имени Дмитрия Семёновича Чижова адресоваться к инспектору Главного педагогического института статскому советнику Александру Никитичу Тихомандрицкому[100]