Читать онлайн Закат Европы. Образ и действительность. Том 1 бесплатно
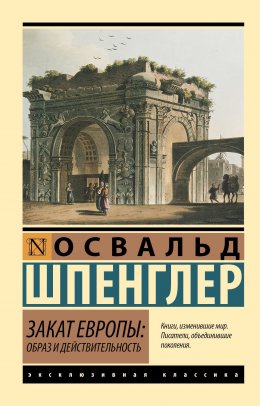
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Введение
1
В этой книге будет сделана попытка определить историческое будущее. Задача ее заключается в том, чтобы проследить дальнейшие судьбы той культуры, которая сейчас является единственной на земле и проходит период завершения, а именно – культуры Западной Европы, во всех ее еще не законченных стадиях.
По-видимому, до сего дня еще никому не приходила в голову мысль о возможности разрешить задачу такого огромного охвата, и если мысль об этом и возникала, то не были придуманы средства для ее трактования или они были недостаточно использованы.
Существует ли логика истории? Существует ли превыше всех случайных и не поддающихся учету отдельных событий какое-то, так сказать, метафизическое строение исторического человечества, существенно независимое от очевидных популярных духовно-политических образований внешней поверхности, скорее само вызывающее к жизни эти действительности низшего порядка? Не являются ли великие моменты всемирной истории для видящего глаза постоянно в определенном облике, позволяющем делать выводы? И если так, то где лежат границы для подобных умозаключений? Возможна ли в самой жизни – ведь человеческая история не что иное, как итоги отдельных огромных жизней, и наша обыденная речь находит для них некое «я» или личность, невольно признавая их действующими и мыслящими индивидуумами высшего порядка и называя их «античность», «китайская культура» или «современная цивилизация», – возможно ли отыскать те ступени, которые необходимо пройти, и притом в порядке, не допускающем исключения? Может быть, и в этом кругу основные понятия всего органического: рождение, смерть, юность, старость, продолжительность жизни – имеют свой строго определенный, до сих пор никем не вскрытый смысл? Короче сказать, не лежат ли в основе всякого исторического процесса черты, присущие индивидуальной жизни?
Падение Запада является, подобно аналогичному ему падению античного мира, отдельным феноменом, ограниченным во времени и пространстве, но вместе с тем это философская тема, заключающая в себе, если ее оценить по достоинству, все великие вопросы бытия.
Чтобы уяснить себе, в каких образах протекает угасание западной культуры, необходимо сперва исследовать, что такое культура, в каких отношениях она находится к видимой истории, к жизни, к душе, к природе и к духу, в каких формах она обнаруживается и насколько эти формы – народы, языки и эпохи, битвы и идеи, государства и боги, искусства и произведения искусства, науки, права, хозяйственные формы и мировоззрения, великие люди и великие события – сами являются символом и как таковые подлежат толкованию.
2
Средством для понимания мертвых форм служит математический закон. Средство для уразумения живых форм – аналогия. В этом различие между полярностью и периодичностью вселенной.
Всегда существовало сознание, что количество форм исторических явлений ограниченно, что типы эпох, ситуаций и личностей повторяются. Говоря о роли Наполеона, почти всегда припоминали и Цезаря, и Александра, причем сопоставление с первым, как мы увидим позднее, было морфологически недопустимо, а со вторым соответствовало действительности. Самому Наполеону его положение представлялось похожим на положение Карла Великого. Конвент говорил о Карфагене, подразумевая при этом Англию, а якобинцы называли себя римлянами. Сравнивали, далеко не в равной мере основательно, Флоренцию с Афинами, Будду с Христом, раннее христианство с современным социализмом, римских богачей времен Цезаря с янки. Первый страстный археолог, Петрарка, – сама археология есть выражение чувства повторяемости истории – приравнивал себя к Цицерону, а совсем недавний организатор английских южноафриканских колоний, Сесиль Родс, имевший в своей библиотеке нарочно для него сделанные переводы античных биографий цезарей, – к императору Адриану. Для шведского короля Карла XII стало фатальным то обстоятельство, что он с юных лет носил в кармане жизнеописание Александра, написанное Курцием Руфом, и во всем хотел подражать этому завоевателю.
Фридрих Великий в своих политических записках, например в Considerations [1], о 1738 г. с полной уверенностью пользуется аналогиями, чтобы определить свое понимание ситуаций мировой политики; так, он сравнивает французов с македонцами под властью Филиппа в противоположность грекам – немцам. «Уже Фермопилы Германии, Эльзас и Лотарингия в руках Филиппа». Это прекрасная оценка политики кардинала Флери. Дальше мы встречаем сравнение между политикой Габсбургов и Бурбонов и проскрипциями Антония и Октавия.
Все это, однако, оставалось отрывочным и произвольным и имело в большинстве случаев своим источником скорее минутное желание говорить поэтически или остроумно, а не глубокое чувство исторических форм.
Так и у Ранке, этого мастера искусных аналогий, сравнения между Киаксаром и Генрихом I, набегами киммерийцев и мадьяр, лишены морфологического значения; немного менее неудачно сравнение греческих государств-городов с итальянскими республиками Возрождения; напротив, сближение Алкивиада и Наполеона полно глубокой, хотя и случайно высказанной правды. Как и другие, он делал эти сравнения, руководясь плутарховским, т. е. народно-романтическим вкусом, подмечающим только сходство сцен на мировых подмостках, а не строгим рассуждением математика, познающего внутреннее сродство двух групп дифференциальных уравнений, в которых профан увидал бы только различие.
Легко заметить, что в основном выбором картин здесь руководит каприз, а не идея или чувство какой-то необходимости. Техники сравнения еще не существует. Как раз теперь сравнения применяются в огромном количестве, но без всякого плана и связи, и если они оказываются удачными в том глубоком смысле, о котором предстоит говорить, то виною этому бывает счастье, реже инстинкт, но никогда не принцип. Никто еще не подумал о выработке метода. Никто даже издалека не предполагал, что здесь-то и скрыт корень, тот единственный корень, из которого только и может последовать широкое решение проблемы истории.
Сравнения могли бы стать благодатью для исторического мышления, так как они вскрывают органическую структуру совершающегося. Под действием всеобъемлющей идеи техника их должна получить полное развитие и достигнуть степени, не допускающей выбора необходимости и логического мастерства. До сих пор они были проклятием, потому что, будучи вопросом вкуса, они освобождали историка от необходимости вдумываться и видеть в языке исторических форм и в их анализе свою ближайшую и труднейшую задачу, не только до сего дня не разрешенную, но едва ли и понятую.
Они были или очень поверхностными, как, например, когда Цезаря называли основателем римской правительственной прессы, или, что еще хуже, когда отдаленным, в высшей степени сложным и внутренне чуждым для нас явлениям древности давали модные имена, как, например, социализма, импрессионизма, капитализма, клерикализма, или странным образом превратными, как, например, культ Брута, которому предавались в якобинских клубах, культ этого миллионера и ростовщика, который в качестве главы древней римской знати и при одобрении патрицианского сената заколол вождя демократии.
3
Таким образом, задача, первоначально имевшая в виду ограниченную проблему современной цивилизации, расширяется до размеров совершенно новой философии – философии будущего, если вообще еще на метафизически истощенной почве Запада возможна какая-либо философия, – той единственной философии, которая, по крайней мере, есть одна из возможностей последних стадий западноевропейского духа; это будет идея морфологии всемирной истории – мира как истории, – которая, исходя из противоположного принципа по отношению к морфологии природы, бывшей до последнего времени единственной темой философии, охватит еще раз все образы и движения мира в их глубочайшем и последнем значении и в совершенно ином порядке построит из них не общую картину всего познанного, но картину жизни, не ставшего, но становления.
Мир как история, понятый, наблюденный и построенный на основании его противоположности, мира как природы, – вот новый аспект бытия, которого до настоящего времени никогда не применяли, который смутно ощущали, часто угадывали, но не решались проводить со всеми вытекающими из него выводами. Перед нами два различных способа, при помощи которых человек может подчинить себе, пережить свой окружающий мир. Я с полной резкостью отделяю по форме, а не по материалу, органическое представление о мире от механического, совокупность образов от совокупности законов, картину и символ от формулы и системы, однажды действительное от постоянно возможного, цель планомерно строящего воображения от целесообразно разлагающего опыта, или – чтобы назвать уже сейчас своим именем ранее не замеченную и тем не менее очень замечательную противоположность – область применения хронологического числа от области применения числа математического.
В таком исследовании, к какому мы приступаем, речь идет не о том, чтобы принимать как таковые легко наблюдаемые явления духовно-политического порядка, приводя их в систему по принципу причины и действия и исследуя их внешнюю рассудочно понимаемую тенденцию, – подобная «прагматическая» обработка истории была бы только частью переряженного естествознания, что и не скрывают приверженцы материалистического понимания истории, между тем как их противники в недостаточной мере сознают идентичность обоих приемов. Дело не в том, что сами по себе представляют исторические факты любого времени, а в том, что означает или на что указывает их явление. Современные историки полагают, что дело сделано, раз ими использованы религиозные, социальные и даже художественные подробности для «иллюстрации» политического характера эпохи. Но они забывают решающее, так как видимая история только выражение, знак, принявшая формы душевная стихия. Я еще не встречал никого, кто бы серьезно занимался изучением этих проявлений морфологического сродства, не ограничивался бы областью политических фактов и подробно изучил бы основные глубочайшие математические идеи греков, арабов, индусов, западноевропейцев, или смысл их раннего орнамента и древнейших форм архитектуры, метафизики, драмы и лирики, или тенденции и течения в области главных искусств, или, наконец, подробности художественной техники и выбора материала, я не говорю уже о постижении окончательного значения всех таких явлений по отношению к проблеме форм истории. Кому известно, что существует глубокая общность форм между дифференциальным исчислением и династическим государственным принципом эпохи Людовика XIV, между государственным устройством античного полиса и евклидовой геометрией, между пространственной перспективой западной масляной живописи и преодолением пространства при помощи железных дорог, телефонов и дальнобойных орудий, между контрапунктической инструментальной музыкой и экономической системой кредита? Даже реальнейшие факторы политики, при изучении их в этой перспективе, принимают в высшей степени трансцендентальный характер, и мы видим, пожалуй, в первый раз, что такие явления, как египетская система управления, античная монетная система, аналитическая геометрия, чек, Суэцкий канал, китайское книгопечатание, прусская армия и римская техника сооружения дорог – все в равной степени воспринимаются как символы и, как таковые, подвергаются истолкованию.
Здесь приходится признать, что еще не существует специфического исторического рода познавания. То, что этим именем принято называть, заимствует свои методы почти исключительно из той единственной области знания, где методы познания подверглись строгой разработке, а именно из физики. В отдельных явлениях отыскивают связь, причины и следствия, и это называют «заниматься историческим исследованием». Достойно замечания, что философия старого стиля никогда и не воображала возможности другой связи между духом и миром. Кант, устанавливая в своем главном произведении формальные правила познания, принимал в качестве объекта познавательной деятельности одну только природу, и ни он сам, ни кто другой не обратили на это внимание. Знание у него значит математическое знание. Когда он говорит о прирожденных формах созерцания и о категориях рассудка, то он совсем не думает о совершенно своеобразном познавании исторических явлений, а Шопенгауэр, удерживающий из всех категорий Канта – что достойно замечания – одну только причинность, говорит об истории с полным пренебрежением [2].
То обстоятельство, что кроме необходимости причины и действия (я назову ее логикой пространства) в жизни существует еще необходимость судьбы – логика времени, – являющаяся фактом глубочайшей внутренней достоверности, которая направляет мифологическое, религиозное и художественное мышление и составляет ядро и суть всей истории в противоположность природе, но в то же время не поддается формам познания, исследованным в «Критике чистого разума», – это обстоятельство еще не проникло в область рассудочной формулировки; философия – следуя знаменитому выражению Галилея в Saggiatore [3], в великой книге природы scritta in lingua matematica, – записана на языке математики. Но мы все еще до сегодняшнего дня ждем ответа философа, на каком языке написана история и как ее надлежит читать.
Математика и принцип причинности приводят к систематизации явлений по методу природоведения, хронология и идея судьбы – по методу историческому. Обе системы охватывают весь мир. Только глаз, в котором и через который этот мир получает свое осуществление, в обоих случаях разный.
4
Природа есть образ, в котором человек высокой культуры придает единство и значение непосредственным впечатлениям своих чувств. История – это образ, при помощи которого воображение человека стремится почерпнуть понимание живого бытия мира по отношению к собственной жизни и таким способом придать ей углубленную действительность. Способен ли он справиться с этими образами и который из них больше властен над его бодрствующим сознанием – вот в чем основной вопрос всякого человеческого существования.
Из этого вытекают две возможности человеческого миротворчества. Ясно, что они не обязательно являются действительностями. Если мы намерены в дальнейшем заниматься вопросом о смысле всякой истории, то сначала предстоит решить другой вопрос, который ни разу еще не был поставлен. Для кого возможна история? Вопрос кажется парадоксальным. Конечно, для всякого, поскольку всякий является членом и элементом истории. Но следует иметь в виду, что как история, так и природа – и то и другое есть комплекс явлений – предполагает дух, через который и в котором они становятся действительностью. Без субъекта невозможен и объект. Независимо от всяких теорий, которым философы придали тысячу разных формулировок, твердо установлено, что земля и солнце, природа, пространство, вселенная – все это личные переживания, причем их существование в определенном виде зависит от человеческого сознания. Но то же самое справедливо и по отношению к исторической картине мира, к миру становящемуся, а не покоящемуся; и, если даже знать, что она такое, все же еще неизвестно, для кого она является существующей. Конечно, не для «человечества». Это наше западноевропейское ощущение, но мы не человечество. Конечно, не только для первобытного человека, но и для человека некоторых высоких культур не существовало никакой всемирной истории, никакого мира как истории. Мы все знаем, что в нашем детском миропонимании сначала возникают представления о природе и причинности и только много позднее исторические представления, как, например, определенное чувство времени. Слово «даль» получает для нас раньше определенное значение, чем слово «будущее». Что же произойдет, если целая культура, целый высокий душевный мир строится в таком не знающем истории духе? Как должна ему рисоваться действительность? Мир? Жизнь? Если учесть, что в сознании эллина все прожитое, не только свое личное прошлое, но и всякое другое, немедленно превращалось в миф, т. е. природу, во вневременное, неподвижное, неизменяющееся настоящее, в такой мере, что история Александра Великого для античного понимания еще при его жизни начинала сливаться с легендой о Дионисе и что Цезарь в своем происхождении от Венеры не видел ничего противного разуму, то приходится признать, что для нас, западных европейцев с сильно развитым чувством расстояний во времени, почти невозможно вжиться в такой душевный склад, но что, с другой стороны, мы не имеем никакого права, занимаясь проблемой истории, просто игнорировать этот факт.
Значение, какое для отдельного человека имеют дневники, автобиографии, исповеди, имеет для души целой культуры историческое исследование в самом широком значении этого понятия, даже в том случае, если оно посвящено разного рода психологическим изысканиям о чужих народах, временах и нравах. Но античная культура не обладала памятью в этом специфическом значении, не имела никакого исторического органа. Память античного человека – при этом мы, конечно, бесцеремонно присваиваем чуждой нам душе понятие, заимствованное из нашего душевного склада, – представляет собой нечто совсем другое, так как в его сознании не существует прошедшего и будущего в качестве упорядочивающей перспективы, и все оно полно в совершенно непостижимой для нас степени «настоящим», чем так часто восторгался Гёте во всех проявлениях античной жизни, особенно в произведениях пластики. Это настоящее в чистом виде, величайший символ которого есть дорическая колонна, действительно есть отрицание времени (направления). Для Геродота и Софокла, а также для Фукидида и какого-нибудь римского консула прошедшее тотчас же испаряется и превращается в покоящееся вне времени впечатление полярного, не периодического строения, – так как в этом заключается смысл одухотворенного мифотворчества, – в то время как для нашего мироощущения и внутреннего взора оно является периодическим, ясно расчлененным, направленным к одной цели организмом, составленным из столетий и тысячелетий. Вот этот-то фон и дает как античной, так и западноевропейской жизни их специфическую окраску. То, что греки называли «космосом», было картиной мира, не становящегося, а пребывающего. Следовательно, сам грек был человеком, который никогда не становился, а всегда пребывал. Поэтому хотя античный человек очень хорошо знал точную хронологию, календарное летосчисление и, больше того, в сфере вавилонской и египетской культуры имел перед собой живое ощущение вечности и ничтожности настоящей минуты, выражающееся в величественных наблюдениях над звездами и точных измерениях громадных промежутков времени, но внутренне он себе ничего из всего этого не усвоил. Если греческие философы при случае и упоминают об этом, они говорят по слуху, а не по опыту. Ни у Платона, ни у Аристотеля не было обсерватории. В последние годы правления Перикла в Афинах народным собранием был принят закон, угрожавший каждому, распространявшему астрономические теории, тяжелой формой обвинения, эйсангелией. Это был акт глубочайшей символики, в котором выразилась воля античной души вычеркнуть всякое представление дали из своего миросозерцания.
Поэтому-то эллины – в лице своего Фукидида – только тогда начали размышлять о своей истории, когда она внутренне почти завершилась. Но тот же Фукидид, чьи «методические основные» положения во введении к его книге как будто бы носят очень западноевропейский характер, понимал их в том смысле, что допускал сочинение исторических подробностей, раз это ему казалось подходящим. У него это играет роль художественного принципа, но как раз это мы и называем мифотворчеством. О настоящем понимании значения хронологических чисел также не приходится говорить. В III веке Манефон и Берозий – оба не греки – написали основательные сочинения, основанные на источниках, о Египте и Вавилоне, странах, где понимали толк в астрономии и, следовательно, также и в истории. Но образованные греки и римляне мало об этом заботились и продолжали предпочитать романтические вымыслы какого-нибудь Гекатея или Ктесия [4].
Поэтому-то вся древняя история до персидских войн, а также структура многих позднейших периодов являются, по существу, продуктом мифического мышления. История государственного устройства Спарты – Ликург, чья биография рассказывается со всеми подробностями, был, вероятно, незначительным лесным божеством Тайгета – есть выдумка эллинистического времени, а придумывание римской истории периода до Ганнибала еще не совсем затихло во времена Цезаря. То, что литература романов об Александре оказывала сильнейшее влияние на серьезную политическую и религиозную историю, хорошо характеризует античное значение слова «история». Никто не думал о том, чтобы отличать содержание этой литературы основным образом от дат, обоснованных актами. Когда в конце республики Варрон задался целью зафиксировать быстро исчезавшую из народной памяти римскую религию, он разделил божества, чье богослужение выполнялось со стороны государства с кропотливой тщательностью, на di certi [5] и di incerti [6] – на таких, о которых кое-что еще было известно, и на таких, от которых, несмотря на продолжающееся общественное богослужение, оставалось только имя. На самом же деле та религия римского общества его времени – как ее с полным доверием почерпали из римских поэтов не только Гёте, но и Ницше – была в главной своей части произведением эллинистической литературы и почти не имела никакой связи со старым культом, который для всех сделался непонятным.
Моммзен дает вполне точную формулировку западноевропейской точки зрения, называя римских историков – он имел в виду главным образом Тацита – людьми, которые говорили о том, о чем надо было умалчивать, и молчали о том, о чем надо было говорить.
Индийская культура со своей (брахманской) идеей нирваны – этим самым ярким выражением полной неисторичности души, какое только можно себе представить, – никогда не обладала пониманием «когда» в каком бы то ни было виде. Нет ни индийской астрономии, ни индийского календаря, а значит, и никакой индийской истории, если под этим понимать сознание живого развития. О внешнем течении этой культуры, завершившейся в своей органической части до возникновения буддизма, нам известно еще меньше, чем об античной за период времени между XII и VIII веком, без сомнения, также очень богатой великими событиями. Обе сохранились до нас в призрачно-мифическом образе. Только целое тысячелетие спустя после Будды, около 500 г. после Р. Х., возникло на Цейлоне в «Магавансе» нечто отдаленно напоминающее историю.
Сознание индуса было так неисторично устроено, что ему был даже незнаком в качестве закрепленного во времени явления феномен какой-либо книги, написанной отдельным автором. Вместо органического ряда отдельных личных сочинений возникала смутная масса текстов, к которой каждый прибавлял что ему вздумается, причем понятия индивидуальной духовной собственности, развития идеи, умственной эпохи не играли никакой роли. В таком анонимном облике, характерном для всей индийской истории, лежит перед нами индийская философия. Теперь сравним с ней резко очерченную историю западной философии, состоящую из книг и личностей с определенно выраженной физиономией.
Индус забывал все, египтянин не мог ничего забыть. Индийского портретного искусства – этой биографии in nuce [7] (в зачатке) – никогда не существовало; египетская пластика почти исключительно только этим и занималась.
В высшей степени исторично предрасположенная египетская душа, стремящаяся с первобытной страстностью к бесконечному, воспринимала весь свой мир в виде прошедшего и будущего, а настоящее, идентичное с бодрствующим сознанием, казалось ей только узкой границей между двумя неизмеримыми пространствами. Египетская культура есть воплощение заботливости – душевного коррелята дали заботливости о будущем, которая выражалась в выборе гранита и базальта в качестве материала для пластики [8], в высеченных документах, в выработке искусной системы управления и в сети оросительных каналов [9], а также неизбежно связанной с первой заботливостью о прошедшем. Египетская мумия – это символ высочайшего значения. Увековечивали тело умершего и равным образом сохраняли длительность его личности, его «ка», при помощи портретных статуй, изготовлявшихся нередко во многих экземплярах, удерживавших связь с этой личностью при помощи очень глубоко понятого сходства. Как известно, в цветущую эпоху греческой пластики портретные статуи определенно не допускались.
Существует глубокая связь между отношением к историческому прошлому и пониманием смерти, выражающимся в погребальных обычаях. Египтянин отрицает уничтожаемость. Античный человек утверждает ее всем языком форм своей культуры. Египтяне консервировали даже мумию своей истории, а именно хронологические даты и числа. В то время как, с одной стороны, ничего не сохранилось от досолоновской истории греков, ни одного года, ни одного подлинного имени, никакого определенного события, – что придает единственно известному нам остатку преувеличенное значение, – с другой стороны, мы знаем почти все имена и годы правления египетских царей третьего тысячелетия до Р. Х., а поздние египтяне знали их, конечно, все без исключения. Как жуткий символ этой воли к длительности еще до сего дня лежат в наших музеях тела великих фараонов, сохраняя черты личного облика. На блестяще отполированном гранитном острие пирамиды Аменемхета III еще и сейчас можно прочесть слова: «Аменемхет видит красоту солнца», и на другой стороне: «Душа Аменемхета выше, чем высота Ориона, и она соединяется с преисподней». Это – победа над уничтожаемостью, над настоящим, и не антично в высшей степени.
5
В противовес могучей группе египетских жизненных символов на пороге античной культуры, соответственно тому забвению, которое она развертывает над всяким явлением своего внутреннего и внешнего прошлого, стоит сожжение мертвых. Микенскому времени было вообще чуждо сакральное предпочтение этого вида погребения перед всеми остальными, применяемыми обыкновенно наряду с ним у первобытных народов. Царские могилы указывают даже на преимущественное значение погребения в могилах. Но в гомеровскую эпоху, так же как и в ведийскую, обнаружился этот неожиданный, материально необъяснимый переход от погребения к сожжению, которое, согласно свидетельству «Илиады», совершалось с полным пафосом символического действия, знаменующего торжественное уничтожение и отрицание исторической длительности.
С этого момента наступает конец также пластичности индивидуального душевного развития. Как древняя драма не допускает настоящих исторических мотивов, так для нее неприемлема и тема внутреннего развития, и всем известно, как решительно эллинский инстинкт противился вторжению портрета в область изобразительных искусств. До самых времен империи античное искусство знает только один в известном смысле для него естественный мотив, а именно – миф [10]. Даже идеалистические портреты эллинистической пластики мифичны в такой же мере, как и типические биографии в духе Плутарха. Ни один из великих греков не написал воспоминаний, посвященных увековечению перед его духовным взором какой-нибудь пройденной эпохи. Даже Сократ не сказал ничего значительного в нашем смысле о своей внутренней жизни. Спрашивается, возможно ли было вообще в античной душе наличие чего-либо подобного тому, что является предпосылкой для создания Парсифаля, Гамлета, Вертера. Мы не видим у Платона никакого сознания развития своего учения. Его отдельные сочинения заключают исключительно формулировку тех различных точек зрения, на которых он стоял в разные эпохи своей жизни. Их генетическая связь никогда не была для него предметом размышления. Единственную – к слову сказать, плоскую – попытку самоанализа, притом почти уже не принадлежащую к античной культуре, мы находим в «Бруте» Цицерона. Но уже в самом начале истории западноевропейской мысли стоит образец глубочайшего самоисследования – Дантова Vita Nuova. Уже из одного этого ясно, как мало античного, т. е. относящегося к области настоящего, было в Гёте, который ничего не забывал и чьи произведения, согласно его собственному выражению, были только отрывками одной большой исповеди.
После разрушения Афин персами все произведения древнейшего искусства были выброшены в мусор, из которого мы теперь их извлекаем, и никогда не было слышно, чтобы кто-нибудь в Элладе поинтересовался руинами Микен или Феста. Читали Гомера, но никто не собирался, подобно Шлиману, разрывать троянские холмы. Нужен был миф, а не история. Часть произведений Эсхила и сочинений философов-досократиков была утрачена уже в эллинистическую эпоху. Но уже Петрарка собирал древности, монеты и манускрипты со свойственной только этой культуре набожностью и искренностью наблюдений, как человек, исторически чувствующий, стремящийся к отдаленному, он был первый, предпринявший восхождение на одну из альпийских вершин, – и в сущности чужой для своего времени. Только из такого сочетания с проблемой времени развивается психология собирателя. Становится понятным, почему культ прошлого, стремившийся увековечить это прошлое, должен был остаться совершенно незнакомым для античного человека, тогда как уже в эпоху великого Тутмоса вся египетская страна превратилась в огромный музей традиций и архитектуры.
Среди народов Запада немцы стали изобретателями механических часов – этого жуткого символа убегающего времени, – чей бой, днем и ночью звучащий с бесчисленных башен Западной Европы, есть, пожалуй, самое мощное выражение того, на что вообще способно историческое мироощущение [11]. Ничего подобного мы не найдем в равнодушных ко времени античных странах и городах. Водяные и солнечные часы были изобретены в Вавилоне и Египте, и только Платон, опять же в конце расцвета Эллады, впервые ввел в Афинах клепсидру, и еще позднее были заимствованы солнечные часы как несущественная принадлежность повседневного обихода, причем все это не оказало никакого влияния на античное жизнеощущение.
Здесь следует еще упомянуть соответствующее, очень глубокое и ни разу по достоинству не оцененное различие между античной и западноевропейской математикой. Античное числовое мышление воспринимает вещи как они есть, как величины без отношения ко времени, чисто в настоящем. Это привело к евклидовой геометрии, математической статике и завершению системы учением о конических сечениях. Мы воспринимаем вещи с точки зрения их становления и взаимоотношения, как функции. Это привело к динамике, аналитической геометрии и от нее – к дифференциальному счислению [12]. Современная теория функций есть огромный итог всей этой массы идей. Это очень странный, но духовно строго обоснованный факт, что греческая физика в качестве статики в противоположность динамике совершенно не знала применения часов и в них не нуждалась, и, в то время как мы высчитываем тысячные доли секунды, совершенно игнорировала измерение времени. Энтелехия Аристотеля единственное из всех существующих вневременное – антиисторическое – понятие развития.
Таким образом, выясняется наша задача, поскольку жизнь есть осуществление душевно возможного и новое понятие душевно невозможного устанавливает новую точку зрения на вещи. Мы, люди западноевропейской культуры, – явления вполне точно ограниченного промежутком времени между 1000 и 2000 годом после Р. Х. – являемся исключением, а не правилом. Всемирная история – это наша картина мира, а не принадлежащая человечеству. Для индуса и эллина не существовало картины становящегося мира как вида и формы созерцания, и вполне возможно, что в будущем, после окончательного угасания западной цивилизации, носителями которой являемся мы, современные люди, никогда не повторится подобная культура и подобный человеческий тип, для которого всемирная история есть содержание космического сознания.
6
Что же такое всемирная история? Разумеется, некоторая духовная возможность, внутренний постулат, некоторое выражение чувства формы. Но как бы определенно ни было чувство, оно далеко от законченной формы, и как бы мы ни чувствовали и ни переживали всю всемирную историю, как бы мы ни были вполне уверены в возможности для нас обозреть весь ее облик, тем не менее в настоящее время нам известны только некоторые ее формы, а не самая форма.
Всякий, кого ни спросить, несомненно, убежден, что он ясно и определенно различает периодическую структуру истории. Иллюзия эта основана на том обстоятельстве, что никто еще серьезно над ней не задумывался и никто не сомневается в своем знании, так как не подозревает, как много здесь еще поводов для сомнения. Действительно, облик всемирной истории есть неисследованное духовное достояние, переходящее даже в кругах специалистов-историков нетронутым от поколения к поколению и очень нуждающееся хотя бы в малой доле того скептического к себе отношения, которое, начиная с Галилея, разложило и углубило прирожденную нам картину природы.
Древний мир – Средние века – Новое время – вот та невероятно скудная и лишенная смысла схема, чье абсолютное владычество над нашим историческим сознанием постоянно мешало правильному пониманию подлинного места, облика и главным образом жизненной длительности той части мира, которая сформировалась на почве Западной Европы со времени возникновения германской империи, а также ее отношений к всемирной истории, т. е. общей истории всего высшего человечества.
Будущим культурам покажется совершенно невероятным, что никогда даже не было подвергнуто сомнению значение этой схемы, с ее наивной прямолинейностью, с ее бессмысленными пропорциями, этой схемы, от столетия к столетию все более и более теряющей всякий смысл и совершенно не допускающей включения новых открывающихся нашему историческому сознанию областей. Самые попытки критики и очень значительные изменения, которым она подверглась под влиянием необходимости, – так, например, перенесение начала «Нового времени» с Крестовых походов на Ренессанс и, далее, на начало XIX века – доказывают одно: ее до сих пор считают непоколебимой, почти за результат божественного откровения или, по крайней мере, за что-то очевидное, так сказать, за априорную форму исторического созерцания в том смысле, как говорит об этом Кант.
Но эта общепринятая форма не допускала никакого ее углубления, и так как от нее не хотели отказаться, то отказались от возможности действительно понять историческую связь. Ей мы обязаны тем, что большие морфологические проблемы истории совершенно не были обнаружены. Она поддерживала формально рассмотрение истории на том низком уровне, которого бы постыдились во всякой другой науке.
Достаточно указать на то, что эта схема устанавливает чисто внешние начало и конец там, где в более глубоком смысле нельзя говорить ни о начале, ни о конце. По этой схеме страны Западной Европы [13] являются покоящимся полюсом (математически говоря, точкой на поверхности шара), вокруг которого скромно вращаются мощные тысячелетия истории и далекие огромные культуры. Причем для всего этого нет другого основания, кроме разве того, что мы, авторы этой исторической картины, находимся как раз в этой точке. Это очень своеобразно придуманная планетная система. Один какой-то уголок принимается за центр тяжести исторической системы. Здесь солнце и центр этой системы. Отсюда события истории почерпают настоящий свет. Отсюда устанавливается их значение и перспектива. Но в действительности это голос не сдерживаемого никаким скепсисом тщеславия западноевропейского человека, в уме которого развертывается фантом – всемирная история. Этим объясняется вошедший в привычку огромный оптический обман, благодаря которому исторический материал целых тысячелетий, отделенный известным расстоянием – например, Египет или Китай, – принимает миниатюрные размеры, а десятилетия, близкие к зрителю, начиная с Лютера и особенно с Наполеона, приобретают причудливо громадные размеры. Мы знаем, что это только одна видимость, что чем выше облако, тем медленнее оно движется и что медленность движения поезда в далеком ландшафте только видимая, но мы убеждены, что темп ранней индийской, вавилонской и египетской истории был действительно медленнее темпа жизни нашего недавнего прошлого. И мы считаем их сущность более скудной, их формы слабее развитыми и более растянутыми именно потому, что не научились учитывать отдаленность, внешнюю и внутреннюю. Нигде с такой ясностью, как здесь, не выступает недостаток умственной свободы и самокритики, так невыгодно отличающий историческую методу от всякой другой.
Конечно, вполне понятно, что для культуры Запада, которая, скажем, начиная с Наполеона, распространяет свои формы, хотя бы и внешне, на весь земной шар, существование Афин, Флоренции и Парижа важнее, чем многого другого. Но возводить это обстоятельство в принцип построения всемирной истории потому только, что мы живем в данной культурной среде, значило бы обладать кругозором провинциала. Это давало бы право китайскому историку со своей стороны составить такой план всемирной истории, в котором обходились бы молчанием, как нечто неважное, Крестовые походы и Ренессанс, Цезарь и Фридрих Великий. Практическому политику и критику социальных условий допустимо при оценке других эпох руководиться своим личным вкусом, точно так же как технолог-химик волен практически рассматривать область производных бензола как самую важную главу естествознания и совершенно не интересоваться электродинамикой, но мыслитель обязан устранить все личное из своих комбинаций. Почему XVIII столетие в морфологическом отношении важнее, чем одно из шестидесяти ему предшествовавших? Разве не смешно противопоставлять какое-то Новое время, охватывающее несколько столетий и притом локализированное почти исключительно в Западной Европе, Древнему миру, который охватывает столько же тысячелетий и к которому сверх того присчитывают еще в виде прибавления всю массу догреческих культур, не пытаясь глубже расчленить их на отдельные части? Чтобы спасти устаревшую схему, разве не трактовали в качестве прелюдий к античности Египет и Вавилон, завершенная в себе история которых, каждая в отдельности, способна уравновесить так называемую всемирную историю от Карла Великого до мировой войны и многое последующее? Разве не относили с несколько смущенной миной сложные комплексы индийской и китайской истории куда-то в примечания и разве просто не игнорировали великие американские культуры под тем предлогом, что они находятся вне связи (с чем?)? Так мыслит негр, разделяющий мир на свою деревню, на свое племя и на «все остальное» и считающий, что луна много меньше облаков и что они ее проглатывают.
Я называю эту привычную для западного европейца схему, согласно которой все высокие культуры совершают свои пути вокруг нас как предполагаемого центра всего мирового процесса, птолемеевской системой истории и противополагаю ей в качестве Коперникова открытия в области истории изложенную в настоящей книге и заступающую место прежней схемы новую систему, согласно которой не только античность и Западная Европа, но также Индия, Вавилон, Китай, Египет, арабская культура и культура майя рассматриваются как меняющиеся проявления и выражения единой, находящейся в центре всего жизни, и ни одно из них не занимает преимущественного положения: все это отдельные миры становления, все они имеют одинаковое значение в общей картине истории, притом нередко превышая эллинство величием духовной концепции и мощью подъема.
7
Схема Древний мир – Средние века – Новое время передана нам церковью и есть создание гностики, т. е. семитского, в особенности сиро-иудейского мирочувствования в эпоху Римской империи.
Внутри тех узких границ, которые являются предпосылкой этой концепции, она имела, несомненно, свои основания. Ни индийская, ни даже египетская история не попадают в круг ее наблюдений. Название «всемирная история» в устах этих мыслителей обозначает единичное, в высшей степени драматическое событие, сценой для которого послужила страна между Элладой и Персией. Здесь получает свое выражение строго дуалистическое мироощущение восточного человека, но не под углом зрения полярности, как противопоставление души и тела, как в современной ему метафизике, а под углом зрения периодичности [14], как катастрофа, как поворотный пункт двух эпох между сотворением мира и его концом, причем оставлялись совершенно вне внимания явления, не фиксированные, с одной стороны, античной литературой, а с другой – Библией. В этой картине мира в образе Древнего мира и Нового времени выступает вполне очевидное в то время противоположение языческого и христианского, античного и восточного, статуи и догмы, природы и духа, формулируемое в плоскости времени как процесс преодоления одного другим. Исторический переход приобретает религиозные признаки искупления. Конечно, это – построенный на узких и скорее провинциальных взглядах, но логический и законченный в себе аспект, однако вполне связанный с определенной местностью и определенным типом человека и неспособный ни к какому естественному расширению.
Только путем дополнительного прибавления третьей эпохи – нашего Нового времени – уже на западноевропейской почве в эту картину проникли элементы движения. Восточное противоположение было покоящейся, замкнутой, пребывающей в равновесии антитезой, с однократным божественным действием посредине. Этот стерилизированный фрагмент истории, воспринятый и усвоенный человеком нового типа, неожиданно получил развитие и продолжение в виде линии, причем никто не сознавал причудливости такой перемены; линия эта тянулась от Гомера или Адама – возможности в настоящее время обогатились индо-германцами, каменным веком и человеком-обезьяной – через Иерусалим, Рим, Флоренцию и Париж, в ту или другую сторону в зависимости от личного вкуса историка, мыслителя или художника, с неограниченной свободой интерпретировавших эту тройственную картину.
Итак, к двум дополняющим друг друга понятиям, язычества и христианства, воспринятым во временной последовательности как исторические эпохи, прибавлено некоторое завершающее третье – Новое время, которое, со своей стороны, странным образом не допускает дальнейшего применения того же приема и, будучи подвергнуто многократному «растяжению» после Крестовых походов, оказалось неспособным к дальнейшему удлинению. Оставалось не высказанное ясно убеждение, что здесь, по ту сторону Древнего мира и Средних веков, начинается что-то заключительное, третье царство, заключавшее в себе в некотором роде исполнение, высшую точку или цель, честь открытия которой всякий, начиная со схоластиков до теперешних социалистов, приписывал исключительно себе. Это было столь же удобное, как и лестное для его авторов проникновение в ход вещей. С полной наивностью здесь были смешаны дух Запада со смыслом вселенной. В дальнейшем ошибка мысли была превращена в метафизическую добродетель трудами мыслителей, которые приняли эту consensu omnium освященную схему и, не подвергая ее серьезной критике, сделали базисом философии, возложив авторство своего «плана мироздания» на Бога. Мистическая троица эпох сама по себе представлялась в высшей степени привлекательной для метафизического вкуса. Гердер называл историю воспитанием человеческого рода, Кант – развитием понятия свободы, Гегель – самораскрытием мирового духа, другие еще как-нибудь иначе. Но способность создавать исторические построения подобного рода в настоящее время истощилась.
Идея третьего царства была уже знакома аббату Иоахиму де Флорису (ум. в 1202 г.), связавшему три эпохи с символами Бога Отца, Сына и Святого Духа. Лессинг, неоднократно называвший свое время наследием Античности, заимствовал эту идею для своего «Воспитания человеческого рода» (со ступенями детства, юности и возмужалости) из учения мистиков XIV столетия, а Ибсен, основательно развивающий ту же мысль в драме «Император и Галилеянин», в которой непосредственно вторгается гностическое мировоззрение в образе волшебника Максима, ни на шаг не ушел дальше в своей известной стокгольмской речи 1887 г. Связывать со своей личностью некоторую заключительную ступень является, очевидно, потребностью западноевропейского самоощущения.
Но совершенно недопустима подобная манера трактования всемирной истории, когда каждый предоставляет полную волю своему политическому, религиозному или социальному убеждению и придает трем фазам, к которым никто не смеет прикоснуться, направление, непосредственно приводящее к местонахождению самого автора; при этом за абсолютное мерило принимают зрелость разума, гуманность, счастье большинства, экономическое развитие, просвещение, свободу народов, подчинение природы, научное мировоззрение и тому подобное и оценивают таким образом тысячелетия, доказывая, что они не поняли или не сумели достигнуть нужного, между тем как в действительности они стремились к чему-то другому, чем мы. «В жизни дело идет о жизни, а не о каком-либо результате ее» – это выражение Гёте следовало бы противопоставить всем безумным попыткам разгадать тайну исторической формы при помощи программы.
Ту же картину рисуют историки каждого искусства и науки, а также политической экономии и философии. Нам изображают историю живописи от египтян (или от пещерного человека) до импрессионизма, музыки – от слепого певца Гомера до Байрейта, общественного устройства – от жителей свайных построек до социализма, в форме линейного восхождения с какой-нибудь постоянной, неизменной тенденцией; при этом совершенно упускают из внимания возможность того, что искусства имеют определенно отмеченную жизненную длительность, что они привязаны к определенной стране и определенному человеческому типу в качестве его выражения, что, таким образом, все эти всеобщие истории не что иное, как внешнее и механическое соединение нескольких отдельных явлений, отдельных искусств, не имеющих между собой ничего общего, кроме имени и некоторых ремесленных технических приемов.
Этот взгляд на вещи не лишен комической стороны. Во всех других областях живой природы мы допускаем право выводить из каждого отдельного явления тот образ, который лежит в основе его существования, будь ли то путем опыта или интуитивного восприятия внутренней сути. Мы знаем, что жизненные явления животного и растения позволяют делать аналогичные заключения по отношению к родственным видам, что во всем живущем царит таинственный порядок, не имеющий ничего общего с законом, причинностью и числом, и извлекаем из этого морфологические выводы. Только в вопросах, касающихся самого человека, мы без всякого дальнейшего исследования принимаем когда-то давно установленную историческую форму его существования и к этой предвзятой теме подгоняем подходящие и не подходящие факты. Если факты не подходят – тем хуже для них. Мы говорим о них с презрением, как, например, про историю Китая, или даже не удостаиваем их взгляда, как, например, носителей культуры майя. Они якобы «ничем не участвовали в построении всемирной истории» – выражение в высшей степени забавное.
О каждом отдельном организме мы знаем, что темп, образ и продолжительность его жизни – или каждого отдельного проявления жизни – является чем-то определенным. Никто не будет ожидать от тысячелетнего дуба, что именно теперь должно начаться его подлинное развитие. Никто не ожидает от гусеницы, с каждым днем растущей на его глазах, что этот рост может продолжиться еще несколько лет. Каждый в этом случае с полной уверенностью чувствует определенную границу, и это чувство является не чем иным, как чувством органической формы. Но по отношению к высшему человечеству в смысле будущего царит безграничный тривиальной оптимизм. Здесь замолкает голос всякого психологического и физиологического опыта, и каждый отыскивает в случайном настоящем «возможности» особенно выдающегося линейнообразного «дальнейшего развития» только потому, что он их желает. Здесь находят место для безграничных возможностей – но никогда для естественного конца – и из условий каждого отдельного момента выводят в высшей степени наивно построенное продолжение.
Но у «человечества» нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, так же как нет цели у вида бабочек или орхидей. «Человечество» – пустое слово. Стоит только исключить этот фантом из круга проблем исторических форм, и на его месте перед нашими глазами обнаружится неожиданное богатство настоящих форм. Тут необычайное обилие, глубина и разнообразие жизни, скрытые до сих пор фразой, сухой схемой или личными «идеалами». Вместо монотонной картины линейнообразной всемирной истории, держаться за которую можно только закрывая глаза на подавляющее количество противоречащих ей фактов, я вижу феномен множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр породившей их страны, к которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая из них налагает на свой материал – человечество – свою собственную форму, и у каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, наконец, собственная смерть. Вот краски, свет, движение, каких не открывал еще ни один умственный глаз. Есть расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, страны, как есть молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветки и листья, но нет стареющего человечества. У каждой культуры есть свои собственные возможности, выражения, возникающие, зреющие, вянущие и никогда вновь не повторяющиеся. Есть многочисленные, в самой своей сути друг от друга отличные, пластики, живописи, математики, физики, каждая с ограниченной жизненной длительностью, каждая замкнутая в себе, подобно тому как у каждого вида растений есть свои собственные цветы и плоды, свой собственный тип роста и смерти. Культуры эти, живые существа высшего порядка, вырастают со своей возвышенной бесцельностью, подобно цветам в поле. Подобно растениям и животным, они принадлежат к живой природе Гёте, а не к мировой природе Ньютона. Во всемирной истории я вижу картину вечного образования и изменения, чудесного становления и умирания органических форм. А присяжный историк видит в ней подобие какого-то ленточного червя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой.
В конце концов, влияние комбинации Древний мир – Средние века – Новое время в настоящее время изжито.
Какой бы безнадежно узкой и плоской она нам ни представлялась, все же она была единственным имевшимся у нас обобщением, не совсем чуждым философии, и ей обязана некоторыми намеками на философское содержание та литературная обработка материала, которую мы называем всемирной историей; однако крайний предел столетий, которые можно связать при помощи этой схемы, давно уже перейден. При быстром накоплении исторического материала, в особенности лежащего за пределами установившегося распорядка, вся традиционная картина превращается в необозримый хаос. Всякий не совсем слепой историк знает и чувствует это и, только из-за боязни окончательно потонуть, держится за единственную ему известную схему. Под термин «Средние века», пущенный в оборот в 1667 г. в Лейдене профессором Горном, принято в настоящее время подводить бесформенно, постоянно расширяющуюся массу, границы которой чисто отрицательно определяются тем материалом, который ни в каком случае не может быть отнесен к двум другим составным частям, если их привести в относительный порядок. Примеры этому мы видим в неопределенности трактования и оценки новоперсидской, арабской и русской истории. В особенности невозможно далее закрывать глаза на то обстоятельство, что так называемая всемирная история при своем начале фактически ограничивается восточной частью Средиземноморского бассейна, потом вдруг происходит перемена сцены и место действия переносится в центральную часть Западной Европы, причем за поворотный пункт принимается переселение народов – событие для нас очень важное и потому сильно переоцененное, носящее в действительности чисто местный характер и, как таковое, не имеющее значения, например для арабской культуры.
Гегель с полной наивностью заявил, что он намерен игнорировать те народы, которые не укладываются в его систему истории. Однако это было только честным признанием в методических предпосылках, без которых ни один историк не достигал своей цели. Тот же прием можно проследить во всех исторических сочинениях. То, каким историческим феноменам придавать серьезное историческое значение, каким нет, действительно является в настоящее время вопросом научного такта. Ранке – хороший пример для этого.
8
В настоящее время мы мыслим землю не в целом, а разделенною на части света. Только философам и историкам это остается еще неизвестным. Какое же значение для нас могут иметь мысли и перспективы, выступающие с притязанием на универсальное значение, но чей горизонт не распространяется далее духовной атмосферы западноевропейского человека?
Рассмотрим под этим углом зрения наши лучшие книги.
Когда Платон говорит о человечестве, он имеет в виду эллинов, в противоположность варварам. Это вполне соответствует антиисторичному стилю античной жизни и мышления, и, учитывая это, мы придем к правильным результатам. Но Кант, философствуя, например, об этических идеалах, приписывает своим положениям обязательное значение для людей всех видов и всех времен. Он не высказывает это определенно только потому, что это само собой вполне понятно для него самого и для его читателей. В своей «Эстетике» он формулирует принцип искусства не Фидия или Рембрандта, а искусства вообще. Но то, что он устанавливает в качестве необходимых форм мышления, суть только необходимые формы западного мышления. Поверхностного ознакомления с Аристотелем и достигнутыми им совершенно отличными выводами, казалось бы, достаточно, чтобы убедиться, что мы имеем дело с размышлением над самим собой не менее ясного, но по-другому устроенного духа. Русским философам, как, например, Соловьеву, непонятен космический солипсизм [15], лежащий в основе Кантовой «Критики разума» (каждая теория, какой бы она ни была абстрактной, есть только выражение определенного мироощущения) и делающий ее самой истинной из всех систем для западноевропейского человека, а для современного китайца или араба с их совершенно иначе устроенным интеллектом учение Канта имеет значение исключительно курьеза.
Вот чего не хватает у западного мыслителя и что как раз ему должно было бы быть присущим: сознания исторически-относительного характера достигнутых им результатов, являющихся выражением только одного определенного существования, знания неизбежной ограниченности значения всякого положения, убеждения, что его «неопровержимые истины» и «вечные убеждения» истинны только для него и вечны только в его аспекте мира, и что его обязанностью является за пределами их искать других истин, высказанных по внутреннему убеждению с такой же определенностью людьми других культур. Это необходимое условие полноты всякой философии будущего. Вот что значит понимать язык форм истории, язык форм живого мира. В них нет неизменного и общеобязательного. Нельзя больше говорить о формах мышления как такового, о принципе трагического, о задаче государства. Обязательное всеобщее знание есть только ложное заключение от себя к другим.
Еще более сомнительной становится картина, если мы обратимся к мыслителям западноевропейской современности, начиная с Шопенгауэра, у которых центр тяжести философствования переносится из области абстрактно-систематической в практическо-этическую и на место проблемы познания вступает проблема жизни (воли к жизни, к власти, к действию). В данном случае подвергается рассмотрению уже не идеальное отвлечение «человек», как у Канта, но действительный человек, который обитает на земной поверхности в определенную эпоху и в качестве первобытного и культурного человека входит в состав той или иной народности, и то обстоятельство, что формулирование высочайших понятий определяется той же схемой Древний мир – Средние века – Новое время и связанными с ней местными ограничениями, становится уже смешным. Однако дело обстоит именно так.
Ознакомимся с историческим горизонтом Ницше. Его понятие декаданса, нигилизма, переоценки ценностей, все эти концепции, глубоко коренящиеся в сущности западной цивилизации и являющиеся прямо решающими для ее анализа, – что было базисом для их формулировки? Римляне и греки, Ренессанс и европейская современность, наряду с этим беглый экскурс в область (плохо понятой) индийской философии, одним словом, Древний мир – Средние века – Новое время. За эти границы, строго говоря, он никогда не переступал, так же как и другие современные мыслители. Но разве это может служить основанием для философии мира? Значит ли это вообще исследовать человеческую историю? И следует ли удивляться, если Ницше, ничего не зная ни о Египте, ни о Вавилоне, ни о России, ни о Китае и переходя от отдельных наблюдений к более широким обобщениям – сюда относятся мысли о морали господ, о белокуром звере, о сверхчеловеке, – вдруг приступает к суммарным, мнимо всеобъемлющим построениям, и что построения эти в действительности являются очень провинциальными, совершенно произвольными, под конец, даже комическими?
Какое же отношение имеет его понятие дионисовского начала к внутренней жизни высоко цивилизованных китайцев времен Конфуция или современного американца? Какое имеет значение тип сверхчеловека для магометанского мира? Или что значат понятия природы и духа, языческого и христианского, античного и современного в качестве антитез для душевной жизни индийца или русского? Что имеет общего Толстой – из самых недр своего человеческого сознания отвергающий как нечто чуждое весь западный мир идей – со Средними веками, с Данте или Лютером; или японец – с Парсифалем и Заратустрой, или что имеет общего индус с Софоклом? А разве обширнее мир идей Шопенгауэра, Конта, Фейербаха, Хеббеля или Стриндберга? Разве не свойственно всей их психологии, несмотря на космические устремления, чисто западноевропейское значение? Какими комическими покажутся женские проблемы Ибсена, точно так же заявляющие претензию на внимание всего человечества, если на место знаменитой Норы, северо-западно-европейской дамы большого города, кругозор которой приблизительно соответствует плате за квартиру от 2 до 6 тысяч марок и протестантскому воспитанию, поставить жену Цезаря, г-жу де Севинье, японку или тирольскую крестьянку! Но у самого Ибсена кругозор жителя большого города из среднего класса вчерашнего и нынешнего дня. Его конфликты, психические предпосылки которых существуют приблизительно с 1850 г. и едва ли переживут 1950 г., уже не являются таковыми для высшего света и для низших слоев населения, не говоря уже о городах с неевропейским населением.
Все это эпизодические и местные, в большинстве случаев даже обусловленные минутными духовными интересами обитателей больших городов западноевропейского типа, а отнюдь не общеисторические и вечные ценности, и, как ни существенны они для поколения Ибсена и Ницше, все же подчинение им других факторов, лежащих вне современных интересов, недооценка таковых или их устранение, были бы полным непониманием смысла термина «всемирная история», обозначающего не какой-либо выбор, а совокупность. А как раз это-то и повторяется необыкновенно часто. Все, что до сих пор на Западе говорилось и думалось о проблемах пространства, времени, движения, числа, воли, брака, собственности, трагического, науки, – все оставалось узким и сомнительным, так как старались найти исчерпывающий ответ на вопрос и не понимали, что ответов столько же, сколько и спрашивающих, что философский вопрос есть только скрытое желание получить определенный ответ, уже заключенный в самой постановке вопроса, что великие вопросы какой-либо эпохи следует признать вполне привязанными к определенной минуте, и что, наконец, следует признать целую группу исторически обусловленных решений, и только обзор их – при условии полного отстранения собственных убеждений – вскрывает последние тайны. Для настоящего мыслителя нет абсолютно верных или неверных точек зрения. Недостаточно перед лицом таких трудных проблем, как проблема времени или брака, обращаться к собственному опыту, к внутреннему голосу, к разуму, к мнению предшественников или современников. Так можно узнать то, что является истинным для самого себя, для своего времени, но это еще не все. Явления других культур говорят на другом языке. Для других людей есть другие истины. Для мыслителя они должны иметь значение «все или ни одна».
Отсюда становится понятным, чего может достигнуть западноевропейская критика мира в смысле расширения и углубления и какой огромный по сравнению с наивным релятивизмом Ницше и его поколения материал подлежит включению в круг исследования, какой тонкости чувства формы, какой степени психологической разработки, какого отказа и независимости от практических интересов, какой неограниченности горизонта необходимо достигнуть прежде, чем будет позволено с полным правом сказать, что мы поняли всемирную историю, т. е. мир как историю.
9
Всем этим произвольным, узким, привнесенным извне, продиктованным личными интересами, насильственно навязанным истории формам я противополагаю действительный, «Коперников», образ мировых событий, таящийся в них и открывающийся только непредубежденному взгляду.
Опять возвращаюсь к Гёте. То, что он подразумевает под именем живой природы, как раз соответствует тому, что я называю всемирной историей в широком смысле, т. е. миром как историей. Гёте, в своей художественной деятельности выявлявший жизнь, развитие образов, становление, а не ставшее, как мы видим это на примере «Вильгельма Мейстера» и «Правды и вымысла», ненавидел математику. У него миру как механизму противостоял мир как организм, мертвой природе – живая, закону – образ. Каждая написанная им в качестве естествоиспытателя строка стремится представить образ совершающегося, «чеканных форм в их жизненном развитии». Вживание, наблюдение, сравнение, непосредственная внутренняя уверенность, точная чувственная фантазия – таковы были его средства раскрытия таинств движущихся явлений. И таковы средства исторического исследования вообще. Других, кроме этих, не имеется. Эта божественная прозорливость заставила его вечером после битвы при Вальми у бивуачного огня сказать свое изречение: «Здесь, с сегодняшнего дня начинается новая эпоха мировой истории, и вы можете сказать, что вы при этом присутствовали». Ни один полководец, ни один дипломат, уже не говоря о философах, никогда так непосредственно не чувствовал свершения истории. Эта глубочайшая оценка, высказанная по поводу исторического события в самый момент его свершения.
И, подобно тому как он наблюдал развитие растительных форм из листа, возникновение позвонка, происхождение геологических напластований, т. е. судьбу природы, а не ее причинную связь, – так и мы приступим к рассмотрению языка форм человеческой истории, ее периодической структуры, дыхания истории во всем изобилии ее доступных нашему восприятию подробностей.
В других научных областях принято причислять человека к организмам земной поверхности, и на это имеется полное основание. Строение его тела, его естественные функции, общий доступный восприятию облик – все это делает его составной частью более обширного целого. Однако, несмотря на глубоко прочувствованное сродство судьбы растительного мира и судьбы человека – постоянный мотив всякой лирики, – несмотря на сходство человеческой истории с историей любой группы высших живых существ – эту обычную тему бесчисленных сказок, сказаний и басен, – для человека постоянно делают исключение. Вот здесь надо искать сравнений, предоставив миру человеческих культур свободно и глубоко воздействовать на наше воображение, а не втискивая его в предвзятую схему; надо за словами «юность», «развитие», «увядание», бывшими до сего времени – и теперь более, чем когда-либо, – выражением субъективной оценки и чисто личного интереса социального, морального, эстетического характера, признать, наконец, значение объективного наименования для органических состояний; надо сопоставить античную культуру как законченный в себе феномен, как тело и выражение античной души наряду с египетской, индийской, вавилонской, китайской и западноевропейской культурами и искать типическое в переменчивых судьбах этих больших индивидуумов, момент необходимого в необузданном изобилии случайностей – и тогда, наконец, развернется перед нами картина мировой истории, свойственная нам, и только нам, как людям Западной Европы.
10
Возвращаясь к нашей более узкой теме, мы должны, исходя из установленной точки зрения на мир, морфологически определить строение современности, точнее говоря, времени между 1800 и 2000 годами. Следует выяснить временное положение этой эпохи внутри всей западной культуры, ее значение как биографического отрывка, необходимо встречающегося в той или иной форме в каждой культуре, а также органическое и символическое значение свойственных ей сочетаний политических, художественных, умственных и социальных форм.
Здесь вскрывается идентичность этого периода с эллинизмом, в особенности идентичность его современной кульминационной точки, отмеченной мировой войной, с моментом перехода от эллинизма к римской эпохе. Так как мы вынуждены прибегать к сравнениям, Рим со своим строгим здравым смыслом, негениальный, варварский, дисциплинированный, практичный, протестантский, прусский, всегда будет служить нам ключом к пониманию собственного будущего. Греки и римляне – здесь разделение и нашей судьбы в той ее части, которая уже для нас совершилась, и той, которая нам еще предстоит. Давно уже можно и нужно было проследить в «Древнем мире» развитие, представляющее полную параллель нашему западноевропейскому, параллель, отличающуюся в подробностях внешних явлений, но вполне сходную по общему стремлению, направляющему великий организм к завершению. Черта за чертой, начиная с Троянской войны и Крестовых походов, с Гомера и «Песни о Нибелунгах», через дорический и готический стиль, Дионисово религиозное движение и Ренессанс, через Поликлета и Себастьяна Баха, Афины и Париж, Аристотеля и Канта, Александра и Наполеона, кончая эпохой мирового города и империализма обеих культур, мы обнаружили бы неизменное alter ego нашей действительности.
Но само истолкование исторической картины Античности, являющееся необходимым предварительным условием для вышеуказанного исследования, – как односторонне, как внешне, как предвзято, как узко к нему всегда приступали! Чувствуя себя слишком родственными «древним», мы всегда смотрели на задачу слишком легко. Увлечение неглубоким сходством – вот где лежит опасность, и все исследование Древнего мира сделалось ее жертвой. Надо, наконец, преодолеть этот предрассудок, будто Античность нам внутренне родственна и мы являемся поэтому ее учениками и продолжателями; на самом деле мы были только ее поклонниками. Понадобилась вся религиозно-философская, художественно-историческая, социально-критическая работа XIX века, не столько чтобы, наконец, научить нас пониманию драм Эсхила, учения Платона, религии Аполлона и Диониса, Афинского государства и цезаризма – нет, от этого мы еще очень далеки, – но что бы заставить нас, наконец, почувствовать, как неизмеримо далеко и чуждо нам все это, пожалуй, более чуждо, чем мексиканские боги и индийская архитектура.
Наши мнения о греко-римской культуре постоянно колебались между двумя крайностями, причем предвзятая схема Древний мир – Средние века – Новое время неизменно оказывала свое влияние на установление перспектив каждой точки зрения. Одни – в особенности общественные деятели, экономисты, политики, юристы – считают, что современное человечество находится в состоянии постоянного прогресса, оценивают его очень высоко и по этой мерке измеряют все прошедшее. Нет ни одной современной партии, которая бы на основании своих принципов «не воздала должное» Клеону, Марию, Фемистоклу, Катилине и Гракхам. Другие, как то: художники, поэты, филологи и философы, не чувствуя себя дома в упомянутой современности, отыскивают в какой-либо эпохе прошлого такой же абсолютный исходный пункт и, так же догматически основываясь на нем, осуждают современность. Одни видят в греческом мире «зачатки», другие в современности «упадок», в обоих случаях находясь под впечатлением того исторического воззрения, которое сопоставляет оба феномена в линейной последовательности.
В этом противопоставлении нашли свое выражение две души Фауста. Опасность для одной заключается в рассудочной поверхностности. В конце концов, в руках наших современников ото всего, чем была античная культура, ото всего света античной души не остается ничего, кроме социальных, хозяйственных, правовых, политических, физиологических фактов. Все остальное принимает характер вторичных последствий, рефлексов, параллельных явлений. В их книгах не найти следа мифической значительности Эсхиловых хоров, колоссальной почвенной силы древнейшей пластики или дорической колонны, пламенности Аполлонова культа, глубины даже римского культа императоров. Другие – главным образом запоздавшие романтики, как, например, три базельских профессора Баховен, Буркхардт и Ницше, – становятся жертвами и свидетелями опасности всякой идеологии. Они плутают среди призрачных туманов античности, являющейся не чем иным, как отражением их филологически воспитанных чувствований. Они руководятся остатками античной литературы, единственного, по их оценке, достаточно благородного свидетельства, несмотря на то что никакая другая культура не была в столь несовершенной мере представлена своими великими писателями [16]. Другие основываются главным образом на прозаических источниках, как то: на юридических актах, надписях и монетах, с большим ущербом для себя отвергаемых Буркхардтом и Ницше, – и сохранившуюся литературу подчиняют свидетельству этих источников, нередко заключающих лишь минимальную долю правды и фактического материала. Вследствие различия критических принципов обе стороны не относились друг к другу серьезно. Насколько мне известно, Ницше и Моммзен ни разу не удостоили друг друга малейшим вниманием.
Но ни один из них не достиг в своих взглядах той высоты, с которой это противоположение обращается в ничто и достижение которой все же было возможно. В этом отмщение за перенесение принципа причинности из естествознания в исторические исследования. Нельзя делать выводы на основании поверхностно подражающего физическому мировоззрению прагматизма, способствующего только затемнению и спутыванию совершенно иначе устроенного языка форм истории.
Имея перед собой задачу углубленного и упорядочивающего восприятия всей массы исторического материала, никто не нашел ничего лучшего, как признать один комплекс явлений за начальное, за причину, а остальные сообразно этому трактовать как вторичные, как последствия или результаты. Не только практики, но и романтики прибегли к этому средству, так как собственная логика истории не открылась их ограниченному взгляду, а в то же время потребность обнаружить имманентную необходимость, присутствие которой чувствовалось у всех, была достаточно сильна, если только не становились на точку зрения Шопенгауэра, который вообще с раздражением отвертывался от истории.
11
Будем говорить о материалистическом и идеологическом способе понимать античность. В первом случае заявляют, что опускание одной из чашек весов имеет своей причиной поднятие другой. Доказывают, что это правило не имеет исключений – конечно, доказательство разительное. Итак, это причины и действия, причем – само собой разумеется – социальные и сексуальные, а также чисто политические явления играют роль причин, а религиозные, умственные и художественные – роль действий (поскольку вообще материалист склонен признавать последние за факты). Идеологи доказывают обратное, а именно, что поднятие одной чашки весов проистекает из опускания другой, и с такой же точностью доказывают это положение. Они углубляются в культы, мистерии, обычаи, в тайны стиха и линии и почти не удостаивают взглядом презренную повседневность, это мучительное последствие земного несовершенства. Ссылаясь постоянно на причинную связь, и те и другие доказывают, что противники не видят или не хотят видеть настоящего соотношения вещей, и кончают тем, что бранят одни других слепыми, поверхностными, глупыми, абсурдными или легкомысленными людьми, смешными чудаками или плоскими филистерами. Идеолог возмущен, если кто-либо серьезно рассуждает о финансовой проблеме у эллинов и говорит не о глубокомысленных изречениях дельфийского оракула, а о широких денежных операциях, которыми занимались жрецы оракула при помощи находившихся у них на хранении сумм. А политик премудро посмеивается над тем, кто с увлечением занимается сакральными формулами и одеждой аттических эфебов вместо того, чтобы писать книгу об античной классовой борьбе, наполненную множеством современных технических словечек.
Один тип заложен уже в Петрарке. Он создал Флоренцию и Веймар, понятие Ренессанса и западноевропейский классицизм. Другой мы встречаем с половины XVIII столетия вместе с началом цивилизированной экономической политики большого города, а именно раньше всего в Англии (Грот). По существу, здесь сталкивается противоположность мировоззрений культурного и цивилизованного человека, противоположность эта настолько глубока, настолько человечна, что мешает почувствовать или преодолеть недостаточность обеих точек зрения.
Даже материализм в этом случае идет идеалистическим путем. Даже и он, не зная этого и не желая, поставил свои взгляды в зависимость от внутренних побуждений. Действительно, все наши лучшие умы почтительно склонились перед образом античности, и только в этом единственном случае отказались от безграничной критики. Анализ древности всегда затемнялся каким-то почтительным страхом. Во всей истории не найдется другого подобного примера горячего поклонения, приносимого одной культурой памяти другой. То, что мы чисто идеально соединяем Древний мир и Новое время посредством Средних веков, более чем тысячелетнего периода истории, подвергающегося презрению и признаваемого за нечто менее ценное, это только один из примеров нашего невольного преклонения. Мы, западноевропейцы, принесли в жертву «древним» чистоту и самостоятельность нашего искусства и решаемся творить, только пугливо озираясь на более возвышенный образец. В наше представление о греках и римлянах мы каждый раз привносили, влагали чувством то, чего нам недоставало или что мы надеялись найти в тайниках собственной души. Когда-нибудь проницательный психолог расскажет нам историю наших злополучных иллюзий, историю того, что мы каждый раз почитали как античное. Едва ли найдется другая задача, столь же поучительная для интимного познания западноевропейской души, начиная с императора Оттона III и кончая Ницше, – этой последней жертвой юга.
Гёте во время своего путешествия в Италию с восторгом говорит о постройках Палладио, к холодному академическому стилю которого мы теперь относимся в высшей степени скептически. Далее он видит Помпею и с нескрываемым неудовольствием говорит о «странном, наполовину неприятном впечатлении». О храмах в Пестуме и Сегесте, этих шедеврах эллинского искусства, он говорит неуверенно и неярко. Очевидно, в ту минуту, когда древность явилась его очам в живом облике и полной силе, он не узнал ее. Это показательно для исторического чувства нашей души: мы желаем не впечатлений от чуждого, а выражения своего собственного. Наш Древний мир всякий раз являлся горизонтом определенной общеисторической картины, которую наша душа сама создала и вскормила своей кровью, вместилищем для нашего собственного мироощущения, фантомом или кумиром. В кабинетах и в кружках поэтов приходят в восторг от смелых описаний античных нравов большого города у Аристофана, Ювенала и Петрония, от южной грязи и черни, шума и насилий, от мальчиков и Фрин, от фаллического культа и цезарских оргий, – а от таких же действительностей теперешних мировых городов с жалобой и негодованием отворачиваются. «Жить в городах дурно: там слишком много сладострастников». Так говорил Заратустра. Они хвалят сознание государственности у римлян и презирают того, кто в наши дни не склонен избегать всякого соприкосновения с общественностью. Есть целый класс знатоков, для которых разница между тогой и современным костюмом, между византийским цирком и английской спортивной площадкой, между античными альпийскими дорогами и перерезывающими материк линиями железных дорог, между триерами и пароходами, римским копьем и прусским штыком, наконец, между Суэцким каналом, проведенным египетскими фараонами или построенным современными инженерами, обладает огромной магической силой, коренным образом устраняющей всякую свободу взгляда. Они признали бы паровую машину за символ человеческой страсти и за выражение жизненной энергии только в том случае, если бы она была изобретена Героном Александрийским. Им кажется кощунством, если говорят не о культе Великой Матери горы Пессина, а о римском центральном отоплении или бухгалтерии. Тем не менее греческим термином для обозначения капитала является слово αφφορμή – что значит «точка отправления», – и Фукидид (1,70) хвалит афинян своего времени за то, что они не знают других праздников, кроме как вести свои дела [17].
Однако и другие ничего не видят, кроме только этой стороны. Они просто считают греков вполне тождественными себе, думая таким образом исчерпать всю сущность этой столь нам чуждой культуры, и при своих психологических выводах вращаются в кругу таких сопоставлений, которые не имеют ни малейшего касательства к античной душе. Они не подозревают, что слова «республика», «свобода», «собственность» в том и другом случае обозначают вещи, внутренне не имеющие ни малейшего сродства между собой. Они посмеиваются над историками гётевского времени, когда те изображают свои политические идеалы, и в труде, посвященном истории Древнего мира, прикрывают именами Ликурга, Брута, Катона, Цицерона и Августа, то оправдывая их, то осуждая, свою собственную программу и свои личные мечтания, но сами в то же время не в силах написать ни одной главы, не обнаружив, к какой партии принадлежит их излюбленная утренняя газета.
Решительно все равно, смотреть ли на прошлое глазами Дон Кихота или Санчо Пансы. И та и другая дорога не приводит к цели. В конце концов каждый позволяет себе ставить на передний план тот кусок античности, который случайно больше всего соответствовал его личным намерениям. Ницше – досократовские Афины, экономисты – эллинистический период, политики – республиканский Рим, поэты – время императоров.
Не в том дело, что будто бы религиозные и художественные явления изначальнее социальных и экономических. Истина не в этом и не в обратном утверждении. Для того, кто действительно приобрел полную свободу взгляда, вне зависимости от всяких личных интересов, какого бы порядка они ни были, нет вообще никакой зависимости или приоритета, нет причины и действия, нет различий в степени ценности и важности. Место отдельных явлений определяется исключительно большей чистотой и силой их языка форм, напряженностью их символического значения – безотносительно к добру и злу, высокому и низкому, пользе или идеалу.
12
Под этим углом зрения падение Западного мира представляет собой ни более ни менее как проблему цивилизации. В этом заключен один из основных вопросов истории. Что такое цивилизация, понимаемая как логическое следствие, завершение и исход культуры?
Потому что у каждой культуры своя собственная цивилизация. В первый раз эти два слова, обозначавшие до сих пор смутное этическое различие личного характера, рассматриваются здесь в периодическом смысле, как выражение строгой и необходимой органической последовательности фактов. Цивилизация есть неизбежная судьба культуры. Здесь мы достигаем того пункта, с которого становятся разрешимыми последние и труднейшие вопросы исторической морфологии. Цивилизация – это те самые крайние и искусственные состояния, осуществить которые способен высший вид людей. Они – завершение, они следуют как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как неподвижность за развитием, как умственная старость и окаменевший мировой город за деревней и задушевным детством, являемым над дорикой и готикой. Они – неизбежный конец, и тем не менее с внутренней необходимостью к ним всегда приходили.
Таким только образом мы поймем римлян как наследников эллинов. Таким только образом на позднюю античность проливается свет, освещающий все ее глубочайшие тайны. Какое же другое значение может иметь то обстоятельство – спор против которого есть пустое словопрение, – что римляне были варварами, варварами, не предшествовавшими расцвету, а следовавшими за ним. Бездушные, чуждые философии и искусства, наделенные животными инстинктами, доходящими до полной грубости, ценящие одни материальные успехи, они стоят между эллинской культурой и пустотой. Их воображение, направленное только на практическое (у них существовало сакральное право, регулировавшее отношения между богами и людьми, словно между частными лицами, но у них не было даже и следа мифа), представляет собой такое душевное качество, которое совершенно не наблюдается в Афинах. Перед нами греческая душа и римский интеллект. Так отличается культура от цивилизации. И так обстоит дело не в одной только античности. Все снова и снова появляется этот тип – сильных духом, но совершенно неметафизических людей. В их руках находится духовная и материальная участь каждой поздней эпохи. Они были осуществителями вавилонского, египетского, индийского, китайского, римского империализма. В такие периоды буддизм, стоицизм, социализм созревают до степени окончательных мировоззрений, способных еще раз захватить и преобразовать угасающее человечество во всей его сущности. Чистая цивилизация как исторический процесс представляет собой постепенную разработку (уступами, как в копях) ставших неорганическими и отмерших форм.
Переход от культуры к цивилизации протекает в античности в IV столетии, на Западе – в XIX. С этого момента ареной больших духовных решений становится не «вся страна», как это было во время орфического движения и Реформации, когда, собственно, каждая деревня играла свою роль, а три или четыре мировых города, которые всосали в себя все содержание истории и по отношению к которым вся остальная страна культуры нисходит на положение провинции, имеющей своим исключительным назначением питать эти мировые города остатками своего высшего человеческого материала. Мировой город и провинция – этими основными понятиями всякой цивилизации открывается совершенно новая проблема формы истории, которую мы сейчас переживаем, не имея вместе с тем никакого представления о значении этой проблемы. Вместо мира – город, одна точка, в которой сосредоточивается вся жизнь обширных стран, в то время как все остальное увядает; вместо богатого формами, сросшегося с землей народа – новый кочевник, паразит, житель большого города, человек абсолютно лишенный традиций, растворяющийся в бесформенной массе, человек фактов, без религии, интеллигентный, бесплодный, исполненный глубокого отвращения к крестьянству (и к его высшей форме – провинциальному дворянству), следовательно, огромный шаг к неорганическому, к концу, – что значит все это? Франция и Англия уже сделали этот шаг. Германия готовится его сделать. Вслед за Сиракузами, Афинами, Александрией следует Рим. Вслед за Мадридом, Парижем, Лондоном следует Берлин. Стать провинциями – такова судьба целых стран, которые не входят в круг излучения этих городов, как некогда это было с Критом и Македонией, а теперь – со скандинавским севером [18].
Раньше борьба из-за идеального выражения эпохи велась на почве мировых проблем, метафизического, культового или догматического характера, велась между почвенным духом крестьянства (дворянство и духовенство) и «светским» патрицианским духом старинных маленьких знаменитых городов ранней дорической и готической эпохи. Такова была борьба из-за Дионисовой религии – например, при тиране Клисфене Сикионском [19], – из-за реформации в немецких имперских городах и в войнах гугенотов. Однако, как в конце концов города победили деревню, настоящее городское сознание встречается уже у Парменида и у Декарта – так равным образом теперь их побеждает мировой город. Таков естественный процесс поздней эпохи: ионики и барокко. В наши дни, как и в дни эллинизма, на пороге которого стоит основание искусственного, а следовательно, лишенного связи со страной большого города Александрии, эти города культуры – Флоренция, Нюрнберг, Саламанка, Брюгге, Прага – сделались провинциальными городами, оказывающими безнадежное сопротивление духу мировых городов. Мировой город – это означает космополитизм вместо «отечества» [20]; холодный практический ум – вместо благоговения к преданию и укладу; научная иррелигиозность – в качестве окаменелых остатков прежней религии сердца; «общество» – вместо государства; естественные права – вместо приобретенных. Деньги в качестве неорганического абстрактного фактора, лишенного связи с сущностью плодородной земли, с ценностями первоначального уклада жизни – вот в чем преимущество римлян перед греками. Начиная с этого момента благородное мировоззрение становится также вопросом денег. В противоположность греческому стоицизму Хризиппа, позднеримский стоицизм Катона и Сенеки предпосылает в качестве необходимого условия имущественную обеспеченность, а социально-этическое умонастроение XX века, в отличие от XVIII века, доступно только миллионеру, если проводить его на деле, а не довольствоваться профессиональной, приносящей доход агитацией. В мировом городе нет народа, а есть масса. Присущее ей непонимание традиций, борьба с которыми есть борьба против культуры, против знати, церкви, привилегий, династий, преданий в искусстве, границ познаваемого в науке, ее превосходящая крестьянский ум острая и холодная рассудочность, ее натурализм совершенно нового склада, идущий гораздо дальше назад, чем Руссо и Сократ, и непосредственно соприкасающийся в половых и социальных вопросах с первобытными человеческими инстинктами и условиями жизни, то «panem et circenses» [21], которое в наши дни опять оживает под личиной борьбы за заработную плату и спортивных состязаний, – все это признаки новой по отношению к окончательно завершенной культуре и к провинции, поздней и лишенной будущего, однако неизбежной формы человеческого существования.
На все эти явления необходимо смотреть не глазами партийного человека, идеолога, современного моралиста, не из закоулка какой-нибудь точки зрения, но с вневременной высоты, устремив взор на тысячелетия мира исторических форм, – если действительно хочешь понять великий кризис современности.
Я считаю символами первостепенного значения то, что в Риме, где около 60 года до Р. X. триумвир Красс был первым спекулянтом по недвижимому имуществу, римский народ, чье имя красовалось на всех надписях, перед кем трепетали далекие галаты, греки, парфяне, сирийцы, ютился в невообразимой нищете по мелким наемным квартирам многоэтажных домов, в мрачных предместьях [22] и относился совершенно равнодушно или с каким-то спортивным интересом к успехам военных завоеваний; что многие знатные роды из старинной аристократии, потомки победителей кельтов, самнитов и Ганнибала, принуждены были оставить свои родовые дома и переселиться в убогие наемные квартиры, так как не принимали участия в дикой спекуляции; что вдоль Via Appia [23]высились вызывающие еще и теперь удивление надгробные памятники финансовым тузам Рима, а тела покойников из народа вместе с трупами животных и отбросами огромного города бросались в отвратительную общую могилу, пока, наконец, при Августе, чтобы избежать заразы, не засыпали этого места, где впоследствии Меценат устроил свои знаменитые сады; что в опустевших Афинах, живших доходами с приезжих и пожертвованиями богатых иностранцев (вроде иудейского царя Ирода), невежественная приезжая толпа слишком быстро разбогатевших римлян зевала на произведения Перикловой эпохи, которые она так же мало понимала, как теперешние американские посетители Сикстинской капеллы гений Микеланджело, в тех Афинах, откуда предварительно были вывезены или проданы по бешеным ценам все удобопереносимые предметы и взамен их высились колоссальные и претенциозные римские постройки рядом с глубокими и скромными творениями древнего времени. Для того, кто научился видеть, в этих вещах, которые историку надлежит не хвалить и не порицать, а морфологически оценивать, непосредственно вскрывается идея эпохи.
Вопрос и тогда, как теперь, заключается не в том, германского ли вы происхождения или романского, грек вы или римлянин, а в том, кто вы по воспитанию – житель мирового города или провинциал. В этом лежит самое существенное. В этом перед нами новый, в своем роде совершенный взгляд на жизнь, представляющий собой выражение нового стиля жизни. Совершается очень показательная и совершенно одинаковая во всех известных до сего времени случаях метаморфоза. Одной из важнейших причин, почему в хаотической картине исторической внешности не была усмотрена истинная структура истории, было неумение отделить взаимно друг от друга проникающие комплексы форм культурного и цивилизованного существования. Критика современности стоит здесь перед одной из своих труднейших задач.
В дальнейшем изложении мы увидим, что, начиная с этого момента, все важные конфликты мировоззрений, политики, искусства, знаний, чувства отмечены знаком этого антагонизма. Что такое политика цивилизации завтрашнего дня в противоположность политике культуры вчерашнего дня? В античности риторика, на Западе журнализм, притом же находящийся на службе того абстрактного начала, в котором выражается сила цивилизации, а именно – денег. Дух денег незаметно проникает во все формы существования народов, однако нередко при этом ничуть их не изменяя и не разрушая. Римский государственный механизм за промежуток времени от Сципиона Африканского Старшего до Августа оставался в гораздо большей степени стационарным, чем это обычно принято считать. Однако уже во времена Гракхов, как и в наши дни, большие политические партии, прежние двигатели отныне устаревших форм политической жизни, играют только видимую роль центров решающих действий. В действительности для Forum Romanum совершенно безразлично, как говорят, решают и выбирают на форуме в Помпее, а в ближайшем будущем у нас три или четыре мировых газеты будут направлять мнения провинциальных газет и через их посредство «волю народа». Все решается небольшим количеством людей выдающегося ума, чьи имена, может быть, даже и не принадлежат к наиболее известным, а огромная масса политиков второго ранга, риторов и трибунов, депутатов и журналистов, представителей провинциальных горизонтов только поддерживает в низших слоях общества иллюзию самоопределения народа. А искусство? А философия? Идеалы платоновского и кантовского времени имели в виду высшее человечество; идеалы эллинизма и современности, в особенности же социализм, генетически родственный ему дарвинизм с его столь противными духу Гёте формулами борьбы за существование и полового подбора, родственный этим последним учениям женский вопрос и проблема брака у Ибсена, Стриндберга и Шоу, импрессионистические наклонности анархической чувственности, весь букет современных стремлений, приманок и скорбей, чьим выражением является лирика Бодлера и музыка Вагнера, – все это не для мироощущения деревенского или вообще естественного человека, но исключительно для живущего мозгом обитателя большого города. Чем меньше город, тем бессмысленнее для него занятие этого рода живописью и музыкой. К области культуры принадлежит гимнастика, турнир, αγων, к области цивилизации – спорт. В этом же заключается различие между греческой палестрой и римским цирком [24]. Перед лицом высококомпетентной публики знатоков и покупателей само искусство становится спортом – таково значение l’art pour l’art [25], – будь то преодоление абсурдных масс инструментальных тонов или гармонических трудностей, будь то «подход» к проблеме красок. Появляется новая философия фактов, которая с улыбкой смотрит на метафизически-спекулятивную мысль, новая литература, становящаяся необходимой потребностью для интеллекта, вкусов и нервов городских жителей, а для провинциалов чем-то непонятным и ненавистным [26]. Ни александрийская поэзия, ни живопись plein air [27] ни с какой стороны не могут заинтересовать «народ». Переход от одной школы к другой и тогда, как и теперь, ознаменовываются целым рядом встречающихся только в такую эпоху скандалов. Возмущение афинян против Еврипида или революционной манеры в живописи, например против Аполлодора, в наши дни повторяется в виде отрицательного отношения к Вагнеру, Мане, Ибсену и Ницше.
Можно понимать греков, ни слова не говоря о хозяйственных условиях их жизни. Римлян можно понять только на основании этих условий. При Херонее и при Лейпциге в последний раз сражались за идею. В Первой Пунической войне и при Седане уже ясно заметны экономические моменты. Римляне с их практической энергией первые создали рабский труд и торговлю рабами в том исполинском стиле, который многие считают характерным вообще для античного уклада жизни. И германские, а не романские народы Западной Европы, соответственно этому, первые развили при помощи паровой машины ту крупную промышленность, которая изменила внешний облик целых стран. Нельзя упускать из виду связь обоих этих глубоко символических феноменов со стоицизмом и социализмом. В недрах античного мира только римский цезаризм, предвозвещенный К. Фламинием и принявший впервые образ в лице Мария, показал, что такое величие денег в руках сильных духом практических людей широкого размаха.
Без этого нельзя понять ни Цезаря, ни вообще римский дух.
В каждом греке есть что-то от Дон Кихота, в каждом римляне – что-то от Санчо Пансы; то, чем они были кроме этого, отходит перед этим на задний план.
13
Что касается римского мирового владычества, то оно было явлением отрицательного характера, результатом не избытка силы у одной стороны – такого у римлян не было уже после Замы, – а недостатка силы сопротивления у другой. Римляне совсем не завоевали мир, они только завладели тем, что лежало готовой добычей для каждого. Imperium Romanum сложилась не как результат крайнего напряжения всех военных и финансовых средств, как это было во время борьбы против Карфагена, а вследствие отказа со стороны Древнего Востока от политического самоопределения. Нас не должна вводить в заблуждение видимость блестящих успехов. С несколькими плохо обученными, плохо руководимыми, плохо настроенными легионами Лукулл и Помпей завоевывали целые царства, о чем нельзя было бы и мечтать в эпоху битвы при Иссе. Опасность со стороны Митридата, ставшая настоящей опасностью для никогда не подвергавшейся серьезному испытанию системы материальных сил, никогда не могла бы стать настолько угрожающей для победителей Ганнибала. После битвы при Заме римляне не вели ни одной войны против большой военной силы, да и не были в состоянии выдержать таковую [28]. Классическими были их войны против самнитов, против Пирра и Карфагена. И великой минутой была битва при Каннах. Нет народа, который в течение целых столетий способен был бы простоять на котурнах. Прусско-немецкий народ, в истории которого записаны минуты мощи в 1813, 1870 и 1914 годах, богаче других в этом отношении.
По моему убеждению, империализм, окаменелые формы которого, вроде египетской, китайской, римской империй, индийского мира, мира ислама, могут просуществовать еще целые столетия и тысячелетия, переходя из рук одного завоевателя к другому – в качестве мертвых тел, бездушных человеческих масс, использованного материала истории, – следует понимать как символ начала конца. Империализм – это чистая цивилизация. В его появлении лежит неотвратимая судьба Запада. Энергия культурного человека устремлена вовнутрь, энергия цивилизованного – на внешнее. Поэтому в Сесиле Родсе я вижу первого человека новой эпохи. Он являет собой политический стиль дальнейшего, западного, германского, в особенности немецкого будущего. Его слова «Расширение – это все» содержат в своей наполеоновской формулировке подлинную тенденцию всякой созревшей цивилизации. Это столь же применимо к римлянам, арабам и китайцам. Здесь нет выбора. Здесь не имеет никакого значения даже сознательная воля отдельного человека или целых классов и народов. Тенденция к расширению – это рок, нечто демоническое и чудовищное, охватывающее позднего человека эпохи мировых городов, заставляющее его тужить себе независимо от того, хочет ли он этого или не хочет, знает ли он об этом или нет [29]. Жизнь – это осуществление возможностей, а для мозгового человека остается одна только возможность распространения [30]. Как ни вoccтaeт против расширения современный еще малоразвитой социализм, придет день, когда он со всей стремительностью судьбы станет главным носителем расширения. В этом пункте язык форм политики – в качестве непосредственно интеллектуального выражения людей известного типа – соприкасается с глубокой метафизической проблемой: с подтверждаемым безусловной обязательностью принципа причинности фактом, что ум есть дополнение протяженности.
Родс – это первый предшественник типа западного Цезаря, для которого еще не скоро наступит настоящее время. Он стоит посредине между Наполеоном и людьми насилия ближайшего столетия, подобно тому как между Александром и Цезарем стоял тот Фламиний, который с 232 г. понуждал римлян к покорению цизальпинских галлов и, следовательно, к вступлению на путь политики колониального расширения. Фламиний был демагог, строго говоря, частный человек, пользовавшийся огромным влиянием на государственные дела в такую эпоху, когда экономические факторы побеждают государственную идею; в Риме он был, несомненно, первым представителем оппозиции цезарского типа. С ним кончается органическое стремление патрициата к мощи, покоящееся на идее, и начинается чисто материалистическое, отрешенное от этики, безграничное расширение. Александр и Наполеон были романтиками, стоявшими на границе цивилизации и уже овеянными ее холодным и ясным дыханием, однако одному нравилась роль Ахилла, а другой читал «Вертера». Цезарь был только практиком, обладавшим огромным умом.
Но уже Родс понимал под успешной политикой одни только территориальные и финансовые успехи. Эта черта в нем римская, что он очень хорошо сознавал. Еще ни разу западноевропейская цивилизация не воплощалась с такой энергией и чистотой. Только географические карты могли приводить в своего рода поэтический экстаз этого сына пуританского пастора, приехавшего без всяких средств в Южную Африку, приобретшего затем огромное состояние и употреблявшего его в качестве мощного средства для своих политических целей. Его мысль о трансафриканской железной дороге от Мыса Доброй Надежды до Каира, его проект южноафриканского государства, его духовное владычество над магнатами, владельцами копей, финансистами железной складки, которых он принуждал отдавать свои капиталы на службу своим идеям, его столица Булувайо, которую он, всемогущий государственный деятель без определенных отношений к государству, основал в качестве своей будущей резиденции с царственным величием, его представление о «высоком долге человеческого ума перед цивилизацией» – все это носит грандиозный и величавый характер и есть только прелюдия предстоящего нам будущего, которое окончательно завершит историю западноевропейского человечества.
Кто не понимает, что ничто не изменит этого неизбежного окончания, что нужно или желать этого, или вообще ничего не желать, что нужно или любить эту судьбу, или отчаяться в будущем и в жизни, кто не чувствует того величия, которое так же присуще этой деятельности перворазрядных умов, этой энергии и дисциплине твердых как сталь людей, этой борьбе при помощи самых холодных и отвлеченных средств, кто носится со своим провинциальным идеализмом и ищет воскресить стиль жизни прошедших времен, тот должен отказаться от того, чтобы понимать историю, переживать историю, делать историю.
Таким образом, Римская империя перестает быть исключительным явлением и представляется нормальным продуктом строгого, энергичного, присущего обитателю мирового города, в высшей степени практического духовного уклада, и типической заключительной стадией, подобные которой уже неоднократно появлялись, но идентичность которых до сих пор не была признана. Поймем же, наконец, что тайна исторической формы лежит не на поверхности, что ее нельзя понять из сходства костюмов и инсценировки; что в человеческой истории, так же как и в истории животных и растений, есть явления, обладающие обманчивым внешним сходством, но внутренне ничем друг другу не родственные, – например: Карл Великий и Гарун-аль-Рашид, Александр и Цезарь, войны германцев против Рима и нашествие монголов на Западную Европу, и другие, которые при большом внешнем различии выражают идентичные явления, как, например: Траян и Рамзес II, Бурбоны и аттический демос, Магомет и Пифагор. Усвоим себе, что XIX и XX века, принимаемые за высшую точку прямолинейной восходящей всемирной истории, в действительности представляют собой феномен, наличие которого можно проследить во всякой окончательно созревшей культуре, конечно, без социалистов, импрессионистов, электрических трамваев, подводных мин и дифференциальных уравнений, принадлежащих лишь к составу тела эпохи, но со своим аналогичным цивилизованным духовным укладом, несущим в себе возможность совсем иных внешних проявлений, что современность, следовательно, есть переходная стадия, определенно наступающая при известных условиях, что, таким образом, вполне достоверно существуют и более поздние условия по сравнению с теперешними европейскими, что они уже неоднократно повторялись в протекшей истории и что, следовательно, и будущность Запада не есть безграничное движение вверх и вперед по линии наших идеалов, тонущее в фантастически необъятном времени, но строго ограниченный в отношении формы и длительности и неизбежно предопределенный, измеряемый несколькими столетиями частный феномен истории, который можно на основании имеющихся примеров обозреть и определить в его существенных чертах.
14
Раз мы достигли такой высоты созерцания, плоды сами собой падают в руки. С этой одной мыслью связаны и ею свободно разрешаются все отдельные проблемы из области исследования религий, истории искусства, теории дознания, этики, политики, политической экономии, которые в течение десятилетий страстно волновали современные умы, не достигая, однако, конечного результата.
Эта мысль принадлежит к числу тех, которые, будучи раз выражены с полной ясностью, не встречают больше возражений. Она представляет собой одну из внутренних необходимостей культуры и мироощущения Западной Европы. Она способна в корне изменить воззрение на жизнь тех людей, которые ее вполне поняли, т. е. ее себе усвоили. Возможность отныне проследить в его основных чертах в будущем то всемирное историческое развитие, в котором мы участвуем и которое мы до сего времени научились созерцать в прошлом, как некое органическое целое, означает собой значительное углубление присущей и необходимой нам картины мира. О подобном до сих пор мог мечтать только физик при своих вычислениях. Повторяю еще раз, это означает распространение также и на область истории замены Птолемеева аспекта Коперниковым, т. е. неизмеримое расширение жизненного горизонта.
До сего времени каждый был волен ожидать от будущего что ему вздумается. Где нет фактов, там правит чувство. Впредь обязанностью каждого будет узнать относительно будущего, что может произойти и, следовательно, произойдет с неуклонной необходимостью судьбы, вне всякой зависимости от наших личных идеалов или идеалов нашего времени. Пользуясь опасным словом «свобода», мы отныне уже не свободны осуществить то или иное, но только – или необходимое, или ничто. Воспринимать это как «благо» – таков, в сущности, признак реалистов. Сожалеть и порицать не значит его изменять. Рождение связано со смертью, юность со старостью, жизнь вообще со своим обликом и определенными границами длительности. Современность есть фаза цивилизации, а не культуры. В связи с этим отпадает целый ряд жизненных содержаний как невозможных. Можно сожалеть об этом и облачить сожаление в одеяние пессимистической философии и лирики – в будущем так и будут делать, – но изменить это невозможно. Отныне нельзя будет усматривать с полной самоуверенностью, нисколько не считаясь с достаточно красноречивыми возражениями исторического опыта, в сегодняшнем и завтрашнем рождение или расцвет того, что нам желательно.
Я предвижу возражение, что такое воззрение на мир, приводящее в ясность общее направление будущего развития и обрезающее крылья широким надеждам, оказалось бы враждебным жизни и для многих роковым, раз оно будет чем-то большим, чем просто теория, раз оно станет практическим мировоззрением групп лиц, от которых действительно зависит уклад будущего.
Я не разделяю этого мнения. Мы люди цивилизации, а не готики или рококо; нам приходится иметь дело с суровыми и холодными фактами поздней эпохи, параллели которой можно найти не в Перикловых Афинах, а в цезарском Риме. О великой живописи и музыке среди западноевропейских условий не может быть больше речи. Архитектонические способности западноевропейского человека исчерпаны вот уже столетие тому назад. Ему остаются только возможности распространения. Но я не вижу ущерба от того, если сильное и окрыленное неограниченными надеждами поколение вовремя узнает, что часть этих надежд потерпит крушение. Пусть это будут самые дорогие надежды; кто действительно чего-нибудь стоит, тот перенесет. Действительно, для отдельных лиц может оказаться трагическим, если в решительные годы их охватит уверенность, что в области архитектуры, драмы и живописи для них невозможны никакие завоевания. Таким предстоит погибнуть. До сих пор все были уверены, что в этой области не может быть никаких ограничений; думали, что каждое время имеет свои задачи в любой области; их отыскивали, раз уж это было нужно, порой с насилием и дурной совестью, и только после смерти узнавалось, имела ли эта вера основание и была ли работа жизни необходимой или излишней. Но всякий, кто не только романтик, откажется от такого сомнительного утешения. Не такова гордость, отличавшая римлян. Какой толк в людях, которые предпочитают, чтобы им перед истощенным рудником говорили: «здесь завтра откроется новая жила», – как это делает теперешнее искусство, создающее сплошь ненастоящие стили, вместо того чтобы указать путь к ближайшей и еще не открытой богатой залежи глины? Я считаю это учение благодеянием для будущего поколения, так как оно покажет ему, что возможно и, следовательно, нужно и что не принадлежит к внутренним возможностям эпохи. До сих пор несметное количество ума и сил было растрачено по ложным дорогам. Западноевропейский человек, хотя и мыслит, и чувствует в высшей степени исторически, в известные годы жизни не сознает своего настоящего призвания. Он нащупывает, ищет и сбивается с дороги, если внешние обстоятельства ему не благоприятствуют. Теперь, наконец, работа целых столетий позволила ему обозреть свою жизнь в связи с общей культурой и проверить, что он может и что он должен делать. Если, под влиянием этой книги, люди нового поколения возьмутся за технику вместо лирики, за мореходное дело вместо живописи, за политику вместо теории познания, они поступят так, как я того желаю, и ничего лучшего нельзя им пожелать.
15
Остается еще установить взаимоотношение морфологии мировой истории и философии. Всякое настоящее историческое исследование есть настоящая философия – или же просто работа муравьев. Но философ старого стиля пребывает в тяжелом заблуждении. Он не верит в изменчивость своего назначения. Он думает, что высшее мышление имеет свой вечный и неизменный предмет, что великие вопросы во все времена остаются одними и теми же и что когда-нибудь можно будет на них дать ответ.
Но вопрос и ответ здесь сливаются воедино, и всякий большой вопрос, в основе которого уже заложено страстное желание вполне определенного ответа, имеет значение только жизненного символа. Нет вечных истин. Каждая философия есть выражение своего и только своего времени, и нет двух эпох, которые имели бы одинаковые философские устремления, если только мы говорим о настоящей философии, а не о каких-нибудь академических общих местах касательно форм суждения или категорий чувств. Различие не в том, вечно или преходяще данное учение, а в том, жизненное ли это учение на некоторое время или мертворожденное. Непреходящесть мыслей есть иллюзия. Суть в том, какой человек нашел в них свой образ. Чем крупнее человек, тем истиннее его философия – в смысле внутренней правды произведения искусства, каковое свойство не находится в зависимости от доказуемости или даже неопровержимости отдельных положений. В предельном случае она может вместить в себе и осуществить все содержание современной эпохи и, придавши ему образ, воплотив его в личности и идее, передать его дальнейшему развитию. Научный костюм, ученая маска философии не имеют здесь решающего значения. Нет ничего легче, как взамен отсутствующих мыслей создать систему. Но даже и хорошая мысль имеет мало цены, если высказана плоским человеком. Одна необходимость для жизни определяет степень ценности учения.
Вот почему пробным камнем ценности мыслителя я считаю степень понимания им великих фактов современности. Только тут выясняется, является ли такой-то только ловким конструктором систем и принципов, обладает ли он только известной начитанностью и ловкостью в определениях и анализах – или сама душа эпохи говорит из его произведений и интуиций. Философ, который лишен способности вместе с тем охватить и усвоить себе действительность, никогда не будет первостепенным. Досократики были купцами и политиками большого стиля, Платону его попытка осуществить свои политические идеи в Сиракузах едва не стоила жизни. Тот же Платон открыл ряд геометрических положений, опираясь на которые Евклид получил возможность построить систему античной математики. Паскаль, которого Ницше считает за «надломленного христианина», Декарт, Лейбниц были первыми математиками и техниками своего времени.
Как раз в этом пункте я вижу сильное возражение против всех философов недавнего прошлого. Их существенный недостаток заключается в том, что они не занимали решающего положения в действительной жизни. Никто из них не оказал существенного влияния, действием или могущественной мыслью, на высшую политику, на развитие современной техники, средств сообщения, народного хозяйства или на какую-либо иную сторону широкой действительности. Ни один из них не составил себе имени в области математики, физики, в государственных науках, в противоположность хотя бы Канту. Значение этого факта нам станет понятным из сравнения с другими эпохами. Аристотель в своем сочинении «Афинская полития» проявил тончайшее понимание социально-политического положения зарождающегося эллинизма. Он не мог бы очень успешно – подобно Софоклу – заведовать финансами в Афинах. Гёте, чья деятельность в качестве министра была образцовой и которому, к сожалению, недоставало в качестве сферы деятельности обширного государства, интересовался планом постройки Суэцкого и Панамского каналов и их торговым значением, причем точно предсказал срок их осуществления. Экономическая жизнь Америки, ее обратное воздействие на старую Европу и только что возникавшее тогда машинное производство постоянно привлекали его внимание. Гоббс был одним из творцов широко задуманного плана завоевания Южной Америки для Англии, и, хотя дело ограничивалось занятием Ямайки, все же ему принадлежит слава одного из основателей английской колониальной империи. Лейбниц, несомненно самый мощный гений западноевропейской философии, положивший основание дифференциальному исчислению и analysis situs, в меморандуме для Людовика XIV, составленном в целях облегчения политического положения Германии, изложил свой взгляд на значение Египта для французской мировой политики. Его мысли настолько опередили эпоху (1672), что впоследствии было распространено убеждение, будто Наполеон использовал его труд при своей восточной экспедиции. Лейбниц тогда уже установил положение, которое начиная с Ваграма становилось все более и более ясным для Наполеона, а именно, что завоевания Бельгии и на Рейне не могут надолго укрепить положение Франции и что Суэцкий перешеек станет со временем ключом мирового владычества. Несомненно, король еще не был на высоте глубоких политических и стратегических выводов философа.
При взгляде на людей такого калибра становится стыдно за современных философов. Как мало значат они как личности! Какая обыденность духовных и практических горизонтов! Почему одна мысль о том, что кому-нибудь из них выпало бы на долю выказать свои духовные способности в роли государственного человека, дипломата, организатора в широкой области, руководителя каким-либо колониальным, торговым или транспортным предприятием, вызывает только жалость? Это признак не внутренней углубленности, а скорей легковесности. Напрасно ищу между ними такого, который составил бы себе имя хотя бы одним глубоким и предвосхищающим будущее суждением по какому-нибудь важному вопросу современности. У всех я вижу только провинциальные суждения, которые можно услышать от любого обывателя. Когда я беру в руки книгу современного мыслителя, я спрашиваю себя, какое он вообще имеет представление – помимо профессорской или легкомысленной партийной болтовни в духе среднего журналиста, как мы это видим у Гюйо, Бергсона, Спенсера, Дюринга, Эйкена – о насущных фактах мировой политики, о великой проблеме мировых городов, капитализма, будущности государства, отношения техники и конечной стадии цивилизации, о русском вопросе, о науке вообще. Гёте сумел бы все это понять и любить. Из живущих философов ни один не обладает достаточной широтой взгляда. Я повторяю, все это не составляет содержания философии, но есть несомненный симптом ее внутренней необходимости, ее плодотворности и ее символической значительности.
Не следует обманываться относительно важности этих отрицательных результатов. Очевидно утрачено понимание конечного смысла философской деятельности. Ее смешивают с проповедью, агитацией, фельетоном или специальной наукой. Перспективу птичьего полета заменили перспективой лягушки. Речь идет о деле величайшей серьезности: возможно ли вообще сегодня или завтра существование настоящей философии? В противном случае было бы благоразумнее стать плантатором или инженером, чем-нибудь настоящим и подлинным, вместо того чтобы пережевывать затасканные темы, под предлогом «новейшего подъема философского мышления», и лучше построить мотор для летательного аппарата, чем новую и столь же излишнюю теорию апперцепции. Действительно, жалкое содержание жизни, посвященной тому, чтобы еще лишний раз и немножко по-иному, чем это делала сотня предшественников, формулировать понятие воли и психофизического параллелизма. Допускаю, что это может быть «профессией», но это отнюдь не философия. О том, что не охватывает и не изменяет всей жизни эпохи вплоть до ее сокровенных глубин, лучше было бы не говорить. И то, что вчера было возможно, сегодня является по меньшей мере не нужным.
Я люблю глубину и изящество математических и физических теорий, по сравнению с которыми занятие эстетика и физиолога кажется кропательством. За поразительно ясные, высокоинтеллектуальные формы быстроходного парохода, сталелитейного завода, машины для изготовления предметов, требующих точности, за тонкость и элегантность иных химических и оптических приемов я отдам всю стильную чепуху современной художественной промышленности, с живописью и архитектурой в придачу. Я предпочитаю римский акведук всем римским храмам и статуям. Я люблю Колизей и гигантские своды Палатина за то, что еще и теперь своими коричневыми массами кирпичных построек они являют нашим глазам настоящий Рим, величавый практический смысл его инженеров. Если бы до нашего времени сохранилась пустая и кичливая мраморная пышность цезарей с ее рядами статуй, фризами и перегруженными архитравами, я относился бы к ней совершенно равнодушно. Бросим взгляд на реконструкцию императорских форумов. Мы увидим полную параллель современных выставок, назойливых, громоздких, пустых, совершенно чуждое греку Периклова времени и людям времени рококо, хвастанье материалом и размерами; полная аналогия этому наблюдается в развалинах Луксора и Карнака времен Рамзеса II, около 1300 г., эпохи египетского модернизма. Не напрасно настоящий римлянин презирал Graeculum histrionern [31], «артиста» и «философа» в рамках римской цивилизации. Искусства и философия в ту эпоху были уже несвоевременны, они были истощены, изношены, излишни. Римлянину это подсказывал инстинкт реальности жизни. Один римский закон имел больше веса, чем вся тогдашняя лирика и школьная метафизика. И я утверждаю, что в наши дни изобретатели, дипломаты и финансисты больше философы, чем все те, кто занимается плоским ремеслом экспериментальной психологии. Такое положение постоянно сызнова появляется на определенной ступени. Было бы безумием со стороны римлянина, одаренного в достаточной мере духовными способностями, чтобы командовать армией в должности консула или претора, организовать провинцию, строить города и дороги или «быть первым» в Риме, вместо всего этого трудиться над высиживанием какого-нибудь нюанса послеплатоновской школьной философии в Афинах или на Родосе. Естественно, никто этим не занимался. Это не соответствовало бы направлению эпохи и могло привлекать только людей третьестепенных, продолжавших жить интересами позавчерашнего дня. Очень важный вопрос – наступила ли уже для нас эта стадия или еще нет?
Век чисто экспансивной деятельности, лишенный высшей художественной и метафизической продуктивности – скажем короче, век иррелигиозности, что вполне покрывается понятием об укладе жизни мирового города, – есть эпоха упадка. Несомненно. Но не мы выбрали это время. Мы не властны изменить того положения, что родились людьми начинающейся зимы полной цивилизации, а не на солнечных высотах зрелой культуры времени Фидия или Моцарта. Все сводится к тому, чтобы уяснить себе это положение, эту судьбу и понять, что, как бы мы ни обманывали себя относительно действительного состояния вещей, мы не можем перешагнуть через него. Кто не сознает этого, не имеет места среди своего поколения. Он останется глупцом, шарлатаном или педантом.
Прежде чем приступить в наши дни к какой-либо проблеме, следует спросить себя – ответ на это настоящим избранным подскажет инстинкт, – что доступно человеку в наше время и от чего он должен отказаться? Число метафизических задач, разрешение которых доступно известной эпохе мышления, очень ограниченно. Целый мир уже отделяет время Ницше, когда еще витало последнее дыхание романтики, от современности, окончательно порвавшей со всякой романтикой.
Систематическая философия получила свое завершение в исходе XVIII столетия. Кант заключил ее крайние возможности в величественные и – для западноевропейского духа – во многих случаях окончательные формы. Вслед за ней следовала, подобно тому как это было после Платона и Аристотеля, специфически городская, не спекулятивная, а практическая, иррелигиозная, этико-общественная философия. Она начинается, в параллель Зенону и Эпикуру, с Шопенгауэра, который первый поставил в центре своего мышления волю к жизни («творческую жизненную силу»), однако, под впечатлением большой традиции, удержал в силе систематические вопросы о явлении и вещи в себе, форме и содержании созерцания, различии между рассудком и разумом, каковое обстоятельство затушевало более глубокую тенденцию его учения. Это все та же творческая воля к жизни, которая то шопенгауэровски отрицается в Тристане, то дарвинистически утверждается в Зигфриде, которую Ницше с таким блеском и театральностью формулировал в «Заратустре», которая гегельянцу Марксу подала повод к политико-экономической гипотезе, а мальтузианцу Дарвину – к зоологической, причем обе эти гипотезы совместно и незаметно преобразовали мироощущение жителей больших городов – та же воля к жизни, которая наконец породила целый ряд трагических созданий одного и того же типа, начиная от Хеббелевой «Юдифи» до ибсеновского эпилога, а вместе с тем исчерпала и весь круг настоящих философских возможностей.
Систематическая философия бесконечно далека нам в настоящее время; философия этическая закончила свое развитие. В пределах западного мира остается еще третья отвечающая эллинскому скептицизму возможность, а именно та, которая отмечена признаком не применявшегося до сего времени метода сравнительной исторической морфологии. Возможность – это значит необходимость. Античный скептицизм чужд историчности; он сомневается и просто отрицает. Западный скептицизм, если он хочет быть внутренне необходимым и явить собой символ нашей клонящейся к концу душевной стихии, должен быть насквозь историчным. Он упраздняет, признавая все относительным историческим феноменом. Приемы его психологические. В эпоху эллинизма скептическая философия проявляется в отрицании философии – ее признают бесцельной. В противоположность этому мы имеем в истории философии последнюю серьезную философскую тему. В этом заключается скептицизм. Дело сводится к отказу от абсолютных точек зрения, причем греки посмеиваются над прошлым своего мышления, мы же стремимся понять его как организм.
Темой настоящей книги является попытка набросать эту «нефилософскую философию» будущего, которая будет последней в истории Западной Европы. Скептицизм есть выражение чистой цивилизации, он разлагает картину мира предшествующей культуры. В нем происходит превращение всех прежних проблем в генетические. Убеждение, что все существующее некогда находилось в становлении, что в основе всего, имеющего отношение к природе, и всего познаваемого лежит момент исторического, что в основе мира как действительности лежит «я» как возможность, которая в нем нашла свое осуществление, что не только вопрос «что», но и вопросы «когда» и «как долго» заключают в себе глубокую тайну, приводят нас к факту, что всякое явление, какой бы характер оно ни носило, неминуемо есть выражение чего-то живого. В ставшем отражается становление. В старой формуле esse est percipi [32] пробивается исконное чувство, что все существующее должно находиться в определенной связи с живым человеком, а для мертвого ничего больше «не существует». Однако «покидает» ли он мир, свой мир, или упраздняет его, умирая? Вот в чем вопрос. Но как раз это отношение исследовалось мыслителями систематического периода только с формальной, естественно-исторической, вневременной, следовательно, критико-познавательной точки зрения. Имели в виду просто «человека», а не определенных исторических людей. Для мыслителей этического периода, уже для Шопенгауэра, этот вопрос отступил на задний план перед другим, формулированным то идеалистически, то утилитаристически, а именно перед вопросом о ценности того, что «существует» для всех или для отдельного человека. Но и тут имели в виду «человека» как тип, не исследуя правомерность столь общих выводов. Теперь, наконец, в стадии историческо-психологического скептицизма, отправляясь от непосредственного чувства жизни, мы начинаем замечать, что вся картина окружающего мира есть функция самой жизни, отражение, выражение, символ живущей души, притом прежде всего отдельной души, взятой самой по себе. Познания и оценка суть также действия живых людей. Для раннего мышления внешняя действительность есть продукт сознания и повод для этической оценки; для позднего мышления они в первую очередь символ. Морфология мировой истории неизбежно приводит к всеобщей символике.
Таким образом, падают претензии высшего мышления на отыскание всеобщих и вечных истин. Истины существуют только по отношению к определенному человечеству. Согласно этому и сама эта философия представляет собой выражение западной души, в отличие от античной или индийской, притом только в ее цивилизованной стадии. Таким образом, определяется ее содержание как мировоззрения, ее практическое значение и область ее применения.
16
Наконец я позволю себе привести несколько личных замечаний. В 1911 г. я собирался написать очерк о некоторых политических явлениях современности с возможными выводами относительно будущего, все это на фоне широких горизонтов. В то время мировая война, в качестве ставшей неизбежной внешней формы исторического кризиса, непосредственно надвинулась на нас, и дело шло о том, чтобы понять ее из духа предшествовавших – не годов – столетий. При разработке этого первоначально более узкого вопроса у меня сложилось убеждение, что для настоящего понимания эпохи необходимо обратиться к более обширному кругу оснований, что при исследовании подобного рода совершенно невозможно ограничиться какой-нибудь отдельной эпохой и кругом ее политических фактов, невозможно заключить исследование в рамки прагматических соображений и совершенно отказаться от чисто метафизических, в высшей степени трансцендентных соображений, если только поставить себе целью глубокую обоснованность и внутреннюю необходимость результатов. Мне стало ясным, что политическую проблему нельзя понять, основываясь на самой политике, и что существенные черты, таящиеся в глубине событий, могут уясниться и сделаться доступными только в области искусства или даже в форме очень отдаленных научных и чисто философских мыслей. Даже политико-социальный анализ последних десятилетий XIX века, исследование состояния напряженного равновесия между двумя мощными, издалека видными событиями, а именно того, которое в лице революции и Наполеона на целое столетие определило собой картину западноевропейской действительности, и другого, по меньшей мере столь же значительного, которое приближалось со все возрастающей быстротой, даже такое исследование оказалось невыполнимым без привлечения всех великих проблем бытия в их полном объеме. Действительно, в исторической, как и в естественно-исторической, картине мира нет ни одной мельчайшей подробности, в которой не была бы воплощена вся совокупность глубоких тенденций. Таким образом, первоначальная тема возросла до огромных размеров. Бесконечное число неожиданных, большей частью совершенно новых вопросов и связей называлось само собой. Наконец мне стало совершенно ясным, что ни один отдельный отрывок нельзя осветить с должной полнотой, пока не будет обнаружена тайна мировой истории вообще, точнее говоря, тайна истории высшего человечества как органического единства, обладающего определенной структурой. Но как раз в этой области до сего времени ничего не было сделано.
С этого момента перед моими глазами со все возрастающей полнотой начали вырисовываться предчувствуемые многими изредка затрагивавшиеся, но никем не понятые взаимоотношения, которые связывают формы изобразительных искусств с формами войны и государственного управления, а также глубокое сходство между политическими и математическими образованиям одной и той же культуры, между религиозными и техническими воззрениями, между математикой, музыкой и пластикой, хозяйственными формами и формами познания. Для меня стали несомненно ясными: глубоко внутренняя зависимость современных физических и химических теорий от мифологических представлений наших германских предков, полное подобие стилей трагедии, динамической техники и современного денежного обращения, и тот вначале странный, а потом сам собою понятный факт, что перспектива, масляная живопись, книгопечатание, система кредита, дальнобойное орудие и контрапунктная музыка, с одной стороны, нагая статуя, полис, изобретенная греками монета – с другой, суть идентичные выражения одного и того же душевного принципа; и, наконец, покрывая собой все предыдущее, ярким светом озарился основной факт, что все эти мощные группы морфологически родственных связей, из которых каждая символистически выражает отдельный определенный вид людей в общей картине мировой истории, обладают строго симметрическим строением. Только этот способ видеть вещи вскрывает настоящее понятие истории. В свою очередь, сам он также есть симптом и выражение определенной эпохи и внутренне возможен, а следовательно необходим, только для нашего времени и для западноевропейских людей, вследствие чего его можно отдаленно сравнить только с некоторыми воззрениями самой новейшей математики в области трансформационных групп. Таковы были мысли, занимавшие меня в течение многих годов, однако темные и неопределенные, пока они не приняли осязательного образа по вышеприведенному поводу.
Я увидел современность – приближающуюся мировую войну – совсем в ином освещении. Она уже больше не представляла собой однократную констелляцию случайных, зависящих от национальных настроений, личных воздействий и экономических тенденций фактов, которым историк навязывает при помощи какой-нибудь причинной схемы политического или социального характера видимость единства и материальной необходимости. Она явилась типом исторического действия, которое внутри большого исторического организма, обладающего точно отграничимым объемом, занимает известное, биографически предопределенное в течение веков место.