Читать онлайн Воспоминания о России бесплатно
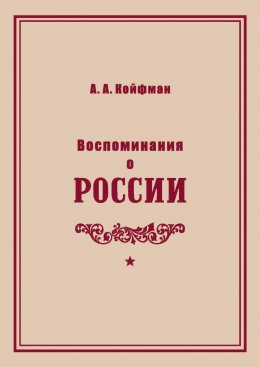
© Койфман А. А., 2024
Эта книга была издана в 2013 году. Издана мизерным тиражом для близких родственников, детей и внуков. Прочитав недавно эту книгу заново, я подумал, что, возможно, она будет интересна и другим читателям. Я писал только о том, что сам видел, в чем участвовал, что переживал. В результате получился рассказ не о России, а обо мне в России. Но ведь моя жизнь – это тоже часть жизни России. Возможно, мое видение окружавшей меня действительности тоже имеет смысл. Главное, я ничего не выдумывал, хотя о некоторых вещах умолчал. Мне кажется, что важно не только то, как мы работали и учились, но и как отдыхали, о чем думали. Конечно, кое-что, касающееся личной жизни, я не стал включать в текст. Не собирался писать еще один вариант «Это я – Эдичка». Ничем я не особенный, не отделяю себя от многих людей, действовавших примерно так же, как я, в аналогичных обстоятельствах. Все мы были разные, различно материально обеспечены, но воспитаны в близких политических и экономических условиях.
Смущает, что в моем описании многие события приобретают юмористический окрас. Создается впечатление, что мы и учились не тому, и работали не над тем, что нужно. Но ведь это мой сегодняшний взгляд на мелочи и важные для меня события того времени. В то время всё, особенно учеба и работа, казалось серьезным и важным, – наверное, и было таким.
Я сознательно не пишу о многих курьезных и серьезных вещах, которые происходили в это время с моими родственниками и товарищами. Посчитал это неэтичным. К сожалению, даже пришлось выбросить один раздел, чтобы не нарушать это правило.
Теперь, через десяток лет после написания книги, когда мной написаны и изданы более двадцати романов, и повестей, самого различного содержания, кое-что можно было бы изменить. Не в жизни, – она уже прошла, – в описании ее, но мне показалось, что это было бы нечестно по отношению ко мне самому, писавшему ее в возрасте семидесяти лет. Единственное серьезное изменение: я изъял перечень предков – своеобразный мартиролог – из начала книги. Вряд ли кому-то было бы это интересно. Вероятно, издам это отдельной брошюрой на русском и английском языках. Перечень (с 1840 года) полностью переработан. Он предназначен только моим внукам и правнукам, которые, к сожалению, не читают русские тексты. Некоторые замечания по тексту, написанные при подготовке этого издания, я отметил курсивом и заключил в квадратные скобки.
Глава 1. Детство
Мое самое раннее воспоминание. Первые дни сентября 1942 года, Заволжская степь. Я лежу на телеге, смотрю в небо. Над дорогой низко, низко пролетает самолет и поливает дорогу из пулемета. Лошадь взбрыкивает, несется вперед, но тут же останавливается, так как самолет уже пролетел дальше и резко набрал высоту. К телеге подбегает мой старший брат Натан и со страхом оглядывает меня. А я улыбаюсь ему.
Если вы поверили мне, то зря. Это фантомное воспоминание. Конечно, я не мог этого помнить, так как мне тогда было всего шесть месяцев. Но это рассказали в семь лет, и мне отчетливо представилась вся картина. Может быть, сказалось и то, что перед этим мы вместе с братом смотрели фильм про войну, и там была почти такая же сцена. Мама рассказывала эту историю вечером на кухне, когда мы сидели без света из-за обычной аварии на подстанции. Я сидел, прижавшись к маме, и глядел на то, как Натан ворошит кочергой в печке прогоравшие дрова. Он сразу же вмешался: «Да, а ты смотрел на меня, вытаращив глаза, пускал пузыри и улыбался».
Он тут же спросил: «Мама, а почему мы оставили Сашку на телеге?» – Я не слышал то, что ответила мама, так как зажмурил глаза и представил себе степь, лесополосу рядом с дорогой и длинную вереницу телег под летящим низко, низко и ревущим самолетом. Эта картинка временами возвращается ко мне. Позднее Натан сказал мне, что мать ответила просто: «Я не могла тащить вас до лесополосы обоих».
Другое воспоминание, вероятно, тоже фантомное. Возвращаюсь из детского садика домой, навстречу мне выбегает наша собака, а я ее спрашиваю: «Розка, Розка, мама дома?». Не помню, что она мне ответила. Это было в эвакуации в Белокурихе Алтайского края, вероятно, ранней весной 1945 года.
Следующее воспоминание более реалистичное. Возможно, что действительно что-то помню. Какой-то сарай, лежу в маминой кровати. Мужчина в форме протягивает ко мне руки. А я отталкиваю их и шепчу: «Уйди, уйди, ты не мой папа». – Это рассказывал мне отец. Николаевская область, время – начало лета 1945 года. Папин полк должен был прибыть на переформирование из Германии, и он заранее сообщил маме, куда нам нужно приехать, чтобы нам быть всем вместе.
Следующая четкая картинка – поселок Эртиль (где-то в Воронежской области). Август 1945 года. Я сижу на берегу речки, свесив ноги с невысокого обрыва. Рядом в речке барахтаются старшие ребята. Тепло, светит солнце, засыпаю и сваливаюсь в речку. Воды у берега по колено, я не могу утонуть, но нахлебался воды, мне страшно. Старший брат гладит меня по голове, говорит, что совсем не больно и добавляет: «Не реви, а то нам обоим достанется от мамы».
Дальше – 1946 год, Житомир, мне 4 года, я уже большой и помню многое отчетливо. По крайней мере, то, что действительно запомнилось. Но об этом лучше по порядку.
Война
Перед войной мои родители жили в Сталинграде, оба работали. Хоть и не было собственного жилья, но в семье был достаток, рос мальчик – мой брат Натан. Решили завести второго ребенка – меня. И началась война. Папу не брали в армию, так как у него было плоскостопие и очень слабое зрение. Но весной 1942 года его вместе с другими мужчинами Сталинграда отправили на Дон рыть окопы. Он вернулся похудевший и весь покрытый вшами. По крайней мере, так рассказывала мама. Еще через некоторой время он пошел добровольцем в армию. Стыдно было здоровому мужику отсиживаться в тылу. Так считали в то время все.
Во время войны все мужчины призывного возраста нашей семье воевали. Аркадий Бройде (муж тети Ани) был танкистом, Саша Винокур (муж тети Мины) – подводником, Михаил Дмитриевич и Вячеслав Дмитриевич (мамины братья) воевали в пехоте, Николай Дмитриевич – кавалерист в составе корпуса Плиева. В Сталинградской области многих молодых мужчин отправляли в казачий корпус, хотя по происхождению они не были казаками. Петр Иванович Громов (муж тети Люси) служил артиллеристом, позднее был в дивизионе «катюш». Мой двоюродный брат Аир Гавриилович был в лыжном батальоне. Когда батальон шел в атаку по заснеженному льду озера где-то между Москвой и Ленинградом, немцы взломали лед бомбами, и весь батальон ушел под лед. Никто не выжил. Это была единственная утрата среди моих родственников во время войны. Конечно, абсолютно все были неоднократно ранены и контужены; Аркадий дважды горел в танке, но все вернулись домой. Вячеслав Дмитриевич побывал в плену, и это было нашей страшной тайной. Мама в детстве внушала мне, что об этом говорить или писать в автобиографиях нельзя.
Старшее поколение не воевало по возрасту. Из моих кузенов только Аир попал на войну. Остальные были или молодыми, или совсем маленькими. Кстати, Аир был назван так в честь популярного министра Александра Ивановича Рыкова, организовавшего выпуск любимого в России напитка – водки – по приемлемой цене. Ее так и называли одно время – «рыковка». А Гавриил Дмитриевич – отец Аира – был не дурак выпить.
Мне всегда было странно слышать сплетни о евреях, прятавшихся во время войны в Ташкенте. Мужчины призывного возраста, независимо от национальности, не могли избежать армии. А стариков, женщин и детей всех национальностей, по возможности, эвакуировали в Сибирь и Среднюю Азию. Исключением являлись евреи, проживавшие на присоединенных в 1939 году землях: в Прибалтике, Западной Украине и Западной Белоруссии. Им не всегда разрешали эвакуироваться, иногда даже с презрением говорили: «Западников не берем».
Помню эпизод, рассказанный однажды папиным приятелем, полковником Добрушиным. Он в конце войны или сразу же после нее был в Москве на концерте, в котором какой-то песенник пел куплеты о евреях, прячущихся в Ташкенте. Рассвирепевший Добрушин – кавалерист-полковник – ворвался к нему в гримерную во время перерыва в форме и орденах, хватил саблей по гримерному столику и заорал: «Еще раз пропоешь такие куплеты – зарублю суку!». Элегантный столик развалился пополам, артист до конца жизни не пел больше эти куплеты.
Папу забрали в морской флот и отправили в Севастополь, на корабль. Именно в это время немцы особенно сильно бомбили Севастополь и флот. Флот начал передислокацию на Кавказ. При этом многие корабли были потоплены. Потопили и корабль, на котором служил папа. Не ясно, как он выжил. Говорил, что ухватился мертвой хваткой за доску, еле разжали руки, когда вытаскивали из воды. Ведь он совершенно не умел плавать. И всю жизнь потом отказывался учиться плавать, заходил в воду только по пояс.
После этого он попал в пехоту рядовым солдатом. В то тяжелое время не смотрели, имеется ли у военнообязанного высшее образование. Шло переформирование частей, вырвавшихся из Крыма. В бою был тяжело ранен, и его отправили в тыл, в Астрахань. Рана загнила, так как в госпитале не хватало нужных лекарств. В то время в СССР еще не было пенициллина и других антибиотиков. Не хватало даже простейших стрептоцида и стрептомицина. Папа валялся на полу в бараке с безнадежными раненными, на которых врачи уже не обращали внимания. На его счастье, по госпиталю проходил один из хозяйственных руководителей армии, работавший раньше в Сталинграде. Он узнал папу. Разговор был примерно такой:
– Абрам, что ты здесь делаешь?
– Ухожу потихоньку.
Хозяйственник распорядился врачам поставить папу на ноги, так как он нужен армии. Сразу нашелся стрептомицин, нормальное питание, и папа через две недели явился в управление тылом. Ему тут же присвоили звание младшего лейтенанта. В это время в армии одумалисьи лицам, имеющим высшее образование, присваивали офицерское звание. В армии остро не хватало младших офицеров.
К тому времени немцы захватили территорию между Ростовом и Кавказским хребтом, и Астрахань была практически отрезана от центральной России. По Волге навигации не было, так как немцы господствовали в воздухе и топили все, что плыло по ней. Железная дорога по правому берегу была частично в руках немцев. Спешно проложенная по левому берегу одноколейка с трудом справлялась даже с перевозками боеприпасов. Тем более, что поезда двигались только ночью из-за сильных бомбежек. Колею все время приходилось чинить. С продовольствием для армии было плохо. Были довоенные запасы круп и консервов, Азербайджан обеспечивал горючим, но свежего мяса и овощей не было совсем.
Папе поручили этот участок работы. Он вместе с приданными сержантами объездил все рыболовецкие колхозы и договорился о ловле рыбы. Ее не ловили, так как у рыбаков не было горючего. Папа доказал в штабе, что горючее нужно не только танкам. Горючее армия стала давать в обмен на рыбу и овощи, которые тоже начали доставлять из сел волжской поймы.
Папа организовал бригады охотников на автомашинах и договорился с ними об отстреле сайгаков, которые к тому времени расплодились и бегали по заволжским степям миллионными стадами, уничтожая всю траву. Мясо, рыба и овощи стали поступать в армию регулярно.
Зимой немцев выгнали из степей Северного Кавказа. Блокада Астрахани была прервана. Папа в это время был уже начальником Военторга фронта. Но не очень долго. После конфликта с начальством он отпросился в автомобильный полк, которому было поручено получить в Иране американские студебеккеры и доставить на них военное снаряжение в действующую армию. Вместе с этим полком, в должности заместителя командира полка по снабжению, он прошел всю оставшуюся часть войны. Был еще раз ранен и контужен, но быстро возвращался в полк. Конец войны застал в Берлине.
Полк не отправили на войну с Японией, так как машины подлежали возврату в США, в виде прошедших через гигантские штампы слитков металла. В августе или сентябре 1945 года полк был окончательно расформирован в Воронежской области.
А наша семья весь 1941 и первую половину 1942 года оставалась в Сталинграде. С конца весны 1942 года мама не имела известий от папы. Мы не знали, жив ли он. В это время к нам в Сталинград эвакуировались родители папы с дочерью Миной. Но они не остались в Сталинграде, а поехали дальше в Среднюю Азию, где пробыли до конца войны.
Мы оставались в Сталинграде до конца августа. Мама не хотела уезжать, так как надеялась получить известие от папы. Но когда немцы прорвались на левый берег Дона, к нам приехал на телеге с лошадью дядя Коля с семьей. Дядя Коля в это время работал в опытном хозяйстве Волгоградского сельскохозяйственного института. Его призывали в кавалерию, и он очень беспокоился за свою молоденькую жену Ольгу, на руках у которой были два маленьких ребенка: Люся и Лёвка. Он сказал, что нужно срочно уезжать, и поручил Олю и маленьких детей маме. В телеге было по небольшому мешочку с крупой и мукой, немного сахара и жиры, которые очень пригодились нам потом в наших долгих странствованиях. Мама собрала Натана и меня – шестимесячного, взяла кое-какую посуду, и мы поехали.
Но нужно было еще перебраться на другой берег Волги. Стоял сентябрь 1942 года. Немцы нещадно бомбили переправы. На берегу Волги у переправы столпилось много подвод, машин и просто людей с чемоданами, сумками, мешками. Пароходы и паром отходили полностью забитые людьми. Мы простояли целый день, люди разбегались в разные стороны при очередной бомбежке, но мама телегу не покидала, только прижимала нас с Натаном к себе плотнее. Нам кто-то покровительствовал на небесах. По крайней мере, через сутки ночью мы погрузились, наконец, на паром и переправились через Волгу. Нам действительно везло. Два предыдущих парохода были потоплены немцами, хотя тоже пытались переправиться ночью. После нас не переправился ни один пароход. Прорывались только отдельные лодки.
Наша телега влилась в вереницу транспортных средств и людей, движущихся по степи на восток к ближайшей железнодорожной станции. Уходили не только сталинградцы и люди, эвакуировавшиеся в Сталинград раньше. Уходили и жители заволжских поселков. Уходили от непрерывных бомбежек. Нас не только бомбили, но и расстреливали пулеметами на бреющем полете. Именно здесь произошел тот случай, с которого я начал свои воспоминания. Немцы ничего не боялись, так как в воздухе не было никакого сопротивления. Только значительно позднее была организована противовоздушная оборона и завоевано господство в воздухе. Через двое суток мы добрались до железной дороги, где нас погрузили в товарный вагон. Лошадь и телегу конфисковала армия. Армии нужен был гужевой транспорт.
А дальше от нас ничего не зависело. Мама хотела отправиться в Саратовскую область, где у нее были родственники, но мы не могли выбирать направление движения. Для этого нужно было бы на какой-нибудь станции покинуть вагон. Но тогда не было бы надежды найти другое средство передвижения. Мы подчинялись тем, кто определял, куда еще можно передвинуть наш состав с беженцами. Не буду описывать путешествие в товарном вагоне, с бесконечными остановками на полустанках, с беготней на станциях за кипятком. Я ничего этого не видел. Мне было достаточно, что рядом со мной мама и Натан.
Но все, в конце концов, заканчивается. На какой-то станции на Алтае всех беженцев высадили из вагонов и начали предлагать места для расселения. Мама выбрала поселок Белокуриха. Не потому, что это был курорт, – я не уверен, что до войны там тоже был курорт, – а потому, что ей по ее документам сразу же пообещали работу почти по специальности – директором маленькой столовой. Во время войны – это просто мечта. Это означает, по крайней мере, что дети всегда будут сыты. Мама согласилась, не раздумывая.
А потом началось бесконечное ожидание хоть какой-нибудь весточки от папы. В конце 1944 года он через своих родителей узнал наш адрес, и прислал свой офицерский аттестат. Я не знаю точно, что это означает, по нему мы могли получать его зарплату и какие-то льготы. Но все это было ерунда по сравнению с самим фактом, что он жив. А потом кончилась война, и мы начали ожидать возвращения домой.
В мае 1945 года папа сообщил нам, что его полк передислоцируется в Николаевскую область, и мы поехали на Украину. А потом вместе с полком переехали в Воронежскую область, где полк расформировали, машины отправили «под пресс» в Архангельск, для отправки металлолома в США, военнообязанную молодежь отправили на Дальний Восток, а папу демобилизовали
Житомир
После демобилизации перед папой стоял вопрос, куда возвращаться? В полностью разрушенный Сталинград или в Житомир, где имеются родственники. Папе предлагали даже Москву. Мама была за Сталинград, но папа решил – в Житомир. Он всегда хотел, чтобы все собрались вместе. Первые воспоминания о Житомире – мы живем в каком-то каменном или бетонном сарае. Одна холодная комната, где все мы ютимся. Это продолжалось пару месяцев. Затем нам нашли небольшую квартирку на съем недалеко от дома, где жила бабушка и ее дочь Аннушка.
Муж Аннушки – Аркадий Бройде – был довольно большим начальником в Житомире. Аркадий – человек горячий. После войны он, боевой командир, пришел в орденах в обком партии и грохнул кулаком об стол: «Бардак в торговле». – И начал описывать существующие проблемы. Ему тут же предложили возглавить Облпотребсоюз или что-то вроде этого. С опытными кадрами после войны были проблемы везде. Житомир не был исключением.
Папе в обкоме партии была предложена должность начальника торговой базы. То, чем он занимался до войны в Сталинграде. С материальной стороны было не очень здорово. Зарплата маленькая, а брать взятки с подчиненных папа никогда не умел и не хотел. Тем более – самому торговать дефицитом. Но после демобилизации ему, как и каждому офицеру, выдали некоторую сумму денег. Этого хватало на первое время. Приходилось обзаводиться всем, ведь при кочевой жизни с полком у родителей не было ничего, кроме носильных вещей.
Мама – человек практичный и не любила тратить деньги впустую, но мы, дети, не ощущали нехватку чего-нибудь. По крайней мере, я не помню, что бы хотел кушать, а в доме нечем было меня накормить. Хотя в стране в эти годы было тяжело и с продуктами, и со всем остальным.
Квартиру на улице Котовского я помню довольно хорошо. Дом был одноэтажный, но с полуподвальным помещением. Наша квартира занимала этаж на высоком цоколе. В прихожую с улицы вела крутая лестница. Дальше были две полупустые комнаты. В первой, проходной, стояли наши с Натаном кровати и обеденный стол. В следующей комнате была кровать родителей и шкаф. Под лестницей – полуподвал, который использовался как сарай для угля и дров. Но дверь в полуподвал была со двора. Приходилось обходить дом, чтобы принести домой уголь и дрова для печки. Саму печку не помню. Наверное, мы около нее не сидели. Я сейчас не помню точно, но кажется в доме в цокольной части под нашей квартирой жила еще одна семья. По крайней мере, помню, что там жила женщина-инвалид.
Когда я в зрелом возрасте приехал в Житомир и пришел посмотреть дом, то постеснялся тревожить жильцов. Сам дом показался мне тогда совсем маленьким.
В доме мы с Натаном только ночевали и ели. Вся наша жизнь проходила на улице и во дворах. Дворы были нашим убежищем, местом приключений, местом реальной жизни. Собственный двор нашего дома был небольшой, тем более что в глубине двора стоял еще один дом, в котором жила помещица. По крайней мере, так мы ее звали. Ей принадлежали оба дома, и снимали квартиру мы у нее. Она жила в этом доме до революции и, действительно, была помещицей. В нашем доме раньше жила ее прислуга. Все это у нее не отняли за какие-то заслуги мужа перед революцией. Мужа давно не было в живых. Ее дом казался мне огромным. В нем было два этажа и цоколь. Помещица занимала с девчонкой-родственницей два этажа, а в цоколе жила какая-то семья.
Мне не удалось увидеть еще раз этот дом. На его месте стоит обшарпанный трех или четырехэтажный дом с двумя подъездами. Под этот дом вырубили и фруктовый сад, тянувшийся от дома и до угла улицы. Сад мне казался когда-то громадным. Реально он был не на нашей улице, а по Московской. Сад был запущен, и мы проходили через него на Московскую улицу, так как ограды были сломаны во многих местах. А теперь по фотографиям в Гугл я вижу, что и наш домик снесли. На его месте посажены несколько деревьев.
Во дворе, в дальнем углу на возвышении, стоял деревянный туалет с двумя отделениями. Я его помню хорошо, так как мне сильно досталось от мамы, когда Натан наябедничал на меня, что я подсматривал снизу из соседнего низкого двора за посетительницей. Подсматривали все, а досталось только мне. И было это очень обидно.
Около нашего дома во дворе была лужайка, а дальше, между ней и туалетом еще одна невысокая горка, заросшая кустами и подлеском. Вероятно, когда-то здесь стоял дом или каменный сарай. Но сейчас в кустах был один из наших штабов. Мы их плодили в каждом укромном месте. А взрослые время от времени разрушали. Наш двор без ограды соединялся с огромным соседним двором, в который выходили двери трех домой. Дома были густо заселены, детей было много. Мы с ними не враждовали. Там жил самый близкий мой приятель, с которым мы гуляли вместе, когда Натан не брал меня с собой. Обычно я таскался за Натаном, как хвостик.
Рядом с лужайкой, на границе между нашим и соседним двором рос великолепный грецкий орех. Там мы с приятелем любили сидеть на ветках и весной, и особенно осенью, когда можно было есть орехи прямо на дереве. Не знаю, кому принадлежал орех, но нас за него не ругали. Разве только мама ругала, что руки после очистки молодых орехов становились совсем черными. Соседний двор чуть дальше переходил в огород, на котором практически ничего не росло. Поэтому там тоже были наши владения. Но уже за огородами была другая страна. Там правила соседняя шайка пацанов. Там нам нельзя было появляться – могли избить. Помню, по крайней мере, одно сражение с соседней шайкой. Я, конечно, был в тылу и только подносил с малышами обломки кирпичей. А Натан с приятелями стоял (лежал) на переднем крае и отбивался кирпичами от нападающих. Помню, что свои владения мы от них отстояли. Мне было около шести лет, но Натан был совсем большой – одиннадцать лет.
Сколько я его помню, он, не задумываясь лез в драку, если таковая оказывалась поблизости. А если кто-то обзывал его евреем, то пощады обидчику не могло быть. Я, наоборот, рос тихим и немного боязливым. Мне не нужно было уметь драться, так как у меня был старший брат, и все это знали. Но если меня удавалось разозлить, то терял спокойствие и был готов на непредсказуемые поступки. Один раз пробил Натану голову фарфоровым изолятором. Другой раз гнался за моим двоюродным братом Петей полтора квартала до самого его дома, хотя он старше меня на два года.
Собственно, таких вспышек гнева я помню только три. Две эти и однажды в третьем классе в Сталинграде, когда один из мальчишек на перемене обозвал меня жидом. В голове у меня что-то щелкнуло, я взвизгнул и бросился на обидчика. Он был значительно сильнее меня и не ожидал такой реакции. Мы свалились на пол, я вцепился ему в горло и стал душить. Меня с трудом оттащили. Обоих выгнали домой за родителями, но больше он ко мне не приставал.
На улице было так же интересно, как и во дворах. То идет 40 дней подряд дождь, и мы деловито строим на углу Московской улицы мост через поток, протекающий по нашей улице Котовского. То утром вышли на улицу в одних трусиках, холодно; и вдруг выглядывает из-за туч солнце, и можно сладко погреться на завалинке нашего дома. То по улице идет похоронная процессия, и можно бежать по тротуарам два-три квартала, обгоняя ее, а потом стоять и разглядывать всю процессию. То скрипит на телеге старьевщик, у которого за ненужные тряпки, кости или бумагу мы получаем надувной шарик со свистком. В общем, на нашей улице дело всегда находилось.
Зима 1948-49 годов. Мне уже почти семь лет. Я большой, могу с ведром идти к водокачке за водой. Я называю ее водокачкой, но на самом деле – это будка продажи воды, стоящая на углу улиц Котовского и Московской. Моим внукам, наверное, это странно, но в наших кварталах ни в одном доме нет водопровода, так же, как и нет центрального отопления. Нет и колодцев. Воду можно купить в редко разбросанных по улицам будках. На улице подмерзло, около водокачки сплошной каток, горкой поднимающийся к раздаточному окошку. Наверное, многие проливали свои ведра. Но у меня на подошвах валенок что-то набито соседским сапожником, я не скольжу. Протягиваю в окошко укутанной платками тетке свой жетончик, и в ведро из крана льется вода. Я до сих пор помню этот жетончик. Но, может быть, я помню его потому, что уже в весьма зрелом возрасте нашел у одного из коллекционеров именно такой латунный жетончик. На нем надпись: «Житомирский водопровод, три копейки – одно ведро воды». Именно три копейки, а не тридцать.
[Это о холодной воде. О горячей воде в доме мы и не мечтали. Пока был маленьким, мама купала меня в тазике, то есть я стоял в тазике, а она намыливала меня и поливала потом нагретой на печке водой. Однажды зимой решилась взять меня с собой в баню. В помывочном отделении я прижался к маме, с ужасом боясь даже глядеть на страшных старух, которые, как казалось мне, окружили нас со всех сторон. В следующий раз отказался идти в баню с мамой, пошел с отцом. Тогда папа и объяснил мне, что у евреев обычно обрезана часть кожицы на члене.]
На углу около разрушенного бомбой дома возле этой же водокачки как-то летом мы нашли кучу железных вытянутых дробин. Какой-то дядька объяснил нам, что это картечь из снаряда. Картечь – это еще интереснее. Прекрасный материал для обмена. А меняли мы все на все. Главный обменный материал – фантики. Конфеты в обертках доставались нам очень редко, по большим праздникам, или, когда ходили в гости к Аннушке. И были они обычно в простых линялых бумажках. Но иногда папа приносил нам и маме после зарплаты красивые конфеты в твердых обложках: «Кара-Кум», или «Белочка», или еще что-нибудь. Мы съедали свои конфеты мгновенно, аккуратно разглаживали фантик и ждали, когда мама съест свою конфету. Наверное, Натана это интересовало меньше, так как он два раза отдавал мне все собранные фантики. Не помню, что он получал взамен. Скорее всего, это было, когда ему поручали следить за мной, а ему нужно было убегать во дворы по своим важным делам.
А один раз я даже получил от него всю его коллекцию марок. Он собирал ее целый год и расставался с большим сожалением. Но ему срочно были нужны деньги, а у меня было целых 10 рублей, которые на его взгляд было целесообразней потратить, чем хранить вместе с фантиками.
Я по натуре, наверное, коллекционер, и для меня марки были важнее и интереснее денег. Помню, как девочка, которая жила в доме помещицы, принесла нам с Натаном показать коробочку с монетами. Мне они казались недосягаемым богатством. Особенно глаз не мог оторвать от красивых больших монет с изображением греческих героев. Мне казалось, что это что-то очень древнее. Тем более что я уже видел в книжках почти такие же изображения греческих богов и героев. Я помнил их очень хорошо, и был сильно разочарован, когда лет через пятнадцать понял, что это были обычные греческие монеты начала тридцатых годов.
Кстати, о деньгах, раз уж мы их упомянули. Вероятно, Натан был прав, что деньги нужно тратить. Летом или осенью была денежная реформа 1947 года. Мама с презрением и издевкой напоминала нам позднее о том, с каким пафосом Левитан своим прекрасным голосом упоминал «последнюю жертву». Действительно, в магазинах появилось многое. Нам казалось, что появилось ВСЁ. Не нужно вставать рано и занимать очередь за хлебом и молоком. Не нужно бояться потерять карточки. Ведь каждый раз, когда меня посылали в магазин, мама читала мне нотацию о карточках и как они важны. А я потом сжимал карточки в кармашке в кулаке и боялся, что кто-то догадается и отнимет их у меня.
Нас эта реформа практически не коснулась, так как деньги, полученные папой при демобилизации, мы уже давно истратили. А зарплаты хватало только-только. На меня произвело впечатление отчаяние одного мальчишки. Он собирал очень долго деньги на покупку велосипеда, а в один миг его сто семьдесят рублей превратились почти в бумажки. Он вышел на Московскую улицу, когда там было вечером много гуляющего народа, подбросил их вверх и заорал: «Жрите, подавитесь моими деньгами». Ребята собрали ему деньги и утащили подальше от греха. Время было не такое, чтобы кричать что попало.
В магазинах действительно было ВСЁ, но мы в основном только смотрели на витрины. Я и сейчас помню витрины, на которых эти бесконечные горки банок крабов, красной икры и каких-то других деликатесов. Но цены ведь выросли в три-пять раз. А зарплаты остались прежними. Это было тяжелое время. Мы, ребята, не вдумывались во все это. Но мама постоянно ворчала.
За несколько месяцев нашей совместной с папиным полком кочевой жизни она успела кое-что приобрести. Хозяйственные сержанты полка много чего вывезли из Германии, где полк простоял пару месяцев. Ведь полк был автомобильный, и не было проблемы положить в кузов пару чемоданов с вещичками. И вот теперь они понемногу продавали свои запасы. Папину зарплату в это время маме не на что было тратить. Мы были на полковом довольствии. Сержанты приносили маме отрезы материала, какие-то вещички, и она с охотой их покупала. И вот теперь эти ее запасы потихоньку перекочевывали к знакомым. Продавать на базаре она не могла, так как папа работал в торговле. Эти запасы помогли нам прожить тяжелое время без чрезмерных лишений.
В более позднее время, в Сталинграде, в начале пятидесятых годов, когда папа на месяц остался без работы, мама опять вынимала что-нибудь из заветного сундука, и мы могли более или менее нормально питаться. Мамина практичность полностью компенсировала папину партийную принципиальность. Папа был членом партии с 1939 года, гордился своим партийным стажем и не мог себе позволить что-то несовместимое с проповедуемыми партией принципами.
Помню, что с папиной мамой у мамы были сложные отношения. В результате, к нам родственники заходили редко, только на день рождения папы. Мы тоже почти не заходили к бабушке. Сейчас это кажется мне странным. Ведь мои внуки, двойняшки, живущие от нас даже немного дальше, чем мы жили от нашей бабушки, бывали у нас часто. И чувствовали себя у нас почти как дома. Теперь они большие, у них свои дела и нет времени бывать у нас чаще, чем пару раз в месяц.
Когда я появлялся в доме Аннушки, а бывало это обычно в чей-то день рождения, я чувствовал себя скованно. У Аннушки и Аркадия квартира была немного больше, чем у нас, но она казалась мне тесной. Она была вся заставлена вещами. На комоде, на стенах, на полке, которая была над диваном – везде были какие-то безделушки. Больше всего мне запомнились игральные карты. Мы сами часто играли в карты, но у нас были простые затрепанные карты с блеклой рубашкой и невыразительными рисунками. Эти карты были сияющими, с яркой рубашкой и вычурными фигурами персонажей. Все короли, дамы и валеты были разными и одеты в разные костюмы. Даже тузы и, тем более, джокеры были фигурными. В общем – блеск. Утащить эти карты и играть c Петей в пьяницу было большим удовольствием.
К тете Мине мы ходили еще реже. Она и ее муж дядя Саша жили на улице Ленина (теперь Киевская) значительно дальше от нас. Мина была зубным техником. Саша работал на фабрике инвалидов. На войне он был подводником и лишился одного глаза. Они жили, как и все мы, не богато, но в квартире было уютно. Я не уверен, что помню их квартиру. Осталось только общее впечатление уюта. Возможно, что это чувство осталось потому, что Мина всегда приветливо улыбалась, и рядом с ней было приятно находиться. Почему-то помню, что мы два раза гуляли все вместе по улице. Сын Мины Марик был в то время еще очень маленький, немного кудрявый, с задумчивыми глазами – просто ангелочек. Эдик родился позднее, уже после нашего отъезда.
Осенью 1948 года мне уже шесть лет, и меня отводят в школу. Ожидание школы, чего-то нового, приятно волнует. Торжественная линейка, толпящиеся недалеко от нас мамы, напыщенная речь директрисы. И мы – виновники торжества. Но в классе всё разочаровало. Весь первый урок нам объясняли, что нужно делать и чего делать нельзя. Многие слова были непонятны, и вообще, было скучно. Да и сидеть полчаса на одном месте с вытянутыми на парте руками было тяжело. А на следующий день началось рисование палочек. До школы я, как и все еврейские мальчики, умел читать. Писал, корявыми буквами, но писал. А палочки у меня не получались. Они были все вкривь и вкось.
Палочками этими мы занимались несколько дней. Учительница меня ругала, и даже однажды обидно посмеялась надо мной. Читать по буквам и по слогам букварь и слушать, как его пытаются читать другие дети, было неинтересно. Я его прочитал весь еще до школы. Но когда до меня дошла очередь, и я начал просто читать, учительница резко оборвала меня. Оказывается, нужно было читать строго по слогам.
[Особенно обидны были ее слова: «Вы, еврейчики, всегда хотите выделиться. Здесь вам придется делать все так, как делают другие». – Запомнил эти слова на всю жизнь. Учительница была с Западной Украины.]
В общем, я сразу же получил двойку. Хорошо хоть, что в первые дни двойки не ставили ни в журнал, ни в дневник. Через некоторое время я приспособился и стал подражать другим, но было это очень неприятно. Тем более, что кто-то из тетушек дал мне почитать интересную книгу. Я не помню, что это было: «Приключения Буратино» или «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля. Но книга была захватывающая. Помню, что убежал с ней в один из наших штабов и не откликнулся, даже когда мама позвала меня обедать.
После этого школа стала казаться еще скучнее и неприятнее. Счет тоже был дурацкий. Складывать палочки из кучек в кучки было просто смешно. Ведь и так ясно, сколько будет два плюс три. При чем здесь палочки. Не считать в шесть лет было просто невозможно. А как тогда рассчитываться за покупки в магазине или при обмене марками? И опять ругает учительница – она была с Западной Украины – заставляет складывать эти палочки.
Потом началось писание букв по прописям. Это вообще мучение. У меня совершенно не получались закругления. Буквы были угловатые и, честно говоря, корявые. Они и теперь у меня такие. За чистописание я ни разу ни в этой, ни в следующей школе не получал оценку выше тройки.
На перемене тоже было неинтересно. Ребята все старше и сильнее меня и прекрасно это сознают. Я не мог так быстро бегать, меня можно было толкнуть, не ожидая никакого отпора. Ведь старшего брата поблизости не было. Он играл с ребятами своего класса в другом углу школьного двора. А я за себя постоять не был приучен. В общем, школа мне не нравилась.
Дорога из дома в школу была довольно длинной и проходила через центр Житомира. Мы шли с нашей улицы через дворы на Каретный переулок и почти сразу попадали на улицу Щорса, одну из главных улиц города. Там было всегда оживленно: подряд мелкие магазинчики, мы разглядывали витрины, в которых всегда много интересного. Сначала я ходил этой дорогой только вместе с Натаном, но потом осмелел и стал ходить один или вместе с одноклассниками. Помню, один раз мы обнаружили, что при сносе магазинчика на земле осталось много пластмассовых солдатиков. Конечно, собрали их всех до одного и долго играли ими или меняли на другие игрушки.
Лето 1948 года мне запомнилось походами на реку Тетерев. Ехать приходилось на автобусе, хотя парк был недалеко от центра города. Выезжали всей семьей, вместе с семьями папиных сестер. Парк (сейчас он носит имя Юрия Гагарина) был на обеих сторонах Тетерева, и я помню, что мы переходили по длинному мосту на другой берег реки. Из репродукторов ревела громкая музыка; лес на другой стороне был чистый, росла высокая трава, из которой высовывались папоротники и хвощи. Взрослые располагались на одеялах, что-то пили и закусывали, а мы могли свободно бегать. По крайней мере, это так представляется мне сейчас. В действительности, в памяти осталась громкая музыка, мост, казавшийся мне на обратном пути бесконечным, и тропинка, по которой мы идем с Натаном, а вокруг высокие папоротники и хвощи. Я смотрел фотографии в Гугл, мост, действительно, очень длинный и высокий.
Кажется, я описал все, что помню реально из времени жизни в Житомире. Но в конце лета 1949 года семья собралась в Сталинград. Наверное, под давлением мамы. Дорога была длинная, с пересадкой в Харькове. В Харькове мы даже переночевали у родственников. Там жил папин двоюродный дядя Холоденко с женой и довольно взрослой, как мне казалось, дочкой Таней. Это был единственный раз, когда я их видел, но Таня заезжала позднее один раз к нам в Сталинград. Вероятно, уже в Волгоград.
Сталинград
Я не помню сталинградский вокзал того времени. Это была какая-то времянка, так как сам вокзал, как и весь центр города, был совершенно разрушен. Нас встречал мамин брат Николай со старшими детьми Люсей и Лёвкой. Встречу не помню, но помню долгую поездку на трамвае. Николай с женой Олей и четырьмя детьми жили в только что построенном кирпичном домике. В доме было две комнаты и кухня. Во дворе стояла летняя кухонька с сараем. Мы с Натаном, Лёвкой и Люсей спали на полу на кухне. Маленькие Надя и Оля спали вместе с родителями в одной из комнат. Мама с папой разместились в другой комнате. Дядя Коля преподавал что-то в одном из учебных институтов. Он никогда не унывал, много делал своими руками в доме, ухаживал за садом.
Мы в доме только спали и обедали. Утром хватали из одного мешка тараньки, из другого добрый ломоть подсолнечного жмыха и убегали в овраги. Овраги подходили почти к самому дому. Там было всегда интересно. Там не было взрослых, можно было строить штабы, искать оружие. И вообще, всегда было интересно посмотреть, а что там, за очередным поворотом оврага. Овраги были бесконечные, уходили до речки Царицы. Но туда мы не бегали. Там было страшно. Старшие мальчики рассказывали жуткие истории: какие там мины, сколько мальчишек на них подорвалось, какие там бандиты, и немцы недобитые там прячутся. Да и можно нарваться на конкурирующую банду пацанов: с печальными последствиями.
Я, конечно, всегда тащился за Натаном и Лёвкой. Лёвка был на два года старше меня и знал все овраги, как свои пять пальцев. Обед был поздно, часов в пять-шесть вечера. Мы к тому времени уже были голодны как волки. Но на обед был густой борщ с мясом и добрыми ломтями хлеба, с добавкой желающим, и много овощей. Вечером, уже при свете керосиновой лампы, пили чай. К нему, кроме сахара можно было снова брать жмых. Ложились спать очень рано.
Довольно быстро папа получил работу – директором сталинградского Военторга – и комнату в подвале комендатуры. Осень и зиму мы провели в этом подвале. В 1949 году в Сталинграде получить даже такое жилье было очень трудно. Город только начал отстраиваться. Центральный район совершенно разрушен. Там почти нечего восстанавливать. В нашем, Ворошиловском районе дома были менее разрушены, и их восстановили раньше.
Наш подвал – на самом деле полуподвал: наверху, под потолком было маленькое окошко, через которое иногда можно было увидеть сапоги проходящих мимо солдат. Пол земляной. По очень крутой кирпичной лестнице можно было выйти во двор комендатуры. Рядом с нами подвал с картошкой, так что на лестнице почти всегда скользкие остатки гнилой картошки. Чуть ли не половину двора занимала большая солдатская уборная типа «сортир», с желтыми от солдатской мочи разводами льда. Из двора через проходную можно было выйти на улицу. Нас, ребятишек, знали все часовые и не обращали на нас внимания.
Меня сразу же записали в семилетнюю школу номер 38, в которой я проучился пять лет. Попал в устоявшийся класс, в котором у нашей учительницы Неонилы Викториновны были любимчики и дети, к которым она была равнодушна. В принципе, она была незлобивая. Низенькая, полная, с отекшими ногами и седоватыми волосами, всегда закрученными сзади, нам она казалась очень старой – ей было чуть больше пятидесяти лет.
Войти в устоявшийся коллектив класса очень трудно. Были компактные группы друзей и жителей одного квартала, одного дома. К тому же мой акцент выдавал украинские корни. Я учился в Житомире в русской школе. Украинский язык нам, кажется, не преподавали, но я его понимал. По крайней мере, тот язык, – «суржик», на котором говорило население города. Да и позднее, приезжая в командировки в Киев, легко переходил на местный язык, смесь украинского и русского. В Сталинграде выговаривали слова совсем не так. На нижней Волге в городах русский язык довольно чистый, но, может быть, это мне так кажется, потому что я к нему привык. Сравнивать трудно, эталоном, наверное, должно быть «телевизионное произношение». Мне оно кажется естественным, но даже в Москве часто приходилось отмечать грубые отклонения от такого произношения. К местному языку привык быстро, но с классом сходился долго. Учился средне: по русскому языку были тройки и четверки, по математике оценки значительно лучше.
Я был тихим и не драчливым. Эпизод, когда я чуть не задушил обидчика – уникальный. В классе на меня не обращали внимание. Некоторый авторитет появился, когда в четвертом классе на соревнованиях по шахматам я завоевал второе место в школе. Ведь в школе были и шестые, и седьмые классы. Кстати, когда началась подготовка к городским соревнованиям по шахматам между школами семилетками, меня сразу же пересадили на первую доску в команде. Не помню, почему это произошло, но и пятом и в шестом классах я оставался тоже на этой доске.
Вероятно, сказывалось то, что я с четвертого класса начал ходить в городской дом пионеров, на шахматный кружок. Был довольно сильный руководитель кружка, мастер спорта Гречкин, и он смог нас заинтересовать, хотя, вроде, ничего для этого не делал, просто разбирал с нами партии великих шахматистов, рассказывал об их жизни, указывал наши ошибки в партиях, которые мы разыгрывали между собой. Нас удивляло, что он, прохаживаясь между столами во время нашей игры, успевал запомнить и оценить многие ключевые моменты игры. И потом устраивал по памяти разборы партий, ни разу не ошибаясь.
В кружке быстро получил четвертый разряд по шахматам и уже в шестом классе – третий. Для второго разряда нужно было набрать соответствующие балы на соревнованиях, но я не успел это сделать, так как в седьмом классе меня заставили поступить в музыкальную школу. Впрочем, – это отдельный разговор.
В пятом классе меня приняла в свои ряды самая сильная группировка в классе. Я и сейчас помню фамилии этих ребят: Тескер, Евстратов, Шварцкройн, Коган и, кажется, Ляпин. Все они хорошо учились, и были поэтому любимчиками Неонилы Викториновны (кроме Когана). Евстратов, Тескер и Шварцкройн жили в одном многоэтажном доме, кажется, в «Доме грузчиков» на Рабоче-крестьянской улице. Это была центральная улица нашего района. А в «Доме грузчиков» (и в соседнем «Доме консервщиков») проживала элита района – семьи работников районных организаций и МВД. Я не упомянул, что здание МВД находилось тогда на нашей Клинской улице, в соседнем квартале. Помпезный «Желтый дом» МВД над Царицей тогда еще не был построен. Между Клинской и Рабоче-крестьянской улицами – только Ковровская улица.
Тескер был всегда круглым отличником. Я его встречал и позднее, он учился в Москве, закончил МИФИ, и позднее стал руководителем крупного КБ в Волгограде. С остальными ребятами встречался позднее только иногда, в основном на пляже. Я уже сказал, что все они учились хорошо. Стыдно было учиться хуже, и мои оценки быстро поправились. Кроме русского языка, по которому продолжал получать только четверки. Мы разошлись после шестого класса. Я переехал с родителями в Центральный район и перешел в 9-ю школу. Они после седьмого класса поступили в 50-ю школу.
Собственно, про 38-ю школу мне нечего больше сказать. Там мы только мучились. Вся жизнь проходила во дворе или на нашей улице. Весной 1950 года мы переехали в другой дом, в том же квартале, но на другой стороне улицы. Генерал – командующий корпусом – освободил большой дом, и там разместили сталинградский Военторг. Одну комнату и кухню выделили нашему семейству. Папин кабинет имел три двери, собственно, это была раньше маленькая проходная комнатка. Одна дверь вела в спальню, вторая дверь через коридорчик – в прихожую и далее на кухню или во двор, через третью дверь можно было пройти в остальные помещения Военторга.
Дверь в спальню забили через пару месяцев. Потом, через полгода, заложили кирпичом дверь в коридорчик. И там образовалась маленькая изолированная комнатка длиной почти в два метра и шириной более метра. Там поселили меня. Так мы отгородились от Военторга, и теперь наша квартира стала включать две комнаты, прихожую с голландской печкой и кухню с большой печью, на которой мама готовила еду. Был и отдельный относительно теплый туалет. Эту роскошь я увидел впервые. Раньше я знал только туалеты на улице. Кроме того, на кухне был кран, из которого в любой момент можно было набрать воду. Да, я забыл грязный сарайчик, который был тоже под нашей крышей, рядом с туалетом. Мама сразу же поместила в нем кур. Позднее кур мы выселили в большой сарай на улице, сарайчик капитально отремонтировали, превратив его в очень симпатичную новенькую комнату, правда, с низким потолком. Там поселился Натан. В общем, получилась приличная, удобная квартира.
После того как Натан ушел учиться в спецшколу ВВС, в его комнате один год жила наша двоюродная сестра Нэлла из Ейска. Потом еще год у нас жил Изя, папин знакомый (или дальний родственник?) по Житомиру, весьма своеобразный человек. Молодой, обаятельный, пользующийся постоянным успехом у женщин. Это был неиссякаемый источник анекдотов. Он недавно женился, но нормальной специальности не было, работу в Житомире не мог найти и приехал попытать счастья в Сталинграде. Папа устроил его куда-то экспедитором, но зарплата была мизерная, в торговые аферы он влезать не хотел, да и папа строго предупредил его на этот счет. А может быть, у него уже был печальный опыт. Но жить нужно, и Изя два-три раза в неделю ходил в Дом офицеров играть в преферанс. Игрецкое счастье или умение, но он каждый раз был в выигрыше, и приносил домой 25–50, а иногда и сто рублей. Для него это была хорошая прибавка к зарплате, и он мог что-то отсылать в Житомир.
[Именно Изя научил меня играть в преферанс, играть уверенно, обращая внимание на поведение партнеров, пытаясь понять по их лицам, по поведению, какие карты у них на руках.]
Двор в Военторге был превосходный. Он тянулся от нашей Клинской улицы до Ковровской и в ширину был метров пятьдесят. Вокруг двора шел генеральский забор. Недалеко от дома размещалась отгороженная высоким сетчатым забором выгребная яма, куда происходил слив всех наших сточных вод, за ней – большой сарай. В нем разместились и курятник, и очень теплый загончик для поросенка, и отделение для инструментов, кормов и инвентаря. Маме все это пришлось по душе. У нас каждый год подрастал очередной поросенок, было не меньше пятнадцати несушек. То есть яйцами и салом мы были обеспечены.
Каждого поросенка мы очень любили, кормили с рук овощами, чесали ему пузо и за ухом. Радовались, когда он благодарно хрюкал. И не могли смотреть на него поздней осенью или зимой, когда приходящий резник завершал его бренное существование. Помню, что Натан однажды ночевал зимой вместе с поросенком в его теплом закутке – в очередной раз провинился и не хотел показываться дома. После визита резника у нас появлялась кровяная колбаса, великолепные отбивные и сочные котлеты. Отец не был верующим евреем и не помнил о запрете «есть с кровью».
Немного позднее у Военторга отрезали дальнюю часть двора и соорудили там склад для военных строителей с выездом на Ковровскую улицу. У нас тоже осталась калитка для выхода на Ковровскую и прилегающий к ней небольшой внутренний дворик. Правда, калиткой мы почти не пользовались. Через год в этот дворик провели летний водопровод, и он мамиными стараниями был превращен в прелестный садик и огород. Нам с Натаном тоже приходилось там работать и весной, и летом.
Летом, особенно ранним вечером, в садике было прекрасно, в нем был особенный микроклимат. Прохладно и не так сухо, как в любом другом месте. Я любил смотреть, как мама возится на грядках и ворчит, что я ей не помогаю. Но помогать летом и нечего. Все вскопано, овощи еще не выросли, нужно только выпалывать сорняки и складывать их в уголок на кучу, в которой они постепенно превращаются в прекрасный компост. Никакой химии мама принципиально не употребляла. Вредных жуков мы отлавливали руками, вместо удобрений использовали компост и разведенный куриный помет.
А зимой огород превращался в снежное царство. В Сталинграде зимой сильные ветры, с любого открытого места снег сдувается, но огород защищен с трех сторон высоким забором, а с четвертой его прикрывает сарай. В результате накапливаются сугробы, из которых удобно строить снежные крепости.
В оставшуюся у Военторга большую часть двора начали привозить пустую тару. Ящики громоздились, как небольшой городок с лабиринтом улиц и переулков. Прекрасное место для всевозможных игр. В крупных массивах ящиков мы с моим соседом и одноклассником Олегом Дьяконовым сдвигали один-два ряда, проникали внутрь массива, устраивали там штаб – то есть покрывали какое-то место досками, возвращали на них ящики, делали к штабу узкий и извилистый лаз. Получалось весьма потайное место, которое могло существовать неделями, пока массив ящиков в очередной раз не разбирали. А в ящиках можно было найти многое: яблоки, печенье, и даже конфеты. По-видимому, в спешке часть товара оставалась в ящиках. И нам это очень нравилось.
Во дворе было еще одно любимое мной место – летний душ, стоявший посредине двора. Над ним была бочка, к которой подведена вода. Вода в бочке нагревалась от солнца, и можно было летом купаться. Но меня интересовало не это. В душе можно было спрятаться и читать там почти весь день книгу. Начиная с третьего класса, я стал книгоманом. Мама записала меня в районную библиотеку, и я за четыре года прочитал, по-моему, все, что там было, по крайней мере, все, что библиотекарь разрешала мне брать. Это были бесконечные книжки про войну и партизан. Но позднее пошла русская классика.
Библиотекарем была худая дама неопределенного возраста, в очках и с волосами, закрученными на затылке в пучок, как у нашей Неонилы Викториновны. Она считала необходимым руководить чтением молодежи и пыталась регулировать мое чтение, предлагая сказки, которые мне абсолютно не нравились. После одной-двух таких книжек стал от сказок отказываться. Во-первых, они прочитывались слишком быстро, за час-полтора, во-вторых, они были просто неинтересны, нереальны и вызывали отторжение. Проблема была и в том, что библиотекарь отказывалась выдавать мне книги, если я приходил на следующий день. Не верила, что я уже прочитал, и дотошно выясняла, что запомнил. Кончилось тем, что библиотекарь разрешила мне самому лазить по полкам и выбирать книги. Но потребовала, что бы приходил не чаще, чем один раз в неделю. Не разрешала мне брать иностранную литературу.
Поэтому, когда мама купила мне после четвертого класса первую иностранную книгу, она стала для меня потрясением. Я не помню сейчас название, только фамилию автора – Ромэн Роллан. Действие происходило в Париже и где-то в эмиграции в 1938–1946 годах. На самом деле – это была скучнейшая книга французского классика-коммуниста. Толстенный том я снова пролистал лет через двадцать пять, когда был у мамы в гостях. Обычная прокоммунистическая агитка. Но она была первой моей книгой о реальной жизни, жизни взрослых людей, их переживаниях, сложных отношениях. После нее я не смог больше читать книги советских писателей (за редким исключением).
Так началось формирование семейной библиотеки. На эти цели мама для меня денег не жалела. Следует отметить, что мои дети и Дима, и Саша, неоднократно прочитали все книги нашей библиотеки. Я думаю, что книги активно участвовали в формировании их характеров. Так же, как и для меня, книги открывали для них весь мир. Жалко, что внуки читали значительно меньше, а теперь ничего не читают. Но, вероятно, мир им открывает интернет.
Наша семья жила в тепличных условиях. В семье был отец, была работа, приличное по тем временам жилье. У моих приятелей по Клинской улице обстановка была тяжелее. Семья Олега Дьяконова снимала квартирку в низком цокольном помещении соседнего дома. Квартирка состояла из двух малюсеньких комнат. Проходная комнатка, величиной с мою спальню, служила и кухней, и рабочим местом отца-чертежника, и спальней Олега. Как отец Олега с его толстенными очками чертил свои бесконечные чертежи, я не представляю. Он носил очки со стеклами – 20 диоптрий. Практически ничего не видел без очков. Во второй, точно такой же по размерам комнате была односпальная постель родителей и одежный шкаф. Всё, больше ничего не было. Туалет во дворе. Квартира обогревалась голландской печью, стоящей в коридоре и обогревавшей две такие «квартиры».
Еще хуже были условия у Славика, второго моего приятеля. Он жил в отдельно стоящей летней кухоньке в большом дворе на другой стороне нашей улицы. В кухоньке была одна комната, условно разделенная печкой на две части. В передней, меньшей, стоял столик, на котором он делал уроки, и они с мамой кушали. Во второй стояла кровать, на которой он спал вместе с мамой. Отец у него погиб на войне, мать работала где-то уборщицей. Славик был старше меня почти на два года, но выглядел младше, так как был невысокого роста и худенький. Мне у них было неуютно, но у Славика была старинная библия с гравюрами Гюстава Доре, которую мы иногда рассматривали и пытались читать. Старый дореволюционный шрифт мы читали тогда с трудом, но гравюры были великолепные. Особенно на меня произвела впечатление гравюра, на которой был изображен голый дьявол с гигантскими мужскими достоинствами. Славик участвовал в наших играх во дворах и на улице, но не всегда. Чаще мы играли с Олегом вдвоем.
Смерть Сталина запомнилась мне торжественной траурной линейкой в школе. Директриса плакала, когда читала официальное сообщение. Мы стояли хмурые, но, по-моему, никто из детей не плакал. Тем более я, у нас в семье к нему отношение было очень прохладное. Разоблачение Берии мы с Олегом отметили тем, что залезли на высокую крышу нашего дома и разбрасывали с нее порванные страницы газет с его портретами. Газеты предусмотрительно отобрал и выкинул мой папа. Мы их подобрали и использовали таким образом.
На просторный чердак нашего дома вела очень высокая лестница. Она подходила к небольшой площадке, с которой можно было попасть на чердак через дверь, или сразу на покрытую железом крышу. Лезть по лестнице было немного страшно, но чердак был интересен сам по себе. Там был всякий накопившийся за годы хлам, что позволяло играть и воображать себя на корабле или в логове бандитов. К сожалению, по распоряжению папы дворник выбросил с чердака весь хлам. Папа сам на чердак, конечно, не лазил, так как на высоте чувствовал себя так же неуютно, как и в воде. Помню, что чердак Натан использовал как убежище, когда, провинившись в очередной раз, не хотел идти домой. Мама знала (с моих слов), где он находится, и передавала через меня ему еду.
Нужно отметить, что Натан связался в то время с довольно хулиганской компанией. Возглавляли эту группу пацанов два брата: Юрка и Славка Чугуновы, жившие в нашем квартале в густо заселенном одноэтажном доме напротив комендатуры. Юрка был старше на два года, но заводилой был Славка.
[И не просто заводила – диктатор. Он специально унижал других парнишек группы, чтобы добиться безусловного подчинения. Даже своего старшего брата не называл иначе, чем «губошлеп».]
В группе были ребята от шестого до девятого классов. Все было, как обычно: курили, пили, немного подворовывали, но может быть занимались и более серьезными вещами. Я тоже таскался за всей компанией, если меня не прогоняли.
В те времена все мальчишки должны были принадлежать к какой-нибудь компании, банде. Иначе было трудно жить. Однажды мы зимой всей гурьбой отправились в дальний кинотеатр смотреть новый фильм. Фильм был обычный – с глупыми, но многочисленными немцами и храбрыми партизанами. Громкая тревожная музыка глушила, сердце замирало из-за судьбы племенного жеребца и затянувшихся приготовлений к расстрелу главной героини. Наконец, немцев и полицаев перестреляли, жеребец и героиня остались живы, загорелся свет. Толпа, громко обмениваясь впечатлениями, хлынула к выходу, и в этой толчее у меня сорвали с головы новую шапку. Я – к Натану, он – к Славке. Славка переговорил с каким-то неприятным типом, и минут через пять Натан вручил мне с выговором мою шапку. Если бы я был один, шел бы домой с непокрытой головой. Впрочем, один я и не пошел бы в чужой кинотеатр.
Обычно мы ходили в соседний клуб на Ковровской улице или позднее в кинотеатр «Гвардеец» на Рабоче-крестьянской. Там мы, малышня, чувствовали себя в безопасности. Самыми интересными были довоенные немецкие трофейные фильмы. Первым таким увиденным мной фильмом была «Индийская гробница». А потом были «Маленькая мама», «Петер» (если я правильно помню название) и многие другие. Но апофеозом были, конечно, пять серий Тарзана. Мы были без ума от Читы, слонов, Тарзана, Джейн и всего прочего. До сих пор я помню едкие стихотворения об этих фильмах и «бездельниках», которые «12 раз смотрели маленькую маму и сравнивали с супругой».
Именно тогда мы начали висеть на деревьях вниз головой, подражать крикам Тарзана и мечтать о дальних странах. Кстати, эта привычка для меня один раз могла плохо кончиться. Одно дело повиснуть, раскачиваясь на кончиках пальцев босой ноги, на ветке дерева, и совсем другое дело – на перекладине лестницы «городков» в школе. Кто-то полез по лестнице мимо меня, наступил на мой палец, и я полетел вниз головой. Возможно, высота была не очень большой. По крайней мере, я, посидев десяток минут на земле, пошел в класс самостоятельно. Но впоследствии это небольшое сотрясение мозга не прошло для меня бесследно.
Раз уж я заговорил о неприятностях, то нужно вспомнить и мое падение с низеньких качелей. На углу нашей улицы был маленький садик, в котором стояли качели в виде доски, укрепленной посредине. Мы с Олегом садились на разных концах доски и раскачивались. И вот, я умудрился упасть с высоты полуметра и сломал руку. Сначала было не больно, и только левая рука непривычно свисала посредине вниз. Я побрел домой, придерживая левую руку правой. Во дворе стояла папина «эмка», мама подхватила меня, и Николай – папин шофер – повез нас к врачу. К сожалению, мы поехали не в военный госпиталь, а в ближайшую поликлинику. Там мне положили руку в гипс, но сделали это, наверное, небрежно, так как в результате рука срослась неправильно. Потом в госпитале предлагали сломать руку снова и поставить все нормально, но я не согласился. Поэтому у меня левая рука на сантиметр короче правой.
Принадлежность к банде (даже косвенная) имела и не очень приятные последствия. Помню, как меня заставили тащить инструменты с нашего военного склада. Между складом и прежним забором оставалось узкое пространство, в которое наиболее худые из нас могли протиснуться. Стены склада были из длинных необрезанных по бокам досок. Доски отгибали старшие ребята, а я протискивал свою тонкую руку и тащил все, что попадалось под руку и могло пролезть в узкую щель между досками. Это были молотки, щипцы, плоскогубцы, гвозди и прочий немудреный инструмент военных строителей. Было страшно, но деваться было некуда. Кстати, щипцы-кусачки сохранились в нашей семье до восьмидесятых годов. Папа, конечно, долго не знал об их происхождении.
Помню, как однажды вся компания бежала поздним вечером за какой-то девочкой. Девочка бегала быстро, а настоящего желания поймать у компании не было. По крайней мере, через два квартала она от нас убежала.
У ребят были и более серьезные правонарушения. Однажды знакомые папы в МВД предупредили его, что у Натана могут быть проблемы с законом. Очень мягкий обычно папа отреагировал сразу. И предложил Натану поступить в спецшколу ВВС. В те времена у нас в Сталинграде было не только Качинское авиационное училище, но и спецшкола ВВС, аналогичная суворовским училищам, но принимавшая детей в восьмой класс. Натан вынужден был согласиться, так как другие перспективы были не очень заманчивы. Сказывалось и то, что учащиеся этой школы носили красивую форму и пользовались успехом у девушек. Недаром у нас пели: «Спецы из школы ВВС средь баб большой имеют вес».
Папа мало занимался нами. У него на руках было большое хозяйство Военторга, разбросанное по городам и поселкам области; а иногда и в чистом поле, когда части дислоцированного в Сталинградской области корпуса выходили в поле на учения. В организации был собственный гужевой и автотранспорт, были гаражи, склады, овощехранилища, магазины, столовые, буфеты, собственные пошивочные и ремонтные мастерские. В общем, – натуральное хозяйство. Даже сено для лошадей необходимо было заготавливать самим. Кстати, я однажды выезжал с папой на сенокос, который был выделен Военторгу в пойме Дона. Папа занимался повседневными делами в расквартированной в поле воинской части, а я ходил с рабочими по лугу. Смотрел, как косят косами (хороший опыт, пригодившийся мне позднее), собирал на берегу Дона ракушки. Ночевали мы с папой в палатке недалеко от лошадей (сено сгребали в копёшки конными граблями). А комаров ночью на лугу уйма.
Папа ездил по своим бесчисленным подразделениям на старенькой трофейной «эмке». Его водитель Николай был почти членом нашей семьи, пока не женился. Он был молчаливым и трудолюбивым. Машина всегда была в порядке, и он мог выехать по делам в любое время суток. А ЧП случались постоянно. Не буду о них рассказывать, так как они носили разнообразную, порой удивительную форму. И почти в каждом необходимо было разбираться начальнику. Мама тоже задавала иногда Николаю работу: съездить на базу за картошкой или овощами, отвезти нашего очередного гостя на вокзал или в аэропорт, проехать с ней в магазин или в мастерскую на примерку. Благо, машина всегда стояла во дворе, если на ней не уезжал папа.
Когда папа перешел на другую работу, он забрал с собой и Николая. Помню, уже через много лет, когда я приехал в отпуск из Москвы в Волгоград, папа, не доверяя мне ездить на своей новенькой машине, попросил весьма постаревшего Николая Исаевича проехать со мной по Волгограду. Николай Исаевич мою манеру езды одобрил, разрешение ездить я получил.
Не все было благостно в нашей жизни на Клинской улице. В 1953 году папин заместитель Космынин написал длинное письмо новому заместителю командующего округом по тылу, с перечислением всевозможных папиных нарушений и провинностей. Папу отстранили на время от руководства Военторгом. Месяц он не получал зарплату, маме снова пришлось доставать из сундука какие-то вещи и продавать их на базаре.
Я с интересом смотрел, как она перебирает вещи, пытаясь определить, без чего мы легко обойдемся. Особенно мне нравилась красивая желтая мамина шкатулка, которую она тоже держала в сундуке. В ней хранились «семейные драгоценности». Там были красивые карманные золотые часики, пластина слоновой или моржовой кости с изображениями людей и животных, маленькая книжечка с непонятными мне буквами и какие-то другие безделушки. Золотые часики казались мне сокровищем. Мама потом подарила их Саше, когда он уезжал из России в Израиль. Позднее я разглядел их в США внимательно и увидел, что это просто красивая швейцарская штамповка с тоненьким золотым футляром. Но Саша бережно хранит их как память о бабушке. Пластина позднее сломалась. Из других вещичек мне запомнилась золотая булавка для галстука с зеленым камнем. Мама подарила ее мне, когда я закончил учебу в университете.
Но, конечно, главной нашей семейной реликвией была книжечка на иврите размером 31×22×11 мм. Я тогда этого не понимал. Только позднее я прочитал на обложке ее полное название «Тора, Невиим, Ктувим». То есть «Танах» или Библия. В книжке 500 страниц на тончайшей бумаге. Я с трудом читаю ее через тридцатикратную лупу. В Ленинской библиотеке сказали папе, что знают это издание, она была издана в Варшаве в 1860 году. Мама передала ее мне после смерти папы, так как у меня есть сыновья, а Танах переходит в нашей семье по мужской линии. Когда в Израиле мы проводили в ресторане праздник обрезания (Брит милу) моего старшего внука, я показал залу книжечку, сказал, что получит ее после моей смерти Саша, и рассказал гостям историю, как моя бабушка передала Танах во время войны маме (дедушка тяжело болел, и она не верила, что он доживет до конца войны) и попросила ее сберечь книгу. «Абраша вернется с войны, если ты ее сохранишь». Мама – православная, но она хранила книжку бережно. Папа с войны вернулся, хотя и был дважды ранен, контужен, тонул в море и буквально умирал в госпитале, брошенный врачами как безнадежный.
В конце концов, приехала комиссия из штаба военного округа, разобралась во всех кляузах, и папу восстановили в должности. Начальство корпуса в Сталинграде настойчиво ходатайствовала за папу. Но это сильно сказалось на его отношении к работе. Теперь он только ждал давно обещанную военными квартиру. Ведь наша квартира была служебной. В случае ухода с работы папа терял на нее право. А предложений работы было много. Торговое начальство города знало его как честного, добросовестного работника.
В детстве жизнь четко делится на две неравные части. Осенью, зимой и весной нас мучают в школе. Зато летом мы свободны. И наша свобода оборачивается головной болью родителей: чем нас занять, чтобы мы не слонялись по городу.
Летом 1950 года нас с Натаном на два сезона отправили в пионерский лагерь «Дубовая балка», расположенный почти в черте города. Лагерь был застроен типовыми щитовыми домиками с большими верандами, на которых мы должны были отдыхать во время дождя. Но откуда в Сталинграде летом дождь? Мы почти все время проводили в лесу. Лагерь оправдывал свое название. Кругом выжженная степь, а у нас молодой дубовый лес, скорее подлесок. Не буду описывать наше хождение строем в столовую или на спортивные мероприятия. Всё это было как везде.
Особенностью лагеря было то, что он практически соседствовал с бывшим Полем боя. Именно так, с большой буквы мы называли окрестности лагеря. Когда-то, совсем недавно, здесь шли ожесточенные позиционные бои. Все поля вокруг были перерыты окопами, траншеями, блиндажами. И кругом, в полузасыпанных окопах, траншеях были человеческие кости, оружие и, конечно, мины с гранатами. Почва сухая, песчаная, дожди редкие, все прекрасно сохраняется. По крайней мере, вычищенные автоматы и винтовки стреляли, гранаты взрывались. К сожалению, иногда в руках мальчишек. Был спорт, кто больше найдет всякого стреляющего и взрывающегося хлама. Помню страшный случай. Один мальчишка повадился стучать гранатой об гранату, когда находили новые окопы. Все, естественно, разбегались, а ему доставался главный урожай. Кончилось плохо. Он остался без руки и глаза. Счастье, что остался жив.
Мне Натан категорически не разрешал ходить за старшими мальчишками на Поле боя. Но сам навещал его регулярно. Периодически воспитатели устраивали в палатах шмон, отбирая все, что относилось к оружию, поэтому все стали устраивать схроны. Натан тоже. Даже через четыре года мы с ним приезжали в окрестности лагеря и искали его схроны. А потом все тащилось домой.
Я не помню у нас стреляющего оружия, отец провел в свое время жесткую беседу с Натаном об этом. Но патронов и артиллерийского пороха мы привозили домой много. Было интересно насыпать порох из патронов в ямку, засыпать песком и поджечь. Получалось что-то вроде маленького вулкана. Любили мы также засовывать артиллерийские порошинки в папиросы (чаще в окурки) и поджигать их, споря, чья ракета полетит дальше.
Таких мест под Сталинградом было много. Их не успели или не удосужились разминировать раньше и похоронить останки солдат. Но каждую неделю вечером в воскресенье нас заставляли ложиться на пол и лежать по часу, пока минеры взорвут все, что за неделю нашли на Поле боя. Взрывали на месте, далеко не отвозили.
От этого лагеря осталось воспоминание о корнях «солодика». Длинные корни были сладкими, мы вырывали вокруг или около них в песке ямки, потом старались вытянуть корни и с удовольствием жевали их.
На следующий год в этом же лагере я пробыл одну смену. Но категорически не хотел оставаться на вторую смену, и папа определил меня в лагерь, который находился за Доном. Кажется, Натан поехал в другой лагерь, по крайней мере, я не помню его в этом лагере. В принципе, здесь было практически так же, как и в первом лагере, но лес был старый, рядом были овраги, которые спускались к Дону, и два раза в неделю нас водили на Дон купаться. В общем, было интереснее. Но родители приезжали реже, один или два раза за всю смену. В «Дубовую балку» мама приезжала на машине Николая каждое воскресенье, и привозила нам что-нибудь вкусное. Все было на Дону хорошо, но домой я приехал со вшами в голове. Мама расстелила на столе газету, наклонила мою голову, и начала вычесывать вшей и гнид из моей головы очень частым гребнем. Потом тщательно вымыла мне голову, выкупала полностью и помазала голову каким-то (касторовым?) маслом. Вши больше не появлялись.
Я рос не очень здоровым ребенком. Часто болел ангиной. Врачи советовали маме отправлять меня летом на море. Азовское море – тоже море. А в Ейске жила семья маминой сестры Люси. Первый раз я увидел тетю Люсю, ее мужа Петра Ивановича Громова и детей: Нэллу, Флору, Петю, Славу и маленького Юрку в конце 1950 года, когда они ехали с Дальнего Востока через Сталинград в Ейск. Петр Иванович был на Дальнем Востоке директором сельскохозяйственного техникума. Ему предложили восстановить такой же техникум в Ейске. Семья ехала в маленьком товарном вагончике. Треть вагончика была отгорожена досками, там хранилась картошка. Очень много. Другой конец вагончика занимала корова. Посредине разместилось семейство и весь нехитрый скарб. Вагончик простоял в Сталинграде сутки. Мы и дядя Коля, мамин брат, пробыли с ними не меньше часа, мама успела рассказать все, что знала о братьях и их семьях. Женщины всплакнули и расстались.
И вот в 1952 году мы летим к Громовым. Летим с мамой до Ростова на самолете, очень напоминающем кукурузник. Но в самолете около двадцати пассажиров. Самолетик страшно качается, иногда кажется, что он проваливается, падает. Я лечу в первый раз, мне страшно и интересно. А маму укачало, многие пассажиры вынуждены пользоваться гигиеническими пакетами. Наконец, через час мы приземляемся в Ростове. Мама клянется, что больше не полетит никогда.
Мы едем в порт и покупаем билеты на пароход. Пароход типа трамвайчиков, которые ходят по Волге. Пока ехали по Дону, было спокойно и интересно. Пароходик плавно скользит по речной глади. Вокруг роскошные луга и рощи деревьев. Проезжаем мимо развалин крепости Азов. Но когда мы вышли в открытое море, все изменилось. Сильный встречный ветер, весьма прохладно, брызги залетают на палубу и заставляют всех спрятаться в общей каюте. Быстро темнеет. Я ёжусь, но стою на палубе, нашел какое-то укрытие от брызг воды. Впереди – только бакены фарватера. К утру прибываем в Ейск, где нас встречает Петр Иванович и везет на телеге к себе домой.
Семья Громовых жила в приличном деревянном трехкомнатном доме. Я плохо помню расположение комнат, кроме кабинета Петра Ивановича, в который нам не разрешалось ходить. Но именно поэтому мы туда заходили, когда взрослых не было дома. Особенно меня интересовали стенографический отчет Нюрнбергского процесса и газеты 1945-46 годов, которые лежали внизу книжного шкафа. Мне газеты казались очень старинными. В принципе, в стране не поощрялось хранение старых газет, ведь оценки многого постоянно менялись, и власти не были заинтересованы в доступе людей к информации. Папа, например, не разрешал хранить газеты более чем месячной давности. Петр Иванович чувствовал себя принадлежащим к местной власти, ведь он был директором единственного в Ейске гражданского учебного заведения, русский, член горкома партии и т. д. Он мог себе позволить некоторые вольности. Вообще-то, он был человек очень «правильный», в отличие от тети Люси, которая хотя и была партийной, но всегда, как и моя мама, имела обо всем свое собственное мнение, не всегда совпадавшее с текущей линией партии.
Двор был не очень большой. Во дворе росло несколько фруктовых деревьев. В глубине двора саманный сарай. Саманные кирпичи делают, пардон, из коровьего дерьма, смешанного с глиной и соломой. Они дешевые, жесткие и прочные. Если у сарая хорошая крыша и кирпичи не заливаются водой, то такой сарай может стоять вечно. Внизу разместились лошадь, телега и корова. Наверху, над животными, был сеновал, на котором я спал с младшими детьми. Нэлла спала в доме, она уже почти взрослая, училась в седьмом, кажется, классе. Петя младше меня года на два-три, Славка младше еще на год, Юрка совсем маленький. Ему было три года. Если охарактеризовать каждого одним словом, то Петя был положительным. Не зря впоследствии Петр Петрович Громов унаследовал должность директора техникума. Славка был шебутной. Он доставил потом много переживаний и горя своим родителям. О Юрке еще нельзя было ничего сказать. Маленький и писается ночью. От наших постелей всегда шел незабываемый аромат.
Самым интересным во дворе был кроличий садок – огороженное сеткой пространство, в котором много кроличьих нор. В них проживала гигантская кроличья семья. Нашей обязанностью было искать по городу и во дворе траву и молодые ветки деревьев и кормить кроликов. Но за это нам разрешалось один раз в неделю ловить кроля и продавать его на базаре. На вырученные деньги мы могли всей гурьбой сходить в кино и купить мороженое. Вообще-то, у меня были и другие деньги. Уезжая, мама оставила тете Люсе 50 рублей, чтобы она выдавала мне еженедельно немного денег. После того как я освоился в городе, я гулял иногда по нему в одиночестве, имея деньги на развлечения или на книжки. Книг в магазинах было удивительно много.
Но главным нашим местом отдыха и приключений было море. Сначала нас отпускали на море только в сопровождении Флоры, но ей это не нравилось. У нее были другие развлечения. Потом мы стали ходить на море вчетвером, хотя иногда нам удавалось оставить Юрку дома. С ним было тяжелее, так как он быстро уставал, хныкал и был нам в тягость. Море прекрасное: мелкое, теплое. Берег усыпан ракушками и ракушечным песком. После шторма на берег выносит много водорослей, но их быстро убирают, по крайней мере, с городского пляжа.
Мы купались недалеко от морского порта, под защитой длинного мола. С этого же мола ловили рыбу. Обычно это были бычки. Если один ловил удочкой, то остальные бродили около мола и искали бычков между свай. Бычки немного колются, когда их вытаскиваешь, но мы не обращали на это внимание. Приятно принести домой полную ниску бычков, нанизанных на леску, и передать их тете Люсе на жарку. Они очень вкусные, если их крепко зажарить на подсолнечном или горчичном масле. Попадались нам и другие рыбы, но только эпизодически. Ловили и креветок марлей, но это приходилось делать украдкой, ранним утром. Кажется, их отлов не приветствовался. Они тоже вкусные.
Нужно сказать, что четыре мальчишеских рта постоянно требовали чего-нибудь съестного. Тете Люсе приходилось не сладко. У техникума было свое подсобное хозяйство, в котором студенты практиковались в различных видах работ. В подсобном хозяйстве – не только учебные поля, но и коровники, овчарни, свиноферма, курятники и так далее. Поэтому семья была обеспечена довольно дешевым продовольствием, продаваемым работникам техникума по себестоимости. Иначе прокормить столько ртов было бы невозможно. Не было только сахара. В те времена с сахаром для варенья на юге было всегда плохо. Но мы с мамой привозили с собой много сахара, чему тетя Люся была весьма рада. Ведь фрукты были или собственные, или почти ничего не стоили на базаре. Например, ведро алычи или жерделы (полудикие абрикосы) могло стоить 8 рублей (до 1960 года), то есть 80 копеек.
На следующий год, после пятого класса, мы поехали в Ейск поездом. Ехали опять вдвоем с мамой, так как она не решилась отпускать меня одного. Как и в предыдущий год, мама уехала через несколько дней, а я остался в Ейске на все лето. Громовы жили уже в собственном доме недалеко от моря. Теперь мы могли бегать на море по несколько раз в день. Кстати, они купили дом на деньги, вырученные за привезенную с Дальнего Востока картошку. Дом был кирпичный, но с деревянными полами. Помню, Петр Иванович всегда беспокоился, что в дереве заведутся жуки-точильщики. Вероятно, для этого у него были основания.
Во дворе росло несколько абрикосовых деревьев, не совсем абрикосы – жерделы, но тоже вкусные, и мы могли лакомиться ими, сколько могли съесть. В глубине сада наше любимое место – летняя кухня. Там мы кушали и спали, если шел дождь. Там же мы при свете керосиновой лампы читали вечером книжки или слушали рассказы тети Люси. Иногда и Флора рассказывала нам какие-нибудь страшные сказки. Юрка пугался, а мы, почти взрослые, посмеивались. В погожие дни спали на кроватях под деревьями.
Самым большим развлечением была поездка с Петром Ивановичем на лиманы реки Кубань. До сих пор помню названия лиманов: Горький, Сладкий, Кущеватый. Выезжала целая группа. Я не знаю, было ли это браконьерство или разрешенный лов, но мужики ловили рыбу неводом. Это действительно был не бредень, а широченный невод. После каждого захода рыбу складывали в мешки. И было этих мешков много.
Я ловил на удочку. Зашел по колено в воду и забрасывал поплавок с грузилом и крючком под камыши. Рыбы было очень много. Не хотелось каждый раз выходить на берег, и я складывал рыбу за пазуху. Но когда попадался большой сазанчик или линь, приходилось выходить и складывать улов в ведро. Улов был просто необыкновенный. Только на косе, на Волге, я ловил один раз столько рыбы, но там ловил на снасть с тридцатью крючками. А здесь – простая удочка. Вообще-то мне не следовало стоять столько времени в воде, так как меня в детстве тревожил ревматизм. Но устоять перед таким роскошным клёвом было невозможно.
Через неделю после рыбалки Петр Иванович сообщил мне, что он достал для меня путевку в пионерский лагерь на Черном море. Петя и Слава не могли поехать, так как были слишком маленькие. И вот мы с группой ребят едем в кузове грузовой машины в Краснодар и затем на поезде в лагерь. Лагерь был в Макопсе – это небольшой поселок на берегу моря, немного южнее станицы Лазаревской. Лагерь расположен выше железной дороги и поселка на небольшой горке в лесу. Для меня лагерные будни были уже привычным делом, но здесь нас все время манили море и лес.
Спрятаться на море в бухтах или убежать в лес можно было после обеда, удрав во время послеобеденного сна из палаты в окно. Это было чревато возможными наказаниями, но мы перед этим не останавливались. Главное было – вернуться назад к полднику, так как во время нашего сна вожатые занимались своими делами. В бухтах искали интересные камешки или крабов, плавали без окриков и напоминаний, что нужно выходить из воды и греться. В лесу тоже были свои прелести. Все мы насмотрелись к тому времени фильмов о Тарзане. И вот теперь могли вволю кататься на лианах, пытаться перепрыгивать на них с дерева на дерево. Или забираться в заросли орешника и набирать полные пазухи орехов. Убегали иногда и после полдника, если не было плановых мероприятий. Нас наказывали по-всякому, но домой не отсылали. А наказаний и нравоучений в этом возрасте мы уже не боялись.
Иногда отряды ходили организованно на пляж, но это было совсем не интересно. В воду входить и выходить по команде, никуда не разбегаться, не возиться. Мы же не заключенные, в конце концов. Возили нас и на экскурсии. Помню Самшитовую рощу, где нам показывали тысячелетние деревья: самшит, тис, еще что-то. Но это, как и все заорганизованное, было не так уж интересно. И все равно я вспоминаю этот лагерь тепло, и благодарен Петру Ивановичу за такой прекрасный отдых.
В 1954 году, после шестого класса мама отправила меня в Ставрополь к дяде Вяче. Теперь я ехал уже совсем один. Помню, как в дороге на станции купил курицу за 10 рублей, хотя мама, конечно, снабдила меня съестным на всю дорогу. Мне это показалось очень дешевым, да и захотелось почувствовать себя взрослым. Я спокойно закомпостировал свой билет на станции пересадки и с триумфом доехал самостоятельно до Ставрополя.
Вячеслав Дмитриевич был человек весьма своеобразный. Из-за того, что он когда-то побывал в плену, у него постоянно случались проблемы с устройством на работу. Он – дипломированный агроном, но злоупотреблял выпивкой и, в конце концов, перебрав разные места работы, вынужден был работать в лепрозории. Когда я спросил, не страшно ли это, Вячеслав Дмитриевич ответил, что лепра спирт не любит. Он всегда улыбался, особенно, если был «под мухой». Никогда не унывал. Набожная жена терпела все его художества, считая, что это ее крест. У них было большое несчастье – единственный ребенок был тяжело болен. Он не рос, практически не ходил. И они носили его до 18 лет на руках. То есть до самой смерти. Это было задолго до моего приезда.
Жили они очень бедно. Снимали одну комнату с пристроенной кухней. Было в Ставрополе не очень интересно. Из развлечений я помню только сидение на ветвях гигантского грецкого ореха и чтение Библии. Библия была издания Святейшего Синода со старой орфографией. Но к тому времени меня устаревшая орфография уже не смущала. Читал такие книжки легко, не замечая «ять», «еры», «аго» вместо «ого» и так далее. Тяжело, то есть нудно, было читать книги пророков Исайи, Иеремии и Иезекиля. Остальные книги Библии читались как хорошая историческая повесть. К тому времени я уже полюбил историю, прочитал много научно-популярных книг: все, что можно было найти по истории Греции и Рима. Но история Израиля была мне незнакома. К тому же я начинал отчасти воспринимать себя как еврея, вернее задумывался иногда на эту тему.
Другим развлечением были поездки на рыбалку с дядей Вячей. Он был прекрасный рассказчик и находил в любом деле, любой истории смешную сторону. Позднее я его видел только один раз, когда он приезжал к нам в Волгоград за какой-то покупкой. Это был постоянный крест папы. Многочисленным родственникам всегда нужно что-то из электротоваров или промтоваров. Ведь в стране всегда дефицит почти всего. А папа работал в торговле и, после маминого давления, уступал и «доставал» требуемое родственникам. Дядя Вяча приезжал позднее еще раз в Волгоград, но уже тогда, когда я там не жил. Мама, смущаясь и немного со смехом, рассказала, что как-то он уже семидесятилетним приехал в Волгоград с сорокалетней женщиной и просил маму приютить их на недельку. Мама с возмущением говорит: «Как я буду смотреть в глаза твоей жене». – Но дядя Вяча, как всегда, не смущаясь, попросил хотя бы ключ от дачи. Ключ мама дала.
Летом 1954 года папа получил, наконец, квартиру по лимиту армии, и мы переехали в Центральный район. Я думаю, что именно тогда окончилось мое детство.
Глава 2. Юность
Новый дом
Однажды папа повез нас смотреть наш строящийся дом. Он не знал номер квартиры, но в штабе корпуса ему твердо обещали двухкомнатную квартиру именно в этом доме. Дом был громадным, он занимал весь квартал на высоких берегах Волги и Царицы. По моим подсчетам там позднее проживало три тысячи человек. На самом деле это были застраиваемые одновременно семь домов с разными адресами. Четыре арки на три улицы и большой проем на Советскую улицу давали удобный выход в любую сторону. Все семь домов были шестиэтажными, но не во всех подъездах имелись лифты. В нашем подъезде лифт был, но нам он не был нужен, так как квартира – на втором этаже. Дома строили пленные немцы. Строили добротно, но дерево для полов, вероятно, было сырое, по крайней мере, усадочный ремонт пришлось делать через два года, а не через десять.
Второй раз мы поехали смотреть, когда папе сказали номер квартиры. Папа сказал, что сегодня мы только посмотрим квартиру. Документы он получит завтра, и мы сможем въехать в квартиру хоть через неделю. Квартира мне показалась даже меньше нашей на Клинской улице. Жилых комнат было две, одна из которых проходная. Но кухня маму порадовала. Просторная, светлая, оборудованная газовой плитой и большой раковиной для мытья посуды. Раздельные туалет и ванная, большая темная комната-кладовка, вместительная прихожая, широкий коридор. Мечта хозяйки. Сейчас это смешно, но в то время это казалось чудесным.
На следующий день папа получил ордер на вселение и еще раз осмотрел квартиру с мамой и бригадиром строителей из Военторга. Мелкие недоделки, действительно, устранили за неделю, и мы въехали со своими вещами в первую собственную квартиру. Потом, через два года, был «усадочный ремонт», когда перебирали полы и покрывали их защитным слоем (марля, пропитанная и покрытая шпатлевкой), чтобы полы были абсолютно гладкими; заново красили стены, чтобы их можно было мыть водой; сделали великолепные полки в кладовке, которые я через много лет разобрал и перевез в Перловку. В общем, мама осталась очень довольна. Метраж квартиры был маленький, около тридцати квадратных метров жилой площади, но большие подсобные помещения делали ее достаточно удобной. Такой квартиры у нее никогда не было. Не очень удобно, что большая комната была проходной, но в это время Натан почти все время жил в своей спецшколе, а меня вполне устраивал диван, на котором я спал в большой комнате. Все равно я всегда ложился спать последним. Папа обычно засыпал на стуле перед телевизором, когда он у нас появился, или над своей папкой с деловыми бумагами. Мама гнала его после этого в спальню, а сама продолжала свои бесконечные дела на кухне или читала очередную книгу.
Секции дома были шестиэтажные, и через шестой этаж можно было перейти в соседний подъезд. Я быстро познакомился с мальчиком, который жил в однокомнатной квартире на шестом этаже между подъездами. Мы учились в разных школах, но часто играли вместе, в нашей квартире или у него. Фамилию – Евплов помню, а имя забыл, кажется, Олег. Его отец работал в прокуратуре. К сожалению, через год его отца перевели в Саратов на повышение, и мы больше никогда не виделись.
Осенью я пошел в новую школу, которая была в 3 кварталах от нашего дома. Девятая средняя школа имени Ленина считалась, наряду с восьмой и пятидесятой, привилегированной. Ведь жители окрестных улиц принадлежали, по существу, к местной элите. В этой же школе позднее училась моя племянница, а позднее оба моих сына. Опять пришлось приживаться в классе, в котором ученики давно разбились на группы. Я так и не вошел за все четыре года ни в одну группу, хотя, конечно, не был и изгоем. Просто не было теплых отношений. И ученики были все немного старше меня. В седьмом классе я еще был пионером, и меня избрали в совет дружины. Не помню, что я там делал, вероятно, ничего. Ведь я еще продолжал ходить в шахматный кружок, добавилась и музыкальная школа. На первом же шахматном соревновании в школе я победил всех старшеклассников, и меня опять поставили на первую доску в команде школы. Так что каждый год мне приходилось участвовать в городских соревнованиях. Правда, больших успехов у меня не было, так как музыка отнимала много времени.
Один из учеников нашего класса – Николай Моргунов – жил в нашем дворе, но у меня не сложились с ним отношения, хотя и вражды не было. Он был малоразговорчивый, имел повышенное мнение о себе, но учился средненько. Зато входил в главную группу ребят, живших на Советской и Краснопитерской улицах, и был достаточно авторитетен в ней. Группу возглавлял парень из нашего класса Мавродиев, не помню его имени. Мавродиев писал стихи, «косил» под Маяковского, так как был действительно похож на него, и рано начал пить. Я помню, что раза два в старших классах мы собирались у него, и каждый раз это заканчивалось стихами, водкой и сомнениями относительно целей и ценности жизни. Его отец занимал крупный пост в городе, часто уезжал на казенную дачу, поэтому мы могли собираться в их квартире. Мавродиева я встречал после школы только на пляже, и не знаю подробностей его взрослой жизни. Кажется, он поступал в Механический институт. Коля Моргунов после школы поступил в Институт городского хозяйства, работал инженером в какой-то конторе и из-за несоответствия реалий жизни и ожиданий начал пить. Кстати, многие из наших учеников после школы пили по-настоящему, то есть так, что это мешало их карьере и семейной жизни. Но об этом позднее.
В соседнем доме, через улицу, так что я мог видеть его окна, жил еще один наш ученик – Валера Гринер; мы звали его всегда только по фамилии. Наверное, мы инстинктивно жались друг другу, так как он тоже был еврей. Небольшого роста, с ироническим взглядом на жизнь, он пытался компенсировать свои не слишком большие достижения в школьных предметах успехами в гимнастике. Но как гимнаст тоже высоко не поднялся. Мы часто гуляли с ним вечерами по улицам Волгограда (к тому времени его уже переименовали), особенно осенью во время дождей. Возможно, это было с его стороны что-то вроде проявлений мазохизма, а я просто гулял за компанию. После школы он пошел в военное училище, уехал позднее на Дальний Восток, и я потерял его из вида.
С остальными ребятами класса, может быть, за исключением маленького Толи Сорокина, я не контактировал.
Учился я довольно хорошо, то есть имел пятерки по всем предметам, кроме немецкого и русского языка. По русскому у меня не хватало грамотности. Обязательно умудрялся в диктантах, а позднее в сочинениях, сделать одну-две ошибки. С немецким языком было сложнее. Я его просто плохо знал, не более чем на тройку. Когда в девятом классе нужно было получать оценку в аттестат зрелости, мама всполошилась и договорилась с нашей учительницей немецкого языка, что та даст мне несколько дополнительных уроков. Наша старенькая немка была действительно немкой (с русской фамилией Матвеева) и имела очень чистое произношение. Я ходил к ней домой на уроки четыре-пять раз и, к моему удивлению, результат был потрясающий – я начал говорить, что раньше было абсолютно невозможно. Наверное, преодолел какой-то психологический барьер. В результате, я получил по немецкому языку в аттестат пятерку. И это была не натянутая, а заслуженная пятерка. Школьных навыков мне хватило, когда два раза в жизни пришлось по обстоятельствам взять на себя функции переводчика. Немецкие газеты я тоже мог читать (правда, не всегда был уверен в правильности интерпретации прочитанного), и даже на слух различал берлинский и швабский выговоры.
Не могу сказать, что у меня были любимые предметы. Я одинаково относился к физике, математике, химии и истории. По физике (Ульянова Елена Ивановна) и химии (Елхова Дина Ивановна) были очень сильные учителя, и я попеременно ходил на физический и химический кружки. По математике была молодая учительница (Шибалкова В. Г.), вечно краснеющая, боящаяся потерять авторитет. А ученики всегда в таких случаях беспощадны. Это очень мешало. Да и читал я учебники по математике всегда с опережением, так что мне было не интересно на уроках. Тем более что всегда получал только «отлично», заканчивал контрольные задания задолго до конца отведенного времени. Наша учительница литературы (Кушнарева Жанна Эммануиловна) была очень интересной женщиной. Интересной во всех смыслах. Прекрасно знала свой предмет, всегда была хорошо одета, красивая, хотя нам она в ее тридцать восемь (примерно) лет, казалось уже староватой. Но улыбка у нее была молодая, и поддеть она могла любого из наших остроумцев. К сожалению, литература меня тогда не привлекала.
С историей была другая проблема, по-видимому, имеющая такие же корни, как и по математике. Я всегда знал проходимый материал более глубоко, чем нам его давали в школе. Прочитал все доступные книги по истории Древнего мира, Средневековья и истории России. Поэтому было просто неинтересно. Всегда имел только пятерки, но однажды отличился. Я не очень внимателен на уроках, особенно, если не интересно. Шел урок по истории Древнего Рима. Я, как всегда, читал под партой какую-то книгу, не обращая внимания на ответы учеников. Разозленный преподаватель (не помню его фамилию), обычно очень хорошо относившийся ко мне, вызвал и потребовал, чтобы я указал отличия рабов. Я что-то ответил, но это не удовлетворило препода. Он с ехидством ответил, что я пропустил шерстяной колпак, который должны носить рабы, и с удовольствием громогласно объявил, что ставит мне двойку. Бедный преподаватель (кстати, еврей) вынужден был потом пять раз вызывать меня к доске и ставить пятерки, чтобы в четверти появилась хорошая оценка.
У меня плохое зрение, поэтому я всегда сидел на первых партах, иногда непосредственно перед учителем. Но это не мешало мне читать книги прямо на уроках. Один раз, получив в седьмом классе «Гиперболоид инженера Гарина», читал его четыре урока подряд прямо перед носом всех учителей. И они постеснялись одернуть меня. Правда, пару раз вызывали к доске, чтобы отвлечь от книги.
Я немного рассказал о мальчиках нашего класса. Но девочки вполне заслуживают хотя бы краткого упоминания. В классе были две-три девочки, которых мы считали красивыми: Бованенко Эмма – блондинка с голубыми глазами и вечно задумчивым взглядом; Камышинцева Вера – высокая, уверенная в себе брюнетка с длинными волосами; может быть, к ним можно добавить подружку Эммы – Тараненко Галю. Если бы не приоткрытый часто рот и редковатые волосы, эта хрупкая, стройная девочка с красивыми глазами, могла бы быть украшением класса. Эмма благополучно вышла замуж, я ее видел лет через 5 после окончания школы молодой мамой с двумя красивыми детьми. Галя училась со мной в музыкальной школе, потом окончила музыкальное училище, преподавала в музыкальной школе, долго оставалась незамужней. По крайней мере, через десять лет после окончания школы она была еще не замужем.
[Уже после первого издания книги я с великим трудом нашел ее координаты, дозвонился. Выяснил, что она замужем, имеет детей и внуков. Хотел рассказать, что в одной из книг ввел ее как прототип главной героини. Но разговор так и не получился.]
Мне нравилась Вера Камышинцева. Но взаимностью я не пользовался. Она остановила свой выбор на высоком крепком блондине Гене Голубкове. Кстати, оба они были детьми старших офицеров и позднее женились. Голубков учился слабо, не имел шансов поступить в институт, окончил военное училище и пошел в армию. Последний раз я слышал о нем, что после демобилизации он вернулся в Волгоград из Германской Группы войск в чине полковника.
С Верой Камышинцевой у меня связан случай, который мог окончиться печально. Однажды, где-то в восьмом или девятом классе, я долго ждал ее у выхода из Театра Музыкальной Комедии. Был февраль, ужасный холод, я промерз и заболел. После выздоровления мама обнаружила у меня затвердение под подбородком, воспаление какой-то железки. Мама испугалась, я ведь был слабого здоровья, и мама всегда боялась, что заболею туберкулезом. Меня потащили по врачам, что-то прогревали, делали какие-то процедуры. К счастью, все окончилось благополучно.
В классе были две отличницы. Безусловным лидером была Маша Авдеева. Плотная (но не толстая), симпатичная, с красивыми глазами, очень добрая, по крайней мере, никогда не отказывала ребятам и девочкам списать что-то из ее тетради. Она всегда была в руководстве класса: председатель совета отряда, комсорг, староста класса; всегда при должности и всегда безропотно переносила трудности и ответственность. Все преподаватели любили эту прилежную девушку, она заслуженно получила единственную в нашем классе золотую медаль. Второй отличницей была её подруга по фамилии Чекмарева. Я думаю, что склонной к компромиссам Авдеевой и властной Чекмаревой было удобно в тандеме. По большому счету Чекмарева была не очень красивой, и даже, может быть, совсем не привлекательной. Чрезмерно высокая, полноватая, бесцеремонно высказывающая свое мнение резким командирским голосом, она не пользовалась симпатией мальчиков и, вероятно, комплексовала из-за этого. Она получила, как и я, серебряную медаль. О ее судьбе я ничего не слышал.
Была еще одна девушка, пришедшая к нам в девятом, кажется, классе. К сожалению, я вспомнил ее фамилию – Гонтарева Лена, – только посмотрев выпускную фотографию нашего 10б класса. Она симпатизировала мне, по крайней мере, я часто ловил ее взгляд на себе. На школьных праздничных вечерах танцев, при объявлении дамского танца, она обычно приглашала меня танцевать. Помню, что у нее было неудачное замужество, муж оставил ее с ребенком. Впрочем, это обыкновенная история.
Кстати, сейчас, когда я посмотрел фотографию нашего класса с уровня своих почти семидесяти двух лет, все девочки показались мне красивыми. Да и ребята неплохо выглядят. И преподаватели, кроме директора, не кажутся старыми.
[Да, когда-то мне было всего лишь 72 года… ]
Вне школы
Мама всегда хотела, чтобы кто-то из детей был причастен к искусству, музыке. Детство Натана пришлось на времена, когда было не до музыки. А тут музыкальная школа была рядом, и я оказался под рукой, так что почти одновременно с переходом в 9-ю школу меня туда определили. На класс фортепиано или скрипки отдавать было поздно, таких переростков туда не брали, так как учиться нужно семь лет. Меня записали по классу баяна. Там нужно было учиться пять лет, но мама пообещала за меня, что я за год пройду два класса. В школе было два класса баяна, я попал к учительнице, не помню, как ее звали. И начались мои мучения.
Музыкальная школа находилась в бывшем доме первого секретаря обкома партии, стоявшем отдельно почти над берегом Волги, в двух шагах от нашего дома. Но туда я ходил только на занятия по сольфеджио и фортепиано и на хор. Нас, баянистов, естественно, учили музыкальной грамоте и азам игры на фортепиано. Мама даже заставила отца «достать пианино», тогда все приходилось «доставать». Помещений в школе не хватало, и занятия по специальности проходили первые два года в квартире учительницы (не помню, как ее звали). Я не понимаю, как соседи учительницы могли выдержать ежедневно наши упражнения, ведь она жила в коммунальной квартире, занимая с ребенком одну комнату.
[Кстати, прочитал теперь этот абзац и вспомнил самую первую мелодию, которую пришлось репетировать в самом начале обучений. В старом сборнике нот она была указана, как народная, обработанная Римским-Корсаковым. «Как за речкою да за Дарьею злы татарове дуван дуванили».
Это удивительно: прошло семьдесят лет, но я сразу же напел ее. Когда учил эту мелодию, не задумывался о смысле слов песни. Но песня, вернее ее слова «дуван», «дуванили» вспомнилась мне лет тридцать тому назад, когда всерьез начал изучать историю, культуру и методы управления арабским халифатом. Ясно, что «дуван» – это исковерканное арабское или даже персидское слово «диван», означающее правительственный орган управления, перешедшее в таком виде в русский язык. Но, когда? Слово «диван» вошло в русский язык из французского, вероятно в XVIII веке. Здесь же по контексту можно понять, что речь идет о XIII–XIV веках. Под «дуван дуванили» имеется в виду заседание каких-то вождей войска, определяющих будущие действия. Кстати, «речка Дарья» – это тавтология, в ряде восточных языков Дарья – это означает «река», иногда – «море». Возможно, это, действительно, очень древний текст и мелодия.]
Я с трудом, но сдал за год экзамены за первый и второй классы. Ведь нужно было не только набрать соответствующий уровень исполнения произведений второго класса, но и сдать что-то по сольфеджио. Фортепиано выполнил с трудом на тройку, но по хору был отличником. По сольфеджио и специальности получил за второй класс четверки, но, по-моему, это была в основном заслуга моей мамы, которая активно вошла в родительский комитет школы.
Кстати, голос у меня действительно был, мне даже пришлось несколько раз выступать по Волгоградскому радио с патриотическими песнями. Одну из них – северокорейскую 1951 года – я до сих пор иногда пою, если «под мухой» и слушатели раньше не слышали ее в моем исполнении. Фурор всегда обеспечен. Никто никогда не слышал подобной мелодии, а слова про Ким Ир Сена просто исключительные.
В принципе, я через Волгу кричать мог, ну, по крайней мере, до косы, которая посреди Волги, меня было слышно. Но, на мой взгляд, слух не был хорошим. Это сейчас, вероятно, без абсолютного слуха можно выступать. Тогда это было невозможно. Правда, в 1958 году на выпускном вечере в музыкальной школе директриса музыкального училища на полном серьезе предлагала мне поступить на хоро-дирижерское отделение училища. Но я к тому времени уже понимал, что такое быть «лабухом». Уже был печальный опыт.
В 1957 году летом во время каникул мне позвонили домой из музыкальной школы и попросили зайти в школу. В это время она уже размещалась в бывшем Доме пионеров, тоже рядом с нашим домом. Оказывается, один из ансамблей баянистов (из города Урюпинск или из Михайловки, не помню точно) должен был выступать в Саратове на кустовом смотре самодеятельности в рамках Всемирного фестиваля молодежи 1957 года в Москве. Контрабасист заболел (белая горячка), и нужно было его кем-то заменить. «Виноватым» назначили меня. У нашей преподавательницы я был самый подготовленный, а выпускник второго преподавателя должен был готовиться в институт. Я был в ужасе: произведения почти классические, партии контрабаса не знаю, никогда не исполнял эти произведения ни в каком варианте. Да и вообще, в жизни не видел баян-контрабас. А до выступления два или три дня. Но мама меня уговорила. Папа посмеялся, но возражать не стал.
И вот я в первый раз в жизни командирован. Получил билет, командировочные деньги (сорок рублей, по десять рублей в день), мне показали баян-контрабас, и мы едем на пароходе в Саратов. Контрабас – это очень большой баян с клавиатурой только на правой стороне. Все баяны в ансамбле от малюсенького «пиколло» до моего контрабаса правосторонние. Партии действительно простые, но играть только правой рукой было непривычно, все время казалось, что чего-то не хватает. Благо, пароход медленно шлепает колесами, и есть время разучить партии. Вечером устроили первую общую репетицию, играл еще неуверенно, но мужики одобрили. А потом они сели пить вино, пригласили и меня. Неудобно отказываться, тем более что я вроде уже и не маленький. После этого они отправились спать, а я вышел на палубу. На палубе познакомился с девчонкой примерно моего возраста и просидел с ней, и пробегал по палубам полночи. Было интересно, так как это мое первое неожиданное знакомство с особой другого пола.
Поддавали мужики и на следующий день, пока мы подползали к Саратову. В гостинице, где нас разместили в двух комнатах, мы устроили еще одну репетицию. Полный репертуар. На мой взгляд, звучало неплохо. Но я не задумывался тогда, что наш репертуар: «Мазурка» Венявского, «Танец с саблями» из балета Хачатуряна «Гайянэ» и его же вальс к драме Лермонтова «Маскарад» – совершенно не годились для этого выступления. Нужно было бы что-то русское народное или хотя бы псевдонародное. Но что есть, то есть. Разучивать новое поздно, на следующий день нужно было выступать.
Выступили, получили свою долю аплодисментов, вероятно, за необычность ансамбля, и на этом для нас все кончилось. Мария Петровна Максакова – глава жюри – сказала нам в кулуарах несколько теплых слов, но подчеркнула, что репертуар непроходной. Так и оказалось. На следующий день мы не стали слушать выступления других конкурсантов и отправились гулять по городу. Конкурс проходил в Оперном театре, это в центре города. Центр Саратовапоказался мне несколько устаревшим, провинциальным. Невысокие двух-трехэтажные дома, часто кирпичные. Конечно, я сравнивал с Волгоградом, центр которого построен заново, и не понимал прелести застройки девятнадцатого века. Но девушки по улицам ходили очень красивые, по крайней мере, мне так казалось. Вероятно, сказывалась близость университета. Это было главным воспоминанием. Позднее я всегда говорил, что самые красивые девушки России – в Саратове.
Возвращение было нудным и неинтересным, мужики пили, мне было скучно. Именно поэтому я решил, что никогда не буду музыкантом. Действительно, после того как я на следующий год окончил музыкальную школу и получил диплом и право преподавания, я, кажется, ни разу не брал баян в руки. Он пролежал у нас много лет, и я как-то подарил его, не помню кому. Но мамина цель, в каком-то смысле, была осуществлена: я познакомился с миром большой музыки, знал практически все звучавшие в Советском Союзе оперы и оперетты, ценил хорошее исполнение. Ну, и, конечно, имел представление обо всех известных европейских композиторах. Кстати, я много пел для себя, когда дома никого не было. Мне нравились сложные в исполнении баритональные песни, но на людях петь стеснялся, не считая обязательного пения в хоре 9-й школы, где мне приходилось солировать в некоторых песнях. Позднее, после серьезной потери слуха, новые песни я уже почти не разучивал, за исключением студенческого времени. Да и голос без тренировки стал быстро «садиться». Теперь я музыку практически не слушаю.
Я никогда, если не говорить о раннем детстве, не рисовал. Не было у меня связи между зрительным образом и движением руки. Любые попытки что-то нарисовать приводили к появлению каких-то уродцев. Возможно, мои проблемы в чистописании тоже были связаны с этим. Притом текст, написанный латиницей, выглядел у меня немного лучше, чем кириллицей. Возможно, потому что писать латинскими буквами начал значительно позже. Арабские тексты тоже пишутся лучше.
[В моих нумизматических книгах и статьях приходится приводить многие арабские текcты.]
Но современный иврит не получается, пишу безобразно. Смешно, но наиболее похожими на образцы были тексты, написанные вавилонской клинописью ради любопытства где-то в шестом или седьмом классе. Возможно, это особенности материала – глина и треугольная палочка, которыми я при этом пользовался, не позволяли писать как-то по-другому. А может быть, я просто забыл, что и глиняные таблички с вавилонскими текстами были корявые. Кстати, глину для табличек приходилось искать в обрывах реки Царицы. Там выступают на поверхность пласты очень чистой древней глины. Обычная глина для этого не годится – трескается при обжиге.
Первые впечатления о живописи (если забыть о гравюрах Гюстава Доре) я получил, когда купил в 1955 году прекрасный альбом картин Дрезденской галереи. Альбом только что вышел тогда в связи с возвращением картин в ГДР. До этого реалистическая живопись России конца девятнадцатого века и советская живопись оставляли меня равнодушным. Картинка, почти как фотография. Несколько позднее, уже в конце девятого или в десятом классе, я купил толстенный немецкий фолиант с экскурсом в живопись, скульптуру и архитектуру. В то время я уже более или менее освоил немецкий язык и смог прочитать его практически полностью, отбросив только двадцатый век. Как ни странно, все эти стили, направления, художественные школы не перемешались тогда в моей голове. Серьезный интерес к живописи, особенно к графике двадцатого века, пришел значительно позже, уже в Новосибирском университете.
Со спортом мне не очень везло. Я не говорю о шахматах, их с трудом можно назвать спортом. В школе культивировался баскетбол, но у меня плохо получались передачи. Да и бросал я плохо, так как играть нужно без очков, а без них я видел весьма посредственно. С волейболом у меня тоже не получилось. После того как в третий раз во время игры от удара появилась трещина на пальце, врач запретил мне волейбол, хотя в пляжный волейбол я продолжал играть – там удары значительно слабее. А вот велосипед мне подходил полностью. Летом мы гоняли на велосипеде часами. Любимый маршрут был вдоль Волгограда от центра до Волжской ГЭС и назад, а это километров 30–35.
Плавать научил Натан, и весьма своеобразно. Ему надоело смотреть, как я барахтаюсь у берега, да и боялся он отплывать от меня далеко, вдруг меня подхватит течение, и я утону. Однажды он оттащил меня от берега на четыре метра (а берег на правом берегу Волги крутой) и бросил, сказав: «Сам плыви».
Я забарахтался, бил со всех сил руками и ногами по воде и с трудом проплыл три метра до места, где уже можно было стоять ногами на дне. Минут через десять я переборол страх и снова поплыл, но уже вдоль берега. Проплыл метров десять по быстрому течению, стараясь не удаляться от берега, и снова выскочил обессиленный на берег. Потом учился плавать на левом берегу Волги, на Бокалде. Там хоть течение и сильное, но берег пологий, и утонуть труднее. Не скажу, что хорошо плаваю, но держаться на воде и даже отдыхать могу.
Я уже писал, что первым моим увлечением были марки. После того как приобрел у Натана его коллекцию марок, большую часть своих денег я тратил на покупку марок. Тогда мы не знали о существовании кляссеров, даже простейшие альбомы были в диковинку. Клеили марки в обычные тетрадки. Клеили бессистемно, в лучшем случае по темам, как они нам представлялись. Проблемой было – как клеить. Помню, что у Натана марки были наклеены разжеванным мякишем черного хлеба. Я сначала клеил гашеные марки на наклейки, смоченные разведенным мучным клейстером. Если удавалось найти марки с полями, поля обрывались, и их использовали как наклейки. Некоторые в то время клеили канцелярским клеем, в результате марки выцветали, теряли часть цветов, и позднее такой материал весь выбрасывали. В Сталинграде отец, увидев мои старания, вытащил откуда-то потрепанный трофейный старинный альбом с наклеенными марками. Там были в основном иностранные марки – так называемый немецкий «юношеский» альбом, в котором напечатаны изображения наиболее простых марок всего света до 1932, кажется, года. В такой альбом коллекционеру остается только клеить на подходящее место свои марки. Я глядел на прекрасные цветные марки Чили, Сальвадора и тем более французских колоний, и мне казалось, что я сам побывал там. Сейчас я понимаю, что это были самые простые, самые дешевые марки, но это сейчас. Тогда это казалось мне сокровищем.
Во время второй поездки в Ейск мы, копая у тети Люси огород, нашли позеленевшую медную царскую монету – две копейки 1912 года. С этой грубо пробитой посредине монеты началась моя главная коллекция. В младших классах мне удавалось выменять, или выпросить у знакомых, какие-то случайные монеты. В старших классах мне еженедельно выдавались деньги на завтраки, часть из которых удавалось сэкономить. Это расширило мои возможности: за рубль, а иногда и дешевле можно было купить обычные монеты, а за 10 рублей – царский рубль или даже талер. Однажды я купил у мальчика из соседнего класса за 10 рублей целую небольшую коллекцию – 13 монет, среди которых была медалька, посвященная каким-то событиям, связанным с Наполеоном. Я думал о Наполеоне Бонапарте, но, вероятно, это был Наполеон III.
В старших классах мне неожиданно помог папа. В день моего рождения, после совместного с папой просмотра моих монет, из шкатулки были вытащены несколько больших имперских немецких серебряных монет в 2, 3 и даже 5 немецких марок, в том числе не только Пруссии, но и Саксонии и Баварии. Я был на седьмом небе от счастья.
В те времена у коллекционеров не было клуба, какого-то помещения. Органы управления относились к коллекционерам с опаской, мол, черт их знает, что они там делают. И вообще, почему они без общественного контроля. Поэтому коллекционерам, в отличие от более позднего времени, приходилось встречаться на улице. В школе коллекционирование, особенно в старших классах, не занимало у меня много времени. Особенно после одного случая, надолго оказавшего на меня влияние. Однажды знакомый мальчик из соседней школы привел ко мне домой мальчишку, года на два-три младше нас. Тот показал золотую монету Николая II (кажется, 5 рублей), и предложил обменять ее на интересные для него марки. Он порылся в моем альбоме, отобрал десятка два красивых марок Южной Америки и французских колоний и был доволен обменом. Мне тоже обмен показался интересным. Мы оба понимали, сколько стоят в нашей среде марки, но не знали, сколько может стоить такая монета.
Через пару дней меня вызывает с уроков отец, приводит домой и спрашивает, что за монету я выменял у мальчишки. Оказывается, этот малыш стащил несколько золотых монет у ювелира, с сыном которого был знаком, и разменял их с коллекционерами на марки. Отец привел меня с монетой в милицию к следователю, который вел дело, и там мне сказали немало крепких слов. Так как все участники обменов были несовершеннолетние, то отделались нравоучениями. Тем более что удалось собрать все украденные монеты. Обидно только было, что все марки остались у воришки. О них взрослые забыли. После этого у меня на много лет было стойкое неприятие коллекционирования золотых монет. Я их просто сторонился.
Коллекционирование продолжалось в университете, но значительно большее место в моей жизни оно приобрело после 35 лет. Об этом позднее.
В старших классах все интересы сместились в другую сторону. Вечерами мы старались под всяким предлогом улизнуть из дома и бродить по вечернему Волгограду. В это время я сблизился с Валерой Сергеевым из класса «А». Валера жил в соседнем доме нашего квартала, через два подъезда от меня. Отец Валеры был профессором в Институте сельского хозяйства, в свое время участвовал в битвах травопольщиков и их врагов. Не помню, на чьей стороне. У него было много учеников, как в Волгограде, так и в Москве, в Волгограде он был очень влиятелен. Семья была дружная и успешная. Старшая сестра Валеры, доцент того же института, с мужем – солидным мужчиной – и двумя детьми жила отдельно. Средний брат жил еще с родителями, в отдельной комнате, тоже был женат и работал над диссертацией. Валера рос самым младшим и довольно избалованным ребенком. У него в квартире практически было две комнаты, так как гостиной, из которой был вход в его комнату, никто не пользовался за исключением дней, когда семья собиралась на какой-нибудь праздник. Родители жили в зале, из которого шла дверь на застекленный балкон, являвшийся рабочим кабинетом отца семейства. В квартире жила ещё одна женщина, домработница или дальняя родственница, у нее была отдельная каморка без окон.
Я стал часто бывать у Валеры, так как у него были хорошие пластинки, и, вообще, было очень удобно, что никто не мешает, никто не стоит над душой. Сделав домашние задания, мы обычно гуляли по набережной и центральным улицам. Очень часто собирались вчетвером: Валера, я, Гарри и Боб. Гарри (Игорь Круглов) был из класса Валеры, всегда молчаливый, был не против насчет подраться с чужими парнями. Боб был на два года младше нас, как он привязался к нам, я не помню, но без него нам было бы скучно. Всегда оживленный, рассказывающий кучу анекдотов, он хоть и выглядел среди нас существенно младшим, но мы к нему относились по-дружески.
Прогулки по набережной всегда проходили без приключений, это наша территория. Но вылазки на улицу Мира могли окончиться стычкой или хотя бы препирательством с парнями из восьмой школы, для которых улица Мира была удельным владением. Нейтральной была Аллея Героев, тянущаяся от набережной через небольшой садик до центральной площади. Цель прогулок заключалась в рассматривании проходящих девушек, так как на эти три территории стекалась молодежь со всего города. Ходили и на танцплощадку в Городской сад, но туда нужно было идти большой компанией, так как там бывала молодежь постарше и много ребят с окраинных районов – легко было нарваться на неприятности, особенно, если придешь с девушкой.
Зимой главным развлечением был каток. Лыжи у нас практически не культивировались, но на коньках катались все. Собственно, сезон катанья начинался довольно поздно, только в середине января устанавливалась устойчивая холодная погода и держалась до начала марта. Поэтому это время мы использовали полностью. Каток заливали в Городском саду. Если я правильно помню, все аллеи сада превращались в ледовые дорожки, но все равно народу везде было много.
Артек
Попасть в Артек мне помог случай. В принципе, по общим показателям: оценки, общественная активность, возраст я мог претендовать на путевку в Артек. Таких потенциальных претендентов, конечно, было очень много в любом городе. Но не у каждого соседка по лестничной клетке работает в гороно, или как там называлось подобное учреждение в то время. В нашем подъезде такая соседка была. И я, вероятно, производил на эту даму средних лет хорошее впечатление. По крайней мере, она сказала моей маме, что меня нужно бы отправить в Артек, поправить здоровье. Маме врачи всегда говорили, что у меня не слишком хорошее здоровье и мне полезно летом отдыхать на море. Поэтому за подобную идею она ухватилась мгновенно и начала оформлять соответствующие справки. Возможно, что в этом участвовал и отец. Школа не возражала, гороно помогло.
В результате в июне 1955 года я с еще двумя детьми и с сопровождающей девушкой ехал на поезде в Крым. Сопровождающая сдала нас в Симферополе представителю Артека, и мы в тот же день в битком набитом галдящими детьми автобусе едем по не слишком хорошему шоссе на южный берег Крыма. Я написал, что это было шоссе, но это чрезмерное преувеличение. Если в степи дорога была обычной для России того времени, то в горах она была ужасной. Ямы, колдобины и, главное, ужасные крутые повороты через каждые полсотни метров. Не очень страшно, когда поворот в глубине лощины. Но когда ревущий автобус выскакивал на поворот на крутом склоне горы и разворачивался на сто восемьдесят градусов прямо над пропастью, сердце замирало. В автобусе мгновенно устанавливалась тишина. А таких поворотов тогда было бесчисленное множество. Позднее, в 1961 году, я ехал по этой же дороге, и она была вполне приличной. Большинство поворотов были спрямлены, появились новые мосты, асфальт – великолепный. А в семидесятые годы мы с семьей ездили по этой дороге до Ялты на современном троллейбусе. Но все это было потом.
В то время Артек состоял из четырех отдельных лагерей. Первый, самый старый лагерь, находился прямо у горы Аюдаг. Наш – второй лагерь – занимал бывшую дачу Молотова Суук-су. Был еще Горный лагерь и Морской. В Горном я не был ни разу, только проходил мимо пару раз, когда мы убегали в горы. В Морской и Первый нас водили по одному разу на мероприятия.
Отряды нашего лагеря размещались в трех домах. Один из них был двухэтажный. Кроме того, была столовая, помещение для мероприятий и небольшой медицинский уголок. В двухэтажном доме располагался (кроме других) старший первый отряд. Нам ребята и девушки этого отряда казались очень большими. Кстати, в первом отряде были четыре француза. Два сына Мориса Тореза (Жан и Поль, если я правильно помню) и сын и дочь одного французского писателя-коммуниста. Кажется, Андре Стиля.
Любимое место игры было на большой скале над морем. Она называлась то ли Партизанская, то ли Пограничная горка, не помню точно. С горки был прекрасный вид на море и на ближние острова Одолары (близнецы). На самом деле это не острова, а почти одинаковые скалы, высовывающиеся из относительного мелководья. Когда-то они были совершенно одинаковые, но один из островов во время войны взорвали, и он потерял исходную форму. Мы на него высаживались один раз с лодок. Видно, что его до войны посещали, так как на острове был удобный причал для лодок. Возможно, на этом острове был склад боеприпасов, который и был взорван.
Море, купание и походы на лодках – самое приятное из нашего двухмесячного пребывания в Артеке. Купаться нам разрешали изредка, обычно после завтрака и если на море нет волнения. Пляжик небольшой, каменистый. В воде разрешали быть минут пять-десять. Не больше двух раз за один поход на пляж. Естественно, что за буйки заплывать не разрешалось. А они от берега метрах в десяти. Из воды выгоняли угрозами, что не разрешат купаться в следующий раз. Но все равно нам это очень нравилось.
Наш отряд был вторым, но дети по возрасту довольно разные. Я был примерно в середине по возрасту и комплекции. Мне удалось попасть в один из экипажей шлюпки. В нашем отряде и в первом было по два экипажа. Младшие отряды к шлюпкам не подпускали. Собственно, это были не шлюпки, а шестивесельные ялики. Экипаж состоял из шести гребцов, рулевого и носового, обязанностью которого было глядеть вперед, чтобы не напороться на скалу. Обычно мы выходили в море после полдника и успевали обойти побережье на восток или на запад от лагеря. Однажды нашли бухту с пещерой, в которой снимался фильм: кажется, про капитана Немо. Не помню точно, так как в Крыму есть две такие пещеры. Вторая – Львиная бухта рядом с Коктебелем. Там тоже снимался фильм. На запад мы проходили Морской лагерь и доходили до Гурзуфа, но там на берег не высаживались. На восток – проходили Первый лагерь и подходили прямо к Аюдагу.
Устраивались соревнования на скорость. Но первый отряд имел очень сильный экипаж, и нам не удавалось его обходить. Поэтому на лодочных соревнованиях в Морском лагере выступал экипаж первого отряда. Обычно мы ходили в тихую погоду, но однажды налетел сильный шквал с дождем, и нам пришлось укрыться в ближайшей бухте. Было немного страшно и интересно.
Аюдаг (Медведь-гора) все время манил нас, и однажды нам объявили о походе на его вершину. Прошли пешком до подножья Аюдага, обогнув Первый лагерь, потом начался долгий подъем на вершину. Почти все время шли по лесной тропинке, но в одном месте пришлось пересекать большую каменную осыпь. Здесь нас заставили двигаться с большими промежутками между людьми. Мы все держались за веревку, передний и задний конец которой держали вожатые. Из-под ног все время сыпались и катились вниз по склону камни. Приходилось ступать осторожно, чтобы не покатиться вместе с ними. После осыпи начался второй, длинный, но пологий подъем и мы вышли на середину Аюдага, это не самая высокая его часть. Он похож на медведя, у которого зад задран вверх, а голова опущена в море. Мы остановились на спине. Вокруг великолепные высокие деревья. Много тени. Говорят, что во время войны на Аюдаге прятались партизаны. Немцы пытались их бомбить, но безуспешно. Разожгли на поляне костры, мигом съели все, что принесли. Немного отдохнули и отправились по той же тропинке назад. Вожатые боялись, что до захода солнца не успеем пройти каменистую осыпь. Но все обошлось благополучно.
Поездка на автобусе в Морской лагерь почему-то почти на запомнилась. Заезжали в Гурзуф, там ничего интересного. Посидели на трибунах и понаблюдали, как соревнуются ялики. Покричали, поддерживая свой экипаж, который, конечно, проиграл «морским». Вот и все.
Больше запомнился большой слет всех лагерей в Первом лагере. Приезжал Молотов в окружении охраны и еще кто-то из правительства. Мы орали, пели довоенные артековские песни, благодарили партию и лично Вячеслава Михайловича. Маленький полный Молотов нас разочаровал, но никто не подшучивал над ним. Не те были времена, чтобы смеяться над «благодетелем» Артека.
Были еще редкие групповые вылазки из лагеря – уходить поодиночке мы боялись. Обычно сбегали после полдника, если не было больших мероприятий. Горы вокруг лагеря резко отличались от Аюдага. Низенькие деревья, много кустов дрока испанского. Я впервые увидел его там и удивился, когда увидел позднее в Израиле. Лысые склоны, на которых когда-то были виноградники. Кое-где они сохранились, но представляли собой печальное зрелище. Все время сильно печет солнце, и очень хочется пить. В прежнем татарском ауле живут русские, но все сохранилось, как было до войны: глиняные заборы; отсутствие деревьев, кустов или травы; пыльные каменистые улочки между заборами. Сплошная унылость.
Состав детей в отряде был полярный. С одной стороны, дети благополучных и даже влиятельных в своем городе людей, с другой стороны – отличники из детских домов. В действительности, мы не делились по происхождению, играли всегда вместе, но так оказалось, что детдомовцы были более приспособлены к переменам, и вообще выглядели более взрослыми по сравнению с нами. И в отношениях с девочками более активны. Особенно запомнился парень из Мозыря (или Гомеля?), мой сверстник, но очень сексуально активный. У него все время были какие-то отношения с девочками из нашего отряда, иногда он даже хвастался своими победами (вероятно, вымышленными). Он же нас учил заниматься онанизмом, демонстрируя всем в палате во время послеобеденного сна свои достоинства. Вообще, ребят из Белоруссии было в нашем отряде много. Одна девушка была из Новосибирска.
За два месяца мы выросли, сильно прибавили в весе. Нас взвешивали и измеряли рост при поступлении и перед отъездом. Я вырос на 13 сантиметров. Ноги торчали из брюк, брюки явно были малы. Уезжали с неохотой. Нам было очень хорошо в лагере и не хотелось расставаться. Записывали адреса (и потом действительно в течение года переписывались). Мы, сталинградские, ехали поездом с пересадкой. Кажется, в Мелитополе. Я помню, настроение было очень плохое, мы лежали на вокзале ночью на полу; я много раз ставил на патефон (откуда он у нас был?) одну и ту же пластинку с песней «Спят курганы темные»; надоел всем, но так как был старшим, то малыши не осмеливались возражать. Но приехал в Сталинград (или он уже был Волгоград?), увидел маму с папой, и настроение сразу же изменилось. Мама ахнула, когда увидела, как я вырос.
Национальный вопрос
В раннем детстве национальный вопрос меня не интересовал. Я знал, что мама русская, а папа еврей. Но это меня никак не затрагивало. В семье это не обсуждалось, Домашним языком был русский, так как папа, хоть и учился в хедере, но идиш не знал. Вернее, помнил пару выражений. Типа «Киш мих ин тухес» или «А зухен вей», если я правильно помню то, что он иногда говорил, когда речь заходила об его знаниях идиш. С бабушкой я практически не разговаривал, а все остальные говорили на более или менее правильном русском языке.
Отец никогда не говорил со мной о национальности, но я помню, что после того, как у нас появился коротковолновый радиоприемник, и особенно, когда появилась возможность слушать «Голос Израиля» по одному из каналов телевизора, он практически каждый день находил время послушать его. Слышно было всегда плохо из-за глушилок, но смысл можно было разобрать. Однажды кто-то из его знакомых побывал в Израиле, это долго обсуждалось. Я думаю, он был бы счастлив узнать, что его сын, внуки [и правнуки] живут в Израиле.
Многие знакомые родителей были евреи. Обычно это были смешанные семьи, где мужчина еврей, а супруга русская. Из фамилий я помню только Коиных и Добрушиных. Часть знакомых была еще довоенными друзьями родителей. Я помню Марию Исааковну, работавшую на сельскохозяйственной опытной станции и до, и после войны. Мы пару раз ездили к ней в гости куда-то в степь, когда жили на Клинской улице. Возможно, мои родители были знакомы с ней через дядю Колю, который до войны работал на этой станции. На одной из фотографий молодая мама снята за Волгой с Марией Исааковной. Была еще одна пара довоенных друзей, преподавателей Сельскохозяйственного института, фамилию которых я не помню. [вспомнил – Золотаревы] Они так и не удосужились упорядочить свои отношения, расписались в загсе только по настоянию своих великовозрастных детей, которым неудобно было, что родители двадцать пять лет живут в гражданском браке. Коины бывали у нас на всех праздниках, они казались мне немного комичной парой: он – маленький, сухой, капризный как ребенок; она – высокая, дородная, постоянно ухаживающая за ним. Мы тоже заезжали к ним в их одноэтажный, очень приличный дом с садиком. О полковнике (в отставке) Добрушине я уже упоминал.
Я был белокурым ребенком, в лице не было ничего характерного для еврея. Поэтому меня практически никогда не задевали напоминаниями, что я – еврей. Но в целом, антисемитские выходки в Житомире случались. Нельзя сказать, чтобы они были очень резкими. Обычно это были грубоватые «еврейские» анекдоты на тему еврейской жадности, нечистоплотности или непонятных для украинцев или русских особенностей религии. Первый раз обратил на это внимание, когда услышал, что мама мурлычет мелодию, которую мальчишки использовали в очень неприятной песенке «Старушка, не спеша, дорожку перешла». Там, в частности речь шла о «жирном Абраме». Я чуть ли не в ужасе обратился к маме: «Мама, что ты поешь? Это ведь очень нехорошая песенка». Мне было примерно 6 лет. Мама смутилась, и начала мне объяснять, что она поет «В Кейптаунском порту…». Позднее я тоже услышал эту песню. Она была довольно известной в 1940-1950-х годах. Именно ее мелодия была использована потом в блатной «Старушка, не спеша…».
Кстати, год назад в Интернете я прочитал, что эту популярную песню написал на спор, как шлягер, за один день еврейский школьник из Ленинграда. Песня считалась народной и автору, призванному во время войны в армию, никто не верил, когда он пытался доказать свое авторство. Я в эту версию поверил сразу, так как в СССР мелодия не могла быть услышана нигде, кроме синагоги. Эта мелодия звучит в одном из элементов вечерней службы в пятницу. Имеются отличия в завершениях строк, но в целом мелодии совпадают. Я думаю, что на мелодию автор и не претендовал, так как на эту же мелодию в США до войны были написаны многочисленные шлягеры, исполнявшиеся знаменитыми, в основном еврейскими, исполнителями, в том числе всемирно известный «Бай мир бисту шейн».
Я уже писал, что однажды пришел в ярость, когда меня в начальной школе в глаза обозвали «жидом».
Когда я занимался в шахматном кружке, то обратил внимание на фамилии великих шахматистов. Там через одного встречаются именно еврейские фамилии, и это было почему-то приятно.
В неполные 14 лет, когда меня принимали в комсомол, я записался в анкете и, соответственно, в комсомольском билете, евреем. Папа долго расспрашивал меня, почему я так сделал. Ничего конкретного я ему сказать не мог, просто считал, что так правильно, раз папа у меня еврей. Но при получении паспорта он уговорил меня написать национальность «русский». Так будет удобнее в жизни. Конечно, никого это при таком отчестве и фамилии обмануть не могло. Но кадровикам так было всегда удобнее. Не помню, как был записан мой брат, но вариант: «Натан Абрамович Койфман, русский», кадровикам тоже был, вероятно, достаточно удобным.
С национальным вопросом я серьезно столкнулся несколько раз в жизни, и всегда в ответственный момент. Первый раз при поступлении в Московский государственный университет. Я уверен, что «завалили» меня на устном экзамене по любимой мной математике именно из-за моей фамилии.
Второй раз это случилось, когда я должен был защищать кандидатскую диссертацию в Таганрогском радиотехническом институте, и ректор честно предупредил моего руководителя о том, что ученый совет настроен антисемитски, и он не может гарантировать нормальную защиту. Грубо говоря, «черных шаров» накидают в любом случае.
Третий раз неявно этот вопрос возник, когда я по многократно повторенному требованию отца попытался начать процедуру вступления в партию. Были разговоры и с моим непосредственным начальником, и с секретарем парторганизации института, весьма уважаемым мной алгебраистом. Он долго объяснял мне нецелесообразность вступления в партию – трудности, большие потери времени, так необходимого, вроде, для меня из-за предстоящей защиты диссертации. В общем – уломал. И я потом, через много лет, был ему за это благодарен. Но, конечно, главной проблемой, о которой он умолчал, была моя фамилия. Самое смешное, что я был знаком с первым секретарем райкома партии, с которым мы, в бытность его аспирантом, лазили через окно в общежитие, когда входная дверь ночью была закрыта. А наш бывший секретарь парторганизации института в девяностые годы стал ходить в кипе. Уже не скрывал свою национальность.
Четвертый раз это было не со мной, а с моей женой Риной. После переезда в Москву она поступала на работу в вычислительный центр Министерства финансов СССР. Встретили очень хорошо, сильные программисты нужны везде. Но в последний момент Рина узнала, что отдел кадров министерства отказал в приеме. Рина указала в личном деле настоящее имя матери Рехума Михелевна, а делать это было нельзя, нужно было, как обычно, писать Раиса Михайловна. В министерстве знали, что, хотя мать умерла, Октябрина имеет право на репатриацию. Мы об этом даже не подозревали. Сроки поступления на работу поджимали, так как можно было потерять непрерывность рабочего стажа. Пришлось срочно идти по знакомству в заштатный проектный институт Министерства автомобильной промышленности. Оформили поступление на работу за два часа, и она потом проработала в нем много лет.
Но самый смешной случай был, когда мы оформляли в консульстве Израиля документы на репатриацию в Израиль. Впрочем, об этом в своем месте.
Я не затрагиваю здесь вопрос о религии, это отдельная тема – на мой взгляд, не всегда коррелирующая с национальным вопросом.
Московский университет
Прошел выпускной вечер, отдохнули большой оравой за Волгой, успокоились, нужно окончательно решать, что делать дальше. В городе 5 вузов: Городского хозяйства, Медицинский, Педагогический, Сельскохозяйственный и Политех. Наиболее престижный – Политехнический, но он дает кадры для тяжелой промышленности, находится далеко, в Тракторном районе. Из остальных более или менее привлекательный – Медицинский институт. Мои мечты быть археологом – только детские мечты, на них жизнь не построишь, мизерные зарплаты. Престижно быть физиком, но это не для Волгограда. Папа позвал меня на встречу с известным у нас в Волгограде хирургом, профессором Медицинского института. Профессор посмотрел на меня внимательно, мы немного поговорили, и он сказал папе, что берется сделать из меня человека. Я, правда, был в сомнении, действительно ли я хочу быть хирургом, иметь дело с кровью и страданиями. Но документы в Мединститут сдал. И стало скучно: все готовятся к экзаменам, друзья в запарке, а мне ведь не нужно ничего сдавать – автоматическое зачисление медалистов.
Разговаривали с мамой, она спрашивает, действительно ли я хочу в Мед? Я кручу головой, ёжусь и отвечаю, что сам не знаю. Мама, обычно решительная и безапелляционная, с сомнением помолчала и неуверенно сказала: «Ведь ты хотел быть историком… или физиком. Нельзя сдаваться, не попробовав себя». Я посмотрел на нее и тоже неуверенно ответил, что тогда нужно уезжать, а это большие затраты. Мама более решительно ответила, что это ее и отца проблемы, я должен думать только о том, чего я хочу в жизни. Мол, и так с Натаном, возможно, неправильно решали. Вечером мы уже говорили с отцом. И на следующий день я забрал документы из приемной комиссии Мединститута.
Где жить в Москве первое время, ведь общежитие дают не сразу даже приезжим. И куда поступать? Конечно, в Московский университет, на физический факультет. Мы тогда еще не знали, что в Москве живут папины родственники, не имели с ними контактов. Но у жены дяди Гаврюши под Москвой в Бескудниково жила сестра. С ней списались, и она пригласила меня пожить несколько дней. Собрал учебники, задачники, получил последние наставления от мамы, и я – в поезде. Общий вагон, жара, благоухающие портянки на соседней полке, но я в приподнятом настроении. Вспоминаются книги западных авторов о привольной студенческой жизни. Впереди ЖИЗНЬ. Вечером в тамбуре познакомился с какой-то девчонкой моего возраста, простояли вместе до полуночи, что-то обсуждали, жестикулировали, целовались. [Впервые лапал девчонку, такое не забудется.] В Рязани она сошла с поезда.
Замызганный Павелецкий вокзал, площадь перед ним формирует ощущение запущенной окраины: лавочки, ремонтные мастерские, бредущие алкаши. Непривычная поездка в метро, Савеловский вокзал, и вот я, действительно, на окраине Москвы. Тогда это была не Москва, а подмосковный заштатный поселок Бескудниково. Это теперь там громады многоэтажных домов, поливаемый асфальт, витрины магазинов. Тогда это были одноэтажные деревянные домишки, окруженные серыми щербатыми заборами. Кое-где фруктовые деревья и кусты. В одном из таких домишек, прямо рядом со станцией, жили наши дальние родственники. Хозяин когда-то работал на железной дороге и получил этот дом в качестве служебного жилья, да так и остался в нем после выхода на пенсию. Дом постарел вместе с хозяином, и ремонтировать его вроде нет смысла: говорят, что когда-нибудь снесут. Да, снесли – еще через пятнадцать лет, после смерти хозяев.
Не хочется описывать быт наших родственников, это были бы сплошные черные краски: мизерная пенсия, старенькая одежда, и венец всего – телевизор первого выпуска с круглым экраном диаметром в два c половиной дюйма. Но они что-то видели на этом экране. Правда, в саду была вкусная малина, и я лакомился ей, когда хотел кушать.
Документы в приемную комиссию сдал успешно, и мне пообещали через неделю общежитие. И экзамены начнутся через полторы недели – я слишком рано приехал. Значит, есть время побродить по Москве. Признаюсь, и тогда, и значительно позже я любил бродить по Москве не только в пределах Бульварного и Садового кольца, но и в прилегающих старых районах: Замоскворечье, Преображенская площадь, Сокольники. Однажды мне пришлось пройти вечером пешком от Савеловского вокзала до метро Академическая – там было в то время общежитие МГУ. Случайно я отдал все деньги, бывшие в кармане, приютившим меня родственникам. Деньги были, но в тумбочке, в общежитии. Обратный билет на электричку у меня был, но больше в кармане ничего. В метро без денег не пустят. Я шел от Савеловского вокзала через центр до Павелецкого и все время смотрел на землю, надеялся найти хотя бы мелочь. Нашел двадцать копеек. Этого не хватало на трамвай, который шел до общежития. В более поздние времена я поболтал бы с кондуктором трамвая и уговорил бы довезти за двадцать копеек. Но тогда я всего стеснялся. Сел около Павелецкого вокзала на автобус и проехал, сколько было можно: три-четыре остановки. А дальше снова пошел пешком. Была уже ночь. Было даже страшно идти по этим безлюдным улицам и переулкам. Еле уговорил вахтера пустить в общежитие. Такое приключение не забывается.
Было время, когда я знал практически все переулки Старой Москвы. И почти везде у меня в какие-то времена жили приятели и просто знакомые. Но это потом. А пока осваиваю центр, не официальный центр около Красной площади, а торговый и культурный, около Дзержинки, Кузнецкого моста, улицы Пушкина. На Кузнецком мосту обнаружил небольшую кучку коллекционеров и присоединился к ним. С тех пор, как только у меня выпадало свободное время, я ехал на Кузнецкий мост. По-видимому, мне не хватало общения, а здесь каждый день новые знакомые, новая для меня информация. Я что-то приобретал, что-то менял и все на копеечном уровне. Ведь денег не было. Но в разговорах узнавались цены, можно было посмотреть на то, чего никогда не увидишь в Волгограде.
Запомнился один случай. Парнишка из провинции (кажется, из Вологды) продавал очень дешево рубли Петра Первого. Причем не очень простые, так называемые «солнечники». Продавал по 25 рублей, и было их не мало. Для сравнения, сейчас такие рубли продают за восемьсот-тысячу долларов. Для справки: десять рублей тогда по официальному курсу равнялись девяноста центам. Естественно, рубли раскупили, хотя и не сразу, пытались еще и торговаться. Я не покупатель, мы просто поболтали с парнем и разошлись. Но на следующий день представительный мужчина рассказал, что по его информации старушка продает много российских монет; у него самого нет сейчас времени заняться этим, но он может указать адрес. Кончилось тем, что мы с этим парнем скинулись и дали ему пятьдесят рублей, получили адрес и поехали искать старушку. Искали дом долго, но оказалось, что по этому адресу дом сломали несколько лет назад. Вернулись на Кузнецкий мост, но мужчина исчез. Больше мы его не видели.
Когда перед отъездом в Волгоград мне потребовались деньги на билет, я распродал все, что купил раньше, и конечно, дешевле, чем покупал. Но опыт стоит денег.
В отличие от провинциальных вузов, в МГУ медалисты сдавали все экзамены. Если бы это было не так, кроме медалистов никто не смог бы поступить в МГУ. Слишком часто в провинции, особенно в небольших городах, школьников «вытягивали» на медаль, чтобы улучшить показатели. Мне пришлось сдавать пять экзаменов. Немецкий язык и письменный экзамен по математике я сдал на отлично, сочинение написал на четыре, письменный экзамен по физике кажется на четыре или пять (не помню). Я был уже почти уверен, что поступлю в МГУ, но на устном экзамене по математике мне поставили двойку.
Сначала сдавал нормально, ответы на задания в билете прошли без сучков и задоринок, на дополнительные вопросы тоже отвечал хорошо, по крайней мере, молодой экзаменатор не указывал на ошибки. Он посмотрел на мой экзаменационный лист и явно начал нервничать. Неожиданно встал и пригласил еще одного экзаменатора постарше, блондина лет тридцати пяти. Тот тоже взглянул на мой экзаменационный лист и помрачнел. После этого задал вопрос, который я просто не понял. Я не понял даже, о чем он говорит. После моего недоуменного молчания он еще раз повторил вопрос и воодушевленно заявил: «Не знаете? Двойка. Нам такие на физфаке не нужны». Вопрос я понял через полтора года уже в Новосибирском университете. Он спрашивал о поведении какого-то типа функций в особых точках. Но в школе мы не изучали ничего из теории функций, этого вообще не было в программе. Откуда мне было знать, что просто экзаменаторам не понравились моя фамилия и отчество, что существовало негласное ограничение на количество принимаемых в университет евреев. Можно было бы подать апелляцию, но, во-первых, я не знал об этом, во-вторых, содержание устных ответов не фиксировалось, это ведь не письменный экзамен, где есть задания и ответы, где почти все можно проверить.
Это была катастрофа, все в мгновение перевернулось, прощай мечты об учебе в этих прекрасных корпусах. Предстоит позорное возвращение в Волгоград и ехидные вопросы знакомых. Хорошо хоть, что родители ни словом не упрекнули меня.
Автоколонна
Разочарование разочарованием, но нужно что-то делать. Нужно идти работать. Почему-то я не стал сам оббивать пороги, предлагая себя на работу. Работу стал искать папа. Прошло два дня, и он виновато сказал: «Что-то не получается». – Он заходил к нескольким директорам и замам директоров предприятий, и все, смущенно улыбаясь, отказывали. Мне только шестнадцать, по закону работать можно, но не больше шести часов в день и еще какие-то привилегии. Кому нужен такой работник и к тому же, вероятно, маменькин сыночек? Еще через два дня он сказал, что есть курсы наладчиков торговых автоматов. Через полгода обучения в Ростове я получу свидетельство, и он устроит меня на работу в торговле. Но я хотел на рабочую специальность. Юношеская мечтательность. Еще через день папа повез меня в автоколонну № 16, представил грузному директору, и тот скептически осмотрел меня. Сингаевский (фамилия директора) заявил, что у него имеется для меня только должность ученика аккумуляторщика. Что это очень тяжелая работа, мне никаких скидок не будет, и я должен забыть о привилегиях малолеток. Было видно, что он не может отказать моему отцу, но очень хочет, чтобы я отказался от предложения. Но я был готов идти на любую работу, лишь бы не сидеть дома.
Аккумуляторный цех в автоколонне – это две маленькие комнатки и маленький склад без окон. В одной из комнат лежат на стеллажах на зарядке свинцовые аккумуляторы. Работает вытяжной вентилятор, но тяжелый кислый запах соляной кислоты не может выветриться, так как все пропитано им. Во второй комнате рабочий стол, на котором мы препарируем аккумуляторы, разрезая свинцовые перемычки и вытаскивая специальным приспособлением разрушенные секции аккумулятора. Рядом стоит перегонный аппарат, на котором получаем дистиллированную воду. Естественно, что все время гремит вытяжной вентилятор, но он не может справиться с запахом расплавленной авиационной мастики, которой залиты аккумуляторы для герметичности. Ведь перед разборкой аккумуляторов мы разогреваем мастику бензиновым резаком. Вообще, мы многое делаем при помощи этого резака: выплавляем новые свинцовые соединительные планки и контакты, свариваем разрезанные планки после ремонта секций. На полу стоят аккумуляторы, принесенные для проверки, для подзарядки и для ремонта. И все это непрерывно излучает запахи свинца, соляной кислоты и мастики. Кроме того, я ощущаю всем телом исходящее из всех углов давление электрического поля. Я почему-то чувствителен к электрическим полям: только дотронувшись, например, до электрического чайника или другого прибора, я могу сказать, есть ли контакт с сетью, даже если он не работает. А здесь все пропитано электрическими полями. В комнате только один стул, ведь работать можно только стоя. Второй стул стоит на складе. Там новые аккумуляторы, запасные пластины и деревянные сепараторы. Ну, и, конечно, всякий хлам по углам, до которого мне велено не дотрагиваться. На стуле на складе обычно сидит мой «учитель», когда отдыхает.
Мой учитель – аккумуляторщик высшего: седьмого разряда. Он немного недоумевал, зачем ему подсунули такого сосунка, но терпел, показывая мне нехитрые правила и приемы. Через неделю он мог спокойно оставаться на складе, в то время как я бегал, принимая аккумуляторы от шоферов; проверяя их остаточную емкость и наличие пробоев (замыканий пластин); проверяя качество зарядки или концентрацию кислоты в аккумуляторах; вскрывая аккумуляторы и готовя их для взгляда «мастера». И никто не мешал ему время от времени прикладываться к бутылке.
От шоферов я только принимал аккумуляторы (и выдавал готовые). Разговоры с ними вел мой шеф – Степаныч. Я не помню, как его звали, потому что все его называли именно так – Степаныч. Обычно разговор у них был короткий и только по делу. Но иногда шофер начинал просить сделать быстро, а поломка была серьезной и запасных аккумуляторов, которые мы обычно давали шоферам на время ремонта, не было. В таких случаях Степаныч уводил шофера на склад. О чем они говорили, я не знал, но, конечно, догадывался. Были и более сложные случаи. Один раз к нам пришел мотоциклист, которому за какие-то его заслуги разрешили ехать своим ходом через всю Европу в Париж. Он просил сделать ему запасной аккумулятор. Мы этим никогда раньше при мне не занимались, но Степаныч сходил куда-то и принес «банку» для мотоциклетного аккумулятора. Мы иногда по просьбе шоферов или посторонних делали аккумуляторы. Для этого у Степаныча в подсобке были припрятаны и пластины, и сепараторы, и почти новые «банки». Как он говорил: «Для хороших людей всегда найдем». – Но мотоциклетную банку я видел в первый раз. Ничего, справился под руководством Степаныча. Проблемы были только с перемычками, их пришлось подпиливать почти со всех сторон. Мотоциклист был доволен, а Степаныч получил 75 рублей, из которых двадцатку дал мне. Это был мой первый левый заработок.
Вообще-то я практически всю зарплату отдавал маме. Первый раз она чуть не расплакалась – жалко, наверное, было меня. Хорошо, что она не видела условия, в которых я работал. Отец один раз заехал посмотреть на меня, но это было значительно позже, зимой, когда я остался один после смерти Степаныча. Было очень холодно, окна открыты, и холод в цехе стоял жуткий. Обеденный перерыв, я сижу на стуле, под которым стоит вертикально шиферная труба с намотанной раскаленной спиралью. Гремят вентиляторы, в воздухе обычный коктейль наших запахов, а я сплю сидя и не услышал, как он вошел.
[Это свойство – умение спать сидя, а иногда и стоя, осталось у меня до нынешнего времени.]
Позднее, папа говорил, что ему в тот момент было очень жалко меня. Но виду не подал, поговорил со мной и ушел.
Кстати, о зарплатах. Степаныч, имеющий высший разряд, зарабатывал больше тысячи восьмисот рублей. У папы зарплата была чуть меньше. Я сдал экзамен на второй разряд через месяц после начала работы, и получал около тысячи рублей. Для сравнения, бутылка дешёвой водки стоила двадцать один рубль двадцать копеек. Так что моя зарплата была не лишней дома. Я, правда, не знал, что мама откладывала большую часть моей зарплаты для меня.
Степаныч погиб осенью случайной смертью по пьяному делу. Он бросился наперерез грузовому автомобилю, чтобы шофер отвез его домой. Он всегда говорил, что шоферюги все знают его. Но шофер не ожидал такого броска и не смог затормозить на скользкой дороге. Степаныча хоронили всей автоколонной. Я остался в цехе один. Через пару дней в цех пришел Сингаевский с парторгом, спросили, справляюсь ли с работой, не нужно ли чего-нибудь. Я ответил, что вроде все нормально. Думаю, что они спрашивали и шоферов. Через пару недель мне устроили экзамен, повысили разряд и прибавили двести рублей. Остаток осени и начало зимы проработал в цехе один, но в марте прислали помощника: Сингаевский понимал, что летом я уволюсь и буду снова поступать в институт. Правда, трудно было его назвать помощником: разряд у него был выше, и был он старше меня года на четыре-пять. Я показал ему всю нашу нехитрую технологию, и через неделю он стал хозяином в цехе.
Напарника звали Гена. Как-то в разговоре мы упомянули школы, и оказалось, что мы оба учились в 38-й школе. После дополнительных вопросов выяснилось, что один год мы даже учились в одном (пятом) классе и вспомнили друг друга. Гена в каждом классе сидел по два года и был известным в школе хулиганом. Но теперь это был почти добропорядочный отец семейства. Он мне с подробностями и матерками рассказывал, как он добивался своей невесты, как преодолевал сопротивление тестя – полковника милиции. Еще через неделю он стал более «серьезно» подходить к «левым заработкам». Реально, основную работу делал я. А он искал подработку, как у нас в автоколонне, так и в соседнем таксомоторном парке. Иногда что-то перепадало и мне. Особенно, когда приходилось делать «налево» новые аккумуляторы.
Состав шоферов у нас был удивительный. Более половины имело судимость, очень многие курили «травку», у нас она называлась «план». Ведь пить за рулем нельзя, могут надолго отобрать права. А поймать на потреблении травки очень трудно, да и кто станет ловить, кому это нужно? Ремонтники были более законопослушны, но многие, как Степаныч, злоупотребляли водкой. На это нужны деньги, и шофера привыкли, что за каждую мелочь нужно немного приплатить. Иначе долго будешь стоять в гараже и ничего не заработаешь. Ведь пока на линии, всегда есть возможность что-то подвезти и заработать десятку или четвертную.
Подошло комсомольское собрание, и меня выдвинули секретарем комсомольской организации. Никто из молодежи не хочет тянуть это бремя, а тут молоденький, желторотый. Правда, как комсомольский вожак я ничем себя не проявил. Реальные дела и всякую документацию вела девушка из управления автоколонны. Я только надувал щеки, сидел во главе стола на собраниях и ходил на заседания райкома комсомола. Иногда, по сигналу начальства, приходилось проводить профилактические беседы с проштрафившимся парнем. Все они были старше меня, чему я их мог научить? Но мы делали вид, что что-то делается. Все играли в одну игру. Да, помню, что во время выборов в Верховный совет СССР пришлось, действительно, заниматься организационной работой, так как комсомольцам, как и членам партии, выделили конкретные участки для «агитации», которая сводилась к тому, что нужно было любыми путями заставить «агитируемых» прийти на избирательный участок.
Еще одно воспоминание о работе. Несколько грузовиков пришло осенью со сбора арбузов. Пришли груженные арбузами, которые колхоз продал нам по себестоимости. То есть по тридцать копеек за килограмм. Естественно, купил три больших мешка арбузов, и знакомый шофер отвез меня с арбузами домой. Впервые я был «добытчиком». Меня хвалили дома. А арбузы у нас в Сталинграде едят немного по-другому, чем в других местах: разрезают пополам, каждый получает по половинке арбуза и ест большой ложкой. Очень удобно.
Работа работой, но главная часть жизни была вечером после работы и в выходные дни. Мои друзья продолжали учиться. Валерий – в Сельскохозяйственном институте, благо впереди была обеспеченная его отцом карьера; Гарри – в Институте городского хозяйства, так как никуда в другой он поступить бы не смог; Борис перешел в девятый класс. Только я был у них «представителем героического рабочего класса». Правда, у «представителя» в кармане всегда были небольшие деньги. После ужина вечером я убегал из дома, и мы втроем или вчетвером гуляли по городу в поисках приключений. Не очень хорошо помню это время, вероятно потому, что было мало отличий от десятого класса. Да, встречались с девушками, пили в компаниях и в узком кругу. У Валерия появилась почему-то почти всегда свободная небольшая квартира рядом с базаром, и мы часто заканчивали свои похождения у него в квартире за бутылками пива. У Валеры уже был сексуальный опыт, но мы, остальные, не могли этим похвастаться.
Две маленьких картинки из тех времен.
Познакомились с девицами из соседнего Ворошиловского (или уже Советского?) района. Поехали к ним, закупив несколько бутылок вина и немудреную закуску. Домик в овраге, не в самом низу, но достаточно глубоко. Домик буквально слеплен из разномастных кирпичей, покосившийся потолок, внутри серость и убогость. Всего две маленькие комнатки. В первой стол и несколько стульев, во второй, оказывается, спит глотнувшая водки глухая бабка. Девочки на проигрывателе врубили громкую западную музыку, положив на пластинку «кости», так мы называли самодельные пластинки, записанные на рентгеновских снимках. Мы выпили, съели, что было, и… смылись, оставив девочек в недоумении.
Вторая картинка. Меня и Валеру пригласили к Гале Тараненко, на вечеринку в узком кругу, девочки из бывшего нашего класса. У Валеры были какие-то проблемы, и он порекомендовал мне вместо себя дальнего родственника. Парень был постарше меня, уже проработал несколько лет на заводе, высокий, крепкий и грубоватый. Я хотел купить бутылку хорошего вина, но он настоял купить (за те же деньги) две бутылки неизвестного мне вина. Мы пришли, было все очень прилично. В квартире Галиных родителей (отец работал начальником областного управления связи) всегда уютно, я уже бывал у нее в школьные времена. Все три девочки: Галя, Эмма Бованенко и Наташа Сталь очень симпатичные, ухоженные. Родители, естественно, на даче. Кстати, я давно хотел познакомиться с Наташей, она была из соседней восьмой школы, и наши девочки знали, что я интересовался ею. И… конфуз, девочки попробовали наше вино, сморщились и вылили обе бутылки в кухонную раковину. Выпивка в доме была, Галя принесла из папиных запасов что-то иностранное, но настроение было немного испорчено.
Значительно чаще мы собирались вчетвером школьной компанией: Валера, я, Гарри и Боб. Мы бродили по набережной и Аллее Героев, тянущейся от набережной к скверу возле центральных гостиниц; сидели на скамейках, разглядывая проходящих девушек; заходили (если были деньги) в кафе выпить пива.
Весной эти бесцельные прогулки по вечернему Волгограду надоели, и я снова начал готовиться к экзаменам в институт. Мне уже объяснили, что евреям нечего мечтать о Московском университете, если нет мощной «мохнатой лапы». Но поступать в Волгоградские вузы я не собирался. Теперь я начал выбирать между МФТИ и МИФИ. Снова перерешал все задачи в усложненных задачниках по математике и физике. Пытался не потерять немецкий язык. Просматривал собственные и чужие сочинения по литературе.