Читать онлайн Пожилые записки бесплатно
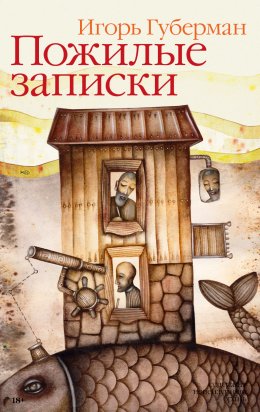
© И. М. Губерман, 2003
© ООО «Издательство Гонзо», 2017
Необходимое предисловие
Как и откуда приходит к человеку ощущение, что пора писать мемуары?
Я лично на этот вопрос могу ответить с полной определенностью: когда всем надоели твои застольные байки, и слитный хор друзей и близких (главные жертвы устных воспоминаний) советует перенести их на бумагу – а не морочить нас одним и тем же, звучит в подтексте.
Так я и понял, что действительно пора. Явно прожита большая часть жизни, уже смутно помнятся услады лихой зрелости, а шалости нестойкой юности забыты вовсе. Готовясь к седой и бессильной (но зато какой умудренной!) старости, сочинил я для себя и для ровесников утешительную народную пословицу: все хорошо, что хорошо качается. Оброс наш дом друзьями и гостями, а случайные заезжие даже бросают в унитаз монеты – как в море, чтоб вернуться сюда снова. Ниагара унитазного слива их не уносит, и они трогательно блестят на дне. Достану как-нибудь, если наступит полная нищета.
Кроме того, достиг я совсем недавно той секунды подлинного творческого успеха, выше которого ничего не бывает: на моем выступлении уписалась от смеха одна солидная и тучная дама. Она сперва раскачивалась всем своим обильным телом, вертелась, всплескивая руками; я обратил внимание на ее благодарную впечатлительность и уже читал как бы прямо ей непосредственно. Это было в большом зале частного дома в одном американском городе, а где находится сортир, я понял, когда она взлетела вихрем на небольшое возвышение, с которого я выступал, и, чуть не сбив микрофон, юркнула в дверь за моей спиной. Когда минуты три спустя дверь скрипнула снова, то я, не оборачиваясь, сказал с невыразимым чувством:
– Спасибо, это лучший комплимент моим стихам.
И женщина величественно сошла со сцены.
Что еще надо человеку? Покой? Его не будет никогда.
Кроме того, очень хочется записать различные житейские случаи и разговоры на ходу. Я ничего не знаю лучше и содержательней подобных торопливых диалогов и всю жизнь стараюсь сохранить их в памяти. Как сохраняют воду в решете герои народных сказок. И пока блестят еще какие-то капли, надо положиться на перо и бумагу.
Поражали меня всегда и радовали истории мелкие, и мудрый человек от них лишь носом бы презрительно повел. А у меня – душа гуляла. Но я какие-то запомнил только потому, что в это время что-нибудь попутное случалось. Так однажды я разбил три бутылки кефира, за которыми был послан родителями. Торопился я домой, авоськой чуть помахивая (мне уже за двадцать перевалило, было мне куда спешить, отдав кефир), и встретил у себя уже на улице писателя Борахвостова. Не помню, как его звали, он тогда мне стариком казался – было ему около пятидесяти. Борахвостов с утра до ночи играл на бильярде в Доме литератора (а много позже книгу написал об этом выдающемся искусстве), больше никаких его трудов я не читал. Однажды я сказал ему, что если он среди писателей – первейший бильярдист, то и среди бильярдистов – лучший писатель, и с тех пор он перестал со мной здороваться. Вот и сейчас хотел я молча мимо прошмыгнуть, но тут он сам меня остановил.
– Постой, – сказал Борахвостов приветливо. – Говорят, у тебя с советской властью неприятности?
– Немного есть, – ответил я уклончиво. У меня только что посадили приятеля, выпускавшего невинный рукописный (на машинке, конечно) журнал «Синтаксис», состоявший из одних стихов. Это чуть позже Алик Гинзбург и его журнал стали знамениты и легендарны, а сам Алик пошел по долгому лагерному пути, в те дни для нас это была первая и непонятная беда такого рода. Два номера журнала вышли без меня, а третий был составлен весь из ленинградцев, я и собрал у них стихи, когда был там в командировке. Искал, знакомился, просил подборку. Со смехом после мне рассказывали, что приняли за стукача и провокатора, уж очень я раскованно болтал. А почему ж тогда стихи давали? Дивные, кстати, были стихи, теперь и имена приятно вспомнить, только ни к чему, поскольку каждый – знаменитость. И совсем были невинные стихи, не понимал я, что происходит вокруг Алика.
– И у меня были неприятности с советской властью, – радостно сообщил писатель Борахвостов. – Это еще в армии было, сразу после войны. Я отказался идти голосовать в день выборов.
– А почему? – спросил я вежливо.
– Хер его знает, – мой собеседник весь сиял, счастливый от щекочущих воспоминаний. – Или уже не помню просто. Или в голову заеб какой ударил. Вот не пошел – и все, так и сказал им: не пойду.
– А они что? – спросил я, не сильно понимая, о ком идет речь.
– А они меня заперли в избе, где гауптвахта у нас числилась, а сами побежали собирать военный трибунал.
– А вы что? – тупо продолжал я беседу.
– А я вылез и проголосовал, – молодо ответил ветеран идейного сопротивления.
И до сих пор не жалко мне, что я от смеха выронил кефир.
И ничего серьезного я не берусь вам сообщить и впредь. Но жизнь была, она текла и пенилась, кипела, пузырилась и булькала самыми разными происшествиями. Про них мне грех не рассказать. Но по порядку не получится. Ни по хронологическому, ни по причинно-следственному, ни по какому. Что, конечно, слава Богу. Потому что этого порядка в жизни столько и без меня, что очень часто к горлу подступает. А тут как раз и стоит отдохнуть на моей неприхотливой книге. Ибо благую весть я никакую не несу, поскольку не имею. Да если б и была, то не понес бы.
Новых идей, мыслей и сюжетов тоже в этой книге не предвидится, поскольку все уже сочинено в далекие Средние века – и современными авторами только воруется. А средневековые авторы, в свою очередь, покрали эти мысли у античных, и если что-то новое у них мелькнуло – это, значит, из источников, не сохранившихся и до нас не дошедших.
Еще чуть не забыл. Ведь мемуары пишутся затем, чтоб неназойливо и мельком прихвастнуть. И в этом смысле тоже самая пора. Поскольку в возрасте весьма солидном выпал мне большой и подлинный мужской успех. Об этом расскажу незамедлительно.
Случилось это в городе Нью-Йорке. Только что закончился мой вечер, почти все уже ушли, а мы с двумя приятелями медленно курили, дожидаясь третьего, который должен был везти нас выпить. Мы уже и разговаривали вяло – не терпелось сесть, расслабиться и налить по первой. К нам подошла женщина лет тридцати пяти с суровым от решительности и волнения лицом. В роскошной почти до пола енотовой шубе – американки таких дорогих шуб не носят, – впрочем, я ее заметил еще в зале, очень она вся была в экстазе, когда слушала, даже не смеялась в тех местах, где все смеются. А сейчас у нее было и вовсе маршальское лицо. Никакого внимания на двух приятелей она не обратила, она просто их не видела в упор.
– Вы свободны? – отрывисто и сурово спросила она меня. Я ее понял как-то экзистенциально (и угадал), отчего ответил быстро и послушно:
– Нет, я женат и двое детей.
– А в ближайшие два дня вы свободны? – с той же непреклонностью спросила она. А я уже слегка опомнился от напора ее ощутимой энергии.
– Нет, – ответил я, – я улетаю, у меня вечера в Бостоне и Чикаго.
– А ближайшие два часа вы свободны? – каменно и прекрасно было ее лицо, ничуть не мягче, чем у Петра Первого под Полтавой.
– Мы с друзьями едем выпивать, – виновато сознался я.
– А брат у вас есть? – требовательно спросила она. Брат у меня есть, поэтому я растерялся на мгновение, подумав почему-то, что до Кольского полуострова, где живет мой брат, – много тысяч километров. А она, истолковав по-своему мое секундное замешательство, быстро-быстро сказала:
– Красивого не надо, можно такого же!
Могу ли я после этого медлить со своими мемуарами?
И похвалу себе уже я слышал – выше не бывает.
Как-то я пошел (еще в России) на проводы одной знакомой. Она много лет преподавала в университете, и десятка два ее студентов тоже заявились попрощаться. Выпив, несколько из них принялись читать мои стишки.
– Что, Гарька, приятно, что тебя так знает молодежь? – спросила у меня приятельница негромко. Но была услышана.
– Так это вы и есть Губерман? – снисходительно спросил самый активный юный декламатор.
– Вроде бы да, – ответил я смиренно.
– Надо же, – надменно пробурчал студент, – я был уверен, что вы давно уже умерли.
Непременно я был должен этим где-то похвастаться письменно.
Однако есть еще одна – возможно, главная причина.
Года два назад я с наслаждением трудился в качестве раба на подготовке выставки художника Окуня. Там были не только и не столько картины, сколько различные сооружения, созданные его причудливой фантазией. Две выставки одновременно открывались в двух музеях, и с месяц я там пропадал. А когда они открылись, я себя почувствовал их полноправным участником и водил по экспозиции друзей, хвастаясь мастерством Окуня как собственным. На одной выставке была маленькая выгородка, имитирующая кабинет психотерапевта. Там стоял стол и два небольших стула, были положены салфетки для отирания слез, все было белоснежно и врачебно, а бутылку и стаканы я туда принес по личному кощунству. А когда отпили понемногу, я сказал своему другу, высокому профессионалу психотерапии доктору Володе Файвишевскому:
– Ну что, слабо со мной без подготовки провести сеанс лечения?
– Садись и начинай, – сказал Володя буднично.
Я сел и начал:
– Доктор, на душе у меня очень тяжело. Нет удачи, мир устроен глупо и несправедливо. У меня душа болит, едва я оглянусь вокруг себя.
– На то она и душа, – ответил доктор. – Она есть, поэтому и болит. Она у вас еще жива, а это очень много.
– Меня все раздражает и не радует, – пожаловался я. – Мне одиноко и тоскливо.
– Все мы одиноки в этом мире, – эхом отозвался доктор. – Нас такими создали, и мы преодолеть этого не можем. Жизнь – очень тяжкая нагрузка, и она для всех нас такова.
– Томит меня все время что-то, и желаний нету никаких, одна усталость, и порой мне просто трудно жить, – настаивал пациент.
И он услышал ключевую утешительную фразу.
– Потерпите, голубчик, – ласково ответил доктор, – уже так немного осталось!
Слегка про всех и бабушку Любу
Излишне говорить, что я родился в бедной еврейской семье, но это очень уж хорошее начало. А так как папа был еврей, то сразу ясно, что работал он экономистом. Мама закончила консерваторию и юридический институт, но у старшего брата было двадцать шесть раз воспаление среднего уха, так что мать довольно рано бросила работу в юридической консультации, а пианино так и не купили. Словом, мать была домохозяйкой, отчего я много читал, хорошо учился и шпаной стал только в институте, когда мамино влияние ослабло.
А музыкальностью удался я в отца. Когда служил он в армии и старшина приказывал их роте запевать, то непременно добавлял: «А Губерман может не петь». Собравшись посекретничать, мы с папой хором запевали что-нибудь, и мама тут же вылетала на кухню. Но подобно всем таким лишенцам, петь я обожаю, и друзья на пьянках это позволяют, ибо знаю все слова и пою с невыразимым чувством. Тяжело бывает гитаристу или пианисту, но встречаются способные люди – даже я их сбить с мотива не могу.
Хотелось бы продолжить столь удачное начало искренним признанием, что предки мои тоже были нищими и торговали по местечкам прошлогодними календарями, но – увы…
Мой дед по матери жил много лет в Царицыне, торговал зерном и лесом. Был он купец первой гильдии, дружил с губернатором и был его картежным партнером в клубе, где пропадал до утра. В его доме останавливался Шаляпин, и в такие дни бабушка Дина ворчала, что устроили проходной двор, и дочерям (их было три) вредно и растлительно смотреть, как пьют с утра. Гость уезжал, и дед Абрам опять смывался в клуб. Он был изрядный бонвиван, бабушке Дине об этом исправно сообщали, но она выслушивала доброжелательниц с надменностью и больше в дом не приглашала, так что вскоре разговоры прекратились, просто все всё знали о моем прекрасном дедушке, даже до внуков эта слава донеслась.
А нищим стал мой дед за сутки, и об этом две легенды есть. Согласно первой, романтической (ее придерживалась мама), дедушка Абрам при всех ударил в клубе некое влиятельное лицо по его влиятельной физиономии – за брошенное вслух слово «жид». И губернатор смог замять скандал только ценой немедленного выселения семьи из города, иначе грозил судебный процесс. Разорение при такой спешке было неизбежно.
По второй легенде (излагала ее тетя; эта легенда была не менее романтической), дед мой приволокнулся за самой губернаторшей и, судя по реакции ее всесильного мужа, – не без успеха.
А потом он много лет работал где-то в Мариуполе, ничуть не унывая и не бросив ни одного из увлечений молодости. Вряд ли бабушка Дина была с ним счастлива; вся ее жизнь сосредоточилась на трех дочерях.
А у бабушки моей по отцу муж умер очень рано, и ей невыносимо тяжко было поднимать двух сыновей. Но тут я чуть отвлекусь, чтобы потом к бабушке Любе возвратиться уже надолго.
Я прочел недавно, что написана в Израиле и вышла здесь большая книга о знаменитом Пинхасе Рутенберге. Он построил некогда первую в Палестине электростанцию, к тому времени был он миллионером (в Италии где-то разбогател, изобретая, проектируя и строя что-то такое же электрическое), дружил и спорил с Жаботинским, привлекался к управлению еврейской общиной во все трудные годы (после погрома в Хевроне, в частности), заметным был и уважаемым человеком.
А ведь это тот самый эсер-боевик Петр Рутенберг, что казнил в шестом году священника Гапона, когда выяснилось, что Гапон тайно сотрудничает с охранкой. Происходило все это на безлюдной даче под Петербургом – именно Петра Рутенберга вербовал в тот день Гапон (они дружили некогда), а из-за двери слушали, обмирая от обиды и гнева, ревностные почитатели попа-провокатора. Кстати, накануне было сказано Рутенбергу, что если все окажется неправдой, то казнят его – клеветника и нехристя, и Рутенберг согласился. Только с первой же минуты разговора стал Гапон соблазнять его большими деньгами, посуленными охранкой, в комнату ворвались люди, и возмездие неукоснительно свершилось. В мемуарах написали позже, что в стену дачи заранее был вбит здоровый крюк.
«Нет, они повесили Гапона на вешалке для шляп», – говорила моя бабушка Любовь Моисеевна, которой Пинхас Рутенберг приходился двоюродным братом.
Я от бабушки Любы эту историю слышал еще в подростковом возрасте. Вообще я много всякого услыхал впервые именно от бабушки Любы. Так что я от Максима Горького отличаюсь еще и тем, что всем хорошим в себе он обязан, как известно, книгам, я же лишь частично им обязан, а частично – бабушке Любе. И не знаю, право, кому больше.
Рутенберг уехал за границу после этого (спустя несколько лет разбогател), известие о Февральской революции застало его уже в Палестине. И не выдержало сердце старого боевика: плюнув на все, примчался он во взбаламученный Петроград. Где был назначен сразу же помощником военного коменданта города. Поразительной проницательностью, по всей видимости, был он одарен: задолго до октября, еще летом, предсказал он будущий переворот. И предложил: чтобы вот-вот не залилась Россия кровью, ликвидировать опасность на корню путем простейшим – изловить и всего только двоих повесить, Ленина и Троцкого. Он это Керенскому предложил, тот лишь руками в ужасе замахал (а после вспомнил, наверно, только поздно).
– Это, конечно, было бы нехорошо, – говорила бабушка Люба, – но зато как бы это было замечательно!
Вместе с другими был он арестован, а потом отпущен и уехал, чтоб уже не возвращаться никогда. А вспоминал наверняка, и есть легенда, что, поспорив, как-то оппоненту (чуть ли не Бен-Гуриону) о своем былом российском опыте напомнил для острастки. Как подействовало, я не знаю, врать не буду, мне еще писать и писать.
Бабушка Люба приезжала к нам из Харькова и подолгу оставалась гостить. А когда ехала обратно, мы всей семьей приезжали на вокзал часа на два раньше необходимого. Бабушка Люба настаивала на этом с категоричной лаконичностью, и я латинскую чеканку ее слов запомнил на всю жизнь:
– Лучше я подожду поезда, – говорила бабушка, – чем он меня ждать не будет.
Маму я очень хорошо помню прильнувшей по вечерам к маленькому рижскому радиоприемнику – ни одной передачи «Театр у микрофона» она не пропускала. И в часы семейных обедов хорошо ее помню. И как она рассказывала собственного сочинения повесть всем желающим и не сумевшим отвертеться (боготворила Эренбурга и придумала нечто очень похожее, но не стала записывать). По моему глубокому убеждению, она прожила какую-то не свою жизнь, хотя вслух никогда не жаловалась и любила отца. Я это только выросши понял, но уже был по уши в собственной суете, и так мы с мамой разминулись, отчего мне до сих пор бывает больно и чуть зябко смотреть на ее фотографию на Востряковском кладбище в Москве. А своей любовью к чтению я обязан матери целиком.
Отца я дважды помню плачущим. Довольно много лет назад огромной веселящейся толпой (десятка три-четыре было в ней человек) мы шли от места, где мой старший брат Давид только что блестяще защитил кандидатскую диссертацию, к месту, где это праздничное событие отмечалось дружеским возлиянием. Отец молча шел среди нас, и по лицу его катились, не иссякая, слезы счастья. И на банкете после каждого хвалебного тоста проступали у него на глазах слезы, он так и сидел, нисколько не стыдясь их и не пытаясь смахнуть.
Если души умерших действительно следят за нашей жизнью, то и там душа отца должна была всплакнуть, поскольку его старший сын теперь уже академик Российской академии наук, а дело его жизни даже внесено в Книгу рекордов Гиннесса: он пробурил самую глубокую в мире скважину (уже двенадцать километров насчитывает эта дыра на Кольском полуострове). А в результате этого бурения (мой брат отдал ему четверть века своей жизни) получены и впрямь высокие научные результаты: рухнули все до единой теории строения нашей планеты, но зато возникла пустота для новых.
А пока вернусь к банкету. Слезы высохли у отца мгновенно, и гордость за старшего без перехода сменилась жгучим стыдом за младшего: как только все поднялись из-за стола, я принялся деловито собирать уже открытые, но непочатые бутылки – ждал гостей назавтра, дармовая выпивка с научного стола была подарком с неба. Друзья брата (многих я отлично знал) не помогали мне, а обтекали стороной, и отец жутко застыдился моих действий. Он меня хотел остановить – мол, неудобно, – я холодно пожал плечами: ведь заплачено, что за купеческая удаль оставлять такое ценное добро, – и отец вышел, чтобы даже присутствием не участвовать в таком позоре. Каково же было его изумление, когда в фойе ресторана почтенные кандидаты и доктора стали просить меня поделиться! Снова было ему стыдно за меня, только уже по новой причине: я доброжелательно всем отвечал, что собирал для себя, что там еще много, нету ничего зазорного в том, чтобы вернуться и взять, – и грустно отходили от меня гордые научные люди. Почему-то этот мелкий эпизод запомнился мне острей самой защиты диссертации, хотя братом я весьма гордился.
Я тоже жаждал в эти годы заслужить отцовское уважение, но терпел сокрушительное фиаско. Я даже на очень пошлый шаг решился: попросил в журналах, где тогда сотрудничал, чтобы в советские табельные праздники мне посылали поздравительные открытки, как это делают почтенным авторам. И я такие открытки начал получать, но в результате папа напрочь потерял свое былое уважение к этим журналам. А я пускался во все тяжкие, не брезгуя простейшими ходами: например, папе на ухо шепча во время дружеских застолий, что вон тот – доктор наук и вообще известнейший ученый, а вон тот – уже без двух минут академик и от его работ американцы помирают, он в исследованиях мозга пионер и автор множества идей. Не помогало. Даже помню, как я это низкое занятие оставил: я шептал отцу, что тот вон полноватый выпивоха – первый в Ленинграде диагност, великий терапевт, а сам – племянник знаменитого лингвиста. И как раз в ту самую минуту, когда я это шептал, сам великий терапевт, сообразив, что коньяка не хватит (водку он в тот день не пил), бутылку со стола изящно скрал и поставил на пол возле стула. Папа тоже это видел. И надежду я оставил навсегда.
А много лет спустя, уже за год до своей смерти мой отец вышел на кухню как-то днем – я там курил, о чем-то безмятежно размышляя, – и произнес мне длинный монолог. О том, что я живу неправильно, что в дом ходят опасные несоветские люди, что я зря пишу свои опасные стихи, что пьянство и курение меня погубят, что большая у меня семья, а я не чувствую ответственности за нее. И многое другое было сказано, и в том числе справедливое, и тем обидное вдвойне. Я защищался, не оправдываясь, а настаивая на своем, спор разгорался, но отец вдруг вышел так же неожиданно, как пришел. Я подождал минут десять, полагая, что он вышел в уборную, а потом пошел и заглянул в его комнату. Отец лежал и плакал. Слезы старческого бессильного отчаяния стекали у него по желтым щекам (рак уже стремительно проявлялся), подушка по обеим сторонам головы была мокрой. Я обнял его, что-то бормотал, но ничего ведь я не мог ему сказать утешительного. А позабыть, как это было, не могу до сих пор. И когда выросших своих детей теперь пытаюсь иногда наставить на путь истины, то вспоминаю каждый раз отца, и это успокаивает мою совесть: он теперь, наверно, смеется, глядя на мои такие же бессильные потуги.
Приезжая к нам, бабушка Люба тоже самоотверженно занималась моим воспитанием, и не ее вина, что бесценные сведения, которые она мне сообщала, порой запаздывали на несколько лет. После второго курса института я уехал на лето в Башкирию, где работал на железной дороге и жил в огромном, день и ночь кипящем жизнью общежитии – легко себе представить, каким лихим и зрелым я вернулся осенью домой. И бабушка решила, что пришла пора открыть мне тайну отношений между мужчиной и женщиной. Она в тот день уже с утра явно нервничала, а в полдень собралась с силами и позвала меня в самый конец нашего дачного участка, где была у нас помойка и стоял скворешник уборной. Бабушка, мне кажется, считала это место наиболее достойным той кошмарной неприличности, которую она решилась мне поведать.
– Гаренька, – сказала бабушка взволнованно, – тебе пора узнать, – она зарделась и помолодела, – что у вас другое, а у нас совсем другое… – Тут ее решимость иссякла, и она пустилась от меня почти бегом. Я догнал ее и виновато сказал, что уже давно об этом знаю. Бабушка слегка поджала губы, молчаливо сетуя на преждевременное развитие испорченной молодежи.
Это на моей памяти единственный случай, когда бабушка Люба утратила ориентацию во времени. Обычно она чувствовала его гораздо лучше молодых и принимала все события эпохи, как бывалый альпинист – обвал в горах. Дикая, безжалостная, слепая и придурковатая стихия. Надо уберечь себя и близких. Главное для этого – спокойствие и осмотрительность. Бабушка Люба вслух не осуждала ничего – даже погоду. Если, вернувшись с улицы, она бодро говорила: «Чтоб жарко, так нет», – значит, на дворе стоял собачий холод. Бабушка Люба на всякий случай боялась всего. Всего вообще. И ничего в частности, поскольку надо жить и шевелиться (любимый бабушкин глагол).
Помните, после войны в Москве продавалось изумительно вкусное (мне было десять лет) мороженое – пломбир? Две вафельные пластинки, а между ними – цилиндрик сладкого застывшего молока. Так вот: мороженое это делала бабушка Люба. Точней, активно участвовала в его производстве. Она из Харькова присылала в Москву какие-то его составляющие. То ли муку для вафель, то ли сахар для молока. Привозили эти продукты проводники пассажирских вагонов, а доставлял по нужному адресу мой двоюродный брат Виталий. После стал он видным начальником на советском идеологическом фронте, важным винтиком в партийно-комсомольском профсоюзе государственной безопасности депутатов трудящихся. Это потом он так продвинулся по социальной лестнице, а тогда был просто брат Виташка, и за плату весьма умеренную был счастлив сотрудничать в бабушкином полуподпольном предприятии.
Отец Виталия был родным братом моего отца, звали его дядя Исаак, но так его в нашей семье не называли. Потому что дядя Исаак был кандидатом экономических наук, и этого никто забыть не мог ни на минуту. Так отец и говорил, бывало: «Мне звонил сегодня Исаак, кандидат экономических наук, они к нам вечером заглянут». А когда меня за что-нибудь ругали (а меня всегда за что-нибудь ругали), то непременно добавляли под конец, что так никогда себя не вел в детстве и отрочестве дядя Исаак, кандидат экономических наук. Надо ли говорить, что дядю Исаака я любил поэтому не слишком, чувство это с легкостью перенеся на всех вообще кандидатов экономических наук?
Дядя Исаак, в свою очередь, был так разумен и осмотрителен, что по сравнению с ним даже старенькая бабушка Люба выглядела беспечной и легкомысленной. Тем сильней было мое изумление, когда я узнал после смерти дяди Исаака, что он всю свою жизнь истово и тайно соблюдал еврейские обряды, неуклонно трижды в день тайком молился, надевая филактерии (это в Министерстве угольной промышленности, заметьте), свято чтил субботу и ухитрялся не работать в этот день, хотя на службу неукоснительно являлся, тратя несколько часов на пешую ходьбу.
Только теперь я понял, отчего дядя Исаак пользовался таким уважением в нашей семье, и позднее раскаяние охватило меня. Только тогда я сообразил, почему бабушка Люба время от времени печально говорила мне: «Ты, Гаренька, такой растешь цудрейтер и ашикер, что из тебя получится совсем другое». О, я был счастлив, что не буду кандидатом экономических наук! Уже дышал я исподволь озоном разных вольных ветров, читал прекрасные сомнительные книги и дружил с дивными неприкаянными людьми.
И потому именно брат Виталий перестал со мной общаться очень рано. Ибо был умен и осмотрителен. Но по-иному, чем его отец. А потому и стал, переползая со ступени на ступень, ответственным и первым заместителем в большой влиятельной газете. А когда меня посадили, то Виталий прекратил общение даже с моим старшим братом, с которым ранее очень дружил, – не постеснявшись вслух и прямо объяснить, что он боится. Хоть вовсе не такие хищные, а просто вегетарианские стояли на дворе времена.
Я все-таки Виталия еще один раз коротко увидел. После возвращения из лагеря и ссылки теща однажды повела меня смотреть какое-то кино в Дом литератора. И ряда через три от нас увидел я моего двоюродного брата. Он как бы не заметил меня даже, только я сказал сразу теще:
– Вот увидите – зажжется после фильма свет, а братика уже не будет на месте.
– Как вы плохо думаете о людях, – осуждающе сказала мне теща.
Свет зажегся, братика на месте не было.
– Старенький, а прыткий какой, – с одобрением сказала теща.
Он тогда служил тоже замом, но уже в каком-то менее престижном органе; выперли его за что-то недостаточно осмотрительное. Только уже поддували со всех сторон новые веяния, и кому другому, как не брату моему двоюродному, было их учуять первым?
От людей совсем случайных вдруг узнал я, что широко гуляет пущенный кем-то слух, будто вот за что турнули, оказывается, Виталия из той престижной газеты: он, оказывается, с открытой грудью некогда кинулся напролом защищать перед высоким начальством своего заблудшего и в тюрьму попавшего двоюродного брата. Засмеялся я, услышав эту ловкую парашу, поежился от омерзения и понял, что близки иные времена.
Когда они и вправду наступили, стал мой брат редактором другой большой газеты, и принялась она чернить все прошлое с таким же безоглядным и послушливым размахом, с каким еще только вчера восторженно славила. Поэтому, быть может, я так слабо верю в перемены, пока живо и активно поколение способных пресмыкающихся.
Заканчивать эту главу, однако, на типичном человеке в типичных обстоятельствах (как сказали бы Чернышевский и Жданов) мне очень уж не хочется, поэтому вернусь я лучше к памяти двоюродного брата бабушки Любы, личности подлинной и полноценной. Тут узнал я, что огромное учебное заведение в Хайфе – знаменитый Технион – построен был (частично, разумеется) на деньги Пинхаса Рутенберга. Текли как раз в семье нашей тяжелые времена, и в голову явилась мне забавная идея. Тут же позвонил я моему приятелю Виле (царство ему небесное, еще не раз я в книге помяну его) и с возбуждением идею изложил:
– Смотри-ка, я немедленно пишу в Хайфу письмо, что поскольку я Пинхаса внучатый племянник, то пусть они увековечат его память очень просто: где-нибудь в фойе Техниона сделают стеклянный павильон, – я за умеренную плату буду там сидеть с утра до вечера, напоминая всем о том, что был у Техниона благодетель.
– Не пиши, – ответил, не задумавшись ни на секунду, мудрый Виля. – Не пиши. А вдруг они согласятся? За каким же хуем тебе каждый день в такую даль тащиться на работу?
И бросил я пустые упования попользоваться доблестями предка.
Так получилось, что на гастроли в Америку я летел через Beну. За последние перед отъездом дни я очень устал, поэтому до Вены спал без просыпа, а там отправился в аэропортовский отель, оформился, поднялся в номер и опять улегся спать. Но через час меня подняли телефонным звонком: я уснул не в том отеле, который был оплачен, в этом я должен был остановиться через месяц на обратном пути. Очень не хотелось платить за час ошибочного сна, но они так передо мной извинялись за недосмотр (я просто кинул на прилавок все свои бумаги, отсюда и путаница), что я даже вяло подумал, не стребовать ли мне что-нибудь с них за эту оплошность. Но меня мигом привезли на такси в дивный старинный отель, где даже крохотный, обшитый резным деревом лифт напоминал о временах прекрасных, очень-очень довоенных. Огромная старинная кровать навевала мысли, не пристойные пожилому человеку, из окна во всю стену видна была узкая европейская улочка – я вздохнул от счастья и красоты, покурил и снова улегся спать. А через час (уже привычно) пробудился, ожидая переселения, но все было тихо, и я снова покурил возле окна, не одеваясь.
Утром я спустился в подвальчик, по которому сперва в восторге побродил (резное дерево, цветы в огромных кадках, бронза и картины давних лет), – мне полагался завтрак среди этого полудомашнего великолепия. Уже вовсе не так, как годом раньше, озирал я эти горы продовольствия. Предлагалось три сорта свиной колбасы (это ли не счастье для путешествующего еврея?), какие-то сыры, творог и овощи, сметана, всякие джемы и повидла, фрукты в изобильнейшем ассортименте, три или четыре сорта разных булочек и хлеба.
Я подумал, что мы порой в разных местах при жизни попадаем в рай, только мало это ценим. И, горько сожалея, что не ем по утрам, стал пить я жидкий европейский кофе. За пятью-шестью столами молча завтракали постояльцы, разобщенные личным благополучием.
Потом лениво и нелюбопытно побродил я час по центру города, где кипела и кишела утренняя суета, но храмы бизнеса и соборы делового духа не волнуют мое вялое воображение, а на музеи времени не оставалось.
И мы опять взлетели в небо. Сразу нам раздали по пакету с красными носками, чтобы мы могли снять туфли. Не портя атмосферу воздуха в салоне самолета, подумал я. Даже когда молчу, я думаю глупости.
И вспоминаю разные истории. Так, мой один приятель (он из Мюнхена домой летел) накупил себе великое множество различных дорогих сыров. И положил их, завернуть не удосужившись плотней, прямо в портфель. А запах у деликатесных этих сыров – он на любителя. И весь самолет, рассказывал приятель, вскоре начал на него коситься, а сунуть портфель наверх уже было как-то неудобно. Спас меня, рассказывал приятель, одинокий ветхий еврей, снявший туфли для проветривания ног. Все отвлеклись и про его портфель забыли. Очевидно, в рейсе из Мюнхена носков не дают.
Тут по проходам повезли еду, к которой выпивка – свободно. Я еще на взлете выпил шкалик виски с банкой пива (дали к ним пакет подсоленных орешков), так что мое одушевление было естественно. Сперва я насладился некой травкой с нежной брынзой, после залил салат каким-то соусом и под дивную зеленую лапшу стал есть удивительно невкусную ватную рыбу. Сейчас так много евреев летает всюду и везде, подумал я покорно, что пищу в авиакомпаниях, наверно, сразу делают кошерной. На два ломтика хлеба я старательно намазал масло, и они пошли под пятый (или седьмой?) шкалик, а при развозе кофе мне без всяких просьб с моей стороны дали еще пива. А что было еще в одном пакетике, я не знал, потому что сунул его в карман, чтобы его не унесли, когда собирали подносы. Там он сразу потерялся, я его искал, но не нашел.
А облака снаружи расстилались, как снежная долина под солнцем. Там неуклонно холодало – нам это показывали на экране вместе с маршрутом – было уже минус сорок два.
В минус сорок я копал в Сибири траншеи для кабеля. Летом их почти не копают, потому что летом почва мягкая, и непедагогично так использовать труд заключенных, ибо он имеет большое воспитательное значение. Зато зимой грунт превращается в скалу; его сперва отогревают кострами, а потом остервенело долбят ломом – это настоящая работа для морального перерождения зэка.
А джем я тоже съел, под виски это оказалось замечательно. То есть я знал, что это хорошо, но что настолько – не знал.
Сосед мой выпил полстакана красного вина и дико загулял. Точнее, он заснул, но всхрапывал, кидался, бормотал и явно чем-то наслаждался. Однако я спросить его не мог, а догадаться мог бы только Фрейд. Но старик давно уже не летал.
Пока дают, надо брать, – так говорила то ли моя бабушка, то ли сосед по нарам в Загорском следственном изоляторе.
И взял я водки, а в стакан мне кинули кусочки льда и, что-то коротко спросив (я, разумеется, кивнул), подлили мне томатный сок. А пиво мне уже давали машинально.
Я глянул на экран и понял, что лечу над океаном. И ясно ощутил, что он внизу и что глубокий. А было там снаружи уже минус пятьдесят. Я мысленно благословил все существующие крепкие напитки. Мелькнула мысль, что было бы уместно и пристойно мне сейчас задуматься о человеческом гении, одолевающем пространство и простор при помощи таких вот хитроумных железяк. Но я не смог. Возможно потому, что все высокие слова скомпрометированы были напрочь в нашей юности.
Я пробовал читать, но что – не помню, потому что книга выскользнула и упала, глупо было бы за ней наклоняться. Тем более, в кармане вдруг нашелся тот потерянный пакетик: он оказался не конфетой, а сырком. От удивления я съел его со шкуркой. Для съедобной она была жестковата. Но, по счастью, мимо снова проезжало пиво.
Тут я достал блокнот, чтоб написать что-нибудь путевое-дорожное, но вдруг наткнулся на невесть откуда взятую цитату:
«Зачем путешествовать? Природа, жизнь и история есть повсюду» (Ренуар).
Вот ведь дурак, подумал я. Художник, а какой недалекий. Но возражения свои записывать не стал. Непролитые слезы, невысказанный гнев, умолчанное несогласие – вот лучшая реакция мужчины, подумал я.
Летели мы над Англией теперь. Кривой какой-то выдался маршрут, но объяснить мои соображения мне было некому. А на экране обозначилась Шотландия. И я возликовал, решив послать приветственную телеграмму Вильяму Блейку или Роберту Бернсу. Но вспомнил, что они уже умерли, и решил напрасно не тревожить их прах. Тем более уже опять летели мы над океаном.
Сортир был занят, я стоял и наблюдал. В хвосте самолета собралась на молитву небольшая группа хасидов. Минут десять они ожесточенно спорили, в какую сторону им обратить лицо, чтобы смотреть туда, где некогда стоял Храм, но после обрели согласие и принялись раскачиваться над текстом. Самолет несколько раз переменил направление (зигзаги нам показывал экран), но им это было уже неважно.
Возвратившись и усевшись, я нечаянно вздернул руку (закурил, задумался и опалил бровь сигаретой) – мигом появилась стюардесса со стаканом той же смеси. А пива я бы постеснялся попросить, но она изучила меня уже наизусть и насквозь понимала.
Фигурой и лицом она была бесподобна. Вообще все стюардессы хорошели с каждым часом полета. По салону проплывали необыкновенные красавицы.
Над южной оконечностью Гренландии мне удалось задуматься о чем-то очень важном и высоком – помню, как я весь сосредоточился, собрался и протрезвел.
Проснулся я, когда наш самолет уже катился по аэродрому в Нью-Йорке. А еще говорят, что дорога долгая и тяжело переносимая, подумал я. Хотелось пить и выпить. Но надо было жить и исполнять свои обязанности. И надо было в общество втираться, скрывая для карьеры лязг костей.
– А пьян ты здорово, – сказал мой давний друг, обняв меня и чуть отстранившись. Мы не виделись почти пятнадцать лет.
– Нет, я всегда теперь такой, – ответил я ему с печальным достоинством. – Это следы переживаний и раздумий.
– Да, ты всегда это любил, – согласился мой друг. – Сейчас приедем домой и быстро сравняемся. Или ты хочешь начать прямо тут?
– Я, что ли, пьяница законченный? – надменно отказался я и, проглотив слюну, добавил с гордостью: – Я потерплю сколько угодно, если ты живешь недалеко.
Цветы жизни в нашем огороде
Что детей полезно время от времени поколачивать, известно всем и с незапамятных веков. Если виноваты – в наказание, а если невиновны – в поощрение, но чтобы помнили родительскую руку. Я эту мудрость познал когда-то на себе, но сам ни разу не воспользовался ей, чем, безусловно, нарушил воспитательскую заповедь, не случайно переходящую из поколения в поколение. А жена моя изредка детей поколачивала в нежном их возрасте. И до сих пор с радостью вспоминают они те чисто символические шлепки и подзатыльники, обожая за семейным столом вслух обсуждать неслыханные побои, коим подвергались все свое невинное мучительное детство. Что же касается меня, то в доме была в ходу привычная шутка: если дети были в плохом настроении или просто капризничали, мать сурово говорила им, что позовет сейчас папу и папа их поколотит. Дети от смеха возвращались в пристойное состояние. А я вовсе не по доброте душевной, мягкотелости или оголтелой любви не мог поднять на них руку, а по странной патологии памяти: я всю жизнь очень отчетливо и ясно помнил ощущения, связанные с собственным воспитанием. И напрасность абсолютно всех родительских попыток образумить меня, наставить на путь истинный и отвратить от дурного – до сих пор мешает мне даже давать советы своим выросшим детям. Хотя хочется порой это делать с той же неудержимой силой, как хотелось некогда дать подзатыльник.
Почему семья наша была дружна и счастлива, я обнаружил уже давным-давно и свое важное открытие скрывать не собираюсь. Год рождения моей жены Таты совпадает в точности (по двум последним, разумеется, цифрам) с размером моих ботинок, и наоборот: размер туфель моей жены – в аккурат мой год рождения. А более глубоких причин я просто не искал, поскольку убежден, что глубже не бывает.
Дочь Таня родилась у нас в марте шестьдесят шестого года. (Мы ее ждали с нетерпением, Тата еще на свадьбе чувствовала себя очень плохо.) Шел как раз какой-то очередной (конечно же, всемирно-исторический) съезд Коммунистической партии – уже странно это даже вспоминать, а тогда вся пресса изнемогала от восторгов, освещая важное событие. И я жену немало испугал, предложив назвать дочку Съездиной и дать об этом телеграмму в президиум съезда. Но назвали ее Таней (в честь прабабушки, дивного человека), привезли домой, обильно выпили большой компанией, и стала наша дочь лежать на подоконнике в картонном ящике из-под радиоприемника – это она так гуляла. К лету ближе, когда окна уже были настежь, мне как-то сказала наша соседка, ветхая интеллигентка Вера Абрамовна:
– Это вы как же не боитесь, Гарик, вашу девочку ведь могут с подоконника украсть?
– Ах, Вера Абрамовна, – ответил я беспечно и снисходительно, – лишь бы не подложили вторую!
Старушка охнула и недели две старалась не замечать меня при встрече.
Впрочем, семья наша не была уж такой разгильдяйской – мы прогуливали Таньку и в коляске. Жена великодушно избавила меня от этого попечения (я писал какую-то очередную книгу), но однажды выгнала с коляской и меня. Это очень хорошо в семье запомнилось (нет, нет, я дочь не потерял ни разу), потому что я вернулся с грустным и завистливым стишком:
- Цепям семьи во искупление
- Бог даровал совокупление,
- а холостые, скинув блузки,
- имеют льготу без нагрузки.
Маленькую Таню мы воспитывали почему-то очень строго: в частности, не подпускали к столу, когда в доме сидели гости (знали хорошо по собственному опыту, как докучают и стесняют за столом шумливые чужие дети). Это, правда, длилось недолго. Запретный гостевальный стол незамедлительно стал для малявки предметом жгучего вожделения, и как-то раз, незаметно просочившись в комнату, где мы с друзьями выпивали, наглая крошка подошла к столу и жалобно сказала:
– Если люди не хочут, я сама съем.
Тут, конечно, все едва не зарыдали, и запрет наш рухнул сам собой.
Еще ей мать с усердием читала разные художественные произведения. Настолько разные, что как-то по филологической горячке прочитала даже горьковскую «Песню о буревестнике». Это запомнилось, потому что маленькая Таня проявила вдруг незаурядный вкус и по окончании поэмы грустно, но убежденно сказала:
– Нет, не нравится мне эта птица.
А вообще была она вполне доверчива. Когда я утром вел ее в детский сад и она жаловалась, что уже устала идти (хотела на руки), то я советовал ей попрыгать или пробежаться (большой я был Песталоцци в эти годы), и она немедля следовала совету идиота, доставшегося ей в отцы. Но чувствовала себя после этого и впрямь отдохнувшей. А про детский сад и вспоминать не стоит, всем нам запомнилась одна ее когдатошняя просьба:
– Мамочка, а не могла бы ты меня водить в сад, где нету деток?
Именно тогда и пришла ко мне грустная, но верная мысль, что садисты – это родители, отдающие своих малявок в детские сады.
Я принимал посильное участие в умственном развитии нашего ребенка. Если нам обоим доставалось что-нибудь особенно вкусное, то я, развивая детскую сообразительность, всегда предлагал:
– Давай сперва съедим твое, а потом каждый свое.
– Давай, – спокойно соглашалась дочь, и я пристыженно замолкал.
Вообще о детей наших разбивались вдребезги самые различные педагогические приемы. Однажды наш приятель, кандидат каких-то важных наук, услышав, что у маленького Эмиля нелады с арифметикой, надменно и неосмотрительно предложил за пять минут вразумить и обучить этого мелкого человека. «Я десяти таджикам диссертации по педагогике написал», – горячился приятель, и мы позвали сына, приготовившись к позору самонадеянного умельца. Так оно мгновенно и случилось.
– Вот посмотри-ка, Миля, – вкрадчиво сказал педагог, – мы сейчас с тобой сразу же поймем вычитание.
Милька молча и преданно смотрел на симпатичного дядю.
– Ты только представь себе, Миля, – задушевным голосом сказал большой педагог, – что я тебе сейчас даю четыре яблока…
– Спасибо, – сказал Миля, расплываясь в радостной улыбке, и учитель сконфуженно замолк. А Милю отпустили ни с чем, что не должно было ему прибавить уважения к ученым людям.
Я только отвлекся от важной темы: своего старательного участия в нелегком деле взращивания ребенка. Жена Тата работала в музее, так что мне порой до самого ее возвращения выпадало счастье незамысловатого попечения: следить через окно, чтоб Танька никуда не отлучалась из песочницы. И до сих пор не могут мне в семье забыть, как позвонила Тата из музея, и я сердечно ей ответил, что смотрю в окно ежеминутно и сейчас только смотрел: там дочка Таня благополучно возится с песком в своем трогательном красном пальтишке.
– Игорь, – сказала мне жена, и я впервые в жизни явственно услышал, что мое имя может прозвучать как абсолютный звуковой синоним слова «идиот». – Игорь, – повторила она, – Таня свое красное пальтишко износила уже год назад, она гуляет в голубом, я срочно выезжаю.
Ничего, однако, страшного не произошло. Танька три часа уже сидела у подружки и разве что вспотела, так и не сняв свое голубенькое пальто. И вовсе не было причин мне это помнить столько лет, но таково устройство женской памяти.
За всем происходящим в доме наша малявка пристально следила, наблюдениями своими тут же делясь. Отец, например, как-то по задумчивости не закрыл за собой дверь в том месте, где ее сразу закрывают. Мы б этого и не заметили вовек, но Танька прибежала к матери с негромким удивленным возгласом:
– Мама, дедушка вошел в уборную, что-то достал и держит!
Почему-то я с неукоснительной строгостью следил, чтоб дети утром не оставляли свою кровать неубранной – очевидно, мне в те годы это казалось основой аккуратности и порядка. Я достиг большого педагогического успеха: как-то маленькая Танька встала ночью пописать и обнаружила, вернувшись, что она машинально застелила постель.
А культурно развивал я дочку неудачно. Однажды взял, к примеру, на выставку знакомых художников. Мы долго добирались на метро, потом плелись пешком, а по дороге я рассказывал малявке, какой странной, необычной и прекрасной будет эта выставка картин под открытым осенним небом. А когда добрались наконец, то в ту же самую минуту на пустырь, где прямо на земле стояли мольберты, выскочили дюжие и злобные ребята, полилась вода из пожарного брандспойта, и на беззащитные картины поехал слепой огромный бульдозер. И я стоял, глотая слезы злости и бессилия, и праздника не получилось. Это угадали мы на ту самую, сегодня знаменитую «бульдозерную» выставку, но что я мог тогда объяснить маленькой девочке?
Дети, кстати, сами того не понимая, говорят порой совершенно исторические фразы, только взрослые осознают провидческий характер этих слов гораздо позже. Так мы с Танькой ехали куда-то, угадав случайно в день пятидесятилетия империи (это было в семьдесят втором). Ничто еще не предвещало распада, и гремела музыка из уличных репродукторов, и развевались праздничные флаги, и огромная стояла очередь на наш автобус, долго не приходивший. Но в конце концов он появился, мы забултыхались в хлынувшей толпе, держась за руки, чтоб не растерять друг друга, и моя дочка тихо вдруг сказала фразу, ключевую для такого исторического дня.
– Лучше ехать на такси, – сказала она мне, – чем со многими народами.
А сами народы, обратите внимание, до нехитрой этой мысли еще лет пятнадцать тяжко додумывались.
Я писал тогда разные статьи о науке, у меня их взял печатать журнал «Юность», и кошмарно я гордился, что статейки мои были с фотографией. Приезжал ко мне домой фотограф, долго всячески усаживал меня на стул, хвалясь попутно, что снимал недавно Анастаса Микояна, наклонял мне голову то вправо, то влево, а один раз в профиль повернул, и я едва успел про нос подумать, как он в ужасе мне властно закричал: «Обратно!»
А спустя неделю после выхода журнала опознала меня именно по фотографии дочь Таня, идя с матерью из магазина.
– Мама, – закричала она радостно, – смотри, вон на помойке папочка валяется!
Из собственных ее литературных упражнений (как же без них в интеллигентной семье!) у нас и посейчас одно сохранно. Жена работала в музее Пушкина, и дома в разговорах очень часто его имя всплывало, и читали его сказки и стихи, но дети ведь не ведают нашей иерархии уважения: для Тани маленькой это светлое имя оказалось связано с печалью, что мать иногда вечерами уходит на какие-то чтения, тоже относящиеся к Пушкину. И попалась Таньке фотография артиста Александра Кутепова, часто выступавшего в музее (это она знала), и написала дочь на обороте все слова, что выражали ее чувства (сохраняю авторское написание): «Евген Оныгин – свенья».
О таком детском наплевательстве на взрослые наши святыни помню я еще одну историю, поэт Сергей Давыдов нам ее как-то в Питере рассказал. Однажды в нежном возрасте (много лет тому назад) привезли они свою дочь в Комарово и стояли на лужайке – гуляли. Подошла к ним шедшая к кому-то в гости Анна Андреевна Ахматова, пожаловалась вскользь на кашель и насморк по осенней погоде, а маленькую дочь их – наклонилась и поцеловала. А уже по детскому саду знала многоопытная дочь, что простудой можно запросто заразить человека, и тогда прости-прощай прекрасные прогулки по свежему дачному воздуху. И, к ужасу родителей, воскликнула крошка гневно:
– Ты зачем меня поцеловала, сопливая старуха?
Тут ее поволокли, конечно, в дом, надавали шлепков и в угол поставили, объясняя попутно, как все любят и почитают Анну Ахматову и какой это ужас и невоспитанность – такое говорить такому человеку. Но через час решили, что повоспитали достаточно, и отпустили снова погулять. И, как назло, возвращаясь домой, появилась величественная Анна Андреевна. Решив наладить отношения, бедняга-дочь ей громко закричала:
– Анна Лохматова, я тебя прощаю!
И девку снова потащили на правеж.
Танюшке нашей очень помогали жить ее оптимизм и доверчивость. Как-то принесла она из детского сада свой рисунок и сказала не без гордости:
– Мамочка, вот мы сегодня рисовали, и хорошие рисунки нам велели понести домой и показать родителям, а которые вышли так себе, те забрали на выставку.
Но вскоре отличилась она по вполне художественной части. Кто-то подарил ей набор цветных мелков, и они на пару с закадычной подружкой восемью цветами на асфальте у подъезда написали крупно и красиво слово «жопа». Тут мы с Татой быстро набежали, подружка смылась незаметно и мгновенно, Таньке дали в наказание большую мокрую тряпку, и она, слезами обливаясь, принялась уничтожать написанное. Тряпку она время от времени приносила домой, я сурово прополаскивал и выжимал ее, и Танька снова шла на свою каторжно-исправительную работу. После чего от горя и страданий она мелками даже рисовать не стала – кажется, их подарив коварной задушевной подружке. И подружка стала с возрастом прекрасной художницей. Ибо неисповедимы пути Господни.
А в семьдесят третьем у нас народился сын Эмиль. И такой приветливый получился ребенок, что на все подряд улыбался, радуясь земному существованию. Я это очень хорошо помню по домашнему стишку одному, за который люто меня ругала жена Тата:
- Жизни чудная картина:
- дура вышла за кретина,
- и хохочет во весь ротик
- урожденный идиотик.
Никакой пресловутой ревности к новорожденному младшему наша дочь, по счастью, не испытала. Она чувствовала неизменной нашу любовь и поэтому сполна разделяла радость. Я об этом могу смело судить по одному показательному факту: в табельный краснознаменный праздник 23 февраля – День Советской армии, когда принято поздравлять мужчин, пошла семилетняя дочь наша в магазин и на собственные сбережения купила шестимесячному брату погремушку. Думаю, что более ценных подарков он как мужчина и поныне не получал.
- Наша мама лучше всех:
- родила Эмиля,
- посмотреть – ужасный смех,
- что за простофиля! —
распевали мы вместе с Танькой очередной стишок моего сочинения. И дочь моя в ту пору уважала меня как литератора, ибо ее подружки все мои стишки такого толка переписали в свои заветные тетради. Это была для них первая встреча с упоительно влекущей неприличностью:
- Наша Таня – октябренок,
- писать бегает сама,
- а Эмиль еще ребенок,
- плачет в кучке из дерьма.
На дворе уже шли-катились удивительные семидесятые годы. Мой отец еще успел, по счастью, насладиться видом внука. Заходил, когда его купали, взглядывал на пипиську младенца и блаженно говорил: «Надо же!» Семь лет назад он так же заходил, когда купали Таньку, но моя мама немедля на него сурово прикрикивала: «Уходи, Мирон, ты делаешь ветер», – и он покорно исчезал.
А как-то он пошел в сберкассу, положил на счет свои накопленные небольшие деньги и отдал Тате эту сберегательную книжку, лаконично сказав:
– Гарика посадят непременно и гораздо раньше, чем он этого захочет; пусть у тебя будут деньги на первое время.
В доме не переводился самиздат. Отец читал каждую книжку, а когда мне ее возвращал, то непременно произносил монолог об опасности такой литературы, об ответственности перед семьей, о глупости моего риска и беспечности. А монолог закончив, спрашивал: «Еще что-нибудь есть?» – и жадно уносил в свою комнату.
Милька рос веселым маленьким человеком, обожал увязываться за старшей сестрой, а как-то сметку проявил такую, что я мельком про себя подумал: хоть один, быть может, деловой человек вырастет в нашей безалаберной семье. А было так: его, клопа четырехлетнего, не пустили к Танькиной подружке на день рождения. Он не заплакал, не канючил, даже не насупился ничуть. Но спустя всего час после того, как старшая сестра ушла с подобающей случаю взрослой важностью, в квартире у подружки раздался звонок. Дверь открыла ее мать. А маленький Эмиль, ничуть не попытавшись просочиться, вежливо спросил:
– Я просто зашел узнать, как у вас тут Таня устроилась.
– Так заходи, Эмиль, раз уж пришел, – пригласила хозяйка.
– Хорошо, – сказал Эмиль, не улыбнувшись, – я только сбегаю домой, переоденусь.
А еще он в этом возрасте испытал острую первую любовь. Она его постигла в Одессе, где мы всей семьей блаженно отдыхали. Ни на шаг не отходил мой сын весь месяц от кокетливой пятилетней девчушки. Как и подобает первой любви, она закончилась печально. В день отъезда Милька встал очень рано, деловито нарвал с казенной клумбы два букетика цветов, один успел занести матери (мы даже не ругали его за кражу, ибо назревала трагедия расставания), а со вторым долго и напрасно стоял у домика, где жила любимая. Но ее в тот день безжалостно наказали, потому что (это выяснилось чуть поздней) она в ту ночь уписалась, не попросившись на горшок. И разлука состоялась без прощания.
У меня с Милькиным детством связано одно очень тяжкое утро в моей жизни. Мне потрясающе яркий сон однажды приснился: солнечная сочная весна, ручьи повсюду, а мы тесной группой, словно закадычные друзья, выходим на улицу – я и три следователя, которые только что у меня в доме делали обыск. Пятилетний Милька шастает, уже весь мокрый, по воде, пуская кораблики. Я подхожу к нему, глажу по горячей голове (ощутимо чувствуя во сне его шелковые детские волосенки), что-то говорю ему, чтобы не мок зазря, а обернувшись – никого не нахожу. Молча и незаметно испарились мои следователи, я свободен. От нахлынувшего счастья я проснулся, ясно это счастье продолжая ощущать. Проснулся в душной тесной камере Волоколамской следственной тюрьмы. И тут такая меня тоска взяла, что я до сих пор ее чисто чувственно помню.
Арестовали меня в семьдесят девятом. Следствие тянулось очень долго: всеми средствами меня пытались дожать, чтоб дал я показания на моего близкого друга; он их куда более, чем я, интересовал, поскольку был редактором подпольного еврейского журнала. После суд был, короткий и заведомый, а перед отправкой в лагерь дали мне свидание с женой. Как водится – через стекло и разговор по телефону. Жена с собой и дочку привела. Уже я к тому времени был весь из себя завзятый зэк, ничем меня было не прошибить, поскольку я еще играл в отпетого зэка, этой новой ролью изо всех дурацких сил наслаждаясь. Ведь заметил очень точно кто-то мудрый: если уж несет тебя течение судьбы противу твоей воли, то плыви по нему и получай удовольствие. Только Танька мне игру мою под корень подкосила, хотя сидела тихая как мышь, сбоку от матери, меня разглядывая молча. А я через стекло проклятое все время на жену смотрел (и зэк был зэком), а на Таньку только покошусь, и глаза мои предательски намокали.
Выручил меня смешной кусок из нашего опасливого диалога (в торце стола свиданий сидела надзирательница с отводной трубкой и чуть что – вмешивалась, грозя свидание прервать). Жена рассказывала мне приятные вещи: что кампания идет в мою защиту в разных странах, что приняли меня в ПЕН-клуб, что все друзья за мою честь вступились (до суда еще заметки появились в подлых газетах, что я чистый уголовник и напрасно за меня американские сенаторы базар затеяли). Все это выслушав с большим удовольствием, я завзятым зэковским тоном у жены спросил:
– А что ребята передать просили?
Тут у очень доброй и любимой за душевную мягкость жены моей Таты вдруг застыли каменно губы, и сказала она мне, чуть не ощерясь:
– А просили передать тебе ребята, чтоб ты хоть в лагере язык не распускал!
И пусть расстроился тогда я – и невидимые слезы вмиг подсохли, – а на пользу это мне пошло: почти вовсе не пошучивал я в лагере над советской властью и начальством.
Что, возможно, мне и помогло, когда я по совету блатных зэков ловкую устроил авантюру (в лагерном дневнике я это описал) и выйти в ссылку ухитрился досрочно.
Жена моя немедля ко мне с сыном в Сибирь приехала (а дочь училась и до лета оставалась). На вокзале сын мой семилетний обнял меня так спокойно, словно мы вчера расстались, и заботливо сказал:
– А жалко, папа, что тебя в тюрьму посадили, по телевизору недавно шел отличный детектив.
И стали мы жить-поживать в дивной бревенчатой избе – мне разрешили жить с семьей, а не под охраной в специальном общежитии для нашего брата. И только приезжали милиционеры на проверку: покидать дом вечером я права не имел.
О тамошних морозах жизнь предупредила меня сразу. В первый же вечер жена затеяла в тазу большую стирку, я крутился рядом на подхвате. Крепко выжав простыню, я выскочил во двор, водрузил ее сушиться на веревке и вернулся в дом за следующей. Время моего отсутствия вычислить легко. А снова выбежав во двор, чтоб вывесить вторую, я больно (чуть не разбив лицо до крови) ударился о первую, превратившуюся в ледяную стенку. А туалеты (особенно уместно это слово здесь) в деревнях располагаются снаружи.
В общежитии за все три года ссылки я оказался лишь единожды и месяца четыре там прожил. Меня туда загнали без вины, все было просто и понятно. Близкий друг мой издал в Америке книжку моих стихов, это первая была под подлинной моей фамилией (а раньше вышли две под псевдонимом). И из Москвы последовал звонок (или бумага), чтобы меня примерно наказать. Для ссыльного какое наказание чувствительней, чем разлучить его с семьей? Вот так и сделали. А мне шепнули, чтобы я пожаловался прокурору. А точнее – чтобы не боялся жаловаться, в лагерь меня за это не вернут. (Угроза возвращения обратно в лагерь ежечасно висела в воздухе, что делало живущих в нашем общежитии рабами полными и бессловесными.) Письмо я прокурору написал, но слишком не надеялся. Была как раз весна, и огород пора было копать и строить из навоза теплицы, чтобы в доме были огурцы, – чисто крестьянское испытывал я чувство оторванности от жизненно необходимого хозяйства.
Однако же на выходные – отпускали, так что я через неделю привел домой к нам пятерых приятелей, и мы всего лишь за день засадили огород. Точней – картошку, ибо остальное мы с женой и сыном постепенно в выходные дни досеяли и досажали. Когда те пятеро сели с устатку выпивать, то я вдруг с удивлением обнаружил, что все они до одного – недавние убийцы. Кто жену пришил, кто друга, кто соседа. После Тата уверяла меня, что именно поэтому в том году необычно мелкая картошка уродилась в нашем огороде, только я в такие суеверия не верил. Однако же забавным показалось мне тогда, что приятелей себе я неосознанно подбирал по их способности к решительным поступкам.
В комнате нас жило четверо, но один то спал у своих друзей в другой комнате, то вовсе исчезал на ночь, у него с охранниками были какие-то свои отношения. Весьма, впрочем, простые: он носил им дармовую выпивку – самогон, который гнала его сожительница. Этот Шурка был мужик с идеями: от него впервые услыхал я, что Сибирь отделится однажды от России, потому что замечательно проживет сама по себе. Еще был как-то разговор, который крепко врезался мне в память; мне понятнее стал климат нашей тамошней жизни.
Шурка забежал после работы что-то взять, а в это время мой сосед Пашка-плотник (его так и звали все) копался в своей тумбочке, сидя на корточках. Шурка вдруг молча хлестанул его по шее рукой, Пашка упал, и Шурка еще сильно пнул его ногой.
– Чтобы ты, сука, при мне в своем гавне не возился, – сказал Шурка. – Пока я здесь, сиди и не дыши.