Читать онлайн Шотландия в Новое время. В поисках идентичностей бесплатно
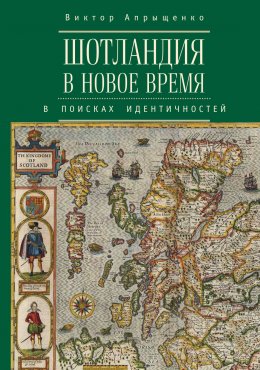
Южный федеральный университет
Редколлегия серии «Pax Britannica»:
М.В. Винокурова, О. В. Дмитриева, Т.Л. Лабутина, Л. П. Репина, Л.П. Сергеева, С.Е. Федоров, А.А. Чамеев
© В. Ю. Апрыщенко, 2016
© Южный федеральный университет, 2016
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016
Предисловие
В 2004 году в бытность мою стажером Эдинбургского королевского общества Хэмиш Фрейзер задал мне вопрос о ближайших планах. Без доли сомнения я пообещал ему, что в течение года закончу книгу по истории Шотландии Нового времени. Тогда мною владело убеждение, что все необходимое об этом периоде шотландского прошлого я уже знаю. Но по мере моего погружения в исторические источники Шотландия открывалась мне совершенно новой – в некоторых аспектах более традиционной, чем я это представлял, а в других – совершенно опережающей в развитии другие регионы Европы. И сегодня, по прошествии более десяти лет после того разговора, я уже далеко не уверен, что представленный на страницах этого исследования образ Шотландии является сколько-нибудь полным.
За время работы над этой монографией материалы по истории Шотландии обнаруживались в самых, казалось бы, необычных местах, как это случилось, например, в библиотеке государственного университета Сан-Диего (SDSU), где мне довелось провести несколько счастливых месяцев. Целый ряд источников по истории шотландцев в Новом Свете из собраний этой библиотеки оказал значительное влияние на концепцию данного исследования. Большая же часть материалов для книги была собрана в научных центрах Великобритании, включая Национальную библиотеку и Национальный архив Шотландии, библиотеки Эдинбургского и Стратклайдского университетов, университетов Данди и Лидса, Лондонской школы экономики и политических наук, Британской библиотеки и Британского архива в Кью.
Как и при подготовке ранее вышедших монографий, работая над этой книгой, я имел возможность обсуждать ее концепцию, содержание и отдельные вопросы с моими коллегами, которые щедро делились со мной идеями и информацией, подчас критически, но всегда деликатно относясь к моим идеям. На разных этапах работы своими советами и участием мне помогали Хэмиш Фрейзер, Дэвид Мун, Юен Камерон, Джанет Хартли, Уильям Райн, Лиза Райн. Надежда Филатова, Анастасия Мигаль и Марина Моисеенко, мои аспиранты, занимающиеся историей Нового времени, оказали неоценимую помощь при составлении Указателя. Особую благодарность хочу выразить Вячеславу Сергеевичу Савчуку, моему коллеге и, полагаю, другу, который, будучи одним из первых читателей книги, как всегда внимательно, но строго отнесся к содержанию и стилю исследования.
Наконец, мои близкие, сами, вероятно, того не осознавая, сделали все, чтобы это исследование появилось. Я искренне благодарю и кланяюсь моим родителям, а также Татьяне, Косте и юной Веронике за их поддержку и участие.
Введение
О границах и разграничениях в шотландской истории
Результаты выборов 5 мая 2011 г., на которых Шотландская национальная партия получила беспрецедентные 69 из 129 парламентских мест, были и неожиданны, и предсказуемы одновременно. Неожиданны – оттого, что как исследователи, так и общественное мнение в последние десятилетия были скорее склонны рассматривать шотландский национализм как культурное движение, не претендующее на политическую независимость для страны, что находило выражение в общем-то незначительном представительстве национальной партии в парламенте. Вместе с тем, динамика шотландского национализма на протяжении последних десятилетий свидетельствует о непростой природе этого движения, в которое были вовлечены как деятели культуры и образования, науки и религии, так и политики, представляющие различные спектры политической палитры. К тому же опросы последних нескольких лет свидетельствовали о неуклонном росте националистических настроений среди шотландцев.
Вместе с тем первые после выборов 2011 года заявления лидеров ШНП, включая Алека Сэлмонда, также свидетельствовали о двойственном положении националистов, которые, с одной стороны, должны были теперь исполнять свои предвыборные обещания и, очевидно, инициировать референдум о независимости Шотландии, а, с другой, националистическая политическая культура рубежа XX–XXI столетий была и остается тесно связанной с национальными практиками предшествующего времени, что обращает нас к «юнионистской природе» шотландского национализма.
Основываясь на достигнутом в 2011 году успехе и после многочисленных и непростых переговоров с правительством Соединенного Королевства, националистами было принято решение о проведении референдума о независимости Шотландии, который состоялся 18 сентября 2014 года. Отвечая на вопрос бюллетеня «Должна ли Шотландия быть независимым государством», 55 % шотландских избирателей ответили «нет», тогда как остальные выразили свое желание полной политической самостоятельности для страны. И хотя это был результат, предсказываемый многими политическими комментаторами на ранних стадиях кампании за независимость, многих он также удивил. Конечно же, референдум не поставил точку в дебатах о шотландской независимости, как не были эти дискуссии и начаты с возникновением Шотландской национальной партии в 1934 г.
Споры противников и сторонников шотландской независимости начались даже задолго до того, как в 1707 году Шотландия и Англия, заключившие парламентскую унию, стали частями одного королевства, к которому столетием позже присоединилась Ирландия. В день подписания унии граф Шефилд, один из лидеров шотландского национального движения, сказал, что уния означает «конец старой песни»[1], но если это было и так, то последующие поколения борцов за национальную независимость все еще не могли в это поверить. В середине XVIII в. Александр Карлейль, пресвитерианский священник и один из интеллектуальных лидеров Просвещения, говорит, что если шотландцы не смогут защитить от Лондона право на собственную милицию, то нация станет провинцией и будет завоевана [британским] королевством[2]. Но, как показала история, слухи о смерти Шотландии вновь оказались сильно преувеличены, и в 1792 г. Роберт Бернс снова прощается с «шотландской молвой», «древней славой» и самим «именем Шотландия». И, наконец, уже в 20–30 гг. XIX в. Вальтер Скотт поет поминальную песнь своей родной Шотландии и ее былой славе[3] – на этот раз поводом послужил запрет на печатание собственных бумажных денег.
Использование прошлого и его мифологизация повсюду и давно стали факторами национального строительства. В британском же контексте традиционным стало акцентирование внимания на различиях Англии и Шотландии, даже когда эти различия были не столь уж значительны. На протяжении последних трех столетий Шотландия обладала автономией, хотя и не полной, но гораздо большей, чем многие европейские провинции в составе более крупных государств. И хотя форма и степень этой автономии менялись вслед за изменением экономики и общества, идея о том, что Шотландия – это не просто одна из британских провинций, а полноправный партнер в рамках унии, питала мечты и устремления многих шотландских националистов. Как бы то ни было, современный политический дискурс делает необходимым обращение к шотландскому прошлому, в котором могут быть найдены необходимые обоснования нынешней политики.
Кроме того, академические причины делают обращение к истории Шотландии не менее важным. Хотя современное историописание по большей части отказалось от практики больших нарративов, все более дрейфуя в сторону микроисторических сюжетов, в которых исследователи отыскивают тенденции глобальных процессов, историю формирования национальных идентичностей можно в равной степени рассматривать и как предмет микроистории, и – макроисторических изысканий. Изучая отдельные сюжеты, связанные с отстаиванием прав на национальное самоопределение, национальные символы, практики историописания и другие формы реализации национальной идентичности, исследователь погружается в повседневную жизнь нацие-строительства. Это был тот процесс, который Эрнестом Ренаном в его знаменитой лекции «Что такое нация», прочитанной в Сорбонне, был назван «ежедневным плебисцитом».
Однако если исследователь национальной идентичности задастся вопросом о закономерностях (как же старомодно теперь звучит это выражение!) процесса нацие-строительства или сформулирует дилемму компаративного анализа, ему потребуются несколько иные техники изучения и более масштабный взгляд на проблему. Изучая, например, историю парламентской унии 1707 г., включая ее политическую, социальную, интеллектуальную стороны, мне пришлось столкнуться с целым рядом практик и техник – тех, что отражали представления о нации и идентичности. Вместе с тем, за пределами того исследования остались другие, подчас более традиционные, а иногда – совершенно современные представления о своих и чужих, о дозволенном и запрещенном рамками националистического дискурса, о представлениях, связанных с прошлым и будущим. Изучение таких проблем требует постановки иных вопросов.
Работая над историей Шотландии в Новое время, я все время испытывал искушение писать не одну, а несколько историй, которые соответствовали бы шотландскому прошлому, столь разнообразному в своих проявлениях. В самом деле, история европейского Нового времени являет собой общую тенденцию к унификации, преодолению границ и обособлений. И в этом смысле шотландское прошлое представляет противоположность, поскольку некоторые границы, которые пролегли между разными его частями, лишь усиливались в период XVI–XIX столетий, тогда как другие – стирались.
Среди границ, занимающих историков, пожалуй, самыми важными являются хронологические. Хотя проблема перехода от Средневековья к Новому времени не раз дискутировалась в самых разных контекстах, даже сегодня с трудом можно говорить об общем консенсусе. Думается, что этот спор является лучшим подтверждением множественности стратегий перехода от одной эпохи к другой. Полагая основной характеристикой Нового времени рыночный способ производства и распределения материальных благ, историк, конечно же, станет искать корни новой эры в условиях промышленной революции, созревших в Шотландии к середине XVIII столетия. Другой исследователь, считающий базовыми чертами модерности народное представительство и его институты, столь же справедливо, как и его коллега, заявит, что революционные потрясения середины XVII в. вкупе с идеями, выдвигавшимися передовыми мыслителями, привели к формированию либеральных начал в обществе. Наконец историк повседневности, скептически относящийся к «истории сверху», столь же аргументированно обоснует идею о том, что изменения в образе жизни и повседневных практиках произошли лишь в XIX столетии, и поэтому вплоть до этого времени модерная Европа была лишь неким идеалом, не достижимым для многих.
Такие объяснения, вероятно, являются справедливыми для большинства европейских регионов, на протяжении XVI–XIX вв. переживших потрясающие изменения всех сфер жизни. Но только не для Шотландии. Здесь могущество горских вождей на протяжении столетий определяло и материальные взаимоотношения, и практики повседневной жизни, и роль центральной власти. Именно клановые институты, в том или ином виде просуществовавшие до начала XX столетия, определили весь облик Шотландии эпохи Нового времени. И поэтому без понимания клановой организации, системы родства и шире – шотландской социальной традиции – невозможно понять ни феномен уний 1603 и 1707 гг., ни шотландскую просветительскую традицию, ни рабочий протест XIX в. Полагая началом шотландского Нового времени XVII или даже XVIII вв., как это делают некоторые историки, и пытаясь встроить Шотландию в общеевропейский контекст, мы неизбежно будем редуцировать прошлое. Нововременная история Шотландии – это история рождения, становления, могущества, кризиса и распада клановой организации. Начало этой эпохи совпало с формированием клановой организации, наиболее отчетливо происходившим в XV столетии на самом севере Британских островов.
Еще одна из границ в шотландской истории пролегла по традиционной линии противостояния севера и юга. Учитывая эту линию противостояния, следовало бы написать две истории Шотландии. Одну – историю индустриальной Шотландии, той, что столь горда своими промышленными успехами, в которой Глазго, второй по величине город, являлся одновременно и вторым городом Британской империи, и в ее становлении Шотландия приняла самое непосредственное участие. И вторую – историю Шотландии горной, куда менее успешной в своем промышленном развитии, довольствующейся статусом региона, поставляющего рабочую силу для индустриального процветания империи, но гордящейся своими кланами.
Парадоксальность противостояния шотландского Севера и Юга заключалась в том, что граница между ними в Новое время в значительной степени преодолевалась вовне – даже за пределами Альбиона, где именно благодаря хайлендерам, представителям горских кланов, шотландцы смогли почувствовать себя строителями империи. Противостояние Севера и Юга является одним из наиболее распространенных в истории цивилизаций противоборств, где Север всегда ассоциируется с дикостью и варварством, а Юг – с цивилизацией и высокой культурой. Именно благодаря той бедности, которая испокон веков сопровождала горные территории Шотландии, хайлендеры вынуждены были искать лучшей доли за пределами родины, отправляясь к югу от границы, в Лондон и другие города соседней Англии, а то и за ее границы. Однако пересечение географических барьеров не означало преодоления культурной дистанции. Так же, как хайлендеры в Эдинбурге рассматривались как «варвары тех северных земель», выходцы из Шотландии, прибывавшие в Лондон и другие графства в югу от границы, считались чужими для цивилизованной Англии.
Развитие средств коммуникации, в том числе железнодорожное строительство XIX в., лишь отчасти решало эту проблему. Благодаря транспортным сетям все большее количество шотландцев попадало в Лондон и другие крупные города, а это вызывало негодование многих англичан, рассматривавших выходцев с Севера как конкурентов на и без того насыщенном рынке труда. Все в шотландцах – их необычный говор, манера одеваться, предприимчивость и бережливость, стремление к сохранению собственной культуры в чужом окружении – вызывало раздражительность жителей Лондона. И только Империя, где жители и Севера, и Юга оказались в меньшинстве в зачастую враждебном окружении и вынуждены были вместе решать общие задачи, примирила их и заставила искать, зачастую и изобретать, общую традицию и культуру, создавать британскую идентичность.
Конструируя британскую национальную идентичность, и в этом смысле преодолевая границу, разделявшую жителей двух частей королевства, каледонцы не утрачивали собственно шотландской идентичности. Социальная и территориальная мобильность, характерные для модернизирующегося общества, сыграли для развития национального самосознания Шотландии скорее положительную роль. Несмотря на те преобразования, которые Шотландии довелось пережить в XVIII и XIX вв., ей удалось сохранить символы, составлявшие ядро ее идентичности. Представления о прошлом и о нынешнем положении Шотландии в рамках Британии нашли свое воплощение в сформировавшемся мифосимволическом комплексе – смеси мифа, памяти, знаков и символов, которая не просто определяла принадлежность к шотландской нации, но также и саму идею «шотландскости», выражая то, что значит быть шотландцем. Важно, что существование, статус и безопасность шотландской нации находилась в прямой зависимости от статуса ее национальных символов, включая символы прошлого, чем и объясняется их значимость для нации[4]. И именно поэтому люди готовы были отстаивать эти символы, следовать за своими лидерами, приравнявшими национальные символы к самой нации.
Это отождествление символов с самим прошлым способно, вероятно, объяснить, почему идея нации в исторической ретроспективе и в современности столь могущественна, откуда она черпает свои силы. Человек, защищающий национальную идентичность, отстаивает в равной степени и свое самосознание, собственные интересы, в том числе и материальные блага, и борется за выживание своего народа, своей территории, за веру – все то, что воплощено в национальных символах. И очевидно, что попытки создать идею нации только тогда успешны, когда они подкрепляются политикой в области символов.
В результате процесса трансформации идентичности к середине XIX в. сформировался целый ряд бинарных оппозиций, отражающих противоречивое отношение к процессу англо-шотландской интеграции, однако все они ориентированы не по вертикали, то есть имеют не диахронный, а синхронный характер, примиряя историю и современность, подчиняя прошлое настоящему и рассматривая настоящее как ту систему координат, в которой оценивается событие. Среди таких дихотомий наибольшее значение имели противопоставление «разума», фиксировавшего целесообразность упрочения англо-шотландских контактов, и «души», зовущей шотландцев в независимое прошлое; т. н. «изобретение традиции», которая должна была примирить прошлое и настоящее; и, в конечном счете, сама категория «юнионистский национализм».
Удивительным образом эти противоречия преодолевались в процессе обработки прошлого, формируя новый нарратив, отвечающий потребностям времени. Шотландские интеллектуалы XVIII-начала XIX в., которым довелось жить в период наиболее драматической ломки идентичности, сочетая «разум», воспетый идеологами Просвещения, и «сердце», призывающее сохранить исконный шотландский дух, отыскивали ответы на волнующие их вопросы в прошлом, одновременно адаптируя историю к реалиям модернизирующегося общества. Делая предметом своих изысканий прошлое, они транслировали его в современную им Шотландию, используя политику в области символов. Превращение культуры и самого прошлого в китч было необходимо для того, чтобы элитарные идеи стали достоянием всей нации, тем самым преодолевая кризис идентичности. И это было одновременно и разрушение старых границ, вызывавшее тревогу и опасение, но и создание новых, основанных на символах и не угрожающих целостности Британии.
В процессе трансляции прошлого в настоящее происходило неизбежное редуцирование коллективной памяти, воплощенной в визуальных, нарративных и дискурсивных символах, формировавших такой язык и знаковую систему, в категориях которой можно было бы объяснить происходящие изменения. Эта знаковая система, которая даже при утрате формальной независимости Шотландии позволила шотландцам сохранить собственную культурную идентичность, выжившую, несмотря на драматические потрясения XVIII в. На короткое время эти символы, «коды» «шотландскости» были изъяты из обращения, чтобы вскоре вернуться уже в новое общество развивающейся модернизации и в новом контексте обрести иной смысл.
Многие символы в этом процессе приобретали вневременное значение, сохраняя форму, но транслируясь из одного мифа в другой, обретая разное, порой противоположное содержание. Если «стюартовский» и «ганноверский» мифы противостоят друг другу как прошлое и настоящее, то горские символы должны были связать эти две временные категории. При этом национальные символы свидетельствовали не только о процветании Северной Британии, как результате собственного шотландского выбора, сделанного в 1707 г., но и о том, что народ обрел власть над прошлым, установив над ним эффективный контроль, направленный на благо своей нации.
Не менее заметная граница, чем та, что пролегала между севером и югом Шотландии, проходила по линии «восток – запад». Разница между этими двумя регионами имела, скорее, социально-экономический характер, но со временем приобрела существенное значение для идентичности. Восточное побережье с его сельскохозяйственными угодьями, пастбищами и зерновыми полями, являло разительный контраст бурой растительности северо-запада, где лишь изредка и сегодня можно встретить одинокие фермы. Именно северо-западные регионы страны традиционно являлись источником эмиграции как внутри королевства, так и в пределах империи, тогда как восточные земли становились той частью королевства, откуда различного вида сырье, включая дорогостоящий лес и уголь, вывозилось в разные части Европы.
Индустриальная революция XIX в. хотя несколько и сгладила различия между этими двумя частями Шотландии, все же не устранила их полностью. В этом смысле две Шотландии продолжали существовать на протяжении всего Нового времени. Полагая империю одним из основных источников шотландской национальной идентичности, следует, вероятно, признать, что эмиграция из северо-западных регионов в колонии непосредственным образом сказалась на динамике национального самосознания в XIX столетии. Обезземеливание крестьян в результате чисток времен индустриальной революции превращало трагедию отдельной семьи в источник национального процветания.
Еще одна усиливающаяся линия противостояния пролегла по религиозному признаку. На протяжении столетий, начиная с реформационного движения XVI столетия, религия была одновременно и одним из факторов раскола, и консолидирующей силой. В этом смысле Шотландия ничем не отличается от других регионов Европы, где на протяжении всего Нового времени религиозная эмансипация шла рука об руку с формированием национальной государственности и превращением религии в частное дело граждан.
В Шотландии, однако же, религия была не просто вопросом индивидуального выбора. Более тесная, чем во многих европейских странах, связь религии и государства, сохранявшаяся на протяжении XVII и XVIII столетий, привела к тому, что большинство политических практик в Шотландии в той или иной степени были связаны с церковью. Тесная взаимосвязь религиозного и политического обусловила, например, охоту на ведьм, ставшую важной частью процесса нацие-строительства в Шотландии. В эпоху же унии и утраты собственной государственности, обусловивших поиск основ и символов национального самосознания, церковь Шотландии стала одним из трех институтов, наряду с системой права и приходским образованием, заложивших базу институциональной идентичности.
Церковь, объединявшая шотландскую нацию поверх государственных институтов, регулировала то, что составляло повседневную жизнь жителей Каледонии. В этом смысле Генеральная ассамблея церкви являлась в XVIII в. своеобразным парламентом по решению общенациональных вопросов. Она была гораздо более демократична, чем парламент Вестминстера или чем епископальная церковь Англии. В нее входили священники, старейшины, представители городов, университетов и других национальных учреждений. Теоретически каждый член Генеральной ассамблеи обладал одинаковым правом голоса, хотя Эдинбург имел большее влияние, которое, как правило, использовалось для защиты шотландских интересов от «влиятельных мужей» из Лондона.
Вместе с тем, церковь управлялась, исходя из принципов британского рационализма. В основе этого управления лежали принципы протестантизма, связывающие Шотландию с остальной Британией, но уния 1707 г. гарантировала религиозные свободы, с одной стороны, и закрепляла шотландские особенности протестантизма, с другой. Все это отнюдь не разделяло две части королевства, а скорее дополняло их.
Что касается защиты и покровительства церкви от британского государства, выражавших якобы национализм, то это было скорее традиционное противостояние светской и духовной власти внутри шотландского общества, но не конфликт Эдинбурга и Лондона. Националистический аспект может быть прослежен лишь в вопросе о судьбе евангелистской церкви, но и здесь ось конфликта пролегала между землевладельцами и городскими советами, а не между частями британского государства. Претензии к Лондону заключались в том, что центр не желает обеспечить права евангелистов, но, апеллируя в государству, шотландцы тем самым демонстрировали лояльность ему.
Наконец, важно и то, что, несмотря на превращение пресвитерианизма в доминирующую религию, католицизм не исчез полностью, и католическая эмансипация 1829 г., проведенная в масштабах всего королевства, была чрезвычайно важна для промышленной Шотландии, где количество ирландских католиков в XIX в. росло чрезвычайно быстро. Однако это увеличение католиков отражало потребность индустриализирующейся Шотландии в дешевой рабочей силе, что свидетельствовало о промышленной мощи нации, входящей в число наиболее индустриально развитых европейских регионов.
Религиозное противостояние, вместе с тем, отражает и еще одну линию раскола, вероятно, наиболее важную для этого исследования и пролегавшую между националистами и юнионистами. При этом каждая из групп не была единой и эволюционировала на протяжении всего Нового времени. Более того, юнионизм и национализм в шотландском контексте были настолько связаны, что породили такое явление как «юнионистский национализм», вступление которого на историческую сцену относится к началу XIX века, а продолжает он существовать и в начале XXI в[5]. Согласно общему убеждению, чтобы быть истинным юнионистом, нужно было быть националистом, потому что иначе Шотландия не стала бы партнером Англии, заняв равновеликое с ней положение, а была бы подчинена Лондоном, превратившись в колонию. Отсюда и культ национальных героев, таких как Роберт Брюс и Уильям Уоллес, под чьим лидерством Шотландия вела борьбу и освободилась от английской экспансии в начале XIV в. Но эти герои почитались в первую очередь шотландскими юнионистами, считавшими, что без них Шотландия не могла бы заключить унию с такой могущественной страной как Англия.
Чтобы быть истинным националистом, таким образом, нужно было быть юнионистом. Сложно было не признать, что в условиях повсеместной экспансии XIX столетия суверенитет маленькой нации мог быть ограничен, и поэтому наилучший вариант защиты шотландских интересов – это поддержка английской внешней политики. Только в этом случае Шотландия могла развиваться как независимая нация с собственной культурой и социальной жизнью. Более того, шотландская культура вышла за пределы собственно Каледонии, став частью британского целого, находя свои проявления в рамках обширной Британской империи. Персонализированный образец и символ викторианской буржуазии был выходцем из эдинбургских протестантов.
Национализм, частью которого стало возрождение и процветание народной шотландской культуры, становился таким образом не разделяющей, а объединяющей силой. Крайности в выражении своей идентичности, порой встречающиеся в шотландской культуре XVIII и XIX вв., были направлены против представителей собственной шотландской элиты, и в этом смысле юнионистский национализм способствовал сохранению социальных границ. Так было, например, с призывом расширения прав среди представителей всех слоев населения, или протестом в Хайленде против сгона крестьян с земли лендлордами в целях расширения пастбищ. Определенный сегмент радикального движения, особенно в конце XIX в., выступал с идеей возвращения шотландского парламента, но большая часть протестующих была приверженцами чартизма, акцентировавшего внимание на социальной реформе. Врагом для нее был шотландский правящий класс, узурпировавший власть. И ассоциировать это движение с борьбой за независимость Шотландии очень сложно. Для многих рабочих и крестьян своеобразным выходом из сложного положения стала эмиграция, процент которой на протяжении XIX в. все возрастал.
Однако шотландская культура этого периода была не только народной или радикальной. Шотландское просвещение заложило прочную основу этой культуры, которую не смогли поколебать даже новые проблемы и цели, появившиеся после 1820 г. Направление развития этой культуры было заложено научными и техническими открытиями, нашедшими свое воплощение в архитектуре и градостроительстве, изменившими облик многих шотландских городов. Логичным воплощением духа филантропии стало и строительство огромного количества общественных зданий, школ, музеев, стоявших на службе распространения знаний. И все это также являлось формой идентичности, направленной, скорее, на признание общности с остальной Британией, чем на обособление от нее.
Иными словами, если мы зададимся вопросом о том, чем был шотландский национализм в XIX в., то ответ может быть двояким. С одной стороны, основой его было самостоятельное институциональное и религиозное развитие Шотландии. В этом смысле шотландский национализм был очень успешен, он был активным и признанным национальным движением, нашедшим выражение в государственном строительстве, аналогичном многим европейским странам. Он же способствовал и успешному социальному развитию, и экономическим успехам, которые лишь подтверждали претензии и чаяния шотландских националистов. Но с другой стороны, это была идентичность, которой не требовался шотландский парламент, по той простой причине, что всего, чего шотландцы добивались (экономического роста, торговли без ограничений, свободы, культурной автономии), они могли получить и добивались без парламента.
Культура – еще одна сфера, где мы можем обнаружить юнионистский национализм, хотя политическое влияние порой присутствовало и там. Эту ситуацию можно выразить словами Генри Кобурна, сказанными в 1853 г., о том, что «особенность народа и впечатление от него нельзя облекать лишь в формальные рамки»[6]. Шотландцы создали общество, где чувство нации лежит в народе и в культуре, а государственные формы лишь очерчивают его.
Оттого, что культурное возрождение не было свободно от политического влияния, оно постепенно приобретало новые формы. По мнению X. Ханхама, начало нового этапа национализма можно датировать 1850-ми годами[7], когда была инициирована кампания по возвращению парламента. Однако даже в этих условиях уния не оспаривалась, поскольку объединенный парламент устраивал шотландский бизнес и обеспечивал внешнюю торговлю и защиту общей британской культуры. В свою очередь Англия не желала ущемлять права шотландцев. Основные трения в Британии носили межпартийный характер, а не англошотландский. Шотландцы имели прочные связи с английской либеральной партией или английскими религиозными диссидентами.
Шотландцы продолжали развитие своей идентичности в тесной связи с англичанами. Наибольшая возможность для ассимиляции теперь таилась в сфере бизнеса. Торговцы из Глазго были гораздо более заинтересованы в развитии свободной узаконенной торговли, нежели в каких-то древних правах и интересах шотландской культуры. Менялась социальная ситуация, менялись законы, менялось отношение к ним.
Шотландцы впитывали и имперскую идеологию. В этом смысле они были обычной европейской страной. Такие авторы, как Роберт Льюис Стивенсон или Вайолет Джейкоб, акцентировали внимание на связях между имперской культурой и развитием колоний. Но народная культура адаптировала национализм не только посредством литературы, но и других источников, например, рассказов миссионеров, таких как шотландец Дэвид Ливингстон, который воспевал британский военный патриотизм, основанный на шотландском национализме, а также расистский миф о цивилизационном влиянии шотландской протестантской культуры на коренные народы.
Когда в 1920-е гг. в Шотландии стала возрождаться националистическая культура, лозунгом националистов было то, что на протяжении XIX в. Шотландия была подчинена Англии. В качестве аргумента приводился факт, что даже движение в защиту парламента всячески подавлялось, его просто не было. В действительности же все было наоборот – движение за возрождение шотландского парламента не получило развития из-за того, что шотландский средний класс был самодостаточен и обладал реальной автономией. Массы людей были устранены от механизмов реальной власти, но и в этом Шотландия была типичной европейской страной.
Была ли политическая система, созданная шотландцами, государством? Граница между государством и нацией – это еще одна проблема, связанная с изучением шотландской национальной идентичности. И этот вопрос в шотландской истории последних трех столетий также является одной из самых дискуссионных. Ответ на него не легок, как не просты и сами феномены нации и государства. Если подходить с точки зрения веберовского понимания государства как института насилия – то ответ должен быть отрицательным, в Шотландии такой структуры построено не было. Но в реальности государство гораздо более широкое понятие, нежели просто институт ведения войны с внешним врагом или принуждение оппозиции внутренней. Шотландия имела свое локальное государство, и его правящие структуры обладали властью символической, но той, которой местное население готово было подчиняться. Кроме того, шотландцы верили в единство британского народа. Будучи либералами, они желали свободной торговли, свободного выражения мыслей и протестантской гегемонии, а также очень хорошо понимали, что Британия может их всем этим обеспечить. Они верили, что быть с Англией, значит победить. Все это обеспечивало их лояльность Британии.
Таким образом, среди множества границ в шотландской истории Нового времени наименее значительной является та, что пролегла между Каледонией и Англией. Воскрешаемая многими поколениями борцов за политическую независимость, граница между двумя частями единого королевства определялась вдоль разломов, проходивших по отдельным вопросам – будь то противостояние пресвитерианской и епископальной церковной организации или вопрос об особенностях правовой системы. Хотя многие из таких характерных черт легли в основу шотландскости – того типа национальной идентичности, который акцентировал внимание скорее на различиях, чем на сходствах, эти особенности не сформировали противоположных идентичностей. В шотландской истории Нового времени всегда было то, что способствовало преодолению этих внутренних границ шотландского прошлого. Они, как правило исчезали, когда речь заходила о положении Шотландии в рамках Британии, игравшей двойственную роль в истории древней Каледонии. С одной стороны, оппозиция англицизации объединяла шотландцев, расколотых различными противостояниями, а, с другой, сама Британская империя была средством интеграции шотландцев, предоставляя им многочисленные возможности.
Неоднозначный характер шотландского самосознания, вероятно, ставит перед исследователем проблему операционного характера национальной идентичности, конфигурируемой в ответ на определенные и конкретные вызовы. Использование этой категории способно принести новые аналитические приемы в изучение многих исторических явлений, в том числе и концептов «нация» и «национализм», в первую очередь потому, что идентичность, будучи комплексным понятием, интегрирует различные отношения «Я» к окружающему миру, столь быстро менявшемуся в XVI–XIX вв., и определяется их связанностью и известной степенью соотнесенности.
Думается, что одним из ценных открытий исследований идентичности стало введение категорий «кризис идентичности» и «смешение идентичности», которые впервые были использованы в годы Второй мировой войны в психиатрической клинике реабилитации ветеранов на горе Сион, а уже вскоре получили широкое применение и в медицинской практике, и в области изучения социальной психологии. Сам термин «кризис» в области исторического сознания не представляет собой ничего специфического или особенного. Напротив, по мнению Й. Рюзена, он «конституирует историческое сознание, поэтому можно сказать, что без кризиса – нет исторического сознания». Кризис – это особое состояние, связанное с переживанием времени и прошлого, посредством которого реализуется современная идентичность. Однако это переживание прошлого обостряется, как правило, в связи с каким-то событием, противоречащим традиционной исторической идентичности. Событие, или, употребляя категорию Й. Рюзена, случайность, лежит в основе кризиса идентичности. С этой точки зрения, например, англо-шотландская уния 1707 г. была таким событием, которое легло в основу кризиса идентичности. Шотландцам, идентичность которых основывалась на осознании величия своего прошлого, завоеванного в битвах с англичанами, крайне не легко было смириться с потерей независимого парламента.
Гуманитарии уже давно отошли от традиции рассматривать кризис как нечто фатальное и неизменно предшествующее гибели общественного организма. Скорее наоборот, кризис знаменует перерождение, переход в новое качество, а зачастую и обретение новой формы. В поисках выхода из кризиса, порожденного столкновением реальной действительности и исторического мифа, лежащего в основе всякой идентичности, общество создает некий новый нарратив, целью которого становится изменение исторического сознания. Такой текст, будучи средством преодоления кризиса и придания определенной целостности неким событиям прошлого и настоящего, в первую очередь апеллировал к этому прошлому, стремясь объяснить его, исходя из событий настоящего. В этом смысле зависимость настоящего от прошлого является столь же очевидной, как и зависимость прошлого от настоящего.
Особое значение изучение кризиса идентичности имеет для периода Нового времени, когда происходила ломка традиционных институтов общества и формирование новых связей. Соответственно этим процессам менялось сознание и трансформировалась историческая память, что, в свою очередь, приводило к разрушению идентификации с одними общественными группами и к формированию новых связей. Новое время – это еще и период зарождения наций и национализма.
Породив кризис идентичности, уния стала своеобразной ментальной границей между двумя Шотландиями, стимулировав одновременно и поиск новых объяснительных моделей прошлого. В этом процессе важно было то, что в результате англо-шотландской интеграции был начат процесс «собирания» шотландских идентичностей, социальных, институциональных, религиозных, культурных и других, складывавшихся в одну – национальную идентичность. Этот новый тип модерного самосознания формировался как модульная целостность, сконструированная вокруг идеи нации, основополагающими элементами которой в разных ситуациях объявлялись то клановый и рабочий эгалитаризм, то пресвитерианская религия вместе с особым способом изживания ведовства, то шотландская просветительская традиция, или повседневные практики.
* * *
Полагая национальную идентичность в качестве фрагментированной целостности, я постарался структурировать это исследование посредством тех элементов национального самосознания, которые сыграли в Новое время решающую роль в развитии Шотландии и составили неотъемлемую часть национальной идентичности Северной Британии. Каждый из изучаемых здесь элементов словно бы вынимался из истории и предъявлялся в случае необходимости отстоять свои национальные особенности и должен был свидетельствовать об особом пути развития. Однако, вместе с тем, эти сюжеты прошлого не содержали в себе воинственного противопоставления соседней Англии. Наоборот, они, став частью национальной традиции, должны были дополнить и укрепить британскость. Все это в равной степени относится к шотландским кланам и рабочему движению с их сильными эгалитаристскими корнями, и к экономическим проблемам и индустриальному процветанию, и к политическим расколам и коалициям, и к особенностям интеллектуального развития и повседневной жизни.
Шотландская история позднего Средневековья и раннего Нового времени теснейшим образом связана с клановыми структурами, истории которых посвящена первая глава книги. Несмотря на разные предположения относительно истоков шотландской клановой организации, очевидно, что они стали результатом того кризиса власти, который сложился на севере Британских островов на исходе Средневековья. И в этом смысле история шотландских кланов принадлежит Новому времени, даже несмотря на то, что их внутренняя организация содержит элементы патриархального строя. Осознавая спорность и неоднозначность отнесения истории шотландского XVI столетия в Новому времени, необходимо помнить и о том, что вплоть до XX века, и особенно в годы Наполеоновских войн XIX столетия и сражений Первой мировой войны, кланы из разных регионов Шотландии являлись олицетворением шотландского военного духа, составляя неотъемлемую часть британской идентичности.
Шотландская реформация, рассматриваемая во второй главе первого раздела книги, в такой же степени, что и клановая организация, стала символом прошлого Каледонии и перехода его в Новое время. Являясь в равной степени религиозным и политическим движением, реформация заложила основу пресвитерианской религии, на протяжении нескольких столетий рассматривающейся как специфическая черта шотландскости. Ставшая частью реформационного движения, политическая борьба, которой посвящена третья глава, не только составила важный этап шотландской истории, но и связана с такими символами прошлого Каледонии, как, например, Джеймс I. Более того, англо-шотландская уния 1603 г., объединившая короны двух частей Британии, стала началом длительного процесса формирования единого государства.
Несмотря на то, что в исследованиях по истории революции середины XVII в. Шотландии уделяется несравненно меньше внимания, чем Англии, что нашло выражение в самом названии «Английская революция», события на севере Британских островов, исследуемые в четвертой главе, были не менее значимы, чем собственно в Англии. Кромвелевское завоевание Шотландии осталось в памяти жителей Каледонии как попытка насильственной англизации и рассматривается как одна из трагических страниц шотландского прошлого. И в этом смысле то, что в отечественных учебниках истории до сих пор именуется английской революцией, было, конечно же, революцией британской.
Наконец, шотландская народная культура раннего Нового времени, интегрировашая традиционные верования и практики, но, вместе с тем, отразившая новые представления и религиозные культы, включая ведовские процессы, составила значимую часть шотландской национальной идентичности. Все эти идеи, представленные в пятой и шестой главах, словно бы отразили сложности и противоречия шотландской истории Нового времени с ее поиском внутренних и внешних границ, порой воздвигавшихся поверх уже исчезающих традиционных средневековых практик. Вместе с тем история Шотландии XVI и XVII столетий, включая события политической и религиозной борьбы, социальные и культурные процессы, выглядит как прелюдия к тем потрясениям, которые ожидали регион в веке восемнадцатом. Именно он, как никакой другой, остро поставил проблему конструирования национальной идентичности из элементов и символов, завещанных предшествующими эпохами.
Второй раздел книги посвящен XVIII веку. Будучи, пожалуй, самым драматическим и противоречивым столетием шотландской истории, он знаменовался подписанием англо-шотландской парламентской унии, которой посвящена первая глава раздела. Именно союз 1707 г. обусловил трансформацию идентичности, определившую не только шотландское прошлое периода Нового времени, но и новейшую историю Шотландии. Экономические и социальные процессы, в том числе миграция шотландцев, ставшая одним из условий и символов ее процветания в последующее столетие, рассматриваются во второй и третьей главах этой части книги. Стремление шотландцев объяснить природу унии в категориях разума и прогресса в значительной степени обусловили просветительское движение, символами которого стали Дэвид Юм и Адам Смит. Перед этими мыслителями стояла непростая задача объяснить, как гордая и независимая нация сделала такой неоднозначный выбор, заключив союз с Англией. Интеллектуальным и социальным аспектам шотландского Просвещения посвящена четвертая глава раздела. Наконец, как и в первом разделе, часть, посвященная XVIII столетию, заканчивается исследованием повседневной жизни шотландского общества, в которой нашли выражение наиболее характерные для Каледонии черты. При этом прослеживается, как в Шотландии формируются техники управления повседневной жизнью на уровне религиозных, правовых и политических практик и как в условиях утраты собственного парламента и активно развивающейся модернизации традиция трансформируется в инновацию.
Третий раздел монографии посвящен анализу становления индустриального общества в Шотландии. Уходя своими истоками еще в XVIII в., сложившиеся условия для развития промышленности способствовали тому, что регион стал одним из наиболее успешных в индустриальном плане регионов Европы и одновременно символом промышленного развития Великобритании. С имперскими успехами, исследуемыми в первой главе раздела, связано экономическое и социальное процветание Шотландии в XIX столетии. Успехи, достигнутые шотландцами в колониях, не только способствовали англо-шотландской интеграции, но и позволили сформировать идентичность, в которой шотландскость и британскость не противоречили друг другу и взаимно дополнялись. В самой Шотландии процесс становления индустриального общества выразился в массовом сгоне крестьян с земли и в формировании крупного землевладения, сопровождающемся соответствующими социальными изменениями – процесс, который исследуется во второй главе раздела. Наряду с экономической интеграцией, политическое развитие, изучаемое в третьей главе, способствовало формированию такой системы управления, в которой, несмотря на отсутствие основных политических легислатур, шотландцы создали институты власти, отчасти укорененные в традиции и позволявшие им решать основные вопросы развития и повседневной жизни. Как и во всей остальной Европе, становление промышленного общества сопровождалось социальным протестом. Особенности этого движения, нашедшие отражение в четвертой главе раздела, были связаны с тем, что борьба за социальную справедливость сопровождалась стремлением отстоять собственную национальную идентичность. Наконец, исследование повседневной жизни индустриальной эпохи, в которой отразились характерные черты шотландского общества, свидетельствует о том, что национальная идентичность вовсе не требует собственных политических институтов, а может выражаться в повседневных практиках и традициях.
История Шотландии Нового времени свидетельствует о том, что идея нации представляет богатую почву для мифотворчества и полна символов в силу того, что по своей природе национальная идентичность эмоциональна и экспрессивна и может выражаться во множестве метафор. Особую роль процесс мифо— и символо-творчества приобретает в Новое время, когда политические, геополитические и социокультурные процессы рождают или перерождают нации. Могущество символов на этом этапе объясняется тем, что в рамках мифо-символических комплексов они в равной степени имеют и когнитивную, и эмоциональную окраску, определяя место нации в окружающем политическом и культурном пространстве, ее врагов и друзей, прошлое и настоящее. В богатую конфликтами эпоху нацие-строительства, символы используются в противостоянии с теми группами, которые потенциально угрожают формирующейся нации, тем самым, разделяя на «своих» и «чужих» социокультурное пространство жизни национального коллектива, формируя его идентичность. Эта экстравертная направленность мифосимволического комплекса, ориентирующая нацию по горизонтали, сочетается с интровертной функцией, в которой национальная общность, используя временные категории, определяет себя по вертикали, формируя отношение настоящего с прошлым.
Важность национальных символов не только в том, что они фиксируют отношение людей к окружающему социокультурному пространству и отражают процесс конструирования идентичности, но и в том, что, будучи укорененными в мифе, они определяют выбор людей, и отношение нации к реальным процессам прошлого и настоящего формируется согласно той ассоциации, которую вызывает символ. Этот факт является основанием для политики в области символов, позволяет использовать само прошлое в качестве орудия отстаивания интересов.
Используя визуальную и нарративную природу символов, дискурс нации трансформировался из элитарных представлений и концепций в массовые идеи. В этом заключается еще одна функция национальных символов – посредством доступного языка знаков превратить элитарное в массовое, новое в традиционное, чужое в свое. И хотя символы, составляющие часть национального мифа, зачастую происходят именно из массовой культуры, необходимым условием их трансформации и обретения ими национального дискурса является интеллектуальная «редактура». Символы на время словно изымаются из массового использования и, пройдя процесс интеллектуальной обработки и адаптации, обретают новый смысл и значение.
Часто возвращение старых символов, которые неожиданно приобретают новый смысл, является следствием изменения самого контекста, из которого они были изъяты. Условия существования культуры, включая язык, ценности, институты, являются не просто важным составляющим жизни символов, но определяют значение собственного человеческого опыта. При этом взаимодействие языка, опыта и исторических изменений, по мнению Генриетты Л. Мур, является ядром, вокруг которого конструируется культура[8]. Очевидно, что соотношение этих же условий, включая персональный и общественный опыт, вырабатываемый интеллектуалами язык, и историческая динамика становятся решающими в наделении значением символов. В этом смысле, прошлое никогда не является просто историей, отражая, во-первых, тот контекст, в котором оно существует, а, во-вторых, всегда тесно связано с субъектом, к которому оно обращено. Особенно это важно, когда речь идет о динамичном и порой драматическом процессе нацие-строительства, в процессе которого трансформируется и общество, включая его представление о самом себе, о собственном прошлом и настоящем, и этнические мифы, легитимирующие новую нацию, и символы, посредством которого прошлое обретает новую целостность в коллективных представлениях нации.
Часть I
Шотландия на рубеже Средневековья и Нового Времени: от традиционного общества к обществу традиций
Глава 1
От кланового общества к национальному государству
«Каким ветром занесло нас к этим берегам? Доселе мы и не ведали, что такое нищета и лишения!»[9]. Эти слова французских рыцарей, высадившихся в Шотландии в 1385 г. для того, чтобы маршем отправиться на Англию, стали расхожим выражением для описания бедности, природных и социальных невзгод, которые испокон веков сопровождали жизнь шотландцев. Жан Фруассар, французский хронист, передает и чувства шотландцев, довольно неоднозначно воспринявших весть о подмоге с Континента, пришедшей для того, что одолеть англичан. «Какого дьявола им надобно? И кто только их звал? Неужто мы и без них с Англией не справимся? До сих пор какой был нам от них прок? Пусть плывут обратно, ибо народа в Шотландии достаточно, чтобы мы свои домашние распри уладили сами…»[10] – в этом заочном диалоге переплелись и представления самих шотландцев о себе, и образ этой дикой земли, возникающий в сознании чужеземцев, и противоречивые отношения с Францией.
* * *
И в Средние века, и в раннее Новое время Шотландия представляла собой маленькое и слишком бедное королевство, для того чтобы его положение хоть сколько-либо принималось в расчет политическими, экономическими и интеллектуальными элитами Европы. Экономический прорыв, который был совершен на севере Туманного Альбиона лишь во второй половине XVIII в., а также социальные процессы, связанные с этой трансформацией, отделяют Каледонию патриархальную от Шотландии индустриальной. Шотландская экономика, социальные и политические практики доиндустриального периода, скорее, сближают ее со скандинавскими государствами того времени, а также с Ирландией, чем с такими странами как Англия, Франция или даже Германия.
Одной из особенностей Шотландии являются ярко выраженные региональные отличия, подобные французским или итальянским, но гораздо более заметные ввиду малых размеров королевства. Можно с уверенностью сказать, что в стране с такой пересеченной местностью, какой является Шотландия, каждая долина обладает особым своеобразием – природным, культурным, порой языковым. Однако принципиальные различия сформировались между горными районами Шотландии и островами, с одной стороны, и равнинной Шотландией, с другой.
Разделение Шотландии на северную (горную) и южную (равнинную) имеет не только этническую или социокультурную, но географическую, в том числе и геологическую, основу. Северная Шотландия отделяется от южной цепью Грамплианских гор, порой прерываемых долинами – гленами, протянувшимися с северо-востока на запад. В рамках самого Хайленда не менее значимым представляется разделение на западный и восточный, тоже обусловленное и геологическими, и социокультурными условиями. Для ранних периодов истории такие естественные границы были чрезвычайно значимыми. Воин VI или VII века из горной Шотландии описывался своими современниками, как пришедший «из-за Банага» – так на гэльском языке называлась группа холмов на границе центральной и горной части Каледонии. А в VIII в. пиктский король был назван правителем «страны гор», что подтверждало особое положение Моррэя, откуда он происходил, по сравнению с другими частями Шотландии. В этой связи не приходится удивляться тому, что и политическое разделение часто следовало за географическим.
Еще одной из особенностей природного ландшафта Шотландии является огромное количество островов, расположенных, главным образом, у северо-западного ее побережья, некоторые из которых объединены в группы – Оркнейские, Гебридские, Шетландские. Всего их насчитывается 787, но обитаема лишь незначительная их часть. На островах также существовал особый социокультурный уклад, на протяжении веков поддерживаемый властью могущественных Лордов островов, правителей, стоявших во главе объединения, часто относимого к протогосударственным образованиям, просуществовавшим вплоть до конца XV столетия.
Одним из мифов, касающихся особенностей природно-географических условий Шотландии, является утверждение, будто бы она была сплошь покрыта лесами. Очевидно, что леса были истреблены здесь, в том числе и в горах, задолго до наступления средневековья в целях организации пастбищ. Деревьев хватало лишь на постройку жилищ, и уже средневековые описания страны свидетельствуют, что «лесов в Каледонии нет»[11]. В 80-е гг. XIX в. леса, населенные дикими оленями, составляли площадь два миллиона акров – десятую часть Шотландии. Расположенные, главным образом, в северных прибрежных районах, они стали даже фактором социального напряжения, поскольку из-за дефицита земель крестьяне требовали их вырубки, на что правительство никак не шло, поскольку разведение диких оленей сулило немалую прибыль при минимальных затратах труда. Если вплоть до XV в. на территории Хайленда лишь единицы домов были построены из камня, то в период XVI–XVII вв. количество каменных жилых строений увеличивается, и они становятся относительно постоянными местами обитания жителей гор. В прежние времена такое встречалось сравнительно редко, и жилища из торфяных блоков, покрытые вереском и приспособленные, главным образом, для нужд пастухов, имели временный характер. Вересковые пустоши, сегодня являющиеся одним из символов Шотландии, также, очевидно, стали продуктом относительно недавней человеческой деятельности и появились в течение последних 200–300 лет, а в средние века были характерной чертой пейзажа лишь в районе Чевиотского нагорья.
Распространенное мнение, что ландшафт северной Шотландии не менялся вплоть до периода модернизации XVIII–XIX вв., является далеко ошибочным. И хотя экономическая трансформация была более динамичной, чем изменения ландшафта, уже первые поселенцы, приспосабливая природу под свои потребности, обрабатывали землю, строили каменные сооружения, вырубали немногочисленные леса. Не говоря уже о том, что начиная с периода средних веков, а, возможно, и ранее, существовали торговые связи, в которые были втянуты и горцы, в частности, пикты, обладавшие большим флотом. Гильдас говорит, что «ужасные полчища скоттов и пиктов тут же высадились из своих курук, на которых плавали как через проливы, так и в далекие моря»[12]. Несомненно одно: трансформация ландшафта, происходившая в процессе осознанной деятельности шотландских горцев, имела своей целью поиск интенсивных форм хозяйственной деятельности, которые в довольно ограниченных условиях окружающей среды воплотились в своеобразный комплекс отраслей хозяйства.
И чем сложнее было приспособиться и выжить, тем более значимыми являлись эти преобразования для формирования идентичности народа, тем неотделимее процесс хозяйственной деятельности от процесса исторического восхождения народа к этапу национального развития. В этой связи освоение территории сравнимо по значимости с написанием истории народа, которая неотделима от земли, на которой он проживал. Здесь нам не раз еще придется возвращаться к теме неразрывности клановой истории и неотделимости самого понятия «клан» от территории, заселенной им, и изменений, происходящих на этой земле.
Природные отличия между шотландскими регионами усиливались и культурным разделением. На островах Шотландии вплоть до XVII в. существовала древнескандинавская правовая система, и использовался диалект, пришедший из Скандинавии, наиболее близкий норвежскому языку. Весьма значимым для Шотландии было разделение на гэлоязычных и скоттоговорящих, с одной стороны, и англоговорящих, с другой. Эта граница была не только языковой. Она определяла культурные, образовательные, религиозные и социальные отличия. Шотландия была гэллоговорящей страной в раннее Средневековье, однако к началу XVI в. гэльский язык сохранился лишь в Хайленде и отчасти на юго-западе королевства. Остальное население с XVI в. стало пользоваться шотландским в качестве основного языка, имевшим много общего с английским. Исчезновение гэльского языка было связано с временной миграцией и экономическими контактами Хайленда с Лоулендом и соответствовало процессу образования национального государства. И только в XVIII и XIX веках гэльский вновь войдет в моду, уже в другом социальном и культурном контексте, но будет выполнять важную функцию сохранения национальной идентичности в условиях англо-шотландской интеграции, становясь часто фактором политических столкновений. Связь языка, как одного из главных элементов идентичности, включая национальную, и политических процессов, вероятно, как нигде более видна в истории шотландского национализма. Под знаменами борьбы за возвращение гэльского языка в оборот выступали шотландские националисты XVIII столетия, и одержанная ими к концу следующего века победа означала то, что шотландская нация вновь обрела право на существование.
Данные о численности шотландского населения в период до появления статистики Вебстера, относящейся к 1755 г.[13], чрезвычайно фрагментарны. Тем не менее, не беспочвенными представляются данные о том, что между 1500 г. и концом XVI в. население Шотландии выросло с 500 до 700–800 тысяч, затем – до одного миллиона в 1700 г., и 1 600 тысяч ко времени первой официальной переписи в 1801 г.[14] Целый ряд фактов свидетельствует в пользу того, что с конца XVI в. и, особенно, в начале XVII в. рост ускорился, а стабилизация численности произошла во второй половине XVIII в. Это закрепление количества населения, очевидно, можно связать с тем, что довольно высокие естественные демографические показатели были уравновешены повышенной смертностью и вынужденной миграцией периода политических потрясений, что в целом соответствует европейской демографической тенденции того времени. Интересно и то, что показатели демографических процессов в Англии и в Шотландии редко совпадают, исключение составляет лишь, пожалуй, миграционная динамика, связанная с передвижением населения между Шотландией и Англией.
Структура типичного шотландского домохозяйства XVI и XVII вв. была похожа на состав аналогичных хозяйств в других странах северо-западной Европы и включала в среднем пять человек, с довольно незначительной динамикой в период 1500–1800 гг. В отличие от других стран Западной Европы здесь не наблюдалось процесса нуклеализации семьи и перехода от крупных семейных комплексов к мелким и индивидуальным. Исключение, пожалуй, составляет горная Шотландия, где средний размер семьи был несколько выше, а в XVIII в. наблюдается процесс сокращения ее средней численности.
Хотя шотландские источники по истории раннего Нового времени довольно фрагментарны и включают в себя в основном приходские записи, даже на их основании можно сделать вывод о том, что в этот период Шотландия испытала значительный демографический «перегрев», подобно тому, что наблюдался во Франции и Ирландии. Высокий уровень рождаемости совпал с повышенной смертностью, и это балансирование на грани голодного гомеостаза был свойственно для всего XVI и XVII столетий, а в Хайленде сохранялось еще и век спустя. Большая часть смертей была связана со смертностью от голода и гибелью от заболеваний, и эта тенденция сохранялась в Шотландии несколько дольше, чем в Англии, а ее преодоление совпадает по времени с аналогичными процессами в Швеции и корреспондируется с ростом уровня жизни XVIII века.
И в этом Шотландия раннего Нового времени являет собой типичный пример традиционного общества, где высокий уровень смертности компенсировался высокой рождаемостью, и первый год жизни младенца был периодом наиболее подверженным рискам.
Средняя продолжительность жизни была меньше, чем в Англии – 30 лет на протяжении XVI и XVII вв., и несколько меньше чем 35 лет – в XVIII столетии[15]. Изменение продолжительности жизни, как и во Франции, было связано с преодолением высокого порога смертности – как только со второй половины XVIII в. изменяется ее структура, увеличивается и средняя продолжительность жизни. Высокая смертность была побеждена посредством прививания от оспы, что автоматически повлекло за собой снижение вирулентности заболевания. Кроме того, усовершенствование агрикультуры способствовало преодолению смертности от голода. Традиционный демографический порядок постепенно заменялся новыми процессами.
Средний брачный возраст женщин был аналогичным английскому – 23–26 лет, хотя в целом женское безбрачие было несколько выше. Уровень внебрачных связей также превосходил тот, что существовал во Франции и в Англии (до середины XVIII в.), и этот уровень повышается к концу XVIII в., корреспондируясь с общеевропейской тенденцией. Количество внебрачных рождений имеет устойчивую тенденцию роста в Новое время – с 1 % в 1650 г. до 5 % – в 1800 г. В сфере внебрачных связей более строгая мораль равнинных территорий соседствует с большей вседозволенностью Хайленда – если между 1660 и 1760 гг. количество внебрачных рождений в Лоуленде выросло на 2–3 %, то в горной Шотландии – на 3–6 %[16]. Добрачные вольности, приводившие к рождениям, были более свойственны лесным европейским регионам, и церковь, хотя и боровшаяся с этим грехом, зачастую была бессильна.
Регион горной Шотландии, очевидно, имеет больше сходства с Ирландией с сфере демографических процессов, учитывая то, что Хайленд в большей степени пострадал от голода 1690-х гг. Растущий дисбаланс между динамикой населения и недостаточностью ресурсов приводил к расширению уровня миграции из региона в соседние области и за океан – проблема, с которой столкнулся целый ряд европейских стран в этот период.
Внутренняя миграция приводила к перенаселению одних регионов, в частности, Лоуленда, и к запустению других. Число жителей Эдинбурга, который был королевским городом, выросло с 12 тысяч в 1560 г. до 20–25 тысяч в 1635 г., 30–50 тысяч в 1700 г., и до 82 тысяч ко времени первой переписи 1801 г. Рост численности городского населения в Шотландии был наиболее динамичным во всей Европе в XVIII в., будучи в значительной мере связанным с эмиграцией из сельской местности. Этот рост характерен для всего периода шотландской Новой истории, но в наибольшей степени свойственен для конца XVI-начала XVII вв. и для времени, следующего сразу за подавлением якобитского движения[17]. Особенностью городской ситуации в Шотландии является то, что, хотя Эдинбург был самым ее крупным городом до начала XVIII века, соотношение численности населения, проживающего в столице и в других городах, было ниже, чем в других европейских странах. Такие городские центры как Глазго, Данди, Абердин, Перт, или меньшие по размеру и численности населения города вроде Инвернесса и Дамфриза, играли несомненно большую роль в экономическом развитии страны в целом, чем даже более крупные города в других европейских центрах. Кроме того, городской рост в Шотландии имел еще ряд особенностей. Во-первых, он был крайне регионализирован, поскольку практически все города располагались в Лоуленде, по крайне мере, это утверждение является бесспорным для периода до XVIII в. Во-вторых, шотландское городское население между 1500 и 1600 гг. росло в тех же пропорциях, что и английское. Еще более эти темпы ускорились в XVIII в., что было уникальным европейским процессом. Кроме того, цифры городского роста говорят и об экономической динамике в целом после 1750 г., когда темпы экономического развития Шотландии намного опережали тенденции развития других регионов.
Еще одним общепринятым утверждением является то, что экономическое развитие Шотландии в Новое время было тесно связано с эволюцией т. н. «примитивных социальных структур», какими были, в частности, хайлендерские кланы. Удивительно, но утверждение Рона Хастона, сделанное им почти четверть века назад, об отсутствии полноценных исследований о шотландской социальной структуре Нового времени, до сих пор нечем опровергнуть[18]. Британская и церковная, и светская историография предпочитали обходить этот вопрос стороной. Светские историки всегда ограничивались лишь констатацией различий социальных структур Англии и Шотландии; в работах же, принадлежащих перу церковных историков, чаще речь идет о взаимоотношениях между человеком и богом, чем между человеком и человеком.
XVI в. чрезвычайно интересен для историка с точки зрения и экономических, и социальных процессов, происходивших в Шотландии. Он является принципиальным для понимания шотландского прошлого Нового времени потому, что именно в тот период были заложены основы социальных процессов, определявших развитие региона в следующие два столетия. Наиболее фундаментальным из этих процессов было окончательное инстиуциональное разделение тех, кто работает на земле, и тех, кто ею владеет. Именно XVI столетие было последним веком шотландской истории, когда возможности социальной мобильности были относительно велики. Одновременно, XVI в. еще не провел резкого социального разграничения между джентри и представителями других социальных слоев.
Между тем, очевидно, что такой системы социальных рангов, которая существовала во Франции XVII в. или в Пруссии столетия XVIII, в Шотландии не было. Однако на уровне церковного прихода, например, существовало разделение на хозяев, свободных владельцев, фьюеров, державших землю на условии фиксированной платы, собственников и тех, кто обрабатывал землю. Такое разделение закреплено в большинстве письменных документов. На уровне городской классификации, как правило, выделяли тех, кто обладает городскими привилегиями, и всех остальных.
Сегодня, на основании анализа записей о поступлениях налогов, а также поместных документов, историк имеет возможность составить хотя бы самую общую классификацию социальных групп Шотландии Нового времени в зависимости от уровня их имущественного положения. В частности записи о налогах свидетельствуют об имущественной дифференциации конца XVII в. в Лоуленде. Изучение этого периода особенно важно, учитывая экономический кризис 1690-х гг., выступивший катализатором исподволь развивающихся процессов.
Подавляющее количество земли принадлежало крупным владельцам, обладающим политическим и судебным авторитетом и использующим патронажные практики для защиты собственных интересов. При этом земельный рынок был развит крайне слабо, а оживление операций на земельном рынке в конце XVIII века было связано с развитием городских слоев торговцев и профессиональных служащих. Корона, города и отдельные мелкие владельцы владели лишь незначительной частью земли в Шотландии, и только лишь в западных, центральных и юго-западных частях Лоуленда было несколько более развито крестьянское землевладение. Западные же острова были вообще объединены в единое владение, Лордство островов, где наследовались все земли целиком. Незначительное исключение составляет Восточный Лотиан и Файф, территории вокруг Эдинбурга, где земельная собственность была меньших размеров и рынок земли был более динамичным.
В Шотландии не было эквивалента английских йоменов, за незначительным исключением тех, кто проживал в поместьях мелких землевладельцев или порционеров, наследовавших лишь часть земельного держания. Однако таких к концу XVII в. насчитывалось не более 8 тысяч человек[19]. Те, кого в Англии называли копигольдерами, в Шотландии уже в конце XVI и начале XVII столетия стали арендаторами земли, мелкое же землевладение получает все большее распространение, начиная с середины XVI столетия, когда реформация разрушила крупное церковное землевладение. Однако, во-первых, экономическое значение таких хозяйств было невелико в XVI в., а, во-вторых, в XVII столетии большая их часть вошла в состав более крупных владений лендлордов.
Таким образом, и в XVI, и в XVII столетиях доступ для большинства крестьян к земле мог быть возможен только благодаря аренде. Если на протяжении XVI и большей части XVII вв. преобладает краткосрочная аренда, то в конце XVII столетия очевидно проступает тенденция к увеличению арендных сроков. Если на Атолле земли поместья Туллибардин в период с 1688 по 1783 гг. в среднем сдавались на срок 9 лет, в 1725 – 11 лет, то в 1760 – 19 лет[20]. Увеличение сроков аренды свидетельствует о том, что земли все чаще используются с коммерческими целями, как землевладельцами, так и арендаторами. Хотя для Шотландии это не было совсем новым явлением – такие же длительные сроки временных держаний были характерны для XV и начала XVI вв.
Сельское сообщество возглавлялось лендлордами. За ними шли фермеры, лично обрабатывающие землю, за ними их семьи и нанятые коттеры и слуги. Владения таких фермеров были чрезвычайно разнообразны и с точки зрения размера и структуры, и с позиции тех, кто трудился на этой ферме. В некоторых районах Шотландии таких фермеров насчитывалось до 50 % от всего мужского населения, в других – эта цифра колеблется в районе 20 %, а некоторых случаях фермами могли владеть сразу несколько хозяев[21].
Отличительной особенностью Шотландии по сравнению в Англией является то, что, даже несмотря на чрезвычайно маленькие земельные участки, в ней практически не было полностью безземельных крестьян.
Семьи коттеров составляли массу сельского населения в большинстве шотландских приходов, и большая часть сельских слуг, очевидно, происходила из этой категории. Они, как правило, получали небольшой участок земли в фермерских владениях в обмен на работу в хозяйстве землевладельца-фермера. По сути они являлись сельскохозяйственными рабочими, и различные региональные особенности этой группы на территории Шотландии не стоит переоценивать. Историки спорят и о процентном соотношении коттеров и крестьян-субдержателей относительно общей численности населения[22]. В целом, из-за высокой плотности населения и скудости земельных ресурсов, субдержания были больше распространены в Шотландии и Ирландии, чем в Англии, и уже на протяжении XV в. целый ряд монастырей обзавелся многочисленными коттерскими коммунами, для того чтобы удовлетворять монастырские нужды.
В Хайленде массовое распространение коттерства приходится на XVIII в., когда тысячи горцев, владея крошечными земельными участками, устраивали на них свое хозяйство, выживая с помощью рыбной ловли и дистиляции виски. Западно-хайлендерских и гебридских коттеров называли гэльским словом «скаллагс». В Лоуленде, начиная с экономического кризиса 1690-х гг., многие коттеры нанимались на мануфактуры, постепенно втягиваясь в формирующийся индустриальный рынок и составляя основу рабочих слоев населения.
Если сельская бедность в Шотландии была представлена, главным образом, коттерами, то социальная группа городской бедноты была более разнообразна и включала слуг, временных рабочих, странствующих актеров, попрошаек, бродяг и сирот, вдов и стариков. Три четверти тех, кто находился на попечении в Абердине в 1695–1705 гг. составляли женщины, из которых две трети были вдовами. Система социального попечительства была более развита в городах, особенно в Эдинбурге, в который стекался поток людей из сельской местности, резко возраставший в такие кризисные периоды как конец XVI или конец XVII веков. Церковные записи Перта, датируемые 1584 г., свидетельствуют, что четверть городского населения, составлявшего четыре с половиной тысячи, были бедняки, с трудом добывавшие себе пропитание. А на протяжении кризиса 1690-х гг. пятая часть всего миллионного населения Шотландии была ввергнута в бедность[23]. Несмотря на распространенные эгалитаристские представления и существующую систему взаимопомощи, шотландская бедность была серьезным вызовом еще и в XIX в., тогда как в Англии в целом эту проблему удалось уже решить.
Имущественная и социальная дифференциация, конечно же, являлась фактором, детерминирующим процесс формирования национального государства в Шотландии. Происходило это в той же мере, что в других регионах Европы. Вместе с тем, специфика этого процесса определялась связями, далеко выходящими за пределы экономических процессов. Шотландская клановая система являлась тем элементом социальных отношений, который словно бы проходил над всеми другими компонентами, и в итоге именно долгое существование родственных отношений, лежащих в основе кланового родства, определило и особенности развития национального государства. Клановое родство, в основе которого лежал не кровнородственный принцип, а особые социокультурные практики, являлось важным фактором общественной динамики еще и на протяжении XIX в., будучи при этом основой социальной системы Шотландии на протяжении всего средневекового периода и раннего Нового времени.
Относительно природы шотландской клановости необходимо сделать ряд предварительных замечаний. Во-первых, наиболее долго клановая система продолжала существовать в горной Шотландии, где она являлась первоочередным фактором, определяющим все процессы – политические, социокультурные, экономические. Вместе с тем, хотя и больше подверженный внешнему влиянию, Лоуленд также был родовым сообществом, где принадлежность к клану определялась не только фамилией, но и особыми социальными практиками и ритуалами. При этом сама природа клановости имела ярко выраженные региональные особенности, отвечая вызовам, существовавшим в той или иной части Шотландии. Оказывая влияние на развитие локальных сообществ и будучи фактором национального развития, кланы и сами не являлись застывшими во времени образованиями, но подвергались изменениям в зависимости от конъюнктур разного рода.
Во-вторых, клановое родство и родовые практики, существовавшие в Шотландии, не являются пережитками патриархального или феодального общества. Скорее, они представляют собой особую систему взаимоотношений, основанную на традиционных социальных практиках. При этом социальная традиция – это не нечто вымирающее или клонящееся к упадку, а целая система взаимоотношений, которая рождается, живет и гибнет в определенном социальном контексте. Историографический канон, согласно которому кланы было принято рассматривать как статический пережиток былого, анахронизм, чудом сохранившийся в XVII и XVIII вв. у границ модернизирующейся Англии, сам ушел в прошлое и является академическим анахронизмом. Бесспорно, что большее эвристическое значение имеет такое понимание шотландских кланов, согласно которому они представляют собой чрезвычайно гибкий и вместе с тем устойчивый социальный организм, залогом жизненности которого является способность отвечать на вызовы времени.
Наконец, важно и то, что шотландские кланы могут быть изучены как с точки зрения генетического подхода, так и с функциональных позиций. Каждый из двух методов способен принести интересные исследовательские результаты. В первом случае историк должен будет обратить внимание на формирование и эволюцию клановой системы, которая, вопреки распространенному мнению, является детищем позднего средневековья. Второй подход, думается, более целесообразен для данного исследования. Исходя из предложенного понимания клановой системы, как комплексного эволюционирующего родового организма, необходимо проследить то, как институты родства приспосабливались к меняющемуся социокультурному и политическому контексту.
Традиционно принято считать, что формирующееся национальное государство должно уничтожать все другие идентичности, препятствующие процессу нацие-строительства. История формирования шотландской национальной государственности опровергает это представление. Кланы не только не помешали политической консолидации и были вовлечены в сам процесс формирования нации, но и стали одним из наиболее значимых символов этого процесса. Более того, клановое родство использовалось в качестве одного из механизмов политической и национальной интеграции.
Сам термин «клан» происходит от гэльского «Chlann», что дословно обозначает «дети» и отражает политическое, социальное и культурное единение, являвшееся странным сочетанием эгалитарных представлений о родстве, феодальных принципов господства-подчинения, а также региональных и локальных особенностей[24]. И в горной, и в равнинной Шотландии взаимные кровные обязательства, существующие на протяжении столетий, в XV в., в условиях расширявшейся клановой экспансии, потребовали письменной фиксации, а в XVI столетии дополнительным фактором необходимости письменного скрепления союзов стало то, что Реформация освободила обширные земельные владения церкви, которые перешли во владения лендлордов и потребовали заселения новыми крестьянами. Исходя из основной функции клана, которая заключалась в защите своих членов, в XV в. усиление родовых связей в шотландском обществе было одновременно и причиной межклановой вражды, и ответом родового общества на происходящие изменения в регионе. В основе этого процесса трансформации лежали изменения во взаимоотношениях между землевладельцами и теми, кто проживал на этой земле, связанные с кризисом феодального принципа господства и подчинения, сочетавшим иммунитетные и экономические права. Формирование клановости было, таким образом, ответом на разрушение прежней общественной системы, взамен которой клан предлагал иную систему – не экономическую и политическую, а принцип родства, как основу взаимоотношений. Таким образом, традиция клановости, изобретенная в XIX в., о которой писал Хью Тревор-Ропер, была отнюдь не первым прецедентом в этой области.
Не менее важны были и геополитические процессы. Эскалация напряженности достигает своей высшей точки в регионе Западного Хайленда с падением государства Лордов островов в 1493 г. Это объединение, иначе еще называемое Лордство Островов, возникло после того, как правнуки Олафа Красного, последнего короля Мэна, разделили земли, некогда принадлежавшие их предкам, и один из них, Доналд, в 1164 г. наследовал не только титул Лорда островов, но и территории клана Доналдов – Гленко, Гленгарри, а также земли боковых ветвей клана – Раналдов и Макянов. Возникновение Лордства островов было результатом борьбы корон Мэна, Норвегии и Каледонии за контроль над островами, прилегающими к западному побережью Шотландии, а также следствием брачного союза, заключенного между одной из дочерей Олафа и Сомерледом, потомком одного из островных вождей Джодфри Макфергюса. Хотя феномен Лордства островов практически не изучен в историографии, ни отечественной, ни британской, думается, что по своему характеру это было протогосударственное образование, обладавшее влиянием в Хайленде и посредством постоянной экспансии сглаживавшее основные противоречия в регионе. На протяжении нескольких столетий геополитическая ситуация в регионе характеризовалась тем, что главы родов, проживающих на территории Хайленда, обязаны были приносить присягу главе Лордства и становились танами, то есть наместниками, неся ответственность за порядок на своих землях.
1493 г. стал особым годом шотландской истории. Тогда Лордство островов, на протяжении многих лет угрожавшее западным пределам Шотландии, было окончательно разрушено, а вместе с ним ушли в прошлое и опасения, что на западе Шотландии будет существовать независимое государственное образование. Теперь его земли должны были перейти шотландской короне, что, правда, в краткосрочной перспективе сулило лишь новые испытания.
История Лордства тесно связана и с прошлым самой Шотландии, поскольку еще шотландские монархи XIII в., пытавшиеся вовлечь западные острова в орбиту своего влияния, всячески способствовали матримониальным союзам, а также бондам между лордами островов и соседними с ними гэллоговорящими регионами Шотландии, принадлежащими Коминам и Стюартам. Укрепление Лордства часто оборачивалось потерями для Шотландии и наоборот.
Нестабильная ситуация на западе Шотландии сопровождалась и сложными внутриполитическими процессами. Если XIV в. шотландской истории может быть охарактеризован как столетие, когда в королевстве господствовали крупные династии, ставшие самостоятельными политическими силами и использовавшие свои военные ресурсы для отстаивания независимости, то XV в. стал столетием укрепления королевской власти. Однако речь шла не только о том, что установить баланс между властью магнатов и короны. Шотландские монархи претендовали на то, чтобы значительно расширить свою власть, территориально и институционально, что отражало общие тенденции экономической, социальной и политической жизни королевства. В конце XV в. Эдинбург становится столицей Шотландии, и это означало, что в него переместилась политическая власть и экономический центр страны. И хотя аристократия теперь прибывала ко двору в поисках должностей и королевских милостей, такое расширение могущества Стюартов создавало новые противоречия. В правление Джеймса III (1460–1488 гг.) и Джеймса IV (1488–1513 гг.) шотландская корона была вовлечена в целый ряд конфликтов, в том числе и в перманентное противостояние с Лордством островов. После того как Макдоналды, управлявшие землями на западных островах, лишились своих владений в Россе и Кинтайре в 1475–1476 гг., аннексия Лордства была уже вопросом времени, и поэтому события 1493 г. не вызвали удивления современников.
Упадок государственного образования, существовавшего на северо-западе Шотландии с конца XII в., привел к резкому снижению влияния Макдоналдов, которые на протяжении всей истории Лордства островов олицетворяли его силу и могущество. Некогда могущественное и независимое государственное объединение распадается на многочисленные кланы и ветви кланов, оспаривающие лидерство, что явилось основой межклановой борьбы и кровопролитий, развернувшихся в Шотландии в XVI столетии. Эти процессы способствовали лишь усилению клановой солидарности и закреплению такого типа социальной организации, в котором социальное положение определялось, в первую очередь, не уровнем богатства, а принадлежностью к клану. И институты, и отношения в рамках такого родового общества были крайне персонализированы – XVI и XVII столетия представляют тому множество доказательств. Вместе с тем, по мнению ряда исследователей, именно это родство способствовало достижению социального консенсуса и такому развитию общественной системы, в которой равные предоставляемые всем возможности приводили к сглаживанию социальных противоречий и гармонии, неведанной большинству европейских стран[25].
Хотя история средневековой Шотландии ассоциируется с сильными родовыми связями, слабой королевской властью и непрекращающейся кровавой враждой, фактически мы знаем очень немного о шотландской вражде периода до XV в. – среди источников нет ни юридических записей об этом, ни литературных памятников. Свидетельством массового распространения кровной вражды становятся лишь более восьмисот т. н. «договоров людей», заключенных в конце XV в. между простолюдинами и их лордами, а также «контрактов дружбы» между людьми одинакового статуса. Эти документы являются свидетельством той ответственности, которую несли представители клановой аристократии по отношению к рядовым клансменам в сфере частного права[26]. В конце XVI – начале XVII вв. шотландские юристы стали издавать и комментировать эти договоры, благодаря чему многие из них дошли до нас, и мы можем проследить как частное право работало в традиционном обществе и чего люди от него ожидали.
Сам термин «договор людей», в шотландском варианте XV века – «band of manrent», в определенной степени уникален, хотя бы потому, что в других североевропейских странах в период позднего Средневековья и раннего Нового времени не произошло смены названия для отношений между землевладельцем и людьми, проживавшими на его территории. В Англии в XV и XVI вв. по-прежнему был распространен indenture, во Франции – alliance, в Германии – Dienerbrief. И хотя содержательно эти категории могли меняться, но лингвистически использовались традиционные термины[27]. Термин «band», происходящий из средне-шотландского диалекта, тоже не представляет сложности – в XV–XVI вв. он встречается повсюду в письменных документах и обозначает денежные или земельные обязательства одного по отношению к другому. Вторая же составляющая этого понятия – гораздо более сложная проблема, связанная с социальной динамикой и меняющимися практиками общественных связей на заре Нового времени.
«Manrent» очень редкий и достаточно архаичный термин, который был вновь извлечен в социальную коммуникацию в середине XV в. и стал означать отношения между человеком и его землевладельцем. Вплоть до начала XVII в., когда исчезает практика бондов, а вместе с ней и само слово, этот термин был крайне распространен. Проделав долгую эволюцию в XI и XII вв., затем практически исчезнув из употребления, в 40-х гг. XV века категория «manrent» вновь появляется и обозначает не что иное, как «быть человеком». Анализ этих документов показывает, что это были не просто договоры покровительства и защиты, что содержалось в перечне обязательств. Скорее это были политические контракты взаимной поддержки, используемые в массовом порядке в XVI в. в определенной политической ситуации, когда «эпоха набегов» и вражды обуславливала необходимость консолидации в целях защиты интересов. Нестабильность XVI столетия, таким образом, стала еще одним фактором формирования клановости.
Что касается вражды в более ранние периоды шотландской истории, то в распоряжении исследователей есть лишь т. н. «Древнее право» (Auld Lawes) – коллекция многочисленных записей королевского, городского, обычного права с XII по XIV вв. с незначительными отступлениями в XI и даже в X столетие. Сколь-либо детального анализа этого источника так и не проведено, хотя в нескольких работах по соответствующим периодам встречаются на эти законы отсылки. В самом общем виде «Древнее право» свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о географическом распространении кровной вражды, а, во-вторых, о постоянных попытках короны взять под контроль эту сферу общественных отношений. При этом важно, что кровная вражда была распространена повсюду в Шотландии, а не только в гэльской ее части, которую традиционно принято считать наиболее дикой. При этом в механизме реализации кровной вражды, а, значит, и в том, как эти проблемы решались на уровне институциональном, сходства между Лоулендом и Хайлендом гораздо больше, чем различия. Исключение составляет разве что лингвистической аспект.
В конце XV века появляется целый ряд специальных терминов, записанных и изданных в 1597 г. Джоном Скене, который прокомментировал их, порой отчасти модернизировав, чем сохранил свидетельства распространения этих слов в языке судопроизводства. Часть этих слов имеет кельтское или ирландское происхождение, другая – валлийские корни. Как бы то ни было, все они отражают широкое распространение обычаев компенсации или мести за причиненный ущерб. Эти первые по времени дошедшие до нас записи показывают контакты с Ирландией, Уэльсом и Нортумбрией, также кельтское и североанглийское влияние. В целом, очевидно, что существовала преемственность между ранне- и позднесредневековой враждой, а также между гэльским и англо-саксонским прошлым.
Эта преемственность важна и с точки зрения влияния короны на институты кровной вражды. Мы не знаем о том, какой была ситуации до XII в., хотя и возникает порой искушение считать, что она мало чем отличалась от века XVII. Очевидно лишь, что ранние шотландские монархи добились определенных успехов в деле регулирования этих процессов, и только нормандское завоевание обострило вопрос о роли короны[28]. На протяжении XII и XIII веков прерогативы короны постоянно расширялись, в то время как сфера действия родового права была незначительной. Причина этого была объяснена еще в 1960-е гг. шотландским историком Джефри Барроу[29], который в своей более поздней работе писал, что шотландское родство, как особый тип социальной организации, свой наиболее отличительный характер приобрело в конце XIII века[30]. Норманны, по мнению историка, пришедшие не как завоеватели, а как поселенцы не знали родового права, и не родовые институты, а монархи были ответственны за людей «вне рода». Сами родственные отношения в этот период начинают дрейфовать в сторону отношений феодальных, считает целый ряд исследователей. И хотя норманны не были завоевателями и никогда не стали по-настоящему правящей элитой, как это было в Англии, они заложили основу собственным родам, от которых происходят многие знаменитые шотландские кланы и адаптировались к традиционным шотландским нормам.
В этих условиях действительно существовала возможность конфликта между короной и родовым сообществом, что столь часто встречается в европейской истории. Однако в Шотландии именно корона частично адаптировав нормы традиционного права, признала право налагать штраф даже на монарха, если он был повинен в смерти человека. Еще большее значение для сглаживания потенциальных конфликтов имело признание права рода, к которому принадлежал убитый «железом или водой» человек, на компенсацию со стороны виновных в этом.
Очевидно, что в отличие от англо-саксонского права, шотландская корона признавала право на возмещение. Признание этого права сопровождалось разработкой специальной процедуры, и государство, таким образом, не устранялось от функционирования институтов кровной мести, а, наоборот, становилось его частью. Предлагая паллиативные способы решения проблемы, суд становился то на сторону потерпевшей стороны, то принимал сторону обидчика, но неизменно принимая во внимание законы кровной мести. Мало кто представлял, насколько были стары те законы, которыми руководствовалось судопроизводство, важно было лишь то, что они способны были решить конфликт между сторонами, а также сгладить противоречия между интересами короны и институтами кровной мести.
В марте 1587 г., через месяц после казни Марии Стюарт, состоялась встреча представителей Англии и Шотландии, на которой было заявлено, что Елизавета очень сожалеет, что ей пришлось лишить жизни Марию, и предлагает Джеймсу возмещение. На это шотландские представители заявили, что они готовы были требовать такой компенсации, поскольку, согласно родовому обычаю, родственники и близкие казненного имеют на нее право. Этот пример иллюстрирует устойчивость родовых связей на всех уровнях, институциализацию родства, а также его влияние на международные отношения.
На протяжении XV и XVI вв. корона постоянно расширяла свои прерогативы до такой степени, что шотландская правовая система к концу XVI в. полностью изменилась по сравнению с XII столетием. В XV–XVI вв. в Шотландии сложилась странная система, сочетающая элементы частного права и права короны. В конце XVI в. юрист Джеймс Балфур с удивлением отмечал, что род, а не отдельный человек является в Шотландии субъектом права и может получать или налагать наказания. Заявление о совершенном убийстве и требование наказания за преступление должно было подисываться представителями четырех ветвей – двух со стороны отца жертвы и двух— по материнской линии. Шотландские родовые группы представляли собой обширные объединения, чье участие в осуществлении судопроизводства было определяющим.
Естественно, что все индивидуальные и общественные практики были обусловлены принадлежностью к тому или иному клану, а сами родовые группы в Шотландии были могущественной силой, определяющей разного рода социальные и политические процессы. Одна из причин этого заключается в агнативном родстве, которое препятствует конфликтам в большей степени, чем когнативное. Родство по материнской линии не отрицалось в Шотландии, но это был особый тип социальных связей. Вступление в брак не приводило к взаимным обязательствам мужа и жены. Даже и в раннее Новое время, когда использование фамилий только входило в употребление, вступая в брак, женщина не принимала родовое имя мужа, что позволяло ее роду не быть полностью ассимилированным кланом супруга.
Сила родственных связей может быть объяснена помимо прочих факторов еще и географическими условиями Шотландии. Родовые группы, как правило, были локализованы в пределах одного географического ареала обитания, занимая одну долину, территория которой имела ярко выраженные естественные границы. Осознавая силу родственных связей, историческую, культурную, а также их естественно-природную укорененность, монархи не пытались разрушить эти структуры, а, скорее, использовали для расширения собственного влияния.
В целом шотландские группы довольно легко идентифицировать, поскольку они использовали для самообозначения клановые имена. Это был своеобразный «тест» на родство, в котором имя и фамилия были тождественны в культурном отношении. По источникам сложно проследить размер и состав таких родовых групп, поскольку списки членов клана – очень редкая удача для исследователя. Одним из примеров такой удачи – перечень сорока одного лэрда клана Мюррей среди множества непоименованных рядовых клансменов, все признающие общие обязательства друг перед другом. Их девиз гласил: «один будет всеми, все будут одним». Другим примером является список 227 членов клана Гамильтонов. Однако эти свидетельства, скорее, исключения, как с точки зрения редкости информации, приводимой в них, так и в отношении размера описываемых групп, которые в большинстве своем были гораздо меньше. Гамильтоны, в частности, являются необычным случаем в силу своего небывалого влияния в XVI в., особенно во второй половине столетия. Как правило, в источниках, содержащих в том или ином виде информацию о клане, сначала перечисляются лэрды, а затем следует фраза «все остальные», как это указано в «Перечне примечательных событий Шотландии» – «все остальные Гамильтоны… прибыли в Линлизго»[31].
Родовая солидарность, очевидно, ослабевает в XV и XVI вв. Отчасти оттого, что появляются другие консолидирующие связи, отчасти по причине того эффекта, который имело родство в предшествующий период. В конце XVI столетия известный юрист Томас Крэйг Риккартон описал чудовищную ситуацию кровной вражды, в которую «вовлечены братья, а, иногда, отцы и сыновья»[32]. На практике известно лишь о нескольких случаях такой вражды между отцами и сыновьями, которая выливалась в военные действия. Таким был случай Александра Огилви, который в 1545 г. лишил наследства своего сына в пользу третьего сына графа Хантли, принявшего имя Огилви. Однако Крэйг писал в эпоху, когда коренным образом менялись социальные процессы. Помимо того, что расширялась практика передачи земель не прямым наследникам, а Реформация закрыла двери для церковной карьеры младшим сыновьям шотландской аристократии, рушились традиционные связи с Францией, в армии которой служили шотландские солдаты. Земельный вопрос был как никогда остр, что приводило к эскалации напряженности и оживлению старых конфликтов. Хотя сколько-нибудь удовлетворительного исследования о положении младших сыновей в Шотландии еще не проведено, можно с уверенностью сказать, что именно их шаткий статус привел к тому, что с конца XVI в. они стали обучаться в Эдинбурге юридическим профессиям и заложили основу известным профессиональным династиям из этой сферы[33].
Родовые отношения были тесно связаны с вопросами лордства. В Шотландии не много можно найти примеров того, что родовые связи ослаблялись распространяющимися феодальными связями, даже в период норманской феодализации. В раннее же Новое время родство и лордство, бесспорно, способствовали усилению друг друга. Документы, описывающие отношения в рамках владений лордства, оперируют не терминами земельных отношений или пожалований, а категориями родства между лордом, его друзьями и клиентами. Это были договоры дружбы, зависимости, в которых указывались право на защиты и покровительство со стороны более сильных, а также службы и обязательств как категорий и лордства, и родства. Однако если отношения родства не нуждались в письменной фиксации, то связи между землевладельцем и землепользователями скреплялись юридическим договором, в котором использовался все тот же язык родства. Фразы, заключающие в себе обязательство человека по отношению к лорду «действовать и повиноваться так, как будто он мой отец, и я его сын», поскольку «этот лорд настолько добр, что оставил меня [на земле], как будто я его собственный сын», являются естественными для таких контрактов.
Лорды, таким образом, выступали в роли отцов, а взаимная ответственность между ними и клансменами была одновременно и взаимным правом, и обоюдной обязанностью. В этих договорах из раза в раз повторяется обещание действовать и выступать сообща, привлекая всех сподвижников, а в качестве наказания за нарушение данного обещания указывается возможность лишения покровительства для такого человека. Колин, граф Аргайл, например, в своем договоре с Уильямом, графом Гленкайрном в 1576 г., и Джоном, графом Маром в 1578 г. особо оговорил условие, что если убийца или другой нарушитель появится в их землях, среди их родственников или зависимых от них людей, то это никак не скажется на их дружбе, в том случае если они сами накажут преступника.
Подобные договоры свидетельствуют о сохранении частноправовых отношений и практических методов борьбы с нарушителями закона. В данном случае речь не идет о противостоянии традиционных родовых институтов с правительственными практиками. Скорее важно было то, какие из институтов более действенны в борьбе с нарушителями, и какие практики стоит использовать, чтобы максимально достичь желаемого результата. Так, неудовлетворенность неэфективными действиями правительства в 1545 г., которое на протяжении целого года не могло удовлетворить жалобу Вальтера Огилви Данлагаса на Томаса Байрда, незаконно захватившего земли Огилви, толкнула пострадавшего в объятия традиционного права мести. Обратившись к вождю старшей ветви клана Огилви, а также к могущественному местному магнату Джорджу графу Хантли, Вальтер Огилви получил в свое распоряжение целую армию и молниеносно отвоевал обратно свои земли. В отличие от центрального судопроизводства, которое могло растягиваться на долгие месяцы, наказание в рамках родовых практик приходило быстро и неминуемо. В этой связи можно говорить, скорее, о слабости институтов национального государства, чем о силе традиционно родовых практик. При этом в равной степени частное право эффективно действовало и в земельных отношениях, и в вопросах уголовных преступлений, поскольку не просто использовало традиционные практики взаимоотношений, но и исходило из необходимости поддержания баланса сил в местном сообществе.
Сохранение равновесия было необходимым условием поддержания мира в регионе. Антрополог Макс Глюкман предложил революционную теорию «Мир во вражде», в рамках которой вражда рассматривается не как дестабилизирующий, а, скорее, как уравновешивающий фактор общественных отношений[34]. Однако важным принципом наказания обидчика, как в сфере земельных отношений, так и в уголовном праве, было наложение такого наказания, которое даже не возмещало убытки потерпевшего, а поддерживало status quo в регионе. И это касалось как материальных благ и условий, так и важной для традиционного общества составляющей престижа и авторитета. Успешное урегулирование конфликта зависело от двух условий: во-первых, от связей лорда или рода, а, значит, от той власти, которой они располагали в регионе, а, во-вторых, от содержания договоров, заключенных по итогам разрешения конфликта. Необходима была тонкая политика по умиротворению тех родов, противоречия между которыми казались порой непреодолимыми, и компромисс являлся необходимым условием этого умиротворения. Кроме того, само право должно было вершиться не только сторонами, вовлеченными в конфликт, но и людьми, чей авторитет был бы залогом сохранения мира.
Такая ситуация была естественна для XV и XVI вв., но она сохранялась и в XVII столетии, когда формирующееся национальное государство стремилось развивать систему центрального правосудия. В XV в. в Шотландии существовала разветвленная система местных судов – шерифских, городских, барониальных. Однако не было ни одного центрального суда как такового – королевское правосудие вершилось в парламенте и в королевском совете. В 1426 г. был основан новый судебный орган, получивший название Судебная сессия. Изначально он задумывался как передвижной суд, который должен был собираться два-три раза в год в крупнейших шотландских городах и использовать наиболее влиятельные группы местной знати в качестве судей[35]. И только с конца XV в. Сессия стала постоянно заседать в Эдинбурге. А поскольку гражданское право сильно отличалось от уголовного, то Сессия являлась и высшей инстанцией по гражданским делам. Уголовное же судопроизводство по-прежнему оставалось в ведении местных властей. Но уже к концу XVI в. ситуация меняется радикально. Еще в 1532 г. Сессия вошла в состав Коллегии юстиции, во главе которой стоял президент и четырнадцать оплачиваемых лордов, которых стали называть лорды Сессии. Правда общее количество лордов могло меняться, и в случае необходимости в ее состав временно вводились новые члены[36], что коренным образом отличалось от ситуации XV в., когда в качестве судей выступала знать, на свои средства заседавшая в судах и видевшая в этом средство поддержания собственного престижа. Отныне Сессия стала и высшим криминальным судом, а Эдинбург бесспорной судебной столицей Шотландии, в которой стал формироваться целый класс профессиональных юристов, получавших жалование за свою работу[37]. И этот процесс также стал фактором, оказавшим влияние, с одной стороны, на процесс централизации и профессионализации шотландской правовой системы, а, с другой, на эволюции институтов кровной вражды в шотландском обществе.
Корона в этом процессе играла несомненно важную роль. Шотландские монархи претендовали на то, что все мероприятия в области юстиции должны соответствовать интересам государства и лишать оппозиционные группировки возможности контроля над таким ресурсом, как правовая система. Вместе с тем, обстоятельства не всегда складывались в их пользу. Конечно, короли Шотландии стремились осуществлять правосудие самостоятельно и в своих интересах, но эти цели не всегда достигались, что ставило под сомнение сам процесс централизации. В XV столетии короли редко привлекали народ для разбирательства в свои суды, и то, что они делали, порой даже вызывало панику среди населения, как, например, указ о том, что в качестве суда первой инстанции можно обращаться только в свой местный суд, а королевское правосудие использовать только как суд высшей инстанции[38]. Джеймс III обрушивался с критикой на парламент за то, что тот мало внимания уделяет вопросам юстиции, однако этот вопрос поднимался в парламенте 6 раз только за период с 1473 по 1478 гг.[39], и это, очевидно, как свидетельство пристального внимания короны к этому вопросу, так и показатель неэффективности предпринимаемых мер. В общем-то провал всех начинаний Джеймса в правовой сфере широко известен. Менее известно то, что самим основанием Сессии Джеймс I пытался освободить свой Совет от рутинной бюрократической работы, связанной с разбирательством земельных вопросов, и сосредоточить такую важную для государства, особенно в период формирования национального государства, стратегическую сферу как земельные отношения в ведении отдельного органа, просуществовавшего как самостоятельный институт более ста лет.
1532 г., когда Сессия прекратила свое самостоятельное существование, рассматривается юристами как поворотная точка эволюции шотландской правовой системы, окончание «темного периода» ее истории. Историки, правда, подходят к оценке этого события гораздо более цинично, считая, что само основание Коллегии было ни чем иным, как средством легализации церковных экспроприаций, проводимых Джеймсом V[40]. В этом смысле шотландские монархи раннего Нового времени ничем не отличались от своих современников в других странах – будучи наиболее могущественными представителями власти, они использовали правовую систему в своих интересах и обладали особыми правовыми институтами для защиты собственных, часто противозаконных, действий. Одним из таких институтов была должность королевского адвоката, являвшегося центральной фигурой Шотландского управления на протяжении нескольких столетий.
История этого титула в Шотландии берет свое начало в 1488 г., когда Джеймс III Шотландский, собрав верные ему войска, двинул их на своего мятежного сына и поддержавших его пэров, расположившихся лагерем неподалеку от Стирлинга. В битве при Сауч-Берне королевская армия потерпела поражение, и король, упавший с лошади, был предательски убит. Среди баронов, сражавшихся на стороне короны, защищавших монарха в том фатальном для него сражении и потерявших тогда все свое состояние, был сэр Джон Росс Монтгринан, Королевский адвокат.
Замок Монтгринана, который описывают как «хорошо укрепленную и спланированную башню», располагался в Айршире. Имя сэра Джона Росса впервые встречается в записях шотландского парламента, членом которого он был, под 6 апреля 1478 г. Он и является первым Королевским адвокатом, чье имя донесла до нас история, хотя достоверно и не известно, когда эта должность появилась. В июне 1479 г. он участвовал в акции против мятежного Джона Элема Баттердена и его сообщников, организовавших заговор против короля и укрепившихся в крепости Данбар. В октябре того же года, когда заговорщики предстали перед сессией парламента и не признали себя виновными, Адвокат призвал Палату осудить их. Согласно решению парламента, все их земли были переданы короне. В данном случае парламентская запись не содержит имени Адвоката короля. Но под 8 июля 1483 г., когда мятеж поднял герцог Албанский, от «имени короля и в его защиту» выступает «Джон Росс Монтгринен, Адвокат Его Величества», призывавший направить войска против герцога.[41]
После поражения верных Джеймсу III войск юный монарх, лишь только вступивший на престол, решил проучить тех, кто сражался на стороне его отца, включая и Джона Росса, который по велению долга и совести не только с оружием в руках защищал короля, но и показал себя в этой битве как отважный и талантливый воин. Указом нового монарха ему было приказано явиться на заседание парламента, где должно было слушаться его дело, но строптивый адвокат не выполнил приказа. И тогда лорд-канцлер призвал парламент приговорить его к смерти, а земли, принадлежащие графу Джону Россу, передать короне. Это решение и было вынесено 14 октября 1488 г. В тот же день земли Монтгринана указом короля перешли Патрику Фасткаслу.
Однако противники сэра Джона Росса недооценили могущества его друзей. Еще в 1486 г. он был направлен в качестве посла к Генриху VII Английскому, с которым у них завязалось даже подобие дружеских отношений. Поэтому, когда до Англии дошел слух о шотландских событиях и роли в них Монтгринена, английский монарх обратился с письмом к Папе Иннокентию VIII и, прося понтифика вступиться за невинно осужденного барона, характеризовал его как «рыцаря отважного, защищавшего своего монарха»[42]. Папа употребил все свое влияние, и результатом его усилий стало решение Парламента 1489 г., даровавшего прощение Монтгринену[43]. В октябре 1490 г. он стал одним из лордов Тайного совета, и вскоре ему были возвращены все его поместья и замок. Это положение он сохранял вплоть до смерти, произошедшей, очевидно, до 12 марта 1495 г., поскольку под этой датой содержится уже информация, что некто Томас Росс, скорее всего, сын Джона Росса, подарил поместье Монтгринан Джону лорду Сэмплу[44].
Такова была жизнь первого Королевского адвоката, чье имя дошло до нас. Однако история утаивает дату появления этой должности. Сам же термин «адвокат» использовался в Шотландии на протяжении долгого времени, и уже в правление Александра III в его обязанности входил надзор за исполнением законов. Хотя термин «королевский адвокат» тогда еще не встречается. Его появлением, как считают некоторые историки, Шотландия, вероятно, обязана своим контактам с Францией, где уже тогда существовала должность Королевского Прокурора (Procureur du Roi). Но каким бы ни было происхождение должности Адвоката, в XV в. в Шотландии она появляется не как публичный пост, а лишь как лицо, представляющее короля. И только при Джеймсе VI появится пост Общественного обвинителя, в результате чего произойдет окончательная государственная институциализация должности.
Интересна судьба этого поста в период заключения унии корон 1603 г. В последние годы XVI в. эту должность занимал Томас Гамильтон, прославившийся в течение своего долгого четырнадцатилетнего пребывания на посту в большей степени не как юрист, а как политический деятель, и которого, очевидно, с 1598 г. стали называть лордом-адвокатом. Титул «лорд» получали тогда все члены шотландского Кабинета. Характерно, что перенос королевской резиденции в 1603 г. никак не сказался на его функциях, с тем лишь исключением, что большую часть времени он стал проводить в Лондоне в качестве королевского советника. Правда, в 1604 г. Гамильтон прославился своими речами в шотландском парламенте, где он предупреждал о тех угрозах, которые способна принести англо-шотландская уния корон. Вероятно, за свою слишком активную деятельность в 1611 г. он был смещен со своего поста в качестве «заслуженного пенсионера», и государство назначило ему пожизненное содержание в тысячу фунтов, заместив гораздо более лояльным короне Уильямом Олифантом.
Как бы то ни было, и «Записи Тайного совета Шотландии», как и «Акты шотландского парламента» свидетельствуют, что только с конца XVI в. королевский адвокат становится относительно публичной фигурой, и на смену родовым принципам, определяющим его деятельность, приходят интересы публичной власти[45].
Все это одновременно свидетельствует и о том, что сами монархи рассматривали государство и его институты как поле родовых и патронажных институтов, хотя, вместе с тем, развитие правовой системы находилось в поле их постоянного внимания – все монархи династии Стюартов, за исключением лишь, пожалуй, Джеймса III, снискали себе высокую репутацию современников. Эта оценка происходила из их понимания того факта, что эффективное судопроизводство, в первую очередь, основывается на локальной судебной системе, и что компромисс и компенсация ущерба являются лучшим ответом на преступление, чем наказание. Такое понимание имеет много общего с тем подходом, который исповедовался на местах лордами в осуществлении их судебных функций. На всех уровнях осуществления судопроизводства основной задачей виделось изживание конфликта – формальными и неформальными способами, а справедливым монархом был тот, кто поддерживал родовое судопроизводство и осуществление суда лордами.
Даже Джеймс I, который провел 18 лет своей жизни, наблюдая английскую правовую систему, по возвращении в Шотландию очень быстро адаптировал ее нормы к шотландской действительности. Его первый парламент, собранный сразу же после его возвращения в 1424 году, открылся со впечатляющего заявления монарха о том, в Шотландии отныне будет существовать система правосудия. Это было благородное намерение, но представление о том, как его реализовать, кроме как опираясь на традиционные родовые институты, было чрезвычайно слабым[46]. Год спустя стали прорисовываться детали. В 1425 г. было провозглашено создание Совета бедных, своего рода «юридической консультации», работа которого оплачивалась не государством, а проигравшими в спорах сторонами. Все остальные мероприятия были крайне далеки от новаторства. Как в прежние времена, было даровано прощение тем, кто совершил преступления до возвращения монарха, – эта мера, правда, могла быть применена, главным образом, для Лоуленда.
В целом же мероприятия Джеймса I в отношении шотландской правовой системы вполне объяснимы. Основным направлением было совершенствование судопроизводства на местах, что не означало расширение полномочий центра. Скорее это подразумевало интеграцию королевских чиновников в институты родового общества и адаптацию ими кровнородственных практик осуществления суда. Деятельность парламентов и 1426, и 1432 годов была посвящена этому вопросу. Все законодательство этого периода учитывало интересы клановой солидарности. Любой шериф или другой чиновник, который был заподозрен в нарушении клановых прав, должен был быть заключен под стражу и выплатить штраф в 40 фунтов в королевскую казну, а также дополнительный штраф потерпевшему роду. Интересно, что штраф в пользу клана обозначался термином сгоу, производным от кельтского его[47], что уже само по себе свидетельствует об уважении к родовой культуре шотландцев со стороны власти. В целом деятельность Джеймса I в области права имела двоякое значение. С одной стороны, она свидетельствовала о преемственности с прошлым, а, с другой, закладывала основу правовой эволюции на последующие два столетия. Его сын Джеймс II, вступивший на престол в 1437 г. в возрасте шести лет, сразу же после своего совершеннолетия просто повторил парламентские акты 1425 и 1426 гг.
Вопрос, к которому новый монарх обращался постоянно, был связан с помилованием преступнику. Оно могло исходить от монарха взамен на уплату компенсации в королевскую казну. Широкое использование этого права, особенно Джеймсом III, установило баланс между королевским и родовым правом, причем, этот баланс имел не только материальное выражение. Сохранением и поддержкой кланового правосудия корона укрепляла свой авторитет среди местных магнатов, вершивших суд на местах и не видевших разницы между частным и королевским правом.
Лишь в конце XVI в. Джеймс VI, не уничтожая традиционной системы правосудия, предпринимает попытку внести некоторые изменения. В 1598 г. он инициирует «Акт о сокращении и устранении смертельной вражды», ратифицированный парламентов в 1600 г. Этот документ представляет собой странную компиляцию из прежних документов и новых идей. Начинается он традиционно с подтверждения права друзей и родственников мстить и получать компенсацию в случае нанесения им ущерба. Кроме того, гарантируется, что монарх и его совет окажут потерпевшим необходимую поддержку. После этого следует описание трех типов вражды: такой конфликт, где с обеих сторон не был убит никто, столкновение, где есть убитый с одной стороны, и, наконец, есть убитые с обеих сторон конфликта. Для первого случая следовало пользоваться установленными процедурами, в третьем случае король имел право добиваться достижения взаимного соглашения сторон – ив этом не было ничего нового.
Новелла законодательства содержалась в регулировании второй ситуации, когда убит был представитель одной стороны конфликта. Согласно традиционному праву, в этом случае существовала принципиальная возможность, что стороны конфликта придут ко взаимному соглашению посредством уплаты соответствующих компенсаций. Родовое право предусматривало возможность такого решения конфликта. Теперь же монарх мог преследовать и наказать совершивших убийство даже в том случае, если между сторонами был заключен мир[48]. Таким образом, в реальности происходило то, что было зафиксировано в Англии еще в 1221 г., когда человек, совершивший убийство, был обезглавлен по приказу короля, даже несмотря на то, что им был заключено мир с семьей убитого, подтвержденный матримониальным союзом и санкцией шерифа[49].
Однако принятие акта 1598 г., конечно же, не привело к революции в судопроизводстве, и родовое право не было заменено правом королевским. Помимо всего прочего этому препятствовало еще и то, что формировавшийся в Шотландии слой профессиональных юристов был тесно связан родовыми и клиентскими узами с теми, кого они защищали.
Кроме того, формирующаяся группа академических юристов, юристов-теоретиков права, пристальное внимание уделяла «Древнему праву» Шотландии. Они изучали и механизм действия традиционного права мести, и для них оно являлось гораздо большим, чем реликт прошлого. Это была часть судебной системы, обладающая особой аурой и авторитетом, связанными с древним законом.
Шотландские юристы конца XVI и XVII столетий лишь подтверждали взаимосвязь между публичным и частным правом. Парадокс не только в том, что они не ставили под сомнение принципы частного права. Законники делали нечто гораздо более значимое и фатальное для эволюции шотландской правовой системы. Они принимали и использовали его, и эта интервенция неизбежно работала против частноправовых норм судопроизводства. Внедрение институтов частного права на государственном уровне оказалось для него смертельным – то, что работало на уровне местных клановых сообществ, не могло быть использовано на общегосударственном уровне.
Этот процесс совпал по времени и с развитием системы образования в шотландском обществе. Шотландия становилась более грамотной, образованной, в области права начинается переход от юристов-любителей к профессиональной юриспруденции. Так называемый «Образовательный акт» 1496 г. предписывал направлять старших сыновей лэндлордов «учиться латыни», а затем изучать право. Это была своего рода «тихая революция», которая вылилась в одно из наиболее ранних европейских мероприятий, призванных обеспечить местное правосудие профессиональными юристами, что положило начало процессу внедрения судебной системы, в рамках которой решение принимает профессиональный судья[50]. Уже столетия спустя в Шотландии стала очевидна фантастическая разница между теми лэрдами, кто получил университетское образование, и теми, кто изолированно проживал в своих поместьях. Если в XV в. неудовлетворенная решением сторона должна была жаловаться в совет или парламент, то в XVI в. за апелляцией отправлялись в высший центральный суд в Эдинбурге, где дело разбирали профессиональные юристы. Все эти процессы постепенно формировали контекст, формы и процедуры права, находившего выражение в письменной форме, которые свидетельствовали о преодолении норм и институтов родовых отношений. Формирующееся национальное государство использовало право в качестве одного из инструментов подавления локализма и распространения общегосударственных норм.
Вместе с тем, еще и в начале XVII в. этот процесс был далек от завершения. В документах этого периода нередки упоминания о клиентских договорах, как, например, соглашение 1603 г., заключенное Фрэнсисом графом Эрроллом, с обещанием поддержки своему роду в их вражде с другим кланом[51]. Но главная причина, очевидно, заключалась в том, что новое сообщество образованных юристов занималось преимущественно гражданскими и земельными спорами. Именно гражданские процессы обеспечивали юристов гонорарами, в то время как вопросы об убийствах шотландцы предпочитали все еще решать на основе кровнородственного права. И здесь центральное правительство не обладало властью что-либо изменить.
Решающий перелом, в результате которого частное право окончательно ушло в прошлое, произошел, очевидно, в середине XVII в., а к концу этого столетия «Институты права» виконта Стара засвидетельствовали окончательное исчезновение судебной системы, основанной на кровнородственных отношениях. Парламент 1649 г. объявил все т. н. «прощения», непременный элемент частноправовых судебных отношений, применяемый по отношению к убийцам, прощенным родственниками жертвы, отмененными. Более того, обладавшие «прощенными грамотами» подвергались наказанию, включая смертную казнь[52]. В этом же акте давалось определение убийству, несколько более узкое, чем то, что существовало ранее. Убийство каралось смертью, и такое сужение давало возможность судьям исходить из более конкретного определения при назначении наказания. Человек, обвиненный в убийстве, заключался под стражу, и его следовало привести к судье для разбирательства с родственниками убитого. Если в суде XVI в. назначалась компенсация потерпевшему роду, то в суде XVII столетия наказывали виновного.
Нововведения 1649 г. продемонстрировали доминирование в Шотландии сторонников крайнего ковенанта, возглавляемых Арчибальдом, маркизом Аргайлом. Парламент 1649 г. целиком находился под влиянием ковенантской партии, для которой реформы 1649 г. стали наиболее значимым успехом со времен начала Реформации. Совместная деятельность церкви и государства по наказанию преступников рассматривались не иначе как богоугодное дело.
Более значимое влияние реформированной церкви на судопроизводство заключалось в другом. Кальвинизм делал акцент на дисциплине, которая воплощалась в иерархии церковных судов в Шотландии – от церковной сессии на приходском уровне до сессии генеральной ассамблеи церкви на национальном. Независимо от социального происхождения, проживания в городе или сельской местности, каждый должен был подчиняться решениям суда. Кроме того, особое внимание кальвинизма к вопросам морали, особенно сексуальной, формировало новый уровень институциализации норм права, связанный в равной степени как с традиционным правом, так и с публичными отношениями, в которых кальвинистская доктрина играла все более важную роль.
Монархи защищали принципы кровного родства потому, что они давали возможность управлять местными сообществами, а юристы адаптировали их и строили на них правовые процедуры. Но юристы, эта профессиональная элита, сами были продуктом этого общества, именно поэтому необходима была и политическая воля для того, чтобы кровные отношения окончательно ушли в прошлое. До тех пор, пока судопроизводство, основанное на родстве, было более эффективно, чем государственная судебная система, оно превалировало, Джеймс VI, еще до того как перебрался в Лондон прокомментировал кровную вражду следующим образом: «Большая часть твоего народа, – писал он, обращаясь к сыну, – питают естественное уважение к правосудию»[53]. Джеймс был прав, поскольку правосудие, основанное на кровном родстве, отвечало интересам и потребностям общества, а потому и сосуществовало долгое время наряду с зарождающимися институтами права национального государства.
Не менее важным, чем функциональное, было для формирования шотландского национального государства и институциональное значение долгого сохранения родственных связей. Патронаж, определивший политическую историю Шотландии Нового времени, вырос из социальных практик родового общества.
Представляя шотландское общество раннего Нового времени как чрезвычайно «регионализированный» социум, находящийся в состоянии перманентной вражды между его субъектами, мы, тем не менее, не должны забывать, что у него был центр, идеологически олицетворявший королевскую власть, а материальное воплощение находивший в королевском дворе, включавшем самого монарха, его семью, знать, при дворе лоббировавшую определенные решения, и многих других. Чаще этот двор находился в Эдинбурге, порой – в Фолкирке или Стирлинге, еще реже – использовал другие королевские или частные резиденции. Отношения при дворе, как и отношения в шотландском обществе в целом, тоже были максимально персонализированные – они зависели от того, кто окружал монарха, под чьей опекой он находился в период своего несовершеннолетия, от тех, кто составлял королевскую администрацию. Как бы то ни было, двор был сердцем политической жизни страны, и большая часть решений принималась именно там. И поэтому можно с уверенностью говорить, что сам двор был в какой-то степени локальным организмом, в котором существовали свои правила и практики и который, подобно клановым родовым и локальным сообществам, включал множественные разнонаправленные интересы.
Представители высшей шотландской элиты, прибывавшие ко двору, были озабочены защитой своих интересов, которые были нарушены соседями или собственно представителями короны, и находились в состоянии постоянного соперничества друг с другом. Соперничество, происходившее в шотландских долинах, переносилось в кулуары эдинбургской резиденции монархов. При этом те местные связи, которые зачастую питали вражду между кланами, оказывались и в столичных домах знати.
XVI в. был периодом кардинальной смены политических идеологий, языка политики и принципов средневековой лояльности. Повсюду в Европе долгое время существовавшие связи и отношения подвергались проверке на прочность. Церковь, государство, представители знати – все они соревновались за преданность своих поданных. Шотландское общество, в отличие от других социальных организмов, было более подготовлено к таким испытаниям – и социальный контекст, и идеология общества, находящегося в состоянии перманентной войны, сделали шотландцев устойчивыми к вызовам меняющихся социальных отношений. Однако Шотландия была одновременно и страной, в которой мыслители, подобные Джорджу Бьюкенену и Эндрю Мельвиллю, заложили основы радикальной философской традиции, с ее обильным критицизмом, дискуссиями, связанными с правами подданных и принцев, спорами о природе церкви. Очевидным становилось столкновение двух идеологий – верности и лояльности, с одной стороны, и социального критицизма, с другой. Причем обе они существовали в условиях большего или меньшего повиновения короне. Но как бы то ни было, шотландская элита, политическая, религиозная, интеллектуальная, часто сталкивалась с необходимостью построения иерархии лояльностей.
Шотландский парламент не играл в этом процессе сколь-либо значимую роль. В целом, парламенты и представительные ассамблеи раннего Нового времени служили, главным образом, тому, чтобы обеспечивать расширяющиеся финансовые потребности монархов, которые тратили все большие суммы на ведение войн, расширяя масштабы патронажа, и стремились к увеличению королевского престижа посредством превращения монаршего двора в центр политической жизни. Но несмотря на то, что парламенты сталкивались с общими внешними вызовами, они тем не менее обладали разными полномочиями, как и различной структурой и процессуальными правилами, которые скорее отражали соответствующую политическую культуру. Более того, отношения между центральными и провинциальными органами власти, представительными учреждениями и правителями могли значительно трансформироваться в зависимости от того, кто находился у власти. Однако практически повсеместно в раннее Новое время в среде представительных ассамблей возникали дискуссии по поводу их традиционных прав и ущемления этих исконных привилегий расширяющимися королевскими прерогативами. В этом смысле Шотландия являла собой типичный пример европейского королевства.
Историографические оценки роли представительных органов в Европе в Новое время исходили, по большей части, из идей представителей вигской историографии, которые, в свою очередь, в качестве критерия оценки использовали стандарты политических отношений в рамках европейских демократий более позднего периода. В этом смысле не сложно было рассматривать парламентские ассамблеи в качестве жертв наступающего Левиафана, хотя в некоторых случаях историками констатировались успехи представительных органов в борьбе с монархией. В том случае, когда борьба оканчивалась поражением парламентов, то их судьба оказывалась незавидной, и чаще они подчинялись монархии или даже полностью исчезали. Незавидная участь ждала представительные учреждения во Франции (1614 г.), Богемии (1620 г.), Португалии (1640 г.), Бранденбурге (1653 г.), Дании (1660 г.), Норвегии (1661 г.), Кастилии (1664 г.), Баварии (1669 г.), Швеции (1680 г.). С другой стороны, примеры успешной борьбы в истории парламентов представлены польским сеймом, по крайней мере, до 1760 г., представительным учреждением Соединенных провинций, венгерским и английским парламентами. Основная линия раздела между этими примерами связана с той ролью, которую представительные учреждения играли в процессе ограничения расширяющихся монарших полномочий. В частности, ситуацию в Соединенных провинциях Гельмут Кенигсбергер рассматривает в терминах конфликта «власти и свободы», которому было подчинено все остальное политическое противостояние[54]. Однако такой подход, истоки которого коренятся еще в представлениях XVIII и XIX вв., полностью игнорирует исследование того, что ожидали от представительных учреждений раннего Нового времени их современники. На сомнительную аргументацию этого «допустительного бессилия» обратил внимание И. Томпсон в исследованиях, посвященных кастильским кортесам, которые вплоть до 1664 г. выполняли важные функции, связанные с регулированием налогообложения[55].
Вопрос же о том, почему одни представительные ассамблеи исчезли, тогда как другие процветали, или, по крайней мере, сохраняли свою жизнеспособность, довольно сложен. Попытки связать социальную структуру и социальные процессы с типами парламентских представительств и формами государства, думается, в целом доказали свою несостоятельность[56]. Не может эта проблема, очевидно, быть и решена в категориях действий и политики агрессивных правителей, поскольку ряд сильных европейских монархов успешно сосуществовал с представительными органами. Так случилось, например, в Пьемонте и Савойе, когда в 1559 г. сословия поддержали герцога Эммануэля в его попытках увеличить налогообложение в целях реформы армии. Вероятно, то же самое можно отнести к бранденбургско-прусским землям, в которых, способствуя усилению политического веса сословий, Фридрих-Вильгельм в 1660–1670 гг. закладывал основы военно-бюрократической монархии XVIII в.[57] Однако даже в тех случаях, когда права сословий попирались, как это было, например, в Баварии в конце XVI в., нельзя говорить о том, что представительные органы полностью исчезли.
Судьба шотландского парламента в этом смысле представляет собой особый случай. Миф о том, что Шотландия полностью провалила свой парламентский проект, восходит, очевидно, еще к правлению Джеймса VI, который, рассматривая английский парламент как эффективный политический институт, представлял его как «сердце королевского двора и вассалов монарха»[58]. Те, кто служил британской монархии, позже склонны были повторять мнение Джеймса. В частности, Джон Мейтланд Лодердейл, секретарь Чарльза II и член парламента, констатировал в 1674 г., что шотландский парламент «как никогда не эффективен». Несколькими годами позже, в 1678 г., граф Шефтсбери отмечал, что шотландское сословное представительство препятствует процветанию свобод и благополучия подданных[59]. Иными словами, истоки негативной оценки роли шотландского парламента в развитии нации восходят еще к XVII столетию[60]. В последующем якобиты, подобные Джону Кобурну[61] и Джорджу Локхарту,[62] способствовали утверждению взгляда, что шотландский парламент, занимая ультралояльную позицию, представлял собой не более, чем продолжение королевского феодального двора. В то же время, все критики признавали легитимность шотландского парламента, существовавшего после 1689 г., отмечая, что сессия 1706–1707 гг. была прервана английским вмешательством. Согласно якобитской политической мифологии, парламент являлся виновником свержения истинной монархии в 1689 г. и предателем народных интересов в 1707 г.
На протяжении всего средневекового периода и раннего Нового времени шотландский парламент включал в себя представителей трех сословий – духовенства и знати, в состав которых входили как наследственные пэры, так и назначаемые нетитулованные бароны, а также представителей городов, избираемых городскими советами. Как и Генеральные штаты во Франции до 1560 г. или парламент Неаполя, шотландское представительство являлось однопалатным органом, в котором все три сословия заседали вместе. Особенностью же шотландской ситуации являлось то, что в его структуре существовал комитет Лордов статей, который готовил решения, принимаемые ассамблеей. Лишь отдаленное сходство у этого органа было со шведским секретным комитетом, выполнявшим близкие функции. Лорды статей являлись основным проводником королевской воли в парламенте, контролируя и представляя монаршие интересы[63]. Другим исключительно шотландским парламентским институтом, особенно характерным для XVI в., являлась конвенция сословий, которая собиралась в обход «правила 40 дней», используемого для созыва парламента, и выполнявшая функции одобрения налогов. Но снова, польский сейм имел нечто подобное в своем составе, поскольку его сессии также имели ординарный и экстраординарный характер[64].
Несмотря на значительную роль парламента, которую он играл на протяжении XV в., 1496 г. стал своеобразным водоразделом в его истории, после которого ассамблея перестала собираться регулярно вплоть до смерти Джеймса IV – если в предыдущий период парламент собирался ежегодно, то с 1496 по 1513 гг. он был созван всего лишь трижды – в 1504, 1506, 1509 гг. После череды правлений малолетних монархов, когда роль представительного органа в политической жизни значительно выросла, и он превратился в арену борьбы враждующих группировок за власть, Джеймс IV показал себя сторонником новых методов, в которых ассамблее было отведено гораздо более скромное место. Это достигалось передачей полномочий, ранее принадлежавших парламенту, другим институтам, генеральному совету и собранию лордов совета, влиять на решения которых было гораздо проще, поскольку большая часть решений могла приниматься неформально, и подавляющее число членов этих органов были лично связаны с монархом, в то время как третье сословие вообще не было представлено в них. Избегая таким образом обсуждения вопроса о налогах, проблемы, которая вызывала наибольшие разногласия в парламенте на протяжении всего XV столетия, Джеймс показывал себя мудрым правителем, и несмотря на то, что парламент практически полностью был устранен из политической жизни Шотландии начала XVI в., недовольства по этому поводу не проявлялось. После 1496 г. власть в Шотландии была как никогда стабильна, и этот факт был оценен современниками, которые мало задумывались о ценностях конституционного правления[65].
Самостоятельное правление Джеймса IV, начавшееся в 1496 г., было по мнению многих, наиболее успешным, а сам монарх признавался одним из наиболее популярных королей династии Стюартов. При этом между 1496 г. и смертью короля в 1513 г. монарх, по большей части, правил самостоятельно, созвав парламент лишь трижды. Самостоятельные правления и Джеймса IV, и Джеймса V свидетельствуют, что короли очень легко могли оттеснить парламент от политического участия. Правда, как считают некоторые историки, это было связано в большей мере с личными качествами монархов, чем с радикальными изменениями в отношениях между шотландской короной и парламентом[66]. Но даже если так, бесспорно, что Джеймс IV и Джеймс V, наиболее успешные монархи династии Стюартов, обладая финансовыми и политическими ресурсами и подавляя деятельность парламента, были в этом отношении уникальными фигурами современной им европейской истории. Во Франции в тот же период монархи активно прибегали к помощи ассамблей, утверждавших дополнительные налоги, или использовали их в борьбе с группировками знати. В Шотландии конца XV–XVI вв. посредством политических интриг и определенной финансовой независимости, получаемой от налогообложений, можно было избежать участия парламента в политических решениях при Джеймсе IV или получить поддержку ассамблеи при Джеймсе V, однако никогда шотландские монархи не пытались ликвидировать представительный орган. Роль парламента, свойственная этому органу, очевидно, изначально, зависела от ряда факторов, включая экономическое состояние общества и популярность монарха. После смерти Джеймса V в 1542 г. шотландские политические элиты уже не могли себе позволить такую роскошь, как игнорировать парламент, и должны были выбирать между бедностью парламента и его нерасторопностью в принятии решений.
Между тем, даже период расцвета шотландской монархии, пришедшийся на юные годы Джеймса V, ставшие одним из наиболее сложных периодов шотландской политической истории, показал, что парламент еще способен играть ключевую роль в важнейших событиях[67]. При этом так же, как и в английское правление Тюдоров, он являлся местом, где наиболее влиятельные люди королевства совместно обсуждали сложившиеся между ними противоречия и способы их преодоления с наименьшими потерями для королевства в целом. И эти решения, по крайней мере до 1529 г., не адресовались напрямую двору или местным политическим элитам[68], а отражали интересы тех, кто их принимал. Так, в феврале 1525 г. решением шотландского парламента правительство Маргариты Тюдор было заменено правительством Арчибальда Дугласа, шестого графа Ангуса, так же, как когда-то менялись правительства при малолетстве Джеймса II и Джеймса III. В реальности правительство Маргариты находилось в состоянии кризиса еще до того, как собрался парламент, и задачей постепенно слабеющего органа сословного представительства было оказать поддержку Ангусу, закрепив его положение в правительстве. При этом в самом парламенте господствовали две фракции, и решение принималось часто с перевесом в один-два голоса. В результате Маргарита полностью утратила контроль над ситуацией и была заключена в Эдинбургскую крепость в феврале 1525 г., но, учитывая интересы как самой королевы, так и факт ее широкой поддержки в парламенте, было принято компромиссное решение сохранить ее позиции в Тайном совете. Поддерживая ли позиции Ангуса, и давая ему в распоряжение 600 вооруженных всадников, когда он прибыл в Эдинбург в новой роли правителя, или охраняя Маргариту в крепости, парламент выполнял важную роль поддержания равновесия между сторонами противостояния и обеспечения мирного перехода власти.
Снижение же роли парламента в правление Джеймса IV было обусловлено фактом деятельности политически активного и дееспособного монарха, что вновь было подтверждено правлением Джеймса V. Однако если Джеймс IV время от времени появлялся в парламенте, то его наследник полностью отказался от его посещения, и ассамблея собиралась реже, чем это было до 1496 г. Но даже когда сословно-представительный орган собирался, его сессии становились все менее значимыми с политической точки зрения и сводились лишь к утверждению государственных чиновников на высшие должности[69]. Однако смерть Джеймса V в 1542 г. вернула парламенту то положение, которое он занимал в предшествующие два столетия. И это, по мнению ряда исследователей, свидетельствует о том, что полномасштабного и необратимого упадка роли парламента в первой половине XVI в. не произошло, даже несмотря на попытки двух монархов, обладающих незаурядной политической волей[70]. Пять парламентов, созванных за четыре года регентства Марии де Гиз, вернули ассамблее то положение, которым она обладала в XV в., а активная критика французского господства в Шотландии обеспечили Марии поддержку трех шотландских сословий в ее парламентской деятельности[71].
Деятельность Марии де Гиз в качестве регента стала последней стадией установления французского господства в политической жизни Шотландии, ставшего прямым результатом Хаддингтонского договора 1548 г. Этот договор был важен для Шотландии, поскольку, во-первых, открывал ей доступ к французской финансовой и военной помощи против оккупации английскими войсками, возглавляемыми Сомерсетом, а, с другой стороны, закладывал основу династической франко-шотландской унии корон, по которой Мария Стюарт и Франциск, дофин Франции, должны были сочетаться браком. Особенность этого договора заключалась в том, что по нему между Францией и Шотландией устанавливать отношения протектората в рамках «древнего союза» (auld allies)[72]. Поддержка тремя шотландскими сословиями притязаний Генриха II должна была защитить Шотландию от Англии и сделать ее протекторатом Франции[73]. В качестве протектора Генрих устанавливал контроль над шотландской внешней политикой и дипломатией, а также договор давал ему возможность контролировать правительство и решать, когда Мария будет готова приступить к самостоятельному правлению и кто будет регентом до тех пор. Таким образом, граф Арран становился фактически правителем Шотландии и получал в свои руки все финансы. В 1553 г. он открыто заявлял, что «до тех пор, пока он и жив, никто, кроме него, не будет управлять Шотландией»[74]. Однако в своих интригах против Марии де Гиз граф оказался слабее, правда, вопрос о назначении регентом Марии вместо Аррана решался не шотландским парламентом, а парламентом Парижа[75].
Повышение налогов стало одним из первых мероприятий Марии де Гиз, которой необходимы были средства для защиты королевства. Даже апеллируя к парламенту, в 1556 г. дополнительный налог было ввести не проще, чем в 1426 г., поэтому политика Марии вызвала всеобщее недовольство и спровоцировала дремавшую оппозицию на выступления. Пока противники налогообложения выступали в парламенте в 1555 и 1556 гг. против нарушения их традиционных прав, Гиз в 1557 г. получила значимую для нее поддержку по вопросу о династической унии между Шотландией и Францией. Ее парламентская деятельность в ноябре 1558 г., когда парламент ратифицировал разрешение на брак Марии и Франциска, стала кульминацией политической карьеры регентши. Теперь французский наследник становился шотландским королем, получая все монаршие полномочия своей жены. Примечательно, что в этой своей деятельности Мария получила поддержку всех трех парламентских сословий, что свидетельствует, очевидно, о популярности ее политики.
Вместе с тем, регентство Марии де Гиз опровергает точку зрения о том, что после правления Джеймса IV и Джеймса V шотландский парламент был недееспособен, полностью подчинившись воле монарха. В действительности, отношения между короной и парламентом в 1558 г. мало чем отличались от тех, что существовали в XIV или XV вв. Парламент не выполнял каждодневных функций по управлению страной, но он оказывал непосредственное влияние на Тайный совет, который занимался этими вопросами, и только решение парламента могло сделать правительство легальным, санкционировав его деятельность, и в этой связи XVI в. сохранил шотландские традиции.
Интересно, что явка парламентариев на парламентские заседания была на высоком уровне до 1496 г., хотя и несколько снизилась в начале XVI в., в период самостоятельных правлений монархов, отражая высокий уровень противоречий, разбираемых в парламенте. Династические проблемы, обсуждаемые в парламенте, а также вопросы налогообложения способствовали активизации сословий после 1496 г., и на протяжении большей части XVI столетия эти проблемы являлись важной политической дилеммой. Исследователи отмечают, что высокий уровень участия лэрдов и баронов в парламенте 1556 г. был связан с обсуждаемым там вопросом о налогах. Эта тенденция стала заметной после 1560 г., что, как считают историки, свидетельствует о социальных изменениях, связанных с появлением нового социального класса и о потере власти крупными феодалами[76]. Думается, что это не совсем так. Важным является и понимание того, что истоки этого процесса восходят еще к правлению Джеймса III, когда парламент пополнился значительным количеством лэрдов, отстаивавших в нем свои налоговые интересы. Тоже самое относится и к реформационному парламенту 1560 г., значительное участие в котором лэрдов является, очевидно, возвратом к нормам XV в., а не показателем радикализации общества. Кроме того, большая часть лэрдов, этих землевладельцев средней руки, отдавая дань принципам патронажа, в своей парламентской деятельности ориентировались на позиции крупных землевладельцев и высшей знати. Такая практика была укоренена в традициях родовой солидарности бондов, которые не изжили себя и из шотландских долин переносились и в стены парламента. Однако и тогда, когда голос высшей знати был не слышен в парламенте, и когда аристократы, используя патронажные практики, отстаивали свои права, они редко противопоставляли свое мнение интересам других сословий, заседавших в ассамблее. В отличие от органов сословного представительства, действующих в других странах, шотландская знать не пыталась переложить тяжесть налогов на плечи других сословий. Скорее можно говорить, что все три сословия действовали в парламенте заодно[77].
Правления Джеймса IV и Джеймса V, достигших совершеннолетнего возраста, показали, что успешные монархи легко могут низвести парламент до второстепенного органа, в том числе и посредством контроля над комитетом Лордов статей, в руки которого перешли наиболее важные парламентские функции и который еще и до 1496 г. являлся орудием королевской воли. Хотя подобное развитие в большей степени обуславливалось и личными качествами монархов, их способностью управлять и популярностью среди своих подданных, что являлось свидетельством радикальных общественных перемен, в которых короли бы подчиняли парламент. Такое подчинение ассамблеи было временным явлением и скорее отражало силу и независимость монархов, чем слабость и подчиненность представительного органа, и, конечно же, не являлось свидетельством «абсолютизации» власти. После смерти Джеймса V в 1542 г. монархия вновь утратила полномочия контроля над парламентом[78].
Кроме того, даже несмотря на то, что монархия Стюартов в Шотландии находилась на вершине своего могущества, правление несовершеннолетнего Джеймса V показало, что парламент не утратил полностью своих стремлений к тому, чтобы играть роль ключевого игрока в политической жизни. Ассамблея все еще выполняла роль того института, в стенах которого наиболее могущественные люди королевства встречались для того, чтобы обсуждать решения и бороться за власть, и парламент февраля 1525 г., на заседаниях и в кулуарных встречах которого было решено, что правительство королевы Маргариты Тюдор должно быть заменено группой Арчибальда Дугласа, шестого графа Ангуса, лишнее тому подтверждение. Однако достижение монархом совершеннолетнего возраста вновь продемонстрировало подчиненную роль парламента королю. И хотя новый правитель не последовал примеру своего предшественника, практически не созывавшего ассамблею, представительный орган собирался реже, чем это было до 1496 г. Но даже тогда, когда представители сословий встречались на сессиях, их заседания обнаруживали гораздо меньше споров и противоречий, чем это можно было бы ожидать от встреч представителей столь разных сословий – корона в этих обстоятельствах играла решающую роль в принятии решений, оставляя представительному органу лишь функции одобрения того, что было сделано комитетом лордов статей.
Однако со смертью Джеймса V в 1542 г. ситуация с ролью парламента вернулась к тому, какой она было на протяжении двух предшествующих столетий, и это стало свидетельством того, что ассамблея все же сохранила свое значение в политической жизни страны. Тот факт, что за четыре года регентства Марии де Гиз было созвано пять парламентов, свидетельствует о возвращении практик, характерных для XV в. Представители всех трех сословий показали себя верными сторонниками монархии и ее политики, даже несмотря на мероприятия короны в отношении Франции и рост налогов, которые, как декларировалось, должны были пойти на защиту королевства. И хотя оппозиция открыто заявила о своем протесте в парламентах 1555 и 1556 гг., уже в следующем году Марии де Гиз удалось обеспечить себе поддержку посредством заключения матримониального союза с Францией. Таким образом, хотя в течение нескольких десятилетий правлений Джеймса IV и Джеймса V парламент утратил часть своих полномочий, это был временный процесс, а парламентская сессия 1558 г. не слишком отличалась от парламентов 1366, 1431 или 1473 гг. Важные решения по-прежнему требовали одобрения коллективного органа.
Конец средневековой парламентской традиции и рождение шотландской ассамблеи, для которой характерны черты раннего Нового времени, относится к реформационному парламенту 1560 г. Протестантская партия, занимавшая большинство парламентских мест, отстаивала интересы новой религии и нового богоугодного сообщества[79]. Политический и религиозный раскол 1559–1560 гг. отразился в политическом противостоянии следующей четверти столетия, когда в парламенте развернулась фракционная борьба, отличавшаяся от средневековых парламентских фронд тем, что объединение групп происходило не столько вокруг отдельных аристократов, сколько вокруг определенных идей, хотя индивидуальный фактор играл также значимую роль. На протяжении единоличного правления Марии с 1561 по 1567 гг. парламент созывался трижды, и также дважды была собрана конвенция сословий, но только парламент 1563 г. отличился значимым вкладом в политическое противостояние[80].
В отношениях представительного органа и монархии сложно выделить какую-то одну закономерность сводящуюся к поступательному ослаблению одной стороны и однонаправленному усилению власти другой. На протяжении раннего Нового времени отдельные индивиды, как и отдельные сословия, время от времени обладали то более, то менее сильными полномочиями[81]. В этом смысле шотландский парламент не представлял собой чего-то особого, и то, что его размер и власть после 1560 г. стали меняться, пусть и не в значительной мере, также не является исключением по сравнению с другими европейскими ассамблеями. К уже указанным слоям, представленным в парламенте, добавились государственные служащие, чьей властью в представительном органе легко было управлять. То, насколько этот факт кооптации бюрократии в парламент отражал общее противостояние короны и ее критиков, является предметом дискуссии, как и степень, в которой эти изменения соответствовали общим социальным переменам в шотландском обществе. Что касается размера ассамблеи, то на протяжении второй половины XVI в. среднее число парламентариев равнялось шестидесяти[82], хотя в определенных чрезвычайных случаях, как это было, например, в 1563 г., среди парламентариев насчитывалось 53 представителя духовенства, 51 пэр, 44 городских депутатов и неопределенное количество баронов[83].
Гражданская война 1567–1573 гг. и последующее десятилетие политической нестабильности показали, что парламент может быть орудием в руках фракций, поведение которых определялось принадлежностью к религиозным группировкам, политической идеологией, отношениями с королевской властью, а также интересами кровной вражды. В особенной мере это продемонстрировали парламенты 1567 г. В то время как депутаты сессии, собранной в апреле, посредством серии законопроектов попытались закрепить власть Марии, в декабрьском парламенте большинство составляли противники королевы, которые передали власть Джеймсу VI и приняли ряд законов, направленных на закрепление реформационных положений 1560 г. Политическая нестабильность обуславливала тот факт, что в период с 1567 по 1584 гг. шотландский парламент созывался как никогда часто – в это время было собрано 12 заседаний ассамблеи, и около 17 раз созывалась конвенция сословий. Только за время 1571–1573 гг., период апогея гражданской войны, парламент собирался 5 раз. В мае 1571 г. партия Джеймса собрала т. н. «ползающий парламент», название которого произошло от того унизительного факта, что депутаты должны были пригнувшись пробираться на заседания ассамблеи в Канонгейте, близ Эдинбурга, подвергаемого пушечному обстрелу со стороны противников; в следующем месяце парламент собрала партия королевы[84]. Хотя в регентство Моргана на протяжении 1573–1578 гг. удалось достичь определенной стабильности, его правление подвергалось критике за то, что он правил единолично, не проводя консультаций с представителями других политических сил. Окончание его регентства в 1578 г. было ознаменовано тем, что королевство вновь было ввергнуто во фракционное противостояние, в котором парламент использовался как основное средство борьбы.
В годы реформации парламент стал ареной борьбы различных религиозных группировок. Законодательство 1560 г. было ратифицировано в декабре 1567 г., сразу же после отречения Марии, однако даже это не решило тонкого вопроса о взаимоотношениях церкви и короны. Проблема отношений короны, церкви и парламента оставалась не решена вплоть до 1689 г. Джон Нокс и его сподвижники, отстаивая идею превосходства божественной власти, особо апеллировали к парламенту, который наиболее полно, по их мнению, мог отражать эту идею на политическом уровне[85]. В мае 1584 г. парламент принял т. н. «Черный акт», признающий супрематию короны, и хотя протестантские лидеры, вроде Эндрю Мельвилля, критиковали эрастианскую[86] природу закона 1584 г., даже они вынуждены были признать необходимость превосходства светской власти, правда, в лице парламента, которая должна была обеспечивать политическую поддержку реформации[87].
Результатом реформации стало то, что духовенство лишилось своего парламентского представительства в Шотландии так же, как это произошло в других регионах Европы, например, в Бранденбурге и Пруссии.[88]До 1560 г. духовенство в парламенте было представлено двумя архиепископами, одиннадцатью епископами и двадцатью семью настоятелями соборов, которые одновременно являлись и членами высшей шотландской знати, что обеспечивало исподволь идущий процесс секуляризации клерикального представительства в парламенте. В период 1560–1606 гг. подавляющее число церковных мест в ассамблее принадлежало уже крупным землевладельцам. После того, как Генеральная ассамблея церкви Шотландии настойчиво стала проводить политику отделения церкви от государства, шотландские епископы практически полностью утратили контроль над светской жизнью, а сам епископат постепенно становился исключительно религиозным институтом. Сама же Генеральная ассамблея церкви с самого своего основания в 1560 г. вплоть до 1605 г., когда Джеймс стал активно вмешиваться в ее решения и в итоге до 1618 г. прекратил ее работу, представляла собой могущественное независимое лобби. Присутствие в ней мирских старейшин означало, что генеральная ассамблея представляет собой не просто орган церковного управления, но, подобно кастильским или французским религиозным ассамблеям, могла рассматривать вопросы, находящиеся в компетенции представительной ассамблеи[89]. Для церкви в конце XVI в. более важным вопросом была не проблема представительства как такового, а как это парламентское представительство формируется, однако после 1597 г. и этот механизм был взят под контроль монархией. Все это в итоге привело к решению, замысел которого, очевидно, у Джеймса возник еще в 1584 г., о необходимости назначения епископата, что и было реализовано начиная с 1600 г., что в свою очередь, сделало возможным в 1606 г. восстановление церковного представительства в парламенте, поскольку оно, находясь под контролем, уже не угрожало политическому могуществу монарха.
Хотя продолжительность парламентских сессий и количество созванных в определенный период заседаний и не является показателем значимости представительных учреждений, полностью игнорировать эту информацию нельзя. В период между 1560 и 1603 гг. шотландский парламент встречался 22 раза, кроме того, около 80 раз созывалась т. н. Конвенция земель, представлявшая собой собрание, половину которого составляли представители сословий, а вторую часть – знать. Между 1603 и 1689 гг. состоялось 17 парламентских сессий и 15 собраний Конвенции сословий, куда уже не входили представители знати. Проведение таких подсчетов значительно осложняется тем фактом, что официальные документы практически не сохранялись. Но даже эти цифры мало о чем, очевидно, свидетельствуют, и тот факт, например, что сессия 1640 г. была самой длинной на протяжении XVI и XVII вв., говорит о том, что любые количественные показатели нуждаются в соотнесении с историческим контекстом. В период 1660–1707 гг. Ассамблея сословий созывалась в среднем на сорок дней ежегодно, однако и здесь необходимо учитывать, что, например, заседания после 1689 г. в среднем были длиннее, тогда как в 1664, 1668, 1675–1677, 1679–1680 и в 1687–1688 гг. шотландский парламент вообще не собирался. Сравнения с другим европейскими представительными учреждениями свидетельствуют, что шотландская ассамблея собиралась чаще, чем, например, Арагонские кортесы или Венгерский парламент, который вообще не заседал с 1662 по 1681 гг. С другой стороны, шотландский парламент собирался реже, чем английский, или представительный орган Соединенных провинций, и даже не так часто, как провинциальные ассамблеи Лангедока, которые созывались ежегодно.
Реформационный парламент 1560 г., заседания которого в равной степени имели определяющее значение как для политической, так и для религиозной истории Шотландии, не может быть, конечно, отнесен к парламентам средневековым. Помимо всего прочего, именно этот парламент разорвал контакты с Римом, что, в свою очередь, привело к изменению отношений с Англией – факт, в значительной степени определивший шотландскую историю Нового времени. Однако с точки зрения той роли, которую ассамблея играла в шотландском обществе, значение сословного органа оставалось таким же, каким оно было в 1290 г., когда слово «парламент» появляется в Шотландии с новым для него значением – как символ коллективного действия по защите интересов страны в период малолетства монарха. Как в период правления Роберта I, так и во время правления Джеймса IV случались отдельные эпизоды, когда парламент играл меньшую роль, но, как правило, он был тем учреждением, в котором решались вопросы наибольшей важности и определялась правительственная политика, особенно в период малолетства монархов, и вырабатывались рекомендации королям, даже если те не очень хотели их слышать. И в этом смысле реформационный парламент 1560 г. не является революционным с точки зрения того, как он работал. Революционными были его решения. Но даже и эти решения по своей природе были более политическими, нежели религиозными, хотя это с трудом признается современными историками. Протестантизм интересовал членов ассамблеи лишь с точки зрения внешней политики и претензий лорда Гамильтона на власть, именно по этим вопросам борьба между фракциями была наиболее ожесточенной в реформационном парламенте. Выиграв войну против французской армии Марии де Гиз, протестантские лидеры, воспользовавшись отсутствием монарха, закрепили свою политическую победу и в религиозной сфере. Реформационные акты стали следствием политической победы, и утверждение реформации в Шотландии должно рассматриваться как политический процесс.
Главное значение шотландского парламента в развитии страны заключается в том, что он формировал юридическую систему. Единственная среди европейских стран, Шотландия создала такую юридическую систему, в которой парламент являлся источником норм судопроизводства. Колледж юстиции, не только образовательный, но и судебный институт, толкующий нормы права, был основан парламентским актом и свою власть получил непосредственно от парламента в 1540 г. Хотя традиция его существования восходит еще к 1370 г., когда парламентом была назначена небольшая по количеству членов комиссия, занимающаяся юридической работой. Система шотландского права, которая разрабатывалась сенаторами Колледжа юстиции, далека от норм английского права и является в значительной степени результатом прямого или косвенного вмешательства шотландского парламента, который старался регулировать и гражданское, и каноническое право.
Реформация в целом меняла представления о политике, политическом участии, о роли традиционных институтов. Шотландская знать, как она виделась интеллектуалам эпохи реформации, это та элита, которая наделена правом участия в политической жизни, а сама реформация представляется тогда в равной степени и как религиозное, и как политическое явление, трансформировавшее само представление об обществе. И хотя идея о том, что история Шотландии – это история ее знатных фамилий, не ушла в прошлое, она была изменена под воздействием реформации. Родство, которое по-прежнему было могущественной силой, источником почитания и власти, должно было стать той силой, которая будет способствовать преодолению распада общества. Родство и власть, кровь и доблесть никогда не были в Шотландии категориями полярными, скорее, наоборот, знатность предполагала добродетели и ответственность. Элементы традиционного общества, таким образом, должны были консолидироваться «истинной религией» и стать фактором процветания Шотландии. В этом смысле родство было тем, что преодолевало разрыв, созданный переходом к протестантизму.
Не все, правда, были столь оптимистично настроены по отношению к роли аристократии в Шотландии периода реформации. В частности, для Роберта Понта, шотландского священника, вынужденного отправиться в изгнание в 1585 г., даже не будучи ортодоксальным пресвитерианином, не наделенная политическими полномочиями знать может дисциплинировать и реформировать общество, а союз двух британских корон сделает этот прогресс более последовательным[90].
Поэт, политический деятель, историк, признанный последователь идей Джорджа Бьюкенена Дэвид Юм Годкрофт в своей «Истории дома Дугласов и Ангуса», материал для которой он собирал, будучи наставником Арчибальда Дугласа, восьмого графа Ангуса, считает, что шотландцы не должны смущаться своей традиционности и обычности. Энергия родства, по его мнению, очень скоро приведет их к гражданскому состоянию. Родственные связи, таким образом, должны стать, скорее, фактором, способствующим развитию, чем замедляющим его[91]. В этом, кстати, идеи Юма противостояли кальвинистской доктрине, для которой вера не совместима с кровным родством, как об этом свидетельствовали некоторые его современники[92]. Его концепция, а также интеллектуальная традиция, к которой она восходит, рассматривали Шотландию как культурное и историческое единство, где Хайленд и англо-шотландское пограничье, а также их политические структуры, были неразрывно интегрированы. Эти представления о единстве страны были гораздо более значимы для процесса нацие-строительтства, чем поиски культурных и социальных отличий между шотландскими регионами, к которым обращались шотландские интеллектуалы, вроде Джона Мейра, еще столетие назад[93]. Если на рубеже XVI–XVII столетий Хайленд и Пограничье нуждались в политике умиротворения и цивилизовывания, то теперь, как считает Д. Юм, они представляют собой видимые примеры истинной шотландскости – в представлении мыслителя, как и для сознания многих его современников, понятие «житель пограничья» включало в себя целый комплекс таких характеристик как родство, кальвинизм, классические политические добродетели[94].
Шотландская идентичность периода позднего Средневековья – раннего Нового времени представляла собой смесь каждодневных кровнородственных, институциональных и религиозных практик. Повседневная жизнь в условиях традиционного общества играла значительно большую роль в формировании идентичности, нежели интеллектуальные конструкции, лежащие в основе более поздних примеров становления идентичности. При этом традиция, будь то опыт соотнесения себя с кланом, долиной, где род проживал, или землевладельцем, была той основой, которая, передаваясь из поколения в поколение, составляла основу этой идентичности. И хотя этот опыт использовался по-разному, общим было одно – традиция была частью повседневности, а потому охватывала все слои населения независимо от социальной, культурной или образовательной принадлежности.
Шотландия позднего Средневековья представляет собой пример того, как поддерживается и воспроизводится идентичность в донациональном обществе. Будучи интегрированной целостностью, она включала родовое, религиозное, институциональное и другие виды самосознания, но тем не менее именно повседневные практики, как правило, не рефлексируемые теми, кто их порождает и является их носителем, а также не разделяемые на отдельные сферы по отраслям жизни (экономическая, религиозная, политическая, и т. д.), обуславливали процесс конструирования идентичности. Идентичность в этом смысле была не просто арифметической суммой разных самосознаний, но основывалась на традиции взаимоотношений, подвергаемых историческим изменениям. В этом смысле шотландский клан и родство, составлявшее его сердцевину, испытывая на себе новации политической, правовой, религиозной и других сфер, был той традицией, в которой пересекались все отношения. Именно это позволило ему выжить и в новых условиях.
Столь же важен и другой уровень этого процесса. Родство, кланы, а также политические институты позднесредневекового и раннесовременного общества являлись объектом внимания как современных комментаторов, так и последующих шотландских мыслителей, в том числе и живших в эпоху нацие-строительства. В этих институтах традиционного общества интеллектуалы пытались отыскать корни шотландской нации, в современный период воплощенные в традиционной культуре, превращенной зачастую в китч, но напрямую ассоциировавшиеся с шотландским прошлым. Традиция, уже не в качестве повседневной практики, а как история, вновь становилась в центр обретения идентичности, принимавшей национальные формы.
Глава 2
Национальная церковь или церковь нации: формирование протестантской идентичности
«Девятнадцатого августа 1561 года, между семью и восемью часами утра, Мария, королева шотландцев, прибыла из Франции, вдовая, на двух кораблях… Само небо в миг ее прибытия ясно давало понять, что сулит стране возвращение королевы, а именно – горе, боль, тьму и нечестие. На памяти тех, кто живет ныне, небеса впервые были столь темны и оставались таковыми еще два дня; лил проливной дождь, сам воздух пахнул премерзко, а туман пал такой густой и плотный, что нельзя было разглядеть ничего на расстоянии шага от себя. Солнца не видели целых пять дней. Господь послал нам предостережение, но увы – многие из нас ему не вняли»[95] – этими словами Джон Нокс уже a posteriori, по истечении многих драматических месяцев шотландской реформации, описал то, как она начиналась. Однако ее истоки таились гораздо глубже…
* * *
1543 год был значимым периодом шотландской истории, временем, наполненным интригами и борьбой за власть. Смерть Джеймса V годом ранее в декабре привела к власти Джеймса Гамильтона, графа Аррана, который был назначен регентом малолетней королевы Марии, и тот очень скоро продемонстрировал свои религиозные и политические симпатии, отвергавшие папистскую веру, полагая истинными и единственно справедливыми лишь протестантские идеи. Новый Завет использовался сторонниками протестантизма как орудие борьбы оппозиции против епископов, и Арран, подражая английским реформаторам, яростно критиковал Папу и отвергал веру в чистилище. Начавшиеся переговоры с Англией вернули в Шотландию Джорджа Уишарта, харизматического цвинглианина, который несколькими годами ранее, в 1538 г., вынужден был оставить страну из-за религиозных преследований со стороны католических властей. Возвратившись, он, вместе с другими протестантами, начал активную проповедническую деятельность, направив свою атаку против монастырей и других реликвий католицизма.
Однако деятельность Аррана продлилась менее года. Шотландские политические элиты были расколоты, и консервативная профранцузская фракция, получив власть, прервала переговоры, добилась казни Уишарта, вслед за чем последовала война с Англией, сопровождавшаяся разрушительными нашествиями с юга по суше и по морю и закончившаяся катастрофическим поражением шотландцев в битве при Пинки 10 сентября 1547 г., ставшей одним из последних сражений эпохи англо-шотландских войн XVI столетия. Шотландцам была необходима французская помощь, взамен которой они предлагали Франции свою юную королеву.
Рассматриваемая как агент вражеской стороны, протестантская партия все более теряла влияние, а ее доктрина воспринималась не более как «вера и суждение Англии»[96]. Часть земель протестантских лидеров была экспроприирована, протестантские проповедники вынуждены были оставить страну, и в 1552 г. общий совет церкви уже отмечал, что угроза миновала. «Множество ужасных ересей, – отмечалось на совете, – возникло в последние несколько лет, породив восстания в различных частях этого королевства…, но благодаря божьему провидению…, бдительности и верному служению прелатов во имя католической веры, все они ликвидированы»[97].
Несмотря на это оптимистичное заявление, к последней четверти XVI столетия Шотландия неминуемо приближалась к войне, согласно взглядам одних историков, продолжавшейся с 1567 по 1573 г., а, по другим концепциям, начавшейся в 1559 г. Истоки этой гражданской войны, по мнению Гордона Доналдсона, коренились в сочетании религиозных факторов, отношения в вынужденному отречению Марии, а усиливалось все это еще и крайне противоречивыми контактами с Англией.
Утверждение о том, что шотландская реформация привела к решительным изменениям в обществе, стало уже общим местом в историографии. Еще в 1960 г. профессор церковной истории университета Глазго Дж. Рейд утверждал, что реформация породила такую церковь, которая стала «национальным символом» и что «лишь единицы могут сомневаться в том, что Шотландия без реформации невозможна»[98]. При этом значение церковного раскола, произошедшего в середине XVI столетия, вышло далеко за пределы, географические и хронологические, собственно шотландской истории, в значительной степени предопределив религиозную схизму в среде шотландской диаспоры в Канаде или Новой Зеландии в XIX в.[99]
Однако значение реформации не только в том, что она изменила представления шотландцев о самих себе, с точки зрения пересмотра того, что значит быть шотландцем, но и в том, что в процессе становления протестантских идей об обществе сформировался принципиально иной взгляд на шотландское прошлое, которое стало полагаться как поступательное движение к протестантизму. Используя ретроспективные оценки, избежать которых для изучающих прошлое, является, очевидно, недостижимой целью, шотландцы раз за разом находили в событиях, предшествующих реформации, предпосылки и причины грядущих перемен. Характерно в этой связи упоминание Роджера Мейсона, современного шотландского историка, об одном его студенте, который на одном из университетских семинаров заявил, что «вообще-то шотландцы всегда были протестантами»[100].
Вместе с тем, современные исследователи и публицисты далеко не столь единодушны в оценках значения шотландского протестантизма для современной национальной идентичности. Аллан Мейси, консервативный обозреватель ежедневника «Скотсмен», во время заседания Генеральной ассамблеи церкви в мае 1999 г. писал в своем обзоре, что «церковь Шотландии до сих пор может признаваться как национальная церковь, но не как церковь нации»[101]. Даже тот факт, что Ассамблея 1999 г. заседала не там, где размещалась обычно, а ее место теперь занял восстановленный шотландский парламент, свидетельствует о постоянном противоборстве двух ключевых элементов шотландского общества – протестантской церкви и протестантского народа, власть которого олицетворяется парламентом.
Наконец, в последнюю четверть минувшего века, историография реформации, которую уже сейчас принято называть ревизионистской[102], поставила целый ряд новых проблем. Помимо влияния реформационной традиции на современную шотландскую идентичность, ставится вопрос о тех мифах, которые существуют вокруг шотландской реформации. На смену странной смеси религии и политики, в рамках которых традиционно рассматривалась шотландская, да и в целом европейская, реформация, и где исследователи концентрировались на изучении церковных правил, системы администрирования церкви, ее организации, финансовой деятельности[103], приходит подход с особым вниманием к тому, как в рамках внутренней политики эволюционировали институты пресвитерианизма уже в постреформационный период.
Традиционный взгляд на шотландскую реформацию восходит к исследованию Питера Юма Брауна, опубликованному сразу после Первой мировой войны[104]. Исследователь доказывал, что противоречия между церковью и государством явились центральными для всей шотландской истории раннего Нового времени. По его мнению, все содержание периода между 1560 г., началом реформации, и революцией 1690 г. сводилось к этой «политической эквилибристике»[105]. К концу XX в. этой устаревшей концепции придерживался разве что Гордон Доналдсон, один мэтров шотландской историиографии, и несколько его протеже, которых принято называть «эдинбургской школой», сила которой, по общему признанию, в палеографических методах, снискавших этому направлению мировое признание, но никак не в стремлении учитывать весь интеллектуальный и политический контекст Шотландии эпохи реформации.
Более современный подход к изучению не только реформации, но и всей истории Шотландии раннего Нового времени представлен трудами промежуточного поколения шотландских историков и включает работы Кристофера Смаута, Розалинды Митчисон и Тома Дивайна, которые отдавали предпочтение социально-экономическим исследованиям. К. Смаут, в частности, уже в исследованиях 1960-1970-х гг., уходя от традиционных акцентов «эдинбургской школы», уделял больше внимания социальной трансформации, демографии, уровню жизни, а также региональному уровню исторического исследования, что позволило поставить и приблизиться к решению целого ряда задач, открывавших новый взгляд на шотландское прошлое.