Читать онлайн Культурное пространство «Киммерия Максимилиана Волошина». Вып. 1 бесплатно
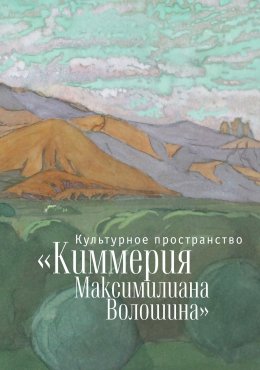
Памятное место «Волошинский Коктебель»
Genius Loci киммерийского топоса
«Киммерией я называю восточную область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора Киммерийского (Керченского пролива), в отличие от Тавриды, западной его части (южного берега и Херсонеса Таврического»).
Максимилиан Волошин
Коктебель Максимилиана Волошина – это поэтичная Киммерия, в образе которой поэт соединил фантастический пейзаж, бурное вулканическое прошлое Крыма, его геологические напластования – россыпи, насыщенные историко-культурным наследием великих эпох и знания мировой истории, философии, культуры, религий, эзотерики и мистики, творчески переплавленные в коктебельском уединении.
«Коктебель не сразу вошел в мою душу: я постепенно осознал его как истинную родину моего духа. И мне понадобилось много лет блужданий по берегам Средиземного моря, чтобы понять его красоту и единственность», – писал Волошин много позже в одном из вариантов автобиографии.
В 1913 году на берегу коктебельской бухты Максимилиан Волошин завершил постройку своего дома, которому суждено было стать известным в Европе культурным центром, войдя в историю под именем Дом Поэта.
Коктебель (по теории профессора лингвистики В.И.Филоненко – «край голубых холмов»: kök – серо-голубой, töbe – холм, el – край, страна (тюрк.) – курорт, поселок городского типа с населением около 3000 чел. (по переписи населения 2002 года). Расположен в юго-восточной части крымского полуострова на самом берегу живописной бухты Черного моря, окруженной тонкими абрисами киммерийский холмов – с северо-востока и фантастическими нагромождениями скал вулкана юрского периода Кара-Даг – с юго-запада. Коктебельская долина находится на стыке степи, моря и начала крымских гор. Здесь уникален климат, своеобразны наземная и морская флора и фауна, сохранившие древнейшие эндемики, ряд которых занесен в Международную Красную книгу. Причудливы очертания скал Карадага – вулкана, извергавшегося около 150 миллионов лет назад. В 1921 году здесь была зафиксирована магнитная аномалия – одна из немногих на земле. Для охраны природного богатства на базе Карадагской научной станции, основанной в 1907 году Т. И. Вяземским, в 1979 году был создан государственный Карадагский природный заповедник. Он занимает 28,742 кв. километра, включая 8,091 кв. километр акватории Черного моря.
Удобная и красивая гавань всегда привлекала внимание переселенцев. История освоения коктебельской долины в полной мере отражает этническое многообразие и бурный процесс заселения Крыма. «Сложный конгломерат расовых сплавов и гибридных форм – своего рода человеческая «Аскания Нова», все время находящаяся под напряженным действием очень сильных и выдержанных культурных токов», – писал М. А. Волошин.
Первые поселения человека в районе Коктебеля датируются эпохой неолита. Об этом свидетельствуют находки со стоянки, обнаруженной у ручья Куру-Еланчик в четырех километрах от Коктебеля и каменные орудия, найденные на Кара-Даге. Известно также, что с конца II – начала I тысячелетия до нашей эры на территорию Крыма приходят киммерийцы, почти не оставившие свидетельств о себе, но подарившие юго-восточному Крыму своё имя – Киммерия. Сохранившееся в древних географических названиях и впервые упомянутое Геродотом в V в. до н.э., опоэтизированное Максимилианом Волошиным, а вслед за ним и многими литераторами, оно прочно и широко вошло в современность. В начале VII в. до н.э. в Крыму появились скифы, за ними пришли сарматы, а в начале III в. н.э. – готы, подпавшие под влияние Византии. В окрестностях Коктебеля известно несколько поселений античного периода. Предположительно одно из них – уже заброшенный порт скифо-тавров Афинеона – упоминает в начале II в. н.э. античный историк Псевдо-Арриан. Вероятно также, что путь Андрея Первозванного пролегал по побережью полуострова и через городище на плато Тепсень под Кара-Дагом (многослойный раскоп) – при раскопках там было обнаружено раннехристианское поселение, найдены нательные крестики. В коктебельской долине археологами локализовано более десятка поселений, образовавшихся при ослаблении хазарского каганата, очевидно византийско-христианской культуры. Наибольшее, возможно – монастырь, существовало на Тепсене до конца IX в., когда было стерто печенегами. В начале XIII в. побережье попадает в руки татар, но после 1200 г. в Причерноморье активизируют колонизацию итальянцы. Они приобретают у татар земли и в XIV в. в округе Коктебеля значилось четыре фактории, в том числе – гавани Поссидима и Калитра, одно из них оставило свой след на дне коктебельского залива – средневековый мол, обнаруженный археологами в начале ХХ в. Тогда же в долине поселяются армяне, руины армянской церкви под Сююрю-Кая были уничтожены уже нашими современниками. Конец XV в. отмечен завоеванием Крыма Османской империей, укрепляется Крымское ханство, переселенцы из Турции селятся и в окрестностях Коктебеля, но к XVIII в. поселения опустевают. Весьма подробные изыскания по истории коктебельской округи отражены в книге «Старый добрый Коктебель»1.
После присоединения Крыма к России началось его исследование и постепенное освоение. Академик П. С. Паллас, путешествуя по полуострову в 1793–1794 гг. описал развалины деревушки под Кара-Дагом – «прежде здесь находилась татарская деревня с мечетью и прекрасным фонтаном…». В 1837 г. у дороги на Судак возник первый болгарский постоялый двор Стамовых, а к началу ХХ в. болгарское село насчитывало более 1000 жителей. В это же время на побережье Коктебельской долины благодаря владельцу этих земель врачу-окулисту академику Э. Ф. Юнге, скупившему её у местных, формируется дачный поселок. В путеводителе «Крым» 1914 года читаем «дачный поселок… занимает большую часть прибрежной полосы (есть дачи и выше шоссе) и почти соединился с болгарской деревней». Из него же узнаем, что в Коктебеле есть гостиницы, столовые, кафе, продуктовые лавки, почта и даже земское училище с библиотекой-читальней. На дачах сдаются меблированные комнаты и есть теплые морские ванны. Также здесь «одно из лучших в Крыму купаний». В путеводителе описываются прогулочные маршруты – пешеходные и морские, по окрестностям Коктебеля и Карадагу, и самые примечательные для дачников занятия: «Море, спокойное, мелкое у самого берега, представляет прекрасное купанье для взрослых и детей. Коктебельский пляж славится, кроме того, обилием красивых разноцветных камешков, между которыми попадаются сердолики, халцедоны, яшмы. Собирание камешков составляет любимое занятие не только детей, но и взрослых дачников. В этой отрасли давно уже существуют профессионалы, собирающие коллекции камней, редкие по своей красоте, и отправляющие их в Ялту и Феодосию для продажи».
В 1893 году в Коктебель приехала Е. О. Кириенко-Волошина с сыном Максимилианом. Волошин записал в своем дневнике 17 марта: «Сегодня великий день. Сегодня решилось, что мы едем в Крым, в Феодосию и будем там жить… Прощай, Москва! Теперь на юг! На юг!… Господи! Как хорошо! Я не был никогда так счастлив, как сегодня».
Много позже, 12 сентября 1903 г. Елена Оттобальдовна совершает у нотариуса в Феодосии «акт купчей крепости» на участок земли в Коктебеле в 1302 кв. сажени – на самом берегу красивейшей из черноморских бухт. В том же году по своему проекту Максимилиан Александрович строит колыбный дом, к которому в 1912–1913 годах пристраивает из дикого камня высоким эркером двусветную Мастерскую. Дом, с разными ритмами архитектурных объемов и окон, опоясанный светло-голубыми террасами-палубами, с вышкой-мостиком получился удивительно гармоничным, составляющим единое целое с неповторимым коктебельским ландшафтом. Современники называли его Дом Поэта – как высший символ признания Слова – действенного и спасающего.
В 1908 году на этом же участке Елена Оттобальдовна построила новый дом с флигелем, которые составили единую усадьбу с домом и флигелем М. А. Волошина. «Постройка второго дома на твоей земле мне стоила 7000 р.», – писала Е. О. Кириенко-Волошина сыну в письме от 29 октября 1915 года.
В самые тяжелые годы оба дома были наполнены гостями, до шестисот человек за лето останавливалось у гостеприимных хозяев. Бесплатный приют для ученых, литераторов, художников, артистов, авиаторов… Отдых, наполненный впечатлениями киммерийской природы, серьезными научными и культурными дискуссиями, юмористическими розыгрышами и общением с Волошиным вдохновлял творчество гостей. Несмотря на постоянные хлопоты, связанные с непростыми отношениями с властями, содержанием усадьбы и хозяйством, в двадцатые годы Волошин открыл большой и серьезный этап своего поэтического творчества, написал большое количество прекрасных киммерийских акварелей.
В 1923 году М. А. Волошин создал в усадьбе «Коктебельскую художественную научно-эксперементальную студию». В ноябре 1924 года он писал Л. Б. Каменеву: «Двери моего дома раскрыты всем и без всякой рекомендации – в первую голову писателям, художникам, ученым и их семьям, а если остается место, – всякому, нуждающемуся в солнце и отдыхе, кому курортные цены не по средствам. Ставится одно условие: каждого вновь прибывающего принимать как своего личного гостя. Поэтому емкость моих 25-ти комнат среди лета достигает иногда ста человек. Срок пребывания не ограничен. Налажено коллективное питание для экономии. Летом сюда приезжают отдыхать, весною и осенью работать. <…> Я думаю, что Коктебельская Художественная Колония является для Республики организацией полезной и желательной, а для искусства органически необходимой. Вы сами знаете, как тяжело сейчас экономическое положение писателей, поэтов, художников, как переутомлен каждый и службой, и напряженностью городской жизни, и как важен при этом для одних возрождающий летний отдых, для других возможность уединиться для личной творческой работы…».
«Те, кто знали Волошина в эпоху гражданской войны, смены правительств, длившейся в Крыму три с лишним года, верно, запомнили, как чужд он был метанья, перепуга, кратковременных политических восторгов. На свой лад, но так же упорно, как Лев Толстой противостоял он вихрям истории, бившим о порог его дома…», – вспоминала Евгения Герцык. А Валерий Брюсов в 1924 году уподобил волошинский Коктебель Ясной Поляне.
Европейски образованный, М. А. Волошин много лет прожил в Париже, оставив там обширный круг общения. Среди иностранных друзей и знакомых – поэты Р. Гиль, Э. Верхарн, писатели О. Мирабо, Р.де Гурмон, Р. Роллан, драматург М. Метерлинк, основатель антропософии Р. Штайнер, теософ А. Минцлова; художники О. Редон, Ф. Леже, А. Модильяни, П. Пикассо, Д. Ривера, танцовщица Айседора Дункан и другие творческие личности. Парижу оставил он и свой портрет – образ Поэта, выполненный польским скульптором Эдвардом Виттигом и в 1909 году установленный мэрией Парижа на бульваре Эксельман, вилла 66, где стоит и теперь. Авторская копия этого бюста была приобретена Волошиным у скульптора и находится в Доме-музее. Целых сто лет это был единственный в мире памятник Максимилиану Волошину.
С самого своего возникновения Дом Поэта стал известен как центр мысли европейского уровня, куда стремились для общения с хозяином. В разное время в усадьбе Максимилиана Волошина работали и отдыхали известнейшие литераторы, художники, музыканты, философы, авиаторы, деятели культуры и науки: В. Брюсов, Н. Гумилев, В. Ходасевич, О. Мандельштам, М. и А. Цветаевы, С. Соловьев, Г. Шенгели, К. Чуковский, И. Эренбург, А. Толстой, М. Булгаков, М. Горький, В. Вересаев, Н. Замятин, Л. Леонов, М. Пришвин, К. Паустовский, К. Тренев, А. Твардовский, П. Воронько, П. Тычина, И. Бродский, В. Некрасов, В. Аксенов, М. Шагинян, А. Габричевский, Э. Голлербах, А. Сидоров, А. Бенуа, А. Лентулов, А. Остроумова-Лебедева, К. Петров-Водкин, Б. Кустодиев, В. Поленов, Р. Фальк, П. Кончаловский, Е. Лансере, Г. Нейгауз, Св. Рихтер, Н. Обухова, С. Королев, К. Арцеулов, О. Антонов, С. Лебедев и многие другие.
В 1931 году М. А. Волошин передал дом матери и первый этаж своего дома Всероссийскому союзу советских писателей для устройства дома творчества, дом М. А. Волошина стал корпусом № 1, а дом Е. О. Волошиной – корпусом № 2 Дома творчества ВССП, дав начало существующему по сей день Дому творчества «Коктебель». Эти два здания – единственные, волею судеб оставшиеся целыми от дачного поселка Коктебель, выросшего в конце ХIХ – начале ХХ века.
В своей усадьбе М. А. Волошин сумел создать неповторимый стиль жизни и общения, высокой культуры и творчества. «Коктебель – это Волошин, в том смысле, что покойный поэт увидел как бы самую идею местности и дал её в многообразии модификаций… В поэзии Волошина, в его изумительной кисти, рождающей идею им открытого Коктебеля, во всем быте жизни начиная с очерка дома, с расположения комнат, веранд, лестниц до пейзажей художника, его картин, коллекций камушков, окаменелостей и своеобразного подбора книг его библиотеки встает нам творчески пережитый и потому впервые к жизни культуры рожденный Коктебель. Сорок лет творческой жизни и дум в Коктебеле, дум о Коктебеле и есть культура раскрытого Коктебеля, приобщенная к вершинам западноевропейской культуры…», – в 1933 году – год спустя после смерти Максимилиана Волошина – писал известный литератор и культуролог Андрей Белый. В том же году Центральный исполнительный комитет Крым АССР постановил: «Участок земли со всеми находящимися на нем постройками быв[шего] владения умершего поэта Волошина М. А. в поселке Коктебель Старокрымского района, закрепить за Оргкомитетом Союза Советских писателей с целью организации в нем дома отдыха писателей» (Выписка из Протокола № 5 заседания Президиума Центрального Исполнительного Комитета Крым АССР от 20 марта 1933 года. ДМВ, НВ 23656).
После смерти Максимилиана Волошина, традиции Дома Поэта поддерживала его супруга Мария Степановна – до самой своей смерти в 1976 году проживавшая на втором-третьем этажах дома и сохранившая мемориальную обстановку комнат.
В 1945 году Коктебель не избежал участи многих населенных пунктов в Крыму, имевших тюркские названия. Он был переименован в Планёрное, которое быстро превратилось в Планерское. Его новое название отражало целую эпоху развития авиации. Собственно, отечественная авиация и зародилась здесь, на горе Узун-Сырт (в переводе с тюркского – «Длинный хребет», второе и официальное название – гора Клементьева), что расположена севернее поселка. Ещё в 1921 году М. А. Волошин и К. К. Арцеулов – замечательный художник и летчик-испытатель обратили внимание на образование вдоль горы восходящих воздушных потоков, необходимых для полетов. Вскоре здесь образовался знаменитый центр отечественного планеризма, откуда начали свой путь покорения воздушного пространства С. П. Королев, С. В. Ильюшин, О. К. Антонов, А. С. Яковлев, А. Б. Юмашев, С. Н. Анохин и другие известные авиаконструкторы и летчики. 1 ноября 1923 года на горе прошли Первые Всесоюзные планерные испытания. Этот день вошел в историю как день рождения советского планеризма. В 1929 году на Узун-Сырте открылась Центральная планерная школа, реорганизованная в 1931 году в Высшую летно-планерную школу Осоавиахима, где обучались и зарубежные планеристы. С 1977 года здесь работала Научно-исследовательская база Центрального авиагидродинамического института (ЦАГИ), реорганизованная в 1992 году в Центр планерного спорта «Коктебель». Ежегодно на Узун-сырте проводятся сборы и соревнования планеристов, авиамоделистов, дельтапланеристов и парапланеристов.
Благодаря культурно-историческим традициям поселка обаяние ауры прежнего названия пересилило, в 1991 году ему было официально возвращено имя Коктебель.
Надо сказать, что ценность Дома Поэта как национального памятника истории и культуры была зафиксирована официально Решением Крымского ОИК от 05.09.69 г. № 595, учетная № 441. Национальным памятником являлась и могила М. А. Волошина на горе Кучук-Енишар, охранная зона могилы (радиусом 10 м вокруг могилы) была утверждена позже – решением Крымского ОИК от 15.01.80 г. № 16. По многочисленным просьбам М. С.Волошиной, переживавшей за судьбу Дома Поэта, в 1975 году были начаты работы по созданию музея, в соответствии с Приказом Министерства культуры УССР № 313 от 7 мая 1975 года он стал литературно-художественным отделом Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского.
С 1976 по 1984 год здание находилось на реставрации, также были подведены коммуникации, сделана система отопления, т.е. все необходимое для открытия в здании музея. Автором первого тематико-экспозиционного плана был Владимир Петрович Купченко, литературовед, биограф М. Волошина и, на тот момент, заведующий Домом-музеем. Проектировалась и создавалась экспозиция в художественно-производственном комбинате имени Е. В. Вучетича.
Только 1 августа 1984 года открылся для посетителей Дом-музей М. А. Волошина, едва ли не единственный в мире, сохранивший тайну и обаяние эпохи Серебряного века в атмосфере жизнетворчества своего создателя, Максимилиана Александровича Волошина – замечательного поэта, оригинального переводчика, тонкого художника, блестящего мыслителя, критика, философа, гениального жизнестроителя и творца. Сегодня это один из уникальнейших музеев мира, с аутентичной коллекцией в более, чем 55 тысяч музейных предметов в мемориальном здании. Почти вся мебель в Доме сделана руками хозяина и представляет собой произведения искусства. Дом наполнен предметами, книгами и раритетами – свидетелями событий первой трети ХХ столетия.
Позже, в связи со значимостью Дома-музея М. А. Волошина и его коллекции, 1 января 1988 года произошло его выделение из ФКГА в самостоятельный музей с подчинением Судакскому отделу культуры райисполкома. В 1991 г. музей был передан из Судака в Феодосийский отдел культуры. После распада СССР и разделения государственного имущества по территориальному признаку музей перешел в собственность Коктебельского поселкового совета. С трудом переживая середину 90-х годов, коллектив музея и культурная общественность отстаивали статус музея и окружающей территории в новой стране. Большая культурно-просветительная и научная работа и многочисленные обращения возымели своё действие – в связи с особой значимостью памятника Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 27.01.98 г. «О Доме-музее М. А. Волошина» ДМВ был передан в управление Министерства культуры Автономной Республики Крым. (Приказ Министерства культуры АРК от 12.02.1998 г. № 23). А на рубеже тысячелетий в соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18.10.2000 г. № 1476-2 и Приказом Министерства культуры Автономной Республики Крым от 04.12.2000 г. № 209 на базе Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле был создан Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник «Киммерия М. А. Волошина», который после был переименован в ГБУ Республики Крым «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» в соответствии с распоряжением Совета Министров Республики Крым от 22 октября 2014 года № 1095-р.
Сотрудниками музея проводятся многочисленные выставки, научные конференции, семинары, коллоквиумы и симпозиумы, издаются книги, публикуются научные статьи, продолжаются творческие встречи, ставшие традиционными еще при жизни поэта. В музее работают литературно-биографическая и мемориальная экспозиции. Широкую известность во многих странах получили ежегодные международные события – научная конференция «Волошинские Чтения», Литературный Волошинский конкурс, Литературный фестиваль имени Максимилиана Волошина, художественный пленэр «Коктебель», Международная Волошинская Премия, научно-культурологическая конференция «Киммерийский топос: мифы и реальность», проводимые в рамках крупнейшего комплексного гуманитарного проекта – Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь».
В настоящее время в Коктебеле к услугам приезжающих на отдых гостей имеются пансионаты, кемпинги, базы отдыха, комфортабельные гостиницы с бассейнами, теннисными кортами, саунами и тренажерными залами, в Коктебеле находится самый большой в Крыму аквапарк, есть дельфинарий и динотерий. Традиционно сдаются меблированные комнаты. Предлагается большой спектр экскурсий: музейные, морские, пешеходные, автобусные, конные, полеты над Коктебелем и дайвинг. Широко известен коктебельский международный джазовый фестиваль.
Однако главная притягательная сила Коктебеля – Дом Поэта и потухший вулкан юрского периода Карадаг. Миллионы лет смотрит в море изваянный природой в скалах Карадага гигантский профиль гения места – Максимилиана Волошина. По другую сторону бухты десятки лет вьётся тропа на вершину самого высокого холма окрестностей – Кучук-Енишары, где по своему завещанию покоится поэт. А между ними, на самом берегу коктебельского залива легким корабликом плывет бело-голубой трехэтажный дом, хранящий память не только об эпохе русской культуры Серебряного века, но и о нескольких поколениях литераторов разных национальностей, составляющих славу отечественной культуры ХХ столетия.
Дом Поэта как историко-культурный объект и место памяти, включает в себя не только здание с непосредственной музейной территорией, творческое наследие, но и обстоятельства жизни М. Волошина, круг его общения и интересов, исторические реалии эпохи, окружающие строения и пейзаж. Именно этот целостный объект, включающий, кроме мемориальной усадьбы Максимилиана Волошина, созданный по инициативе поэта Дом творчества писателей «Коктебель» и культурно-исторические ландшафты окрестностей поселка, является культурным наследием, вполне реализующемся в понятии «достопримечательное место», как его трактуют Рекомендации по охране культурного и природного наследия на национальном уровне и Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия Свода нормативных актов ЮНЕСКО, а также – Резолюция Комитета Министров Совета Европы от 14 апреля 1976 г. № 76 «Об адаптации законодательства и нормативных правовых актов к требованиям комплексного сохранения архитектурного наследия» и Конвенция об охране архитектурного наследия Европы (г. Гранада, 3 октября 1985 г., ETS № 121). Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» непременно должен включать в себя окружающую среду Дома Поэта и коктебельские ландшафты с тем, чтобы сохранить для мирового туризма и просвещённой культурной общественности уникальность этого «достопримечательного места» планеты Земля.
Наталия Мирошниченко
Семья Юнге – основатели дачного Коктебеля
Э. А. Юнге. 1870-е гг.
Историю возникновения дачного, а впоследствии курортного посёлка Коктебель, по праву, связывают с фамилией Юнге.
Глава семьи – Эдуард Андреевич Юнге (18312–1898) – профессор, действительный тайный советник, член Совета министра Государственных имуществ, директор Петровской земледельческой и лесной академии в Москве (ныне – Тимирязевская Академия), выдающийся учёный-офтальмолог с европейским именем. Наиболее известным и даже легендарным стало путешествие Эдуарда Андреевича в Северную Африку. В этот период он начал оперировать катаракту и исцелил множество людей.
В дневнике 1932 года Мария Степановна Волошина записывает со слов Максимилиана Александровича Волошина: «Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе зарождение Коктебеля? Я помню вот такой рассказ, слышанный мной от старика Юнге. Это было в эпоху, когда он поселился здесь, в Коктебеле, и собирался развернуть здесь большое хозяйство»3, возлагая на него большие надежды.
В конце 70-х годов XIX века Э. А. Юнге скупает значительную часть Коктебельской долины, прилегающей к морю. В его планы входило развитие земледелия (производство пшеницы) и скотоводства. Он видел необходимость создания искусственного водохранилища для орошения всей Коктебельской долины4, строительства жилья для дачников и дороги, связывающей Коктебель с Феодосией. В 1879 году Эдуардом Андреевичем были осуществлены ряд ирригационных мероприятий, заложены основы «товарного виноградарства и промышленного виноделия». Это событие по праву считается начальной точкой отсчёта в летописи коктебельского виноделия – в посёлке Коктебель зарождаются винодельческие традиции, а также формируются классические каноны виноделия.
Е. Ф. Юнге (ДМВ. Инв. № Б-3644)
Личных средств на воплощение задуманного оказалось недостаточно и с 1893 года Э. А. Юнге начинает распродажу земли отдельными небольшими участками. Первыми покупателями становятся Павел Павлович фон Теш и Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина. Шестнадцатилетний Максимилиан Волошин записывает в своём дневнике 18 марта 1893 года: «Вчера я ещё не написал собственно о земле. Эту землю, 20 десятин, Павел Павлович покупает пополам с мамой у профессора Юнга»5.
Жена Эдуарда Андреевича – Екатерина Фёдоровна Юнге (1843–1913) – дочь известного художника и скульптора, вице-президента Академии художеств, тайного советника графа Фёдора Петровича Толстого, двоюродная сестра поэта Алексея Константиновича Толстого, троюродная – писателя Льва Николаевича Толстого.
Е. Ф. Юнге и сама была человеком незаурядного ума, профессиональная художница и педагог, мемуаристка и переводчица6.
В предисловии к её воспоминаниям, изданным после смерти, Алексей Петрович Новицкий, искусствовед и друг художницы, сообщает о том, что её усилиями в Киеве была открыта «женская рисовальная школа», которой она и руководила до 1887 года. В Москве занималась преподавательской деятельностью, в том числе и в Строгановском училище7. В Коктебеле много работала и, по сути, стала первым его живописателем, запечатлевшим «портрет» Коктебеля конца XIX века, который для нас приобрёл уникальный исторический смысл. По времени она опередила Богаевского и Волошина, самых истовых его певцов, пришедших вслед8. В 1983 году в фонды Дома-музея М. А. Волошина (ДМВ) было закуплено ряд крымских этюдов Е. Ф. Юнге (ДМВ. Инв. № Ж-202-207).
Ф. Э. Юнге. Коктебель. 1910 г. (ДМВ. Инв № 13257)
«Живопись, – писал М. А. Волошин в статье «Екатерина Фёдоровна Юнге», – была не единственным искусством, в котором она выражала себя. Она писала и стихи, и рассказы; она переводила «Фауста», который был её настольной книгой; она писала статьи по искусству.… Именно от неё я услыхал впервые имена Ницше и Рёскина»9. А ещё в своём юношеском дневнике он замечает: «Право, самый живой, самый молодой, интересный человек…, с кем я встретился, была madam Юнге»10.
Екатерина Фёдоровна была дружна с четой Достоевских и вела переписку с Фёдором Михайловичем, была знакома с украинским поэтом Тарасом Григорьевичем Шевченко, историком – Николаем Ивановичем Костомаровым, который был однажды в Коктебеле. О них она оставила свои воспоминания11.
М. А. Волошин, узнав о смерти Е.Ф. Юнге, написал некролог для газеты «Утро России»: «Екатерина Фёдоровна Юнге была одним из последних обломков далёкой от нас эпохи русской жизни. С её смертью многое, что казалось только вчерашним, становится уже историческим»12.
Дети Э. А. и Е. Ф. Юнге – Владимир (1864–1902), Фёдор (1866–1927), Александр (1872–1921), Сергей (1879-1902).
Фёдор Эдуардович Юнге – инженер-механик и Александр Эдуардович Юнге – агроном, винодел, ботаник, гласный земского собрания Феодосии с 1907 по 1915 год, продолжили в Коктебеле дело отца и положили начало курортному посёлку русской интеллигенции.
Фёдор Эдуардович вёл в Коктебеле работы по возведению плотины водохранилища для орошения. С 1912 года помогал брату – Александру Эдуардовичу в строительстве нового дома13, который со многими изменениями сохранился до наших дней. Дом предназначался для семьи Александра Эдуардовича, а Фёдор Эдуардович с женой и детьми должен был переехать из арендованной квартиры в доме Е. О. Волошиной (ныне корпус 2 Дома творчества «Коктебель» по адресу6 ул.Ленина, 110) в старый дом, построенный отцом. Но на вилле «Киммерия», как планировали назвать новый дом, так никто из семьи Юнге и не жил. После гражданской войны вилла была конфискована под пионерский лагерь, Фёдор Юнге до конца жизни снимал квартиру в доме Волошиных, а старый дом был разграблен и сожжён 11 февраля 1932 года14.
А. Э. Юнге. 1900-е гг.
Александр Эдуардович на основе небольшого виноградника и винодельни, в основном для домашнего употребления, созданной отцом, переориентировал всё хозяйство на производство вин. Он инвестировал в разбивку больших виноградников, строительство большой винодельни (ныне столовая пионерлагеря) и подвалов. В подвале нового дома и сейчас можно увидеть остатки винного дегустационного зала15.
Именно А. Э. Юнге постепенно создал в Коктебеле модернизированное винодельческое хозяйство и наладил производство высококачественных вин типа алиготе, каберне, мускатов и других16. Книга «Старый добрый Коктебель»17 сообщает: «Александр Эдуардович запомнился коктебельским болгарам как рачительный хозяин, хорошо знающий виноделие, «слуга царю, отец крестьянам». В трудные времена он давал взаймы крестьянам деньги, посевное зерно и не брал процентов. Зажиточные болгары выкупали у помещика земельные участки на склонах Кара-Дага и разводили там виноградники и сады. Многие односельчане работали сезонно на виноградниках Юнге, давили виноград, изготавливали вино под технологическим руководством Александра Юнге. Александр Стефанович Перонко, прадед автора А. Шапошникова, всю зиму хлопотал в винном подвале Юнге, переливал вина, удалял осадок, складировал бутылки, а также окуривал бочки к новому урожаю. В те благословенные времена качество вин, изготовленных в поместье Юнге, было очень высоким, их выставляли на Всероссийских и Европейских выставках-ярмарках, награждали медалями.
Дом Юнге. Рис. Н. Жемчугова
Занимаясь флорой Крыма, в 1916 году А. Э. Юнге открывает в Коктебеле новый, ранее неизвестный вид тюльпана, который по названию местности обнаружения получил название Koktebelika, то есть «коктебельский». Сегодня собранные им гербарии хранятся в крупных ботанических садах, институтах, университетах – в Ялте, Киеве, Петербурге, Москве18. В бухте Енишар, за Хамелеоном, он собирался создать курорт для больных детей, видя именно здесь идеальные условия для этого: песчаный пляж, мелкое море, защищённость бухты от холодных ветров19.
Фамильный склеп Юнге. 1938 г. (ДМВ. Инв. № НВ-22236)
Замыслы Э. А. Юнге и его сыновей были осуществлены гораздо позже. В советский период в доме Юнге отдыхали и оздоравливались дети, рядом с домом работал винзавод, а земли от Щебетовки до Коктебеля принадлежали одному из лучших виноградарских хозяйств.
В фондах ДМВ сохранилась незначительная часть архива семьи Юнге, преимущественно «хозяйственного» плана. Это амбарные книги, счета, деловая переписка, проекты, чертежи, расчёты, планы участков, отведённых для продажи и др. (ДМВ. Инв. № А-728, 1303; НВ-20282-20411, 23359-23536). Эти документы свидетельствуют о значительности и серьёзности экономии Юнге и его обитателей.
Присутствие данных документов в архиве ДМВ объясняется, вероятно, тем, что в начале января 1918 года, во время «социализации» имения Юнге, М. А. Волошин оказал огромную помощь в спасении как имущества и ценностей имения (библиотеки, научной и художественной коллекций), так и жизни Александра и Фёдора Юнге. События 12 января М. А. Волошин описывает в письмах к М. В. Сабашниковой (ДМВ. Инв. № А-449), А. М. Петровой (ДМВ. Инв. № А-451) и Ю. Ф. Львовой (ДМВ. Инв. № А-454). А в письме в Феодосийский Военно-революционный Комитет благодарит за «своевременные и энергичные меры для предотвращения окончательного разгрома имения Юнге, где рисковали погибнуть библиотека, научная и художественная коллекции, представляющие общенациональную ценность» и обращается с просьбой о защите и охране: «Кроме того полезно было бы владельцев и заведующих библиотеками и коллекциями общегосударственной ценности вроде вышеуказанных снабдить охранными свидетельствами, дозволяющими им в случае опасности самовольного раздела обратиться к содействию центральных органов власти»20.
М. А. Розанова-Юнге крайняя справа. 1938 г. Памятники над могилами Владимира и Сергея Юнге
Эдуард Андреевич Юнге был похоронен в склепе, который был сооружён недалеко от дома у самого берега моря на холме. На верхней площадке кургана, на восток от склепа в 1902 году были похоронены его сыновья – Владимир и Сергей. В 1921 году и Александр захоронен между могилами братьев21, а 1922 году его малолетний сын Кирилл погребён рядом с отцом. Склеп был создан в греческом стиле – вариация на тему мегарона микенской эпохи. Вход представлял собой портик с двумя колоннами в дорическом стиле, обращённый в сторону моря. Единственным, но центральным в композиции украшением и напоминанием о христианстве служил крест, вырезанный на фронтоне портика. Сейчас, к сожалению, только название холма, на котором находился склеп – «холм Юнге» и недавно установленная скромная табличка напоминают нам об основателях Коктебеля. В 1960-х годах прах Александра Эдуардовича был перезахоронен на коктебельском кладбище, где покоился и Фёдор Эдуардович. На «холме Юнге», на могилах его сыновей – Владимира и Сергея, теперь находятся лишь остатки мемориальных строений и небольшой фрагмент ниши со стороны моря, некогда служивший входом в усыпальницу. К слову, в фондах ДМВ сохранился чертёж памятника над могилами Владимира и Сергея Юнге исполненный их братом – Александром Эдуардовичем.
Вход в башню нового дома Юнге. 1910-е гг. (ДМВ. Инв. № НВ-22299)
На сегодняшний день объекты «Холм Юнге» и «Дача Юнге» не внесены в реестр памятников культурного и исторического наследия Республики Крым. В связи с этим крымским руководителям и муниципальным властям постоянно поступают обращения о рассмотрении возможности взятия на Государственный учет и включения в реестр памятников культурного наследия Республики Крым объектов «Холм Юнге» (находится на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым) и «Дача Юнге» (находится на территории военного городка № 102 г.Феодосии пгт. Коктебель, Распоряжением Совета министров Республики Крым от 24.02.2015 г. имущество военного городка № 102 г.Феодосия пгт. Коктебель передано в безвозмездное пользование Федеральному казенному учреждению «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа») – в целях сохранения исторического, природного, ландшафтного и эстетического облика посёлка Коктебель с землеотводом и определением границы охранной зоны, для последующей музеефикации и передачи в оперативное управление Музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина».
Наталия Мирошниченко, Ирина Палаш
Дом пра.
История дома Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной в Коктебеле
Десятого октября 1928 года группа бедноты Коктебельского сельсовета постановила ходатайствовать о выселении из Коктебеля бывших помещиц Дарьи и Ольги Юнге и национализации их дачи, которая находится в усадьбе Максимилиана Александровича Волошина, но принадлежит, будто бы, им.22 Обращение Волошина к властям в Москве привело к постановлению Крым-ЦИК (в конце ноября), пресекшего этот наскок. Однако пересуды о Волошине, «эксплуататоре чужой дачи», продолжались. Это отчасти и послужило толчком к передаче упомянутого дома Союзу писателей.
Нынче, как ни странно, слухи об изначальной принадлежности каменного флигеля по соседству с Домом-музеем М. Волошина семье Юнге возродились снова. Думается, полезно будет проследить историю возникновения этого здания и причину появления второго его имени: «Дом Юнге».
Начну с того, что дом этот был уже вторым, построенным Еленой Оттобальдовной Кириенко-Волошиной в Коктебеле. Первый – называвшийся ею «домик» – был сооружен в 1901 году.
Первого мая Елена Оттобальдовна за 500 рублей купила у Н. В. Миловской, второй жены Эдуарда Юнге, треть десятины земли на берегу моря. 16 мая был заложен фундамент, а 16 августа, ровно через три месяца, она справила новоселье.
В письмах к сыну в Париж Волошина подробно рассказывает, как шла постройка23. Строился дом «подрядом», но «по-домашнему» (письмо от 21 апреля 1901 г.): никакого письменного договора или расписок не сохранилось. В письме от 2 июля приведен план домика, нарисованный самой Еленой Оттобальдовной. Руководил постройкой ее знакомый феодосиец Григорий Пинский – и, по ее оценке, скверно (письмо от 4 августа). Вся постройка обошлась в 4000 рублей с небольшим.
Домик был построен из калыба (самодельных кирпичей из глины и навоза, высушенных на солнце) и состоял из шести комнат с тремя террасами, кухней, кладовой, погребом. Здесь же был выстроен такой же калыбный «домишко» в три комнаты с одной террасой, который предназначался для проживания хозяев. «Домик» же планировалось сдавать курортникам. Вскоре у него появилось звучное имя: «Макселена», вокруг стали высаживаться деревья24, выкопан колодец, разведен огород…
Постройкой этого дома был окончательно решен вопрос о поселении Волошиных в Коктебеле: Максимилиан Александрович почти всю зиму, с октября 1900-го по январь 1901 года, сопротивлялся намерениям матери обосноваться там, предлагая купить землю в окрестностях Батума или даже Неаполя: безводная, полынная долина Коктебеля его отнюдь не прельщала25!
Однако в 1903 году и он делает выбор, купив участок земли в Коктебеле, неподалеку от «домика» матери, через речку. В мае того же года началось строительство, а 11 июля Волошин записал: «Постройка моей дачи близится к концу»26. Дом был в два этажа, по три комнаты в каждом, с чердаком-мансардой и длинной одноэтажной пристройкой из калыба (в 7 комнаток), получившей название «хвост», с несколькими террасами и наружной лестницей.
В 1912 году к нему была пристроена двусветная мастерская с летним кабинетом и площадкой-вышкой наверху. (Неизвестно, когда была сооружена двухэтажная калыбная пристройка с севера в 6 комнат, позднее получившая название «Палуба», – также с наружной лестницей.)
По рассказам Марии Степановны Волошиной, дом строился по проекту самого Максимилиана Александровича (сохранился эскиз проекта27) – но, видимо, снова «по-домашнему»: никаких документов об этом не сохранилось. Строка из «Венка сонетов» художницы Юлии Оболенской о доме, «построенном Михайлой наспех»28, дает основание предполагать подрядчиком работ Михаила Сергеевича Синикова – в том же 1912 году строившего дом искусствоведу Алексею Петровичу Новицкому (договор об этом сохранился в архиве Новицкого в Киеве)29. Есть сведения, что Волошин пользовался также советами городского архитектора Феодосии Г. Л. Кейля.
Дом получил гордое название «вилла Пелеата» (происхождение которого мне неясно), но оно не прижилось так же, как «Макселена»…
…Загадочным является здесь одно обстоятельство: сохранилась купчая на покупку земли – по-видимому, под этот дом Волошина. Купчая была совершена Еленой Оттобальдовной лишь 12 сентября 1903 года, примерно через месяц после завершения постройки! За 1303 кв. сажени она заплатила 1085 рублей. Предположение, что земля была куплена по соседству с участком сына – для второго ее дома – отпадает: названы все соседи ее – и М. А. Волошина среди них нет.
Решение Елены Оттобальдовны построить новый дом было вызвано, очевидно, желанием жить поближе к сыну: ручей, разделявший их владения, порой разливался так, что делал сообщение невозможным. Кроме того, «домик» становился тесен для всё увеличивавшегося количества приезжавших на отдых в Коктебель.
И снова этапы постройки мы можем проследить лишь по письмам Елены Оттобальдовны30 (благо, Волошин снова находился в Париже): никаких договоров и расписок! 30 апреля 1908 года Елена Оттобальдовна просит прислать ей план и смету двухэтажного дома в шесть комнат (неизвестно, составил ли их Волошин); 30 мая посылает свой вариант плана. На этот раз дом строился из камня, который начали завозить в середине июня (письмо от 19 июня 1908 г.).
Шестого июля она пишет: «Место для домика выбрано и сама постройка начнется завтра под наблюдением Констан<тина> Ив<ановича>31. Думаю, что вся постройка обойдется мне около 5000 р., т. к. камень, лес, рабочие, все гораздо дороже, чем 5 лет тому назад; а кроме того, т. к. у меня будет 3-й полуэтаж вместо чердака, то всю постройку придется класть не на глине, а на извести; кроме того, все стены из камня, только внутр<енние> перегородки калыбные».
Двадцать четвертого июля Волошина пишет: «Домик очень быстро растет вверх», но 14 августа сообщает о заминке: «Нельзя ставить третьего полуэтажа с такой крышей, как предполагалось». Здесь же названа фамилия подрядчика: Арфанов32.
Двадцать первого сентября Елена Оттобальдовна сокрушалась: «У меня к концу постройки, кроме долгов, ничего не будет» (уточняя, что ей предстоит расплатиться с Арфановым и заплатить И. С. Крыму за строительный лес). Всё это время она живет в «Пелеате», доме Волошина; первый же ее «домик» был сдан в аренду Е. П. Паскиной (дочери П. П. фон Теша, второго, гражданского ее мужа) и «битком набит людьми».
К концу октября дом был закончен. 29 октября Елена Оттобальдовна писала: «Новый дом совсем не вышел так, как я хотела <…>. В нижнем этаже я нагородила 5 комнат, во втором только 3 больших; на чердаке 3 комнаты <…>. Вид с балкона в три колонны очень хорош. Справа маленький калыбный домик в две комнаты с кухней и двумя террасами». 2 ноября 1908 г. подводится итог: «Расплатившись на днях со штукатуром и маляром, я осталась с 60 рублями в кармане». Позднее, в письме к сыну от 29 октября 1915 года, Елена Оттобальдовна вспоминала: «Первая дача в Коктебеле мне стоила 4000 р., продана была за 6000 р. Постройка второго дома на твоей земле обошлась в 7000 р.»33
Летом 1909 года в одной из комнаток третьего «полуэтажа» жил Николай Гумилев, написавший здесь поэму «Капитаны»: уже в советские годы Волошин прикрепил над дверью этой комнаты бумажку «Комната Гумилева».
А с осени 1909 года дом был снят у Елены Оттобальдовны Федором Юнге и его женой, точнее – «второй этаж дома с чердачным помещением и кухней», за 1440 рублей в год, «с временным добавлением комнат в нижнем этаже за отдельную плату». (Эти уточнения взяты из специального разъяснения, составленного Ольгой Юнге 24 июля 1929 г., когда в этом возникла необходимость).
Сохранилась записка Кириенко-Волошиной к О. А. Юнге от 13 декабря 1911 года с просьбой внести долг «за квартиру» в сумме 400 рублей, за трехмесячный наем комнат 60 рублей и за 4-месячное пользование кухней 20 рублей. В эти годы и привилось название «дом Юнге» (6 мая 1916 г. Юлия Оболенская, жившая в нем в 1913 г., упоминала его как «флигель Юнге»)34.
После смерти Елены Оттобальдовны в январе 1923 года ее дом вошел в создававшуюся Волошиным в то время «Коктебельскую художественную научно-экспериментальную студию» (Кохунэкс). В нем, в частности, жили Валерий Брюсов, Всеволод Рождественский, летчики, приезжавшие на ежегодные планерные состязания…
Из страхового листка 1926 года мы узнаем, что кубатура «флигеля в 2 этажа» составляла, поэтажно, 10 на 13 на 3 метра, а страховая оценка его – 9360 рублей (главный дом усадьбы был оценен в 10645 р.). В письмах к Наталье Габричевской от 12–17 апреля 1926 года Волошин сообщал о ремонте флигеля: «переделывают весь юнговский верхний балкон», «реставрировали верхнюю террасу Юнговского дома» (планируя устроить там «сестервятник» – общежитие одиноких женщин). Землетрясение 1927 г. потребовало нового ремонта: им были снесены трубы и часть черепицы (письмо Марии Степановны Волошиной к Софье Андреевне Толстой от 20 сентября 1927 г.)35
Отбив попытку местных властей отнять у него дом матери, Волошин решает передать его Всероссийскому союзу советских писателей, для устройства в нем Дома отдыха. Видимо, осенью 1930 года была написана (без даты) «Дарственная запись» о передаче ВССП для устройства Дома отдыха для писателей под именем «Дом поэта» каменного флигеля. В августе-сентябре 1931 года (письмо без даты) Волошин писал об этом Леониду Леонову, а 26 сентября 1931 года, как о свершившемся факте, повторил это в письме секретарю Союза писателей Ивану Васильевичу Евдокимову: «мной был принесен в дар ВССП каменный флигель моей дачи в 11 комнат».
В том же 1931 году Дом творчества писателей принял первых отдыхающих, а после смерти Волошина спальным корпусом стал и Дом Поэта (где второй и третий этажи основного здания, с мастерской, остались мемориальными, бережно и порой героически охранявшиеся М. С. Волошиной). В 1979 году дом стал музеем официально – в качестве отдела Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского.
Тогда же был поднят вопрос о включении в мемориальный комплекс дома Е. О. Кириенко-Волошиной («дома Пра», как часто называют его, вспоминая домашнее прозвище Елены Оттобальдовны: от «Праматерь»). Но положительно вопрос так и не был решен…
Между тем, в исследовательском и историко-мемориальном отношениях – на очереди также выявление волошинских гостей, которые жили именно в этом здании. Среди них ведь, помимо уже названных, были сестры Марина и Анастасия Цветаевы. И это тоже еще одна страница истории дома.
Владимир Купченко
Одна из граней места памяти «Дом Поэта»: к взаимоотношению М. Волошина и М. Цветаевой
«Коктебель для всех, кто в нём жил – вторая родина, для многих – месторождение духа».
М. Цветаева. «История одного посвящения». 1913 г.
Коктебель – сгусток мифологии, тайнописи природы и истории, фантастических пейзажей, неограниченной свободы и душевных откровений для многих оказывался важной жизненной вехой. А для Марины Цветаевой стал судьбоносным.
Получив приглашение Волошина в Коктебель, 5 мая 1911 года Марина Ивановна впервые ступила на киммерийскую землю. До этой поездки Цветаева знала лишь южный Крым. В 1905 году с мамой и сестрой Анастасией, после трехлетнего лечения Марии Александровны в Европе, приехали они в Севастополь, а вскоре перебрались в Ялту, где в 1905–1906 годах жили на даче писателя, врача, а в это время и активного социалиста-революционера С. Я. Елпатьевского. Те же места посетила Марина и в 1909 году. А в марте 1911 прежде Коктебеля она отправилась в Гурзуф. И вот, теперь: «…после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма я впервые ступила на Коктебельскую землю, перед самым Максиным домом, из которого уже огромными прыжками, по белой внешней лестнице, несся мне навстречу – совершенно новый, неузнаваемый Макс. Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!), Макс в кавычках «хитона», то есть попросту длинной полотняной рубашки, макс сандалий…Макс полынного веночка и цветной подпояски, Макс широченной улыбки гостеприимства, Макс – Коктебеля» (М. Цветаева «Живое о живом»). Вскоре в Коктебель прибыла и шестнадцатилетняя Анастасия и сразу попала в уже сложившуюся атмосферу мистификаций и дружеских розыгрышей, творческой энергии, волошинской щедрости души.
А в центре происходящего всегда была Марина. Здесь она научилась открытости и доверию, здесь поверила в себя – поэта, здесь нашла свою любовь и семью. Через десять лет, 27 февраля 1921 года она писала мужу: «… Ведь было же 5-ое мая 1911 г. – солнечный день – когда я впервые на скамейке у моря увидела Вас. Вы сидели рядом с Лилей, в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: «– Ну, можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого – стыдно ходить по земле!»…
– Серёженька, умру ли я завтра или до 70 л<ет> проживу – всё равно – я знаю, как знала уже тогда, в первую минуту: – Навек. – Никакого другого.
– Я столько людей перевидала, во стольких судьбах перегостила, – нет на земле второго Вас, это для меня роковое…».
Продираясь сквозь сложные и запутанные истории личных отношений и перипетий своей страны, Марина Ивановна всегда несла в сердце свет этих коктебельских дней и таинственную искру найденного Сережей на берегу сердолика. Как писала её дочь Ариадна Эфрон: «тот Крым она искала везде и всюду – всю жизнь…».
Именно в это лето образовался особый стиль взаимоотношений в Доме Поэта – когда серьезные разговоры о литературе, культуре, истории, обсуждения только что созданных произведений и само создание их, бесконечно перемежались розыгрышами, мистификациями, милыми шутками и юмором, сопровождавшимися маскарадными переодеваниями, шумными трапезами и закреплявшими за обитателями волошинского дома симпатичные прозвища. В общем, это было первое лето «обормотов» – к коим причислялись все обитатели, включая хозяев, которые, впрочем, были вдохновителями львиной доли нескучных событий. В мае этого года Волошиным был написан своего рода гимн этой весёлой компании и цикл шуточных сонетов о Коктебеле, как теперь принято говорить – основанных на реальных событиях. Рукопись сонетов хранится в Доме-музее М. А. Волошина.
Немного позже, из Усень-Ивановского завода, куда Марина Цветаева с Сережей Эфроном отправятся сразу же после Коктебеля – лечить его от туберкулеза, отголоски «обормотского» лета постоянно появляются в её письмах к Волошину:
«Дорогой Макс, Если бы ты знал, как я хорошо к тебе отношусь! Ты такой удивительно-милый, ласковый, осторожный, внимательный. Я так любовалась тобой на вечере в Старом Крыму, – твоим участием к Олимпиаде Никитичне, твоей вечной готовностью помогать людям. Не принимай все это за комплименты, – я вовсе не считаю тебя какой-нибудь ходячей добродетелью из общества взаимопомощи, – ты просто Макс, чудный, сказочный Медведюшка. Я тебе страшно благодарна за Коктебель, – pays de redemption36, как называет его Аделаида Казимировна, и вообще за все, что ты мне дал. Чем я тебе отплачу? Знай одно, Максинька: если тебе когда-нибудь понадобится соучастник в какой-нибудь мистификации, позови меня… Скажи Елене Оттобальдовне, что я очень, очень ее люблю, Сережа тоже». (26.07.11).
«Мы сейчас шли с Сережей по деревне и представили себе, к<а>к бы ты вышел нам навстречу из-за угла, в своем балахоне, с палкой в руках и начал бы меня бодать. А я бы сказала: – “Ма-акс! Ма-акс! Я не люблю, когда бодаются!” Теперь я ценю тебя целиком, даже твое боданье. Но т<а>к к<а>к это письмо слишком похоже на объяснение в любви, – прекращаю» (04.08.11).
«Спасибо за Гайдана, 4 pattes [4 лапы (фр.).] и затылок. А когда ты в меня мячиком попал, я тебе прощаю» (11.08.11).
А 30 августа в письме к Елене Оттобальдовне прорывается сокровенное: «Коктебель 1911 г. – счастливейший год моей жизни, никаким российским заревам не затмить того сияния».
Письма Волошина к участникам коктебельского сообщества тоже пестрят напоминаниями: «Привет обормотикам» (В. Эфрон от 15.09.11), «…вижу быстрое мелькание обормотов по твоей комнате: Маню с непривинченной головой, Бэлу с англо-фарфоровой улыбкой, Факира, … Марину с патлами (но увы! уже не собачьими), самственную Асю, кваканье ученого лягушенка» (Е. Эфрон, 18.09.11). «Сегодня получил [письмо] из Москвы от Копы. Она страдает по обормотчине, по Коктебелю» (В. Эфрон, 23.09.11).
Впрочем, сразу же после отъезда – 8 июля, ещё из Феодосии, Марина Цветаева написала Волошину: «Дорогой Макс, Ты такой трогательный, такой хороший, такой медведюшка, что я никогда не буду ничьей приемной дочерью, кроме твоей. <…> Это лето было лучшим из всех моих взрослых лет, и им я обязана тебе».
В этот же день они с Сережей пишут трогательное письмо Елене Оттобальдовне:
«Дорогая Пра, Хотя Вы не любите объяснения в любви, я всё-таки объяснюсь. Уезжая из Коктебеля, мне т<а>к хотелось сказать Вам что-н<и>б<удь> хорошее, но ничего не вышло.
Если бы у меня было какое-н<и>б<удь> большое горе, я непременно пришла бы к Вам.
Ваша шкатулочка будет со мной в вагоне и до моей смерти не сойдёт у меня с письменного стола.
Всего лучшего, крепко жму Вашу руку. Марина Цветаева
P.S. Исполните одну мою просьбу: вспоминайте меня, когда будете доить дельфиниху.
И меня тоже! Сергей Эфрон»
А ведь только в апреле Марина писала Волошину из Гурзуфа: «Виноваты книги и еще мое глубокое недоверие к настоящей, реальной жизни» (18.04.11).
В это лето Максимилиан Александрович успел познакомить сестер Цветаевых и семью Эфронов не только с Коктебелем и его окрестностями. Они вместе ездили в Старый Крым и Феодосию, побывав в гостях у многих друзей Волошина. Гораздо позже в своих «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева описала их восприятие приморского города: «Когда мы увидели феодосийские улицы, Итальянскую улицу с арками по бокам, за которыми лавочки с восточными товарами, бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, рекой разливающийся по прилавку, и его пересек солнечный луч, золотой воздушной чадрой протянулся под арку – и когда из-под арки вышли два мусульманина, унося плохо завернутый шелк, и брызнула нам в глаза синева с плывущими розами, – бороды черней ночи показались нам со страницы Шехерезады, ветер с моря полетел на нас из Стамбула! – и мы поняли – Марина и я, – что Феодосия – волшебный город и что мы полюбили его навсегда». Абсолютно схожее признание читаем в записной книжке Марины Ивановны: «Как чудно в Феодосии! Сколько солнца и зелени! Сколько праздника!» (датировано 11 мая 1914 года).
Не случайно, именно Волошина хочет видеть шафером на своей свадьбе Марина, о чем пишет ему 3 ноября:
«Дорогой Макс,
В январе я венчаюсь с Сережей, – приезжай. Ты будешь моим шафером. Твое присутствие совершенно необходимо. Слушай мою историю: если бы Дракконочка не сделалась зубным врачом, она бы не познакомилась с одной дамой, которая познакомила ее с папой; я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Н<иленде>ра, не напечатала бы из-за него сборника, не познакомилась бы из-за сборника с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретилась бы с Сережей, – следовательно, не венчалась бы в январе 1912 г… Макс, ты должен приехать! … Пока до свидания, Максинька, пиши мне. Только не о “серьезности такого шага, юности, неопытности” и т. д.».
Несмотря на очевидную размолвку по поводу свадьбы, Марина не собирается терять столь дорогой её сердцу дружбы: «Вот Сережа и Марина, люби их вместе или по отдельности, только непременно люби и непременно обоих», – пишет она на посылаемой фотографии месяц спустя. И хотя Волошин на свадьбе не присутствовал, в феврале 1912 года они встречаются в Москве, где Цветаева дарит ему свою книгу «Волшебный фонарь», а Эфрон надписывает сборник рассказов «Детство»: «Максу Сережа. До свидания Макс! Москва 28 февр<аля> 12 г. Вечер перед отъездом». Интересно, что в библиотеке Дома Поэта имеется этот второй стихотворный сборник Марины Цветаевой, но – корректурный экземпляр, с её автографом: «По тщательному исправлению слов и знаков разрешаю печатать в количестве 500 экземпляров. Марина Цветаева». Хранится в личной библиотеке Волошина и первый поэтический сборник Марины Ивановны «Вечерний альбом», ставший причиной их знакомства и многолетней – всей жизни – дружбы. Именно от Волошина получила Цветаева всемерную поддержку, давшую ей уверенность в своем творчестве, которая ещё более окрепла в Коктебеле. Позже, уже всё зная о себе и многое – о других, Марина Ивановна резюмировала: «М.Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта…»37.
В декабре 1912 года Волошин снова приехал в Москву, а вскоре разгорелись события, о которых сообщали чуть ли не все газеты: «16 января, в 12 часу дня, в Третьяковской галерее, по Лаврушинскому переулку, имел место следующий небывалый случай: была изрезана известная картина Репина – «Убийство Иоанном Грозным своего сына». Безусловно, само событие было ошеломляющим и вызвало большой резонанс в культурном мире. Однако точка зрения Максимилиана Волошина на природу этого трагического события явно отличалась от возобладавшего негодующего мнения. Его статья «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина», напечатанная буквально через три дня после происшествия в газете «Утро России»38, была явно замечена и в кругах художественной критики даже в чем-то одобрена. По крайней мере, как имеющая право на субъективную версию происшедшего. Но нелепое обвинение Репиным в причастности к акту вандализма бубнововалетцев, в частности, Бурлюка, заставили Волошина пойти на публичный диспут. Кто-то должен был все же размежевать теоретические изыскания нового искусства от репинского обвинения в том, что «может быть, здесь сказались начала новых теоретиков. Может, это первый сигнал у настоящему художественному погрому». Волошин «счел моральной обязанностью отвечать Репину под знаком «Бубнового валета», которым и был устроен публичный диспут в Политехническом музее в Москве 12 февраля 1913 года. Волошин читал лекцию «О художественной ценности пострадавшей картины Репина». В тот февральский день зал Политехнического института был полон слушателей. Присутствовала на этом диспуте и Марина Ивановна Цветаева.
Вскоре на Волошина обрушилась настоящая травля с оскорблениями, не прекращавшаяся, несмотря на ряд разъясняющих статей и лекций Максимилиана Александровича. Стремясь помочь другу в этой неравной по оружию схватке идей, она предложила напечатать материалы. Брошюра «О Репине» вышла в самом конце февраля или начале марта 1913 года в домашнем книгоиздательстве «Оле-Лукойе», созданном Мариной Цветаевой и Сергеем Эфроном за год до этого нашумевшего события, но это мало повлияло на сложившиеся обстоятельства. Выступление на диспуте оказалось важным событием, оказавшим воздействие на несколько лет жизни Волошина. Он упоминает о нем практически в каждой автобиографии: «В 1913 году моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для меня закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам»39. 7 апреля он с мамой выезжает из Москвы в Крым.
А в конце апреля в благословенную Киммерию приезжают с маленькой Алей супруги Марина и Сережа, поселяются в усадьбе Кириенко-Волошиных и сразу же получают в подарок от Макса пейзаж, выполненный гуашью с надписью «Милой Марине в протянутую руку» (датирован 26 апреля 1913г.). По какой-то причине он остался в Коктебеле, хотя работы Волошина Марина Ивановна ценила и им радовалась. «Над моей постелью все твои картинки», – читаем мы в её письме к поэту от 3 ноября 1911 года.
В Коктебеле тринадцатого года утверждается уверенность Марины Цветаевой – жизненная и творческая, и подтверждается – нахлынувшей поэзией:
- …Моим стихам, как драгоценным винам,
- Настанет свой черед.
В 30-е годы она скажет об этих строках: «Формула – наперед – всей моей писательской (и человеческой) судьбы».
В фондовой коллекции Дома-музея М. А. Волошина хранится несколько фотографий Марины Цветаевой тех лет. Многие из снимков сделаны Максимилианом Александровичем. Редчайший кадр – открыто улыбающаяся Марина, рядом – любимые – Сережа, Пра, Макс, собака Гайдан.
В сентябре, после смерти отца Ивана Владимировича, обе сестры Цветаевы решают на зиму переехать в Феодосию. В ноябре 1913 года М. А. Волошин писал Ю. Л. Оболенской: «В Феодосии поселились Марина и Серёжа. Устроились они на горе у дяди и тётки Рогозинского. Те их уплемяннили. Их точно под крыло курице вместо её яиц подложили. И об них там заботятся трогательно». Они растят Алю, которой очень гордятся, участвуют в культурной жизни Феодосии, частенько общаются с Волошиным: «Последние дни мы по утрам гуляем с Максом – Ася и я» (письмо к Л. и В. Эфрон из Феодосии от 28.02.1914), приезжают к нему в Коктебель. О встрече в Доме Поэта Нового 1914 года подробно написано в цветаевском эссе «Живое о живом». С 1 июня Марина Цветаева с Алей – в Коктебеле, а 12 июня 1914 года она написала в записной книжке: «… Сегодня мы с ней (Алей – Н. М.) и няней дошли до «Змеиного Грота». Шли мимо высоких песчаных гор, сначала мягкой, ровной дорогой, потом узенькой тропинкой, бегущей то вниз, то вверх. Море – буйное, вдали – зеленое, у берега – грязное – катило к берегу громадные пенистые волны. У рыбацкой хижины мы сели в лодку, наклоненную к самой воде. Аля сидела на самом конце и бросала в воду камни. Волны с грохотом разбивались о нашу лодку. Казалось – мы плыли. Аля сидела в одной рубашечке. В Змеиный грот нельзя было войти, мы спустились в крошечную, ни откуда не видную бухточку. Алюшка сидела на камнях, мы с няней в море. Волны швыряли нас с невероятной силой. Это было чудное купанье. Интересно – что сказали бы какие-н<и>б<удь> очень мирные люди, глядя к<а>к мы карабкаемся с Алей по крутым, местами опасным тропинкам?! Мать в шароварах, тонкая, к<а>к девочка – дочка в рубашечке – синее небо – грохот моря – высокие жёлтые горы. Это могло быть 100, 200, 300 лет назад! Ни турецкие узоры на шароварах, ни Алина рубашечка не выдавали ХХ века! Прелестная и незабвенная прогулка! Алина первая большая – около 8-ми вёрст!.. Море этого дня – 12-го июня! – шуми вечно! Вечно стой у этого моря рыбацкий баркас! Тонкая, лёгкая я в голубых шароварах, не старься! Не старьтесь и Вы, загорелая, круглолицая, большеглазая няня! Но, Алюшка, – расти!».
Не то – молитва, не то – заклинание…
Так же чувствует коктебельскую ауру и Сергей Эфрон. В 1915 году попав в Коктебель после того, как он с весны медбратом нес службу на фронтовом санитарном поезде, он ощутил эту непреходящую магию: «Коктебель прекрасен! Он мне дал всё, что я от него хотел. Только здесь я почувствовал со всею силою, что именно он мне был необходим». Несмотря на то, что в 1915 и 1916 годах Волошин отсутствовал в своем доме – он находился в Европе, Коктебель по-прежнему продолжал восхищать и дарить целительную радость семье Цветаевых-Эфрон.
Последний раз судьба забросила Марину Цветаеву и Сергея Эфрона в Коктебель в ноябре 1917 года. Радость встречи с Максом и Пра, ощущение родственности, безмерного стремления помочь… Как за осколок счастливых лет пыталась зацепиться Марина за киммерийский берег – чтобы выжить. Она сняла в Феодосии квартиру – зимовать, и помчалась за детьми в революционную Москву, которая – увы! – уже не отпустила её. Марине оставалась только надежда на встречу и долгое ожидание. Она никогда не вернулась в Крым, но соприкасалась с ним через Сережу и Асю, через редкую переписку с хозяевами и гостями Дома Поэта. Как не вспомнить её строки из письма далекого лета 1911 года к Елизавете Эфрон: «Когда начинается тоска по Коктебелю, роемся в узле с камешками». Наверное, не раз вспоминала Марина Ивановна об этих камешках, воплощающих чудесное время жизни, – и в жуткой голодной Москве, и в заграничных скитаниях.
О смерти М. А. Волошина М. И. Цветаева узнала в Кламаре, куда переехала весной 1932 г. из другого пригорода Парижа – Медона. Почти сразу взялась за воспоминания: « … о поэте М. Волошине, моем и всех нас большом и давнем друге… Писала, как всегда, одна против всех, к счастью, на этот раз только против всей эмигрантской прессы, не могшей простить М. Волошину его отсутствия ненависти к Советской России».40
Впервые текст «Живое о живом» был напечатан в «Современных записках», 1933, №№ 52, 53 в сильно урезанном редактором виде, что вызвало протест М. Цветаевой. В 1932 году Цветаева написала и поэтический цикл, посвященный памяти Волошина: «Ici – haut»41, опубликованный лишь через два года. В нем она словно вновь путешествует по коктебельским окрестностям, поднимается по лестницам Дома Поэта и дает удивительный портрет Максимилиана Волошина – личности соизмеримой планете.
* * *
В Доме Поэта десятки лет бережно берегли память о Марине Цветаевой. Сегодня это, быть может, единственное место, где на тех же полках стоят книги, которые она читала в Коктебеле, на своих местах мебель и разные предметы, которыми она пользовалась. Удивительно, но и в Феодосии сохранились дома по адресам, где жили Цветаевы, сохранились различные предметы и мебель с дачи Редлихов, где в 1913–1914 годах жила счастливая семья – Марина, Сережа и Аля. Эти реалии и коктебельские экспонаты стали основой фондовой коллекции феодосийского Музея Марины и Анастасии Цветаевых – отдела Дома-музея М. А. Волошина, который гостеприимно распахнул свои двери посетителям в июле 2009 года.
В Коктебеле в ноябре 1988 года в последний раз поднялась по лестнице в Мастерскую Дома Поэта Анастасия Цветаева – спустя почти полстолетия после гибели Марины Цветаевой здесь снимал о ней фильм режиссёр Дмитрий Демин. В обстановке, так знакомой ей с начала ХХ столетия, Анастасия Ивановна рассказывала о своей сестре и вспоминала прошлое их жизни в Коктебеле. В 2004 году был снят фильм «Страсти по Марине» знаменитого киноцикла «Легенды Серебряного века» сценариста Одельши Агишева и режиссера Андрея Осипова – лауреатов многих международных кинофестивалей и обладателей кинопремий. Их творческий кинематографический союз принес много прекрасных часов и эмоций для зрителей, а в 2015 году они стали лауреатами Международной Волошинской Премии. В 2013 году в Коктебеле режиссер Марина Мигунова сняла первый историко-биографический игровой фильм о Марине Цветаевой «Зеркала».
Так место памяти отечественной истории и культуры «Коктебель» продолжает блистать своими гранями в отражениях наших талантливых современников – поэзии и прозе, графике и живописи, документально-публицистическом и игровом кино, в любом проявлении творчества, так ценимом в удивительном и легендарном Доме Поэта.
Наталия Мирошниченко
Из наследия Максимилиана Волошина
Максимилиан Волошин о себе
Автобиография42
Сейчас (1925 год) мне идет 49-й год. Я доживаю седьмое семилетье жизни, которая правильно располагается по этим циклам:
1-ое СЕМИЛЕТИЕ: ДЕТСТВО (1877–1884)
Кириенко-Волошины – казаки из Запорожья. По материнской линии – немцы, обрусевшие с XVIII века.
Родился в Киеве 16 мая 1877 года, в Духов день.
Ранние впечатления: Таганрог, Севастополь. Последний – в развалинах после осады, с Пиранезиевыми43 деревьями из разбитых домов, с опрокинутыми тамбурами дорических колонн Петропавловского собора.
С 4-х лет – Москва из фона «Боярыни Морозовой». Жили на Новой Слободе у Подвисков, там, где она в те годы и писалась Суриковым в соседнем доме.
Первое впечатление русской истории, подслушанное из разговоров старших, – «1-ое марта».
Любил декламировать, еще не умея читать. («Коробейников», «Полтавский бой», «Ветку Палестины»). Для этого всегда становился на стул: чувство эстрады.
С 5 лет – самостоятельное чтение книг в пределах материнской библиотеки. Уже с этой поры постоянными спутниками становятся: Пушкин, Лермонтов и Некрасов, Гоголь и Достоевский, и немногим позже – Байрон («Дон-Жуан») и Эдгар По. Опьяняюсь стихами.
2-ое СЕМИЛЕТИЕ: ОТРОЧЕСТВО (1884–1891)
Обстановка: окраины Москвы – мастерские Брестской жел[езной] до р[оги], Ваганьково и Ходынка. Позже – Звенигородский уезд: от Воробьевых гор и Кунцева до Голицына и Саввинского монастыря.
Начало учения: кроме обычных грамматик, заучиванье латинских стихов, лекции по истории религии, сочинения на сложные не по возрасту литературные темы. Этой разнообразной культурной подготовкой я обязан своеобразному учителю – тогда студенту Н. В. Туркину.
Общество: книги, взрослые, домашние звери. Сверстников мало. Конец отрочества отравлен гимназией. 1-й класс – Поливановская, потом, до V-го, – Казенная 1-ая. Учусь из рук вон плохо. […]
3-е СЕМИЛЕТИЕ: ЮНОСТЬ (1891 – 1898)
Тоска и отвращение ко всему, что в гимназии и от гимназии. Мечтаю о юге и молюсь о том, чтобы стать поэтом. То и другое кажется немыслимым. Но вскоре начинаю писать скверные стихи, и судьба неожиданно приводит меня в Коктебель на всю жизнь (1893).
Феодосийская гимназия. Провинциальный городок, жизнь вне родительского дома сильно облегчают гимназический кошмар. Стихи мои нравятся, и я получаю первую прививку литературной «славы», оказавшуюся впоследствии полезной во всех отношениях: возникает неуважение к ней и требовательность к себе. Историческая насыщенность Киммерии и строгий пейзаж Коктебеля воспитывают дух и мысль.
В 1897 году я кончаю гимназию и поступаю на юридический факультет в Москве. Ни гимназии, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. 10 драгоценнейших лет, начисто вычеркнутых из жизни.
4-е СЕМИЛЕТИЕ: ГОДЫ СТРАНСТВИЙ (1898–1905)
Уже через год я был исключен из университета за студенческие беспорядки и выслан в Феодосию. Высылки и поездки за границу чередуются и завершаются ссылкой в Ташкент в 1900 году. Перед этим я уже успел побывать в Париже и Берлине, в Италии и Греции, путешествуя на гроши пешком, ночуя в ночлежных домах.
1900 год, стык двух столетий, был годом моего духовного рождения. Я провел его с караванами в пустыне. Здесь настигли меня Ницше и «Три разговора» Вл [адимира] Соловьева. Они дали мне возможность взглянуть на всю Европейскую культуру ретроспективно – с высоты Азийских плоскогорий и произвести переоценку культурных ценностей.
Отсюда пути ведут меня на запад – в Париж, на много лет,– учиться: художественной форме – у Франции, чувству красок – у Парижа, логике – у готических соборов, средневековой латыни – у Гастона Париса, строю мысли – у Бергсона, скептицизму – у Анатоля Франса, прозе – у Флобера, стиху – у Готье и Эредиа… В эти годы – я только впитывающая губка, я – весь глаза, весь уши. Странствую по странам, музеям, библиотекам:
Рим, Испания, Балеары, Корсика, Сардиния, Андорра… Лувр, Прадо, Ватикан, Уффици… Национальная библиотека. Кроме техники слова, овладеваю техникой кисти и карандаша.
В 1900 году первая моя критическая статья печатается в «Русской мысли». В 1903 году встречаюсь с русскими поэтами моего поколения: старшими – Бальмонтом, Вяч. Ивановым, Брюсовым, Балтрушайтисом – и со сверстниками –Белым, Блоком.
5-е СЕМИЛЕТИЕ: БЛУЖДАНИЯ (1905–1912)
Этапы блуждания духа: буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия, Р. Штейнер. Период больших личных переживаний романтического и мистического характера.
К 9-му Января 1905 года судьба привела меня в Петербург и дала почувствовать все грядущие перспективы Русской Революции. Но я не остался в России, и первая Революция прошла мимо меня. За ее событиями я прозревал уже смуту наших дней («Ангел мщенья») и ждал её.
Я пишу в эти годы статьи о живописи и литературе. Из Парижа в русские журналы и газеты (в «Весы», в «Золотое руно», в «Русь», в «Аполлон»). После 1907 года литературная деятельность меня постепенно перетягивает сперва в Петербург, а с 1910 года – в Москву.
В 1910 году выходит моя первая книга стихов.
Более долгое пребывание в России подготавливает разрыв с журнальным миром, который был для меня выносим пока я жил вдали в Париже.
6-е СЕМИЛЕТИЕ: ВОЙНА (1912–1919)
В 1913 году моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для меня закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам.
Годы перед войной я провожу в Коктебельском затворе, что дает мне возможность сосредоточиться на живописи и заставить себя снова переучиться с самых азов, согласно более зрелому пониманию искусства.
Война застает меня в Базеле, куда приезжаю работать при постройке Гётеанума. Эта работа, высокая и дружная, бок о бок с представителями всех враждующих наций, в нескольких километрах от поля первых битв Европейской войны, была прекрасной и трудной школой человеческого и внеполитического отношения к войне.
В 1915 году я пишу в Париже свою книгу стихов о войне «Anno Mundi Ardentis». В 1916 году возвращаюсь в Россию через Англию и Норвегию.
Февраль 1917 года застает меня в Москве и большого энтузиазма во мне не порождает, так как я все время чувствую интеллигентскую ложь, прикрывающую подлинные реальности Революции.
Редакции периодических изданий, вновь приоткрывшиеся для меня во время войны, захлопываются снова перед моими статьями о Революции, которые я имею наивность предлагать, забыв, что там, где начинается свобода печати, – свобода мысли кончается.
Вернувшись весною 1917 года в Крым, я уже более не покидаю его: ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую – и все волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей головой.
Стих остается для меня единственной возможностью выражения мыслей о совершающемся. Но в 17-ом году я не смог написать ни одного стихотворения: дар речи мне возвращается только после Октября, и в 1918 году я заканчиваю книгу о Революции «Демоны глухонемые» и поэму «Протопоп Аввакум».
7-е СЕМИЛЕТИЕ: РЕВОЛЮЦИЯ (1919–1926)
Ни война, ни Революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали: я их ожидал давно и в формах еще более жестоких. Напротив: я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и действия.
Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему отвращению к заработной плате и к купле-продаже. Проживя 15 лет на Западе, я с начала Революции никуда не хочу уезжать из России.
19-й год толкнул меня к общественной деятельности в единственной форме, возможной при моем отрицательном отношении ко всякой политике и ко всякой государственности, утвердившимся и крепко обосновавшимся за эти годы,– к борьбе с террором, независимо от его окраски.
Это ставит меня в эти годы (1919–1923) лицом к лицу со всеми ликами и личинами Русской усобицы и дает мне обширный и драгоценнейший революционный опыт.
Из самых глубоких кругов Преисподней – Террора и Голода я вынес свою веру в Человека (стихотв [орение] «Потомкам»). Эти же годы являются наиболее плодотворными в моей поэзии, как в смысле качества, так и количества написанного.
Но т[ак] к[ак] темой моей является Россия во всем ее историческом единстве, и т[ак] к[ак] дух партийности мне ненавистен, и т[ак] к[ак] всякую борьбу я не могу рассматривать иначе, как момент духовного единства борющихся врагов и их сотрудничества в едином деле,– то отсюда вытекают следующие особенности литературной судьбы моих последних стихотворений: мои отдельные стихи о революции, одинаково нравятся и красным, и белым. Я знаю, напр[имер], что стихотворение «Русская Революция» называлось лучшей характеристикой революции двумя идейными вождями противоположных лагерей (имена их умолчу). В 1919 году белые и красные, беря по очереди Одессу, свои прокламации к населению начинали одними и теми же словами моего стихотворения «Брестский мир». Эти явления – моя литературная гордость, так как они свидетельствуют, что в моменты высшего разлада России мне удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что ее принимали и те, и другие.
Поэтому же, собранные в книгу, эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой.
Поэтому же они распространяются по России в тысячах списков – вне моей воли и моего ведения. Мне говорили, что в Вост очную Сибирь они проникают не из России, а из Америки, через Китай и Японию.
Сам же я остаюсь все в том же положении писателя, стоящего вне литературы, как это было и до войны.
В 1923 году я закончил книгу «Неопалимая купина».
С 1922 года пишу книгу «Путями Каина» – переоценка материальной и социальной культуры.
В 1924 году написана поэма «Россия» (Петербургский период).
В эти же годы я много работал акварелью, принимая участие на выставках «Мира искусства» и «Жар-Цвет». Акварели мои приобретались Третьяковской галереей и многими провинциальными музеями.
Согласно моему принципу, что корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы, – все, что я произвожу, я раздаю безвозмездно.
Свой дом я превратил в приют для писателей и художников, а в литературе и в живописи это выходит само собой, потому что все равно никто не платит и все используют мои картины и стихи.
БИБЛИОГРАФИЯ
В настоящую минуту в продаже нет ни одной моей книги.
Вот в каком порядке мои стихи должны бы были быть изданы:
Две книги Лирики:
ГОДЫ СТРАНСТВИЯ (1900–1910).
SELVA OSCURA* (1910–1914).
Книга о войне и Революции:
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА (1914–1924).
ПУТЯМИ КАИНА. (1922-?)
[…]
Из французских поэтов мною переводились: Анри де Ренье, Верхарн, Вилье де Лиль Адан («Аксель»), Поль Клодель («Отдых седьмого дня», ода «Музы»), Поль де Сен-Виктор («Боги и люди»).
[…]
Из критических моих статей под названием «Лики творчества» вышел только первый том о Франции (в изд [ательстве] Аполлона, СПб., 1912. Остальные же, посвященные Театру, Живописи, Рус[ской] Литературе и Парижу – 4 тома, остались неизданными.
<Брошюра о Репине 1913. Изд<ание> Оле Лук-Ойе.>
До меня доходили слухи ещё о многих иных изданиях моих книг, но я их не видел.
ИКОНОГРАФИЯ
Кошелев. Портрет маслом во весь рост. 1901.
Е. С. Кругликова. Поясной порт [рет] маслом. 1901. Много карикатур, рисунков и силуэтов разных годов.
Слевинский. Порт [рет] маслом с книгой. 1902.
Якимченко. Голова, масло. 1902.
В. Харт. Голова углем. 1907.
А. Я. Головин. Портрет поясной. Темпера. 1909. Голова, литография. 1909.
Э. Виттиг. Бюст в виде герма. 1909.
Е. С. 3ак. Голова, сангина. 1911.
Диего Ривера. Мал [ый] порт [рет], вся фигура. 1915.
Колоссальная голова. Масло. 1915. (Кубизм)
Баруздина. Порт [рет] маслом. 1916.
Рис [унок] головы. 1916.
Бобрицкий. Сангина. 1918.
Мане-Кац. Поясной, масло. 1918.
Хрустачев. Сангина. 1920.
А. П. Остроумова-Лебедева. Голова акварелью. 1924.
Поясной портрет. Масло. 1925.
Кустодиев. Масло. 1924. (Поясной портрет).
Костенко. 2 грав[юры] на линолеуме. 1924 и 1925.
Верейский. 2 литографии и 1 рисунок 1924.
М. Зайцев. 2 рис[унка] углем головы 1925.
Каррикатуры: Кругликовой, Б. Матвеева, Ре-Ми, Моора, Преславского, А. Габричевского.
Из фотографий наиболее удачные: из детских – Мозера, Курбатова, Асикритова, из взрослых – Денара (СПб), Наппельбаума (СПб), Дилевского (Париж), Маслова (Одесса).
О самом себе44
Автор акварелей, предлагаемых вниманию публики под общим заглавием «Коктебель», не является уроженцем Киммерии по рождению, а лишь по усыновлению. Он родом с Украины, но уже в раннем детстве был связан с Севастополем и Таганрогом. А в Феодосию его судьба привела лишь в 16 лет, и здесь он кончил гимназию и остался связан с Киммерией на всю жизнь. Как все киммерийские художники, он является продуктом смешанных кровей (немецкой, русской, итало-греческой). По отцовской линии он имеет свои первокорни в Запорожской Сечи, по материнской – в Германии. Родился я в 1877 году в Киеве, а в 1893 году моя мать переселилась в Коктебель, а позже и я здесь выстроил мастерскую.
В ранние годы я не прошел никакого специально живописного воспитания и не был ни в какой рисовальной школе, и теперь рассматриваю это как большое счастье – это не связало меня ни с какими традициями, но дало возможность оформить самого себя в более зрелые годы, сообразно с сознательными своими устремлениями и методами.
Впервые я подошел к живописи в Париже в 1901 году. Я только что вернулся туда из Ташкента, где был в ссылке около года. Я весь был переполнен зрительными впечатлениями и совершенно свободен в смысле выбора жизни и профессии, так как был только что начисто выгнан из университета за студенческие беспорядки «без права поступления». Юридический факультет не влек обратно. А единственный серьезный интерес, который в те годы во мне намечался, – искусствоведение. В Москве в ту пору -+– в конце 90-х годов прошлого века – оно еще никак не определилось, а в Париже я сейчас же записался в Луврскую школу музееведения, но лекционная система меня мало удовлетворяла, так как меня интересовало не старое искусство, а новое, текущее. Цель моя была непосредственная: подготовиться к делу художественной критики.
Воспоминания университета и гимназии были слишком свежи и безнадежны. В теоретических лекциях я не находил ничего, что бы мне помогало разбираться в современных течениях живописи.
Оставался один более практический путь: стать самому художником, самому пережить, осознать разногласия и дерзания искусства.
Поэтому, когда однажды весной 1901 года я зашил в мастерскую Кругликовой и Елизавета Сергеевна со свойственным ей приветливым натиском протянула мне лист бумаги, уголь и сказала: «А почему бы тебе не попробовать рисовать самому?» – я смело взял уголь и попробовал рисовать человеческую фигуру с натуры. Мой первый рисунок был не так скверен, как можно было ожидать, но главными его недостатками были желание сделать его похожим на хорошие рисунки, которые мне нравились, и чересчур тщательная отделка деталей и штрихов. Словом, в нем уже были все недостатки школьных рисунков, без знания, что именно нужно делать. Словом, я уже умел рисовать и мне оставалось только освободиться от обычных академических недостатков, которые еще не стали для меня привычкой руки. На другой же день меня свели в Академию Коларосси. Я приобрел лист «энгра», папку, уголь, взял в ресторане мякоть непропеченного хлеба и стал художником. Но кроме того я стал заносить в маленькие альбомчики карандашом фигуры, лица и движения людей, проходящих по бульварам, сидящих в кафе и танцующих на публичных балах. Образцами для меня в то время были молниеносные наброски Форена, Стейнлена и других рисовальщиков парижской улицы. А когда три месяца спустя мы с Кругликовой, Давиденко и А. А. Киселевым отправились в пешеходное путешествие по Испании через Пиренеи в Андорру, я уже не расставался с карандашом и записной книжкой.
В те годы, которые совпали с моими большими пешеходными странствиями по Южной Европе – по Италии, Испании, Корсике, Балеарам, Сардинии, – я не расставался с альбомом и карандашами и достиг известного мастерства в быстрых набросках с натуры. Я понял смысл рисунка. Но обязательная журнальная работа (статьи о художественной жизни в Париже и отчеты о выставках) мне не давала сосредоточиться исключительно на живописи. Лишь несколько лет спустя, перед самой войной, я смог вернуться к живописи усидчиво. В 1913 году у меня произошла ссора с русской литературой из-за моей публичной лекции о Репине. Я был предан российскому остракизму, все редакции периодических изданий для меня закрылись, против моих книг был объявлен бойкот книжных магазинов.
Оказавшись в Коктебеле, я воспользовался вынужденным перерывом в работе, чтобы взяться за самовоспитание в живописи. Прежде всего я взялся за этюды пейзажа: приучил себя писать всегда точно, быстро и широко. И вообще, все неприятности и неудачи в области литературы сказывались в моей жизни успехами в области живописи.
Я начал писать не масляными красками, а темперой на больших листах картона. Это мне давало, с одной стороны, возможность увеличить размеры этюдов, с другой же, так как темпера имеет свойство сильно меняться высыхая, это меня учило работать вслепую (то есть как бы писать на машинке с закрытым шрифтом). Это неудобство меня приучило к сознательности работы, и тот факт, что [в] темпере почти невозможно подобрать тон раз взятый, – к умеренности в употреблении красок и чистоте палитры.
Акварелью я начал работать с начала войны. Начало войны и ее первые годы застали меня в пограничной полосе – сперва в Крыму, потом в Базеле, позже в Биаррице, где работы с натуры были невозможны по условиям военного времени. Всякий рисовавший с натуры в те годы, естественно, бывал заподозрен в шпионстве и съемке планов.
Это меня освободило от прикованности к натуре и было благодеянием для моей живописи. Акварель непригодна к работам с натуры. Она требует стола, а не мольберта, затененного места, тех удобств, что для масляной техники не требуются.
Я стал писать по памяти, стараясь запомнить основные линии и композицию пейзажа. Что касается красок, это было нетрудно, так как и раньше я, наметив себе линейную схему, часто заканчивал дома этюды, начатые с натуры. В конце концов, я понял, что в натуре надо брать только рисунок и помнить общий тон. А все остальное представляет логическое развитие первоначальных данных, которое идет соответственно понятым ранее законам света и воздушной перспективы. Война, а потом революция ограничили мои технические средства только акварелью. У меня был известный запас акварельной бумаги, и экономия красок позволила мне его длить долго. Плохая акварельная бумага тоже дала мне многие возможности. Русская бумага отличается малой проклеенностью. Я к ней приспособился, прокрывая сразу нужным тоном, и работал от светлого к темному без поправок, без смываний и протираний.
Эту эволюцию можно легко проследить по ретроспективному отделу моей выставки. Это борьба с материалом и постепенное преодоление его.
Если масляная живопись работает на контрастах, сопоставляя самые яркие и самые противоположные цвета, то акварель работает в одном тоне и светотени. К акварели больше, чем ко всякой иной живописи, применимы слова Гёте, которыми он начинает свою «теорию цветов», определяя ее как трагедию солнечного луча, который проникает через ряд замутненных сфер, дробясь и отражаясь в глубинах вещества. Это есть основная тема всякой живописи, а акварельной по преимуществу.
Ни один пейзаж из составляющих мою выставку не написан с натуры, а представляет собою музыкально-красочную композицию на тему киммерийского пейзажа. Среди выставленных акварелей нет ни одного «вида», который бы совпадал с действительностью, но все они имеют темой Киммерию. Я уже давно рисую с натуры только мысленно.
Я пишу акварелью регулярно, каждое утро по 2–3 акварели, так что они являются как бы моим художественным дневником, в котором повторяются и переплетаются все темы моих уединенных прогулок. В этом смысле акварели заменили и вытеснили совершенно то, что раньше было моей лирикой и моими пешеходными странствованиями по Средиземноморью.
Вообще в художественной самодисциплине полезно всякое самоограничение: недостаток краски, плохое качество бумаги, какой-либо дефект материала, который заставляет живописца искать новых обходных путей и сохранить в живописи лишь то, без чего нельзя обойтись. В акварели не должно быть ни одного лишнего прикосновения кисти. Важна не только обработка белой поверхности краской, но и экономия самой краски, как и экономия времени. Недаром, когда японский живописец собирается написать классическую и музейную вещь, за его спиной ассистирует друг с часами в руках, который отсчитывает и отмечает точно количество времени, необходимое для данного творческого пробега. Это описано хорошо в «Дневнике» Гонкуров. Понимать это надо так: вся черн [ов] ая техническая работа уже проделана раньше, художнику, уже подготовленному, надо исполнить отчетливо и легко свободный танец руки и кисти по полотну. В этой свободе и ритмичности жеста и лежат смысл и пленительность японской живописи, ускользающие для нас, – кропотливых и академических европейцев. Главной темой моих акварелей является изображение воздуха, света, воды, расположение их по резонированным и резонирующим планам.
В методе подхода к природе, изучения и передачи ее я стою на точке зрения классических японцев (Хокусаи, Утамаро), по которым я в свое время подробно и тщательно работал в Париже в Национ [альной] Библиотеке, где в Галерее эстампов имеется громадная коллекция японской печатной книги – Теодора Дерюи. Там [у меня] на многое открылись глаза, например, на изображение растений. Там, где европейские художники искали пышных декоративных масс листвы (как у Клода [Лоррена]), японец чертит линию ствола перпендикулярно к линии горизонта, а вокруг него концентрические спирали веток, в свою очередь окруженных листьями, связанными с ними под известным углом. Он не фиксирует этой геометрической схемы, но он изображает все дефекты ее, оставленные жизнью на живом организме дерева, на котором жизнь отмечает каждое отжитое мгновенье.
Таким образом, каждое изображение является в искусстве как бы рядом зарубок, сделанных на коре дерева. Чтобы иметь возможность отличать «дефекты» от нормального роста, художник должен знать законы роста. Это сближает задачи живописца с задачами естественника. Раз мы это поняли и приняли, мы не можем отрицать, что в истории европейской живописи в эпоху Ренессанса произошел горестный сдвиг и искажения линии нормального развития живописи. Точнее, этот сдвиг произошел не во времена Ренессанса, а в эпоху, непосредственно за ним последовавшую. При Ренессансе опытный метод исследования был прекрасно формулирован Леонардо. Но на горе живописцев этот метод не был тогда же воспринят наукой, а был принят два поколения спустя в формулировке не художника, а литератора Фр. Бэкона. Это обстоятельство обусловлено, конечно, самим складом европейского сознания.
Таким образом, экспериментальный метод попал из рук людей, приспособленных и природой и профессией к эксперименту, к опыту и наблюдению, в руки людей, конечно, способных к очень точному наблюдению, но никогда не развивавших и не утончавших своих естественных чувств восприятия, что привело прежде всего к горестному дискредитированию «очевидности», но через это и к неисправимому разделению путей искусства и науки.
Правда, в области научного познания это навело к созданию различных механических приспособлений для точного определения мер и веса.
В свое время Ренессанс еще до раздвоенности науки и искусства создал различные дисциплины для потребностей живописцев: художественную перспективу и художественную анатомию. Но в наши дни художник напрасно будет искать так необходимых ему художественной метеорологии, геологии, художественной ботаники, зоологи, не говорю уже о художественной социологии. Правда, в некоторых критических статьях, например, у Рескина, [есть] нечто заменяющее ему эти нехватающие дисциплины (в статьях о Тернере), но ничего по существу вопроса и детально разработанного еще не существует в литературе.
Точно так же, как и художник не имеет сотрудничества ученого, точно так же и ученый не имеет сейчас часто необходимого орудия эксперимента и анализа – отточенного тонко карандаша, потому что научный рисунок – художественная дисциплина, которую еще не знает современная живописная школа.
Пейзажист должен изображать землю, по которой можно ходить, и писать небо, по которому можно летать, то есть в пейзажах должна быть такая грань горизонта, через которую хочется перейти, и должен ощущаться тот воздух, который хочется вдохнуть полной грудью, а в небе те восходящие токи, по которым можно взлететь на планере.
Вся первая половина моей жизни была посвящена большим пешеходным путешествиям, я обошел пешком все побережья Средиземного моря, и теперь акварели мне заменяют мои прежние прогулки. Это страна, по которой я гуляю ежедневно, видимая естественно сквозь призму Киммерии, которую я знаю наизусть и за изменением лица которой я слежу ежедневно.
С этой точки зрения и следует рассматривать ретроспективную выставку моих акварелей, которую можно характеризовать такими стихами:
Выйди на кровлю. Склонись на четыре Стороны света, простерши ладонь…
Солнце… Вода… Облака… Огонь…– Все, что есть прекрасного в мире…
Факел косматый в шафранном тумане… Влажной парчою расплесканный луч… К небу из пены простертые длани… Облачных грамот закатный сургуч…
Гаснут во времени, тонут в пространстве Мысли, событья, мечты, корабли… Я ж уношу в свое странствие странствий Лучшее из наваждений земли…
P. S. Я горжусь тем, что первыми ценителями моих акварелей явились геологи и планеристы, точно так же, как и тем фактом, что мой сонет «Полдень» был в свое время перепечатан в Крымском журнале виноградарства. Это указывает на их точность.
Стихотворения М. А. Волошина
Коктебельские берега
25 декабря<1926, Коктебель>
- Эти пределы священны уж тем, что однажды под вечер
- Пушкин на них поглядел с корабля по дороге в Гурзуф.
* * *
- Как в раковине малой – Океана
- Великое дыхание гудит,
- Как плоть ее мерцает и горит
- Отливами и серебром тумана,
- А выгибы ее повторены
- В движении и завитке волны, –
- Так вся душа моя в твоих заливах,
- О, Киммерии темная страна,
- Заключена и преображена.
- С тех пор как отроком у молчаливых
- Торжественно-пустынных берегов
- Очнулся я – душа моя разъялась,
- И мысль росла, лепилась и ваялась
- По складкам гор, по выгибам холмов.
- Огнь древних недр и дождевая влага
- Двойным резцом ваяли облик твой –
- И сих холмов однообразный строй,
- И напряженный пафос Карадага,
- Сосредоточенность и теснота
- Зубчатых скал, а рядом широта
- Степных равнин и мреющие дали
- Стиху – разбег, а мысли – меру дали.
- Моей мечтой с тех пор напоены
- Предгорий героические сны
- И Коктебеля каменная грива;
- Его полынь хмельна моей тоской,
- Мой стих поет в волнах его прилива,
- И на скале, замкнувшей зыбь залива,
- Судьбой и ветрами изваян профиль мой!
Карадаг
- Преградой волнам и ветрам –
- Стена размытого вулкана,
- Как воздымающийся храм,
- Встает из сизого тумана.
- По зыбям меркнущих равнин,
- Томимым неуемной дрожью,
- Направь ладью к ее подножью
- Пустынным вечером – один.
- И над живыми зеркалами
- Возникнет темная гора,
- Как разметавшееся пламя
- Окаменелого костра.
- Из недр изверженным порывом,
- Трагическим и горделивым,
- Взметнулись вихри древних сил –
- Так в буре складок, в свисте крыл,
- В водоворотах снов и бреда,
- Прорвавшись сквозь упор веков,
- Клубится мрамор всех ветров –
- Самофракийская Победа!
2
- Над черно-золотым стеклом,
- Струистым бередя веслом
- Узоры зыбкого молчанья,
- Беззвучно оплыви кругом
- Сторожевые изваянья,
- Войди под стрельчатый намёт,
- И пусть душа твоя поймет
- Безвыходность слепых усилий
- Титанов, скованных в гробу,
- И бред распятых шестикрылий
- Окаменелых Керубу.
- Спустись в базальтовые гроты,
- Вглядись в провалы и в пустоты,
- Похожие на вход в Аид…
- Прислушайся, как шелестит
- В них голос моря – безысходней,
- Чем плач теней… И над кормой
- Склонись, тревожный и немой,
- Перед богами преисподней…
- …Потом плыви скорее прочь.
- Ты завтра вспомнишь только ночь,
- Столпы базальтовых гигантов,
- Однообразный голос вод
- И радугами бриллиантов
- Переливающийся свод.
Из цикла «Париж»
Адел. Герцык
- Перепутал карты я пасьянса,
- Ключ иссяк, и русло пусто ныне.
- Взор пленeн садами Иль де-Франса,
- А душа тоскует по пустыне.
- Бродит осень парками Версаля,
- Вся закатным заревом объята…
- Мне же снятся рыцари Грааля
- На скалах суровых Монсальвата.
- Мне, Париж, желанна и знакома
- Власть забвенья, хмель твоей отравы!
- Ах! В душе – пустыня Меганома,
- Зной, и камни, и сухие травы…
Из цикла «Звезда Полынь»
Александре Михайловне Петровой
- Быть чёрною землeй. Раскрыв покорно грудь,
- Ослепнуть в пламени сверкающего ока,
- И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко
- В живую плоть, ведёт священный путь.
- Под серым бременем небесного покрова
- Пить всеми ранами потоки тёмных вод.
- Быть вспаханной землёй… И долго ждать, что вот
- В меня сойдёт, во мне распнётся Слово.
- Быть Матерью-Землeй. Внимать, как ночью рожь
- Шуршит про таинства возврата и возмездья,
- И видеть над собой алмазных рун чертёж:
- По небу чёрному плывущие созвездья.
Сатурн
М. А. Эртелю
- На тверди видимой алмазно и лазурно
- Созвездий медленных мерцает бледный свет.
- Но в небе времени снопы иных планет
- Несутся кольцами и в безднах гибнут бурно.
- Пусть тёмной памяти источенная урна
- Их пепел огненный развеяла как бред –
- В седмичном круге дней горит их беглый след.
- О, пращур Лун и Солнц, вселенная Сатурна!
- Где ткало в дымных снах сознание-паук
- Живые ткани тел, но тело было – звук,
- Где лился музыкой, непознанной для слуха,
- Творящих числ и воль мерцающий поток,
- Где в горьком сердце тьмы сгущался звездный сок,
- Что темным языком лепечет в венах глухо.
Солнце
Б. А. Леману
- Святое око дня, тоскующий гигант!
- Я сам в своей груди носил твой пламень пленный,
- Пронизан зрением, как белый бриллиант,
- В багровой тьме рождавшейся вселенной.
- Но ты, всезрящее, покинуло меня,
- И я внутри ослеп, вернувшись в чресла ночи.
- И вот простерли мы к тебе – истоку Дня –
- Земля – свои цветы и я – слепые очи.
- Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте,
- Лучи призывные кидая издалека.
- Но я в своей душе возжгу иное око
- И землю поведу к сияющей мечте!
Луна
Бальмонту
- Седой кристалл магических заклятий,
- Хрустальный труп в покровах тишины,
- Алмаз ночей, владычица зачатий,
- Царица вод, любовница волны!
- С какой тоской из водной глубины
- К тебе растут, сквозь мглу моих распятий, –
- К Диане бледной, к яростной Гекате,
- Змеиные, непрожитые сны!
- И сладостен и жутко безотраден
- Алмазный бред морщин твоих и впадин,
- Твоих морей блестящая слюда –
- Как страстный вопль в бесстрастности эфира…
- Ты крик тоски, застывший глыбой льда,
- Ты мертвый лик отвергнутого мира!
Грот нимф
Сергею Соловьеву
- О, странник-человек! Познай Священный Грот
- И надпись скорбную «Amori et dolori».
- Из бездны хаоса, сквозь огненное море,
- В пещеры времени влечет водоворот.
- Но смертным и богам отверст различный вход:
- Любовь – тропа одним, другим дорога – горе.
- И каждый припадёт к сияющей амфоре,
- Где тайной Эроса хранится вещий мёд.
- Отмечен вход людей оливою ветвистой –
- В пещере влажных нимф, таинственной и мглистой,
- Где вечные ключи рокочут в тайниках,
- Где пчелы в темноте слагают сотов грани,
- Наяды вечно ткут на каменных станках
- Одежды жертвенной пурпуровые ткани.
Киммерийские сумерки
Константину Феодоровичу Богаевскому
1. Полынь
- Костёр мой догорал на берегу пустыни.
- Шуршали шелесты струистого стекла.
- И горькая душа тоскующей полыни
- В истомной мгле качалась и текла.
- В гранитах скал – надломленные крылья.
- Под бременем холмов – изогнутый хребет.
- Земли отверженной – застывшие усилья.
- Уста Праматери, которым слова нет!
- Дитя ночей призывных и пытливых,
- Я сам – твои глаза, раскрытые в ночи
- К сиянью древних звёзд, таких же сиротливых,
- Простерших в темноту зовущие лучи.
- Я сам – уста твои, безгласные как камень!
- Я тоже изнемог в оковах немоты.
- Я свет потухших солнц, я слов застывший пламень
- Незрячий и немой, бескрылый, как и ты.
- О, мать-невольница! На грудь твоей пустыни
- Склоняюсь я в полночной тишине…
- И горький дым костра, и горький дух полыни,
- И горечь волн – останутся во мне.
2
- Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель…
- По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
- По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль,
- И лежит земля страстная в черных ризах и орарях.
- Припаду я к острым щебням, к серым срывам размытых гор,
- Причащусь я горькой соли задыхающейся волны,
- Обовью я чобром, мятой и полынью седой чело.
- Здравствуй, ты, в весне распятый, мой торжественный Коктебель!
3
- Темны лики весны. Замутились влагой долины,
- Выткали синюю даль прутья сухих тополей.
- Тонкий снежный хрусталь опрозрачил дальние горы.
- Влажно тучнеют поля.
- Свивши тучи в кудель и окутав горные щели,
- Ветер, рыдая, прядет тонкие нити дождя.
- Море глухо шумит, развивая древние свитки
- Вдоль по пустынным пескам.
4
- Старинным золотом и жёлчью напитал
- Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры
- Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
- В огне кустарники и воды как металл.
- А груды валунов и глыбы голых скал
- В размытых впадинах загадочны и хмуры.
- В крылатых сумерках – намеки и фигуры…
- Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал,
- Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам.
- Чей согнутый хребет порос, как шерстью, чобром?
- Кто этих мест жилец: чудовище? титан?
- Здесь душно в тесноте… А там – простор, свобода,
- Там дышит тяжело усталый Океан,
- И веет запахом гниющих трав и йода.
5
- Здесь был священный лес. Божественный гонец
- Ногой крылатою касался сих прогалин.
- На месте городов ни камней, ни развалин.
- По склонам бронзовым ползут стада овец.
- Безлесны скаты гор. Зубчатый их венец
- В зеленых сумерках таинственно печален.
- Чьей древнею тоской мой вещий дух ужален?
- Кто знает путь богов – начало и конец?
- Размытых осыпей, как прежде, звонки щебни,
- И море древнее, вздымая тяжко гребни,
- Кипит по отмелям гудящих берегов.
- И ночи звездные в слезах проходят мимо,
- И лики темные отвергнутых богов
- Глядят и требуют, зовут… неотвратимо.
6
- Равнина вод колышется широко,
- Обведена серебряной каймой.
- Мутится мыс, зубчатою стеной
- Ступив на зыбь расплавленного тока.
- Туманный день раскрыл златое око,
- И бледный луч, расплесканный волной,
- Скользит, дробясь над мутной глубиной,
- То колос дня от пажитей востока.
- В волокнах льна златится бледный круг
- Жемчужных туч, и солнце, как паук,
- Дрожит в сетях алмазной паутины.
- Вверх обрати ладони тонких рук –
- К истоку дня! Стань лилией долины,
- Стань стеблем ржи, дитя огня и глины!
7
- Над зыбкой рябью вод встает из глубины
- Пустынный кряж земли: хребты скалистых гребней,
- Обрывы черные, потоки красных щебней –
- Пределы скорбные незнаемой страны.
- Я вижу грустные, торжественные сны –
- Заливы гулкие земли глухой и древней,
- Где в поздних сумерках грустнее и напевней
- Звучат пустынные гекзаметры волны.
- И парус в темноте, скользя по бездорожью,
- Трепещет древнею, таинственною дрожью
- Ветров тоскующих и дышащих зыбей.
- Путем назначенным дерзанья и возмездья
- Стремит мою ладью глухая дрожь морей,
- И в небе теплятся лампады Семизвездья.
8. Mare internum
- Я – солнца древний путь от красных скал Тавриза
- До тёмных врат, где стал Гераклов град – Кадикс.
- Мной круг земли омыт, в меня впадает Стикс,
- И струйный столб огня на мне сверкает сизо.
- Вот рдяный вечер мой: с зубчатого карниза
- Ко мне склонился кедр и бледный тамариск.
- Широко шелестит фиалковая риза,
- Заливы черные сияют, как оникс.
- Люби мой долгий гул, и зыбких взводней змеи,
- И в хорах волн моих напевы Одиссеи.
- Вдохну в скитальный дух я власть дерзать и мочь,
- И обоймут тебя в глухом моём просторе
- И тысячами глаз взирающая Ночь,
- И тысячами уст глаголящее Море.
9. Гроза
- Див кличет по древию, велит послушати
- Волзе, Поморью, Посулью, Сурожу…
- Запал багровый день. Над тусклою водой
- Зарницы синие трепещут беглой дрожью.
- Шуршит глухая степь сухим быльем и рожью,
- Вся млеет травами, вся дышит душной мглой
- И тутнет, гулкая. Див кличет пред бедой
- Ардавде, Корсуню, Поморью, Посурожью, –
- Земле незнаемой разносит весть Стрибожью:
- Птиц стоном убуди и вста звериный вой.
- С туч ветр плеснул дождем и мечется с испугом
- По бледным заводям, по ярам, по яругам…
- Тьма прыщет молнии в зыбучее стекло…
- То, Землю древнюю тревожа долгим зовом,
- Обида вещая раскинула крыло
- Над гневным Сурожем и пенистым Азовом.
10. Полдень
- Травою жесткою, пахучей и седой
- Порос бесплодный скат извилистой долины.
- Белеет молочай. Пласты размытой глины
- Искрятся грифелем, и сланцем, и слюдой.
- По стенам шифера, источенным водой,
- Побеги каперсов; иссохший ствол маслины;
- А выше за холмом лиловые вершины
- Подъемлет Карадаг зубчатою стеной.
- И этот тусклый зной, и горы в дымке мутной,
- И запах душных трав, и камней отблеск ртутный,
- И злобный крик цикад, и клекот хищных птиц –
- Мутят сознание. И зной дрожит от крика…
- И там – во впадинах зияющих глазниц
- Огромный взгляд растоптанного Лика.
11. Облака
- Гряды холмов отусклил марный иней.
- Громады туч по сводам синих дней
- Ввысь громоздят (всё выше, всё тесней)
- Клубы свинца, седые крылья пиний,
- Столбы снегов, и гроздьями глициний
- Свисают вниз… Зной глуше и тусклей.
- А по степям несется бег коней,
- Как темный лёт разгневанных Эринний.
- И сбросил Гнев тяжелый гром с плеча,
- И, ярость вод на долы расточа,
- Отходит прочь. Равнины медно-буры.
- В морях зари чернеет кровь богов.
- И дымные встают меж облаков
- Сыны огня и сумрака – Ассуры.
12. Сехмет
- Влачился день по выжженным лугам.
- Струился зной. Хребтов синели стены.
- Шли облака, взметая клочья пены
- На горный кряж. (Доступный чьим ногам?)
- Чей голос с гор звенел сквозь знойный гам
- Цикад и ос? Кто мыслил перемены?
- Кто, с узкой грудью, с профилем гиены,
- Лик обращал навстречу вечерам?
- Теперь на дол ночная пала птица,
- Край запада лудою распаля.
- И персть путей блуждает и томится…
- Чу! В теплой мгле (померкнули поля…)
- Далеко ржет и долго кобылица.
- И трепетом ответствует земля.
13
- Сочилась жёлчь шафранного тумана.
- Был стоптан стыд, притуплена любовь…
- Стихала боль. Дрожала зыбко бровь.
- Плыл горизонт. Глаз видел четко, пьяно.
- Был в свитках туч на небе явлен вновь
- Грозящий стих закатного Корана…
- И был наш день – одна большая рана,
- И вечер стал – запекшаяся кровь.
- В тупой тоске мы отвратили лица.
- В пустых сердцах звучало глухо: «Нет!»
- И, застонав, как раненая львица,
- Вдоль по камням влача кровавый след,
- Ты на руках ползла от места боя,
- С древком в боку, от боли долго воя…
14. Одиссей в Киммерии
Лидии Дм. Зиновьевой-Аннибал
- Уж много дней рекою Океаном
- Навстречу дню, расправив паруса,
- Мы бег стремим к неотвратимым странам.
- Усталых волн всё глуше голоса,
- И слепнет день, мерцая оком рдяным.
- И вот вдали синеет полоса
- Ночной земли и, слитые с туманом,
- Излоги гор и скудные леса.
- Наш путь ведет к божницам Персефоны,
- К глухим ключам, под сени скорбных рощ
- Раин и ив, где папоротник, хвощ
- И черный тисс одели леса склоны…
- Туда идем, к закатам темных дней,
- Во сретенье тоскующих теней.
Киммерийская весна
«Моя земля хранит покой…»
- Моя земля хранит покой,
- Как лик иконы изможденный.
- Здесь каждый след сожжен тоской,
- Здесь каждый холм – порыв стесненный.
- Я вновь пришел – к твоим ногам
- Сложить дары своей печали,
- Бродить по горьким берегам
- И вопрошать морские дали.
- Всё так же пуст Эвксинский Понт
- И так же рдян закат суровый,
- И виден тот же горизонт –
- Текучий, гулкий и лиловый.
«Седым и низким облаком дол повит…»
- Седым и низким облаком дол повит…
- Чернильно-сини кручи лиловых гор.
- Горелый, ржавый, бурый цвет трав.
- Полосы иода и пятна жёлчи.
- В морщине горной, в складках тисненых кож
- Тускнеет сизый блеск чешуи морской.
- Скрипят деревья. Вихрь траву рвет,
- Треплет кусты и разносит брызги.
- Февральский вечер сизой тоской повит.
- Нагорной степью путь мой уходит вдаль.
- Жгутами струй сечет глаза дождь.
- Северный ветер гудит в провалах.
«Яры, увалы, ширь полей…»
- Яры, увалы, ширь полей…
- К излогам гор душа влекома…
- Всё так печально, так знакомо…
- Сухие прутья тополей,
- Из камней низкая ограда,
- Быльем поросшая межа,
- Нагие лозы винограда
- На темных глыбах плантажа,
- Лучи дождя и крики птичьи,
- И воды тусклые вдали,
- И это горькое величье
- Весенней вспаханной земли…
«Солнце! Твой родник…»
- Солнце! Твой родник
- В недрах бьет по темным жилам…
- Воззывающий свой лик
- Обрати к земным могилам!
- Солнце! Из земли
- Руки черные простерты…
- Воды снежные стекли,
- Тали в поле ветром стерты.
- Солнце! Прикажи
- Виться лозам винограда,
- Завязь почек развяжи
- Властью пристального взгляда!
«Звучит в горах, весну встречая…»
- Звучит в горах, весну встречая,
- Ручьев прерывистая речь;
- По сланцам стебли молочая
- Встают рядами бледных свеч.
- А на полянах влажно-мшистых
- Средь сгнивших за зиму листов –
- Глухие заросли безлистых
- Лилово-дымчатых кустов.
- И ветви тянутся к просторам,
- Молясь Введению Весны,
- Как семисвечник, на котором
- Огни еще не зажжены.
«Облака клубятся в безднах зеленых…»
- Облака клубятся в безднах зеленых
- Лучезарных пустынь восхода,
- И сбегают тени с гор обнаженных
- Цвета роз и меда.
- И звенит и блещет белый стеклярус
- За Киик-Атламой костистой,
- Плещет в синем ветре дымчатый парус,
- Млеет след струистый,
- Отливают волны розовым глянцем,
- Влажные выгибая гребни,
- Индевеет берег солью и сланцем,
- И алеют щебни.
- Скрыты горы синью пятен и линий –
- Переливами перламутра.
- Точно кисть лиловых бледных глициний,
- Расцветает утро.
«Над синевой зубчатых чащ…»
- Над синевой зубчатых чащ,
- Над буро-глинистыми лбами,
- Июньских ливней темный плащ
- Клубится дымными столбами.
- Веселым дождевым вином,
- Водами мутными, как сусло,
- И пенно-илистым руном
- Вскипают жаждущие русла.
- Под быстрым градом звонких льдин
- Стучат на крышах черепицы,
- И ветки сизые маслин
- В испуге бьют крылом, как птицы.
- Дождь, вихрь и град – сечет, бьет, льет
- И треплет космы винограда,
- И рвется под бичами вод
- Кричащая Гамадриада…
- И пресных вод в песке морском
- Встал дыбом вал, ярясь и споря,
- И желтым ширится пятном
- В прозрачной прозелени моря.
«Сквозь облак тяжелые свитки…»
- Сквозь облак тяжелые свитки,
- Сквозь ливней косые столбы,
- Лучей золотистые слитки
- На горные падают лбы.
- Пройди по лесистым предгорьям,
- По бледным, полынным лугам
- К широким моим плоскогорьям,
- К гудящим волной берегам,
- Где в дикой и пенной порфире,
- Ложась на песок голубой,
- Всё шире, всё шире, всё шире
- Развертывается прибой.
«Опять бреду я босоногий…»
- Опять бреду я босоногий,
- По ветру лоснится ковыль.
- Что может быть нежней, чем пыль
- Степной, разъезженной дороги?
- На бурый стелется ковер
- Полдневный пламень, сух и ясен,
- Хрусталь предгорий так прекрасен,
- Так бледны дали серых гор.
- Соленый ветер в пальцах вьется…
- Ах, жажду счастья, хмель отрав
- Не утолит ни горечь трав,
- Ни соль овечьего колодца…
«Твоей тоской душа томима…»
- Твоей тоской душа томима,
- Земля утерянных богов!
- Дул свежий ветр… Мы плыли мимо
- Однообразных берегов.
- Ныряли чайки в хлябь морскую,
- Клубились тучи. Я смотрел,
- Как солнце мечет в зыбь стальную
- Алмазные потоки стрел,
- Как с черноморскою волной
- Азова илистые воды
- Упорно месит ветр крутой
- И, вестник близкой непогоды,
- Развертывает свитки туч,
- Срывает пену, вихрит смерчи,
- И дальних ливней темный луч
- Повис над берегами Керчи.
«Заката алого заржавели лучи…»
- Заката алого заржавели лучи
- По склонам рыжих гор… и облачной галеры
- Погасли паруса. Без края и без меры
- Растет ночная тень. Остановись. Молчи.
- Каменья зноем дня во мраке горячи.
- Луга полынные нагорий тускло-серы…
- И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
- Как пламя воздухом колеблемой свечи…
«Ветер с неба клочья облак вытер…»
- Ветер с неба клочья облак вытер,
- Синим оком светит водоем,
- Желтою жемчужиной Юпитер
- Над седым возносится холмом.
- Искры света – в диске наклоненном –
- Спутники стремительно бегут…
- А заливы в зеркале зеленом
- Пламена созвездий берегут.
- А вблизи струя звенит о камень,
- А внизу полет звенит цикад,
- И в душе гудит певучий пламень
- В синеве сияющих лампад.
- Кто сказал: «Змеею препояшу
- И пошлю»? …Ликуя и скорбя,
- Возношу к верховным солнцам чашу,
- Переполненную светами, – себя.
«Акрополи в лучах вечерней славы…»
- Акрополи в лучах вечерней славы.
- Кастилии нищих рыцарский покров.
- Троады скорбь среди немых холмов.
- Апулии зеркальные оправы.
- Безвестных стран разбитые заставы,
- Могильники забытых городов.
- Размывы, осыпи, развалины и травы
- Изглоданных волною берегов.
- Озер агатовых колдующие очи.
- Сапфирами увлаженные ночи.
- Сухие русла, камни и полынь.
- Теней Луны по склонам плащ зубчатый.
- Монастыри в преддверии пустынь,
- И медных солнц гудящие закаты…
«Выйди на кровлю… Склонись на четыре…»
- Выйди на кровлю… Склонись на четыре
- Стороны света, простерши ладонь.
- Солнце… вода… облака… огонь…
- Всё, что есть прекрасного в мире…
- Факел косматый в шафранном тумане,
- Влажной парчою расплесканный луч,
- К небу из пены простертые длани,
- Облачных грамот закатный сургуч.
- Гаснут во времени, тонут в пространстве
- Мысли, событья, мечты, корабли…
- Я ж уношу в свое странствие странствий
- Лучшее из наваждений земли.
Каллиера
С. В. Шервинскому
- По картам здесь и город был, и порт.
- Остатки мола видны под волнами.
- Соседний холм насыщен черепками
- Амфор и пифосов. Но город стерт,
- Как мел с доски, разливом диких орд.
- И мысль, читая смытое веками,
- Подсказывает ночь, тревогу, пламя,
- И рдяный блик в зрачках раскосых морд.
- Зубец, над городищем вознесенный,
- Народ зовет «Иссыпанной Короной»,
- Как знак того, что сроки истекли,
- Что судьб твоих до дна испита мера,
- Отроковица эллинской земли
- В венецианских бусах – Каллиера!
«Фиалки волн и гиацинты пены…»
- Фиалки волн и гиацинты пены
- Цветут на взморье около камней.
- Цветами пахнет соль… Один из дней,
- Когда не жаждет сердце перемены
- И не торопит преходящий миг,
- Но пьет так жадно златокудрый лик
- Янтарных солнц, просвеченных сквозь просинь.
- Такие дни под старость дарит осень.
Двойной венок
Венок сонетов «Сorona astralis»
Елизавете Ивановне Дмитриевой
- В мирах любви – неверные кометы –
- Закрыт нам путь проверенных орбит!
- Явь наших снов земля не истребит, –
- Полночных солнц к себе нас манят светы.
- Ах, не крещен в глубоких водах Леты
- Наш горький дух, и память нас томит.
- В нас тлеет боль внежизненных обид –
- Изгнанники, скитальцы и поэты!
- Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,
- Тому, кто жив и брошен в тёмный склеп,
- Кому земля – священный край изгнанья,
- Кто видит сны и помнит имена, –
- Тому в любви не радость встреч дана,
- А темные восторги расставанья!
1
- В мирах любви неверные кометы,
- Сквозь горних сфер мерцающий стожар –
- Клубы огня, мятущийся пожар,
- Вселенских бурь блуждающие светы, –
- Мы вдаль несем… Пусть темные планеты
- В нас видят меч грозящих миру кар, –
- Мы правим путь свой к солнцу, как Икар,
- Плащом ветров и пламени одеты.
- Но, странные, – его коснувшись, прочь
- Стремим свой бег: от солнца снова в ночь –
- Вдаль, по путям парабол безвозвратных…
- Слепой мятеж наш дерзкий дух стремит
- В багровой тьме закатов незакатных…
- Закрыт нам путь проверенных орбит!
2
- Закрыт нам путь проверенных орбит,
- Нарушен лад молитвенного строя…
- Земным богам земные храмы строя,
- Нас жрец земли земле не причастит.
- Безумьем снов скитальный дух повит.
- Как пчелы мы, отставшие от роя!..
- Мы беглецы, и сзади наша Троя,
- И зарево наш парус багрянит.
- Дыханьем бурь таинственно влекомы,
- По свиткам троп, по росстаням дорог
- Стремимся мы. Суров наш путь и строг.
- И пусть кругом грохочут глухо громы,
- Пусть веет вихрь сомнений и обид, –
- Явь наших снов земля не истребит!
3
- Явь наших снов земля не истребит:
- В парче лучей истают тихо зори,
- Журчанье утр сольётся в дневном хоре,
- Ущербный серп истлеет и сгорит,
- Седая зыбь в алмазы раздробит
- Снопы лучей, рассыпанные в море,
- Но тех ночей – разверстых на Фаворе –
- Блеск близких солнц в душе не победит.
- Нас не слепят полдневные экстазы
- Земных пустынь, ни жидкие топазы,
- Ни токи смол, ни золото лучей.
- Мы шёлком лун, как ризами, одеты,
- Нам ведом день немеркнущих ночей, –
- Полночных солнц к себе нас манят светы.
4
- Полночных солнц к себе нас манят светы…
- В колодцах труб пытливый тонет взгляд.
- Алмазный бег вселенные стремят:
- Системы звёзд, туманности, планеты,
- От Альфы Пса до Веги и от Бэты
- Медведицы до трепетных Плеяд –
- Они простор небесный бороздят,
- Творя во тьме свершенья и обеты.
- О, пыль миров! О, рой священных пчел!
- Я исследил, измерил, взвесил, счел, –
- Дал имена, составил карты, сметы…
- Но ужас звёзд от знанья не потух.
- Мы помним всё: наш древний, темный дух,
- Ах, не крещен в глубоких водах Леты!
5
- Ах, не крещен в глубоких водах Леты
- Наш звездный дух забвением ночей!
- Он не испил от Орковых ключей,
- Он не принес подземные обеты.
- Не замкнут круг. Заклятья не допеты…
- Когда для всех сапфирами лучей
- Сияет день, журчит в полях ручей, –
- Для нас во мгле слепые бродят светы,
- Шуршит тростник, мерцает тьма болот,
- Напрасный ветр свивает и несет
- Осенний рой теней Персефонеи,
- Печальный взор вперяет в ночь Пелид…
- Но он еще тоскливей и грустнее,
- Наш горький дух… И память нас томит.
6
- Наш горький дух… (И память нас томит…)
- Наш горький дух пророс из тьмы, как травы,
- В нем навий яд, могильные отравы.
- В нем время спит, как в недрах пирамид.
- Но ни порфир, ни мрамор, ни гранит
- Не создадут незыблемей оправы
- Для роковой, пролитой в вечность лавы,
- Что в нас свой ток невидимо струит.
- Гробницы Солнц! Миров погибших Урна!
- И труп Луны, и мертвый лик Сатурна –
- Запомнит мозг и сердце затаит:
- В крушеньях звезд рождалась мысль и крепла,
- Но дух устал от свеянного пепла, –
- В нас тлеет боль внежизненных обид!
7
- В нас тлеет боль внежизненных обид.
- Томит печаль, и глухо точит пламя,
- И всех скорбей развернутое знамя
- В ветрах тоски уныло шелестит.
- Но пусть огонь и жалит и язвит
- Певучий дух, задушенный телами, –
- Лаокоон, опутанный узлами
- Горючих змей, напрягся… и молчит.
- И никогда ни счастье этой боли,
- Ни гордость уз, ни радости неволи,
- Ни наш экстаз безвыходной тюрьмы
- Не отдадим за все забвенья Леты!
- Грааль скорбей несем по миру мы –
- Изгнанники, скитальцы и поэты!
8
- Изгнанники, скитальцы и поэты, –
- Кто жаждал быть, но стать ничем не смог…
- У птиц – гнездо, у зверя – темный лог,
- А посох – нам и нищенства заветы.
- Долг не свершен, не сдержаны обеты,
- Не пройден путь, и жребий нас обрёк
- Мечтам всех троп, сомненьям всех дорог…
- Расплескан мед и песни не допеты.
- О, в срывах воль найти, познать себя
- И, горький стыд смиренно возлюбя,
- Припасть к земле, искать в пустыне воду,
- К чужим шатрам идти просить свой хлеб,
- Подобным стать бродячему рапсоду –
- Тому, кто зряч, но светом дня ослеп.
9
- Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, –
- Смысл голосов, звук слов, событий звенья,
- И запах тел, и шорохи растенья, –
- Весь тайный строй сплетений, швов и скреп
- Раскрыт во тьме. Податель света – Феб
- Даёт слепцам глубинные прозренья.
- Скрыт в яслях Бог. Пещера заточенья
- Превращена в Рождественский Вертеп.
- Праматерь ночь, лелея в темном чреве
- Скупым Отцом ей возвращенный плод,
- Свои дары избраннику несет –
- Тому, кто в тьму был Солнцем ввергнут в гневе,
- Кто стал слепым игралищем судеб,
- Тому, кто жив и брошен в темный склеп.
10
- Тому, кто жив и брошен в темный склеп,
- Видны края расписанной гробницы:
- И Солнца чёлн, богов подземных лица,
- И строй земли: в полях маис и хлеб,
- Быки идут, жнет серп, бьет колос цеп,
- В реке плоты, спит зверь, вьют гнезда птицы,-
- Так видит он из складок плащаницы
- И смену дней, и ход людских судеб.
- Без радости, без слез, без сожаленья
- Следить людей напрасные волненья,
- Без тёмных дум, без мысли «почему?»,
- Вне бытия, вне воли, вне желанья,
- Вкусив покой, неведомый тому,
- Кому земля – священный край изгнанья.
11
- Кому земля – священный край изгнанья,
- Того простор полей не веселит,
- Но каждый шаг, но каждый миг таит
- Иных миров в себе напоминанья.
- В душе встают неясные мерцанья,
- Как будто он на камнях древних плит
- Хотел прочесть священный алфавит
- И позабыл понятий начертанья.
- И бродит он в пыли земных дорог –
- Отступник жрец, себя забывший бог,
- Следя в вещах знакомые узоры.
- Он тот, кому погибель не дана,
- Кто, встретив смерть, в смущеньи клонит взоры,
- Кто видит сны и помнит имена.
12
- Кто видит сны и помнит имена,
- Кто слышит трав прерывистые речи,
- Кому ясны идущих дней предтечи,
- Кому поет влюбленная волна;
- Тот, чья душа землей убелена,
- Кто бремя дум, как плащ, приял на плечи,
- Кто возжигал мистические свечи,
- Кого влекла Изиды пелена,
- Кто не пошел искать земной услады
- Ни в плясках жриц, ни в оргиях менад,
- Кто в чашу нег не выжал виноград,
- Кто, как Орфей, нарушив все преграды,
- Всё ж не извел родную тень со дна, –
- Тому в любви не радость встреч дана.
13
- Тому в любви не радость встреч дана,
- Кто в страсти ждал не сладкого забвенья,
- Кто в ласках тел не ведал утоленья,
- Кто не испил смертельного вина.
- Страшится он принять на рамена
- Ярмо надежд и тяжкий груз свершенья,
- Не хочет уз и рвет живые звенья,
- Которыми связует нас Луна.
- Своей тоски – навеки одинокой,
- Как зыбь морей пустынной и широкой, –
- Он не отдаст. Кто оцет жаждал – тот
- И в самый миг последнего страданья
- Не мирный путь блаженства изберет,
- А темные восторги расставанья.
14
- А темные восторги расставанья,
- А пепел грез и боль свиданий – нам.
- Нам не ступать по синим лунным льнам,
- Нам не хранить стыдливого молчанья.
- Мы шепчем всем ненужные признанья,
- От милых рук бежим к обманным снам,
- Не видим лиц и верим именам,
- Томясь в путях напрасного скитанья.
- Со всех сторон из мглы глядят на нас
- Зрачки чужих, всегда враждебных глаз,
- Ни светом звезд, ни солнцем не согреты,
- Стремя свой путь в пространствах вечной тьмы,
- В себе несем свое изгнанье мы –
- В мирах любви неверные кометы!
Венок сонетов «Lunaria»
1
- Жемчужина небесной тишины
- На звёздном дне овьюженной лагуны!
- В твоих лучах все лица бледно-юны,
- В тебя цветы дурмана влюблены.
- Тоской любви в сердцах повторены
- Твоих лучей тоскующие струны,
- И прежних лет волнующие луны
- В узоры снов навеки вплетены.
- Твой влажный свет и матовые тени,
- Ложась на стены, на пол, на ступени,
- Дают камням оттенок бирюзы.
- Платана лист на них еще зубчатей
- И тоньше прядь изогнутой лозы…
- Лампада снов, владычица зачатий!
2
- Лампада снов! Владычица зачатий!
- Светильник душ! Таинница мечты!
- Узывная, изменчивая, – ты
- С невинности снимаешь воск печатей,
- Внушаешь дрожь лобзаний и объятий,
- Томишь тела сознаньем красоты
- И к юноше нисходишь с высоты
- Селеною, закутанной в гиматий.
- От ласк твоих стихает гнев морей,
- Богиня мглы и вечного молчанья,
- А в недрах недр рождаешь ты качанья.
- Вздуваешь воды, чрева матерей
- И пояса развязываешь платий,
- Кристалл любви! Алтарь ночных заклятий!
3
- Кристалл любви! Алтарь ночных заклятий!
- Хрустальный ключ певучих медных сфер!
- На твой ущерб выходят из пещер,
- Одна другой страшнее и косматей,
- Стада Эмпуз; поют псалмы проклятий
- И душат псов, цедя их кровь в кратэр;
- Глаза у кошек, пятна у пантер
- Становятся длиннее и крылатей.
- Плоть призраков есть ткань твоих лучей,
- Ты точишь камни, глину кирпичей;
- Козёл и конь, ягнята и собаки
- Ночных мастей тебе посвящены;
- Бродя в вине, ты дремлешь в черном маке,
- Царица вод! Любовница волны!
4
- Царица вод! Любовница волны!
- Изгнанница в опаловой короне,
- Цветок цветов! Небесный образ Иони!
- Твоим рожденьем женщины больны…
- Но не любить тебя мы не вольны:
- Стада медуз томятся в мутном лоне,
- И океана пенистые кони
- Бегут к земле и лижут валуны.
- И глубиной таинственных извивов
- Движения приливов и отливов
- Внутри меня тобой повторены.
- К тебе растут кораллы темной боли,
- И тянут стебли водоросли воли
- С какой тоской из влажной глубины!
5
- С какой тоской из влажной глубины
- Всё смертное, усталое, больное,
- Ползучее, сочащееся в гное,
- Пахучее, как соки белены,
- Как опиум волнующее сны,
- Всё женское, текучее, земное,
- Всё темное, всё злое, всё страстное,
- Чему тела людей обречены, –
- Слепая боль поднятой плугом нови,
- Удушливые испаренья крови,
- Весь Океан, плененный в руслах жил,
- Весь мутный ил задушенных приятий,
- Всё, чем я жил, но что я не изжил, –
- К тебе растут сквозь мглу моих распятий.
6
- К тебе растут сквозь мглу моих распятий –
- Цветы глубин. Ты затеплила страсть
- В божнице тел. Дух отдала во власть
- Безумью плоти. Круг сестер и братий
- Разъяла в станы двух враждебных ратей.
- Даров твоих приемлет каждый часть…
- О, дай и мне к ногам твоим припасть!
- Чем дух сильней, тем глубже боль и сжатей…
- Вот из-за скал кривится лунный рог,
- Спускаясь вниз, алея, багровея…
- Двурогая! Трехликая! Афея!
- С кладбищ земли, с распутий трех дорог
- Дым черных жертв восходит на закате –
- К Диане бледной, к яростной Гекате!
7
- К Диане бледной, к яростной Гекате
- Я простираю руки и мольбы:
- Я так устал от гнева и борьбы –
- Яви свой лик на мертвенном агате!
- И ты идешь, багровая, в раскате
- Подземных гроз, ступая на гробы,
- Треглавая, держа ключи судьбы,
- Два факела, кинжалы и печати.
- Из глаз твоих лучатся смерть и мрак,
- На перекрестках слышен вой собак,
- И на могильниках дымят лампады.
- И пробуждаются в озерах глубины,
- Точа в ночи пурпуровые яды,
- Змеиные, непрожитые сны.
8
- Змеиные, непрожитые сны
- Волнуют нас тоской глухой тревоги.
- Словами змия: «Станете как боги»
- Сердца людей извечно прожжены.
- Тавром греха мы были клеймены
- Крылатым стражем, бдящим на пороге.
- И нам, с тех пор бродящим без дороги,
- Сопутствует клейменый лик Луны.
- Века веков над нами тяготело
- Всетемное и всестрастное тело
- Планеты, сорванной с алмазного венца.
- Но тусклый свет глубоких язв и ссадин
- Со дна небес глядящего лица
- И сладостен, и жутко безотраден.
9
- И сладостен, и жутко безотраден
- Безумный сон зияющих долин.
- Я был на дне базальтовых теснин.
- В провал небес (о, как он емко-жаден!)
- Срывался ливень звездных виноградин.
- И солнца диск, вступая в свой притин,
- Был над столпами пламенных вершин,
- Крылатый и расплесканный, – громаден.
- Ни сумрака, ни воздуха, ни вод –
- Лишь острый блеск агатов, сланцев, шпатов.
- Ни шлейфы зорь, ни веера закатов
- Не озаряют черный небосвод.
- Неистово порывист и нескладен
- Алмазный бред морщин твоих и впадин.
10
- Алмазный бред морщин твоих и впадин
- Томит и жжет. Неумолимо жёстк
- Рисунок скал, гранитов черный лоск,
- Строенье арок, стрелок, перекладин.
- Вязь рудных жил, как ленты пестрых гадин,
- Наплывы лавы бурые, как воск,
- И даль равнин, как обнаженный мозг…
- Трехдневный полдень твой кошмарно-страден.
- Пузырчатые оспины огня
- Сверкают в нимбах яростного дня,
- А по ночам над кратером Гиппарха
- Бдит «Volva» – неподвижная звезда,
- И отливает пепельно-неярко
- Твоих морей блестящая слюда.
11
- Твоих морей блестящая слюда
- Хранит следы борьбы и исступлений,
- Застывших мук, безумных дерзновений,
- Двойные знаки пламени и льда.
- Здесь рухнул смерч вселенских «Нет» и «Да».
- От Моря Бурь до Озера Видений,
- От призрачных полярных взгромождений,
- Не видевших заката никогда,
- До темных цирков Mare Tenebrarum
- Ты вся порыв, застывший в гневе яром,
- И страшный шрам на кряже Лунных Альп
- Оставила небесная секира.
- Ты, как Земля, с которой сорван скальп, –
- Лик Ужаса в бесстрастности эфира!
12
- Лик Ужаса в бесстрастности эфира –
- Вне времени, вне памяти, вне мер!
- Ты кладбище немыслимых Химер,
- Ты иверень разбитого Потира.
- Зане из сонма ангельского клира
- На Бога Сил, Творца бездушных сфер,
- Восстал в веках Денница-Люцифер,
- Мятежный князь Зенита и Надира.
- Ваяя смертью глыбы бытия
- Из статуй плоти огненное «Я»
- В нас высек он: дал крылья мысли пленной,
- Но в бездну бездн был свергнут навсегда.
- И, остов недосозданной вселенной, –
- Ты вопль тоски, застывший глыбой льда.
13
- Ты вопль тоски, застывший глыбой льда,
- Сплетенье гнева, гордости и боли,
- Бескрылый взмах одной безмерной воли,
- Средь судорог погасшая звезда.
- На духов воль надетая узда,
- Грааль борьбы с причастьем горькой соли,
- Голгофой душ пребудешь ты, доколе
- Земных времен не канет череда.
- Умершие, познайте слово Ада:
- «Я разлагаю с медленностью яда
- Тела в земле, а души на луне».
- Вокруг Земли чертя круги вампира
- И токи жизни пьющая во сне, –
- Ты жадный труп отвергнутого мира!
14
- Ты жадный труп отвергнутого мира,
- К живой Земле прикованный судьбой.
- Мы, связанные бунтом и борьбой,
- С вином приемлем соль и с пеплом миро.
- Но в день Суда единая порфира
- Оденет нас – владычицу с рабой.
- И пленных солнц рассыпется прибой
- У бледных ног Иешуа Бен-Пандира.
- Но тесно нам венчальное кольцо:
- К нам обратив тоски своей лицо,
- Ты смотришь прочь неведомым нам ликом,
- И пред тобой, – пред Тайной глубины,
- Склоняюсь я в молчании великом,
- Жемчужина небесной тишины!
15
- Жемчужина небесной тишины,
- Лампада снов, владычица зачатий,
- Кристалл любви, алтарь ночных заклятий,
- Царица вод, любовница волны.
- С какой тоской из влажной глубины
- К тебе растут сквозь мглу моих распятий,
- К Диане бледной, к яростной Гекате
- Змеиные, непрожитые сны.
- И сладостен, и жутко безотраден
- Алмазный бред морщин твоих и впадин,
- Твоих морей блестящая слюда –
- Лик ужаса в бесстрастности эфира,
- Ты вопль тоски, застывший глыбой льда,
- Ты жадный труп отвергнутого мира.
Подмастерье
Посвящается Ю. Ф. Львовой
- Мне было сказано:
- Не светлым лирником, что нижет
- Широкие и щедрые слова
- На вихри струнные, качающие душу, –
- Ты будешь подмастерьем
- Словесного, святого ремесла,
- Ты будешь кузнецом
- Упорных слов,
- Вкус, запах, цвет и меру выплавляя
- Их скрытой сущности, -
- Ты будешь
- Ковалом и горнилом,
- Чеканщиком монет, гранильщиком камней.
- Стих создают – безвыходность, необходимость, сжатость,
- Сосредоточенность…
- Нет грани меж прозой и стихом:
- Речение,
- В котором все слова притерты,
- Пригнаны и сплавлены,
- Умом и терпугом, паялом и терпеньем,
- Становится лирической строфой, -
- Будь то страница
- Тацита
- Иль медный текст закона.
- Для ремесла и духа – единый путь:
- Ограничение себя.
- Чтоб научиться чувствовать,
- Ты должен отказаться
- От радости переживаний жизни,
- От чувства отрешиться ради
- Сосредоточья воли;
- И от воли – для отрешенности сознанья.
- Когда же и сознанье внутри себя ты сможешь погасить –
- Тогда
- Из глубины молчания родится
- Слово,
- В себе несущее
- Всю полноту сознанья, воли, чувства,
- Все трепеты и все сиянья жизни.
- Но знай, что каждым новым
- Осуществлением
- Ты умерщвляешь часть своей возможной жизни:
- Искусство живо –
- Живою кровью принесенных жертв.
- Ты будешь Странником
- По вещим перепутьям Срединной Азии
- И западных морей,
- Чтоб разум свой ожечь в плавильных горнах знанья,
- Чтоб испытать сыновность и сиротство
- И немоту отверженной земли.
- Душа твоя пройдет сквозь пытку и крещенье
- Страстною влагою,
- Сквозь зыбкие обманы
- Небесных обликов в зерцалах земных вод.
- Твое сознанье будет
- Потеряно в лесу противочувств,
- Средь черных пламеней, среди пожарищ мира.
- Твой дух дерзающий познает притяженья
- Созвездий правящих и волящих планет…
- Так, высвобождаясь
- От власти малого, беспамятного «я»,
- Увидишь ты, что все явленья –
- Знаки,
- По которым ты вспоминаешь самого себя,
- И волокно за волокном сбираешь
- Ткань духа своего, разодранного миром.
- Когда же ты поймешь,
- Что ты не сын земле,
- Но путник по вселенным,
- Что солнца и созвездья возникали
- И гибли внутри тебя,
- Что всюду – и в тварях, и в вещах – томится
- Божественное Слово,
- Их к бытию призвавшее,
- Что ты освободитель божественных имен,
- Пришедший изназвать
- Всех духов – узников, увязших в веществе,
- Когда поймешь, что Человек рожден,
- Чтоб выплавить из мира
- Необходимости и Разума –
- Вселенную Свободы и Любви, –
- Тогда лишь
- Ты станешь Мастером.
Поэту
1
- Горн свой раздуй на горе, в пустынном месте над морем
- Человеческих множеств, чтоб голос стихии широко
- Душу крылил и качал, междометья людей заглушая.
2
- Остерегайся друзей, ученичества шума и славы.
- Ученики развинтят и вывихнут мысли и строфы.
- Только противник в борьбе может быть истинным другом.
3
- Слава тебя прикует к глыбам твоих же творений.
- Солнце мертвых – живым – она намогильный камень.
4
- Будь один против всех: молчаливый, тихий и твердый.
- Воля утеса ломает развернутый натиск прибоя.
- Власть затаенной мечты покрывает смятение множеств.
5
- Если тебя невзначай современники встретят успехом –
- Знай, что из них никто твоей не осмыслил правды.
- Правду оплатят тебе клеветой, ругательством, камнем.
6
- В дни, когда Справедливость ослепшая меч обнажает,
- В дни, когда спазмы Любви выворачивают народы,
- В дни, когда пулемет вещает о сущности братства, –
7
- Верь в человека. Толпы не уважай и не бойся.
- В каждом разбойнике чти распятого в безднах Бога.
Доблесть поэта
- Править поэму, как текст заокеанской депеши:
- Сухость, ясность, нажим – начеку каждое слово.
- Букву за буквой врубать на твердом и тесном камне:
- Чем скупее слова, тем напряженней их сила.
- Мысли заряд волевой равен замолчанным строфам.
- Вытравить из словаря слова «Красота», «Вдохновенье» –
- Подлый жаргон рифмачей… Поэту – понятья:
- Правда, конструкция, план, равносильность, сжатость и точность.
- В трезвом, тугом ремесле – вдохновенье и честь поэта:
- В глухонемом веществе заострять запредельную зоркость.
2
- Творческий ритм от весла, гребущего против теченья,
- В смутах усобиц и войн постигать целокупность.
- Быть не частью, а всем; не с одной стороны, а с обеих.
- Зритель захвачен игрой – ты не актер и не зритель,
- Ты соучастник судьбы, раскрывающий замысел драмы.
- В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:
- Помнить, что знамена, партии и программы
- То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.
- Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:
- Совесть народа – поэт. В государстве нет места поэту.
Дом поэта
- Дверь отперта. Переступи порог.
- Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
- В прохладных кельях, беленных известкой,
- Вздыхает ветр, живет глухой раскат
- Волны, взмывающей на берег плоский,
- Полынный дух и жесткий треск цикад.
- А за окном расплавленное море
- Горит парчой в лазоревом просторе.
- Окрестные холмы вызорены
- Колючим солнцем. Серебро полыни
- На шиферных окалинах пустыни
- Торчит вихром косматой седины.
- Земля могил, молитв и медитаций -
- Она у дома вырастила мне
- Скупой посев айлантов и акаций
- В ограде тамарисков. В глубине
- За их листвой, разодранной ветрами,
- Скалистых гор зубчатый окоем
- Замкнул залив Алкеевым стихом,
- Асимметрично-строгими строфами.
- Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан,
- И побережьям этих скудных стран
- Великий пафос лирики завещан
- С первоначальных дней, когда вулкан
- Метал огонь из недр глубинных трещин
- И дымный факел в небе потрясал.
- Вон там – за профилем прибрежных скал,
- Запечатлевшим некое подобье
- (Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье),
- Как рухнувший готический собор,
- Торчащий непокорными зубцами,
- Как сказочный базальтовый костер,
- Широко вздувший каменное пламя,
- Из сизой мглы, над морем вдалеке
- Встает стена… Но сказ о Карадаге
- Не выцветать ни кистью на бумаге,
- Не высловить на скудном языке.
- Я много видел. Дивам мирозданья
- Картинами и словом отдал дань…
- Но грудь узка для этого дыханья,
- Для этих слов тесна моя гортань.
- Заклепаны клокочущие пасти.
- В остывших недрах мрак и тишина.
- Но спазмами и судорогой страсти
- Здесь вся земля от века сведена.
- И та же страсть и тот же мрачный гений
- В борьбе племен и в смене поколений.
- Доселе грезят берега мои
- Смолёные ахейские ладьи,
- И мертвых кличет голос Одиссея,
- И киммерийская глухая мгла
- На всех путях и долах залегла,
- Провалами беспамятства чернея.
- Наносы рек на сажень глубины
- Насыщены камнями, черепками,
- Могильниками, пеплом, костяками.
- В одно русло дождями сметены
- И грубые обжиги неолита,
- И скорлупа милетских тонких ваз,
- И позвонки каких-то пришлых рас,
- Чей облик стерт, а имя позабыто.
- Сарматский меч и скифская стрела,
- Ольвийский герб, слезница из стекла,
- Татарский глёт зеленовато-бусый
- Соседствуют с венецианской бусой.
- А в кладке стен кордонного поста
- Среди булыжников оцепенели
- Узорная арабская плита
- И угол византийской капители.
- Каких последов в этой почве нет
- Для археолога и нумизмата –
- От римских блях и эллинских монет
- До пуговицы русского солдата.
- Здесь, в этих складках моря и земли,
- Людских культур не просыхала плесень -
- Простор столетий был для жизни тесен,
- Покамест мы – Россия – не пришли.
- За полтораста лет – с Екатерины -
- Мы вытоптали мусульманский рай,
- Свели леса, размыкали руины,
- Расхитили и разорили край.
- Осиротелые зияют сакли;
- По скатам выкорчеваны сады.
- Народ ушел. Источники иссякли.
- Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
- Но скорбный лик оцепенелой маски
- Идет к холмам Гомеровой страны,
- И патетически обнажены
- Ее хребты и мускулы и связки.
- Но тени тех, кого здесь звал Улисс,
- Опять вином и кровью напились
- В недавние трагические годы.
- Усобица и голод и война,
- Крестя мечом и пламенем народы,
- Весь древний Ужас подняли со дна.
- В те дни мой дом – слепой и запустелый –
- Хранил права убежища, как храм,
- И растворялся только беглецам,
- Скрывавшимся от петли и расстрела.
- И красный вождь, и белый офицер –
- Фанатики непримиримых вер -
- Искали здесь под кровлею поэта
- Убежища, защиты и совета.
- Я ж делал всё, чтоб братьям помешать
- Себя – губить, друг друга – истреблять,
- И сам читал – в одном столбце с другими
- В кровавых списках собственное имя.
- Но в эти дни доносов и тревог
- Счастливый жребий дом мой не оставил:
- Ни власть не отняла, ни враг не сжег,
- Не предал друг, грабитель не ограбил.
- Утихла буря. Догорел пожар.
- Я принял жизнь и этот дом как дар
- Нечаянный – мне вверенный судьбою,
- Как знак, что я усыновлен землею.
- Всей грудью к морю, прямо на восток,
- Обращена, как церковь, мастерская,
- И снова человеческий поток
- Сквозь дверь ее течет, не иссякая.
- Войди, мой гость: стряхни житейский прах
- И плесень дум у моего порога…
- Со дна веков тебя приветит строго
- Огромный лик царицы Таиах.
- Мой кров – убог. И времена – суровы.
- Но полки книг возносятся стеной.
- Тут по ночам беседуют со мной
- Историки, поэты, богословы.
- И здесь – их голос, властный, как орган,
- Глухую речь и самый тихий шепот
- Не заглушит ни зимний ураган,
- Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.
- Мои ж уста давно замкнуты… Пусть!
- Почетней быть твердимым наизусть
- И списываться тайно и украдкой,
- При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
- И ты, и я – мы все имели честь
- «Мир посетить в минуты роковые»
- И стать грустней и зорче, чем мы есть.
- Я не изгой, а пасынок России.
- Я в эти дни ее немой укор.
- И сам избрал пустынный сей затвор
- Землею добровольного изгнанья,
- Чтоб в годы лжи, паденья и разрух
- В уединеньи выплавить свой дух
- И выстрадать великое познанье.
- Пойми простой урок моей земли:
- Как Греция и Генуя прошли,
- Так минет всё – Европа и Россия.
- Гражданских смут горючая стихия
- Развеется… Расставит новый век
- В житейских заводях иные мрежи…
- Ветшают дни, проходит человек.
- Но небо и земля – извечно те же.
- Поэтому живи текущим днём.
- Благослови свой синий окоём.
- Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
- И памятью насыщен, как земля.
- Люби далекий парус корабля
- И песню волн, шумящих на просторе.
- Весь трепет жизни всех веков и рас
- Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.
Сонеты о Коктебеле
1
Утро
- Чуть свет, Андрей приносит из деревни
- Для кофе хлеб. Затем выходит Пра
- И варит молоко, ярясь с утра
- И с солнцем становясь к полудню гневней.
- Все спят еще, а Макс в одежде древней
- Стучится в двери и кричит: «Пора!»,
- Рассказывает сон сестре сестра,
- И тухнет самовар, урча напевней.
- Марина спит и видит вздор во сне.
- A «Dame de pique» – уж на посту в окне.
- Меж тем как наверху – мудрец чердачный,
- Друг Тобика, предчувствием объят, –
- Встревоженный, решительный и мрачный,
- Исследует открытый в хлебе яд.
2
Обед
- Горчица, хлеб, солдатская похлебка,
- Баран под соусом, битки, салат,
- И после чай. «Ах, если б шоколад!» –
- С куском во рту вздыхает Лиля робко.
- Кидают кость; грызет Гайтана Тобка;
- Мяучит кот; толкает брата брат…
- И Миша с чердака – из рая в ад –
- Заглянет в дверь и выскочит, как пробка.
- – Опять уплыл недоенным дельфин?
- – Сережа! Ты не принял свой фетин…
- Сереже лень. Он отвечает: «Поздно».
- Идет убогих сладостей дележ.
- Все жадно ждут, лишь Максу невтерпеж.
- И медлит Пра, на сына глядя грозно.
3
Пластика
- Пра, Лиля, Макс, Сергей и близнецы
- Берут урок пластического танца.
- На них глядят два хмурых оборванца,
- Андрей, Гаврила, Марья и жильцы.
- Песок и пыль летят во все концы,
- Зарделась Вера пламенем румянца,
- И бивол-Макс, принявший вид испанца,
- Стяжал в толпе за грацию венцы.
- Сергей – скептичен, Пра – сурова, Лиля,
- Природной скромности не пересиля,
- «Ведь я мила?» – допрашивает всех.
- И, утомясь показывать примеры,
- Теряет Вера шпильки. Общий смех.
- Следокопыт же крадет книжку Веры.
4
Француз
- Француз – Жульё, но всё ж попал впросак.
- Чтоб отучить влюбленного француза,
- Решилась Лиля на позор союза:
- Макс – Лилин муж: поэт, танцор и маг.
- Ах! сердца русской не понять никак:
- Ведь русский муж – тяжелая обуза.
- Не снес Жульё надежд разбитых груза:
- «J’irai perir tout seul a Kavardak!»
- Все в честь Жулья городят вздор на вздоре.
- Макс с Верою в одеждах лезут в море.
- Жульё молчит и мрачно крутит ус.
- А ночью Лиля будит Веру: «Вера,
- Ведь раз я замужем, он, как француз,
- Еще останется? Для адюльтера?»
5
Пра
- Я Пра из Прей. Вся жизнь моя есть пря.
- Я, неусыпная, слежу за домом.
- Оглушена немолкнущим содомом,
- Кормлю стада голодного зверья.
- Мечась весь день, и жаря, и варя,
- Варюсь сама в котле, давно знакомом.
- Я Марье раскроила череп ломом
- И выгнала жильцов, живущих зря.
- Варить борщи и ставить самовары –
- Мне, тридцать лет носящей шаровары, -
- И клясть кухарок? – Нет! Благодарю!
- Когда же все пред Прою распростерты,
- Откинув гриву, гордо я курю,
- Стряхая пепл на рыжие ботфорты.
6
Миша
- Я с чердака за домом наблюдаю:
- Кто вышел, кто пришел, кто встал поздней.
- И, с беспокойством думая о ней,
- Я черных глаз, бледнея, избегаю.
- Мы не встречаемся. И выйти к чаю
- Не смею я. И, что всего странней,
- Что радости прожитых рядом дней
- Я черным знаком в сердце отмечаю.
- Волнует чувства розовый капот,
- Волнует думы сладко-лживый рот.
- Не счесть ее давно-отцветших весен.
- На мне полынь, как горький талисман.
- Но мне в любви нескромный взгляд несносен,
- И я от всех скрываю свой роман.
7
Тобик
- Я фокстерьер по роду, но батар.
- Я думаю, во мне есть кровь гасконца.
- Я куплен был всего за полчервонца,
- Но кто оценит мой собачий жар?
- Всю прелесть битв, всю ярость наших свар,
- Во тьме ночей, при ярком свете солнца,
- Видал лишь он – глядящий из оконца
- Мой царь, мой бог – колдун чердачных чар.
- Я с ним живу еще не больше году.
- Я для него кидаюсь смело в воду.
- Он худ, он рыж, он властен, он умен.
- Его глаза горят во тьме, как радий.
- Я горд, когда испытывает он
- На мне эффект своих противоядий.
8
Гайдан
- Я их узнал, гуляя вместе с ними.
- Их было много. Я же шел с одной.
- Она одна спала в пыли со мной.
- И я не знал, какое дать ей имя.
- Она похожа лохмами своими
- На наших женщин. Ночью под луной
- Я выл о ней, кусал матрац сенной
- И чуял след ее в табачном дыме.
- Я не для всех вполне желанный гость.
- Один из псов, когда кидают кость,
- Залог любви за пищу принимает.
- Мне желтый зрак во мраке Богом дан.
- Я тот, кто бдит, я тот, кто в полночь лает,
- Я черный бес, а имя мне – Гайдан.
«Седовласы, желтороты…»
- Седовласы, желтороты –
- Всё равно мы обормоты!
- Босоножки, босяки,
- Кошкодавы, рифмоплеты,
- Живописцы, живоглоты,
- Нам хитоны и венки!
- От утра до поздней ночи
- Мы орем, что хватит мочи,
- В честь правительницы Пра:
- Эвое! Гип-гип! Ура!
- Стройтесь в роты, обормоты,
- Без труда и без заботы
- Утра, дни и вечера
- Мы кишим… С утра до ночи
- И от ночи до утра
- Нами мудро правит Пра!
- Эвое! Гип-гип! Ура!
- Обормотник свой упорный
- Пра с утра тропой дозорной
- Оглядит и обойдет.
- Ею от других отличен
- И почтен и возвеличен
- Будет добрый обормот.
- Обормот же непокорный
- Полетит от гнева Пра
- В тарары-тарара…
- Эвое! Гип-гип! Ура!
«Шоссе… Индийский телеграф…»
- Шоссе… Индийский телеграф,
- Екатерининские версты.
- И разноцветны, разношерстны
- Поля осенних бурых трав.
- Взметая едкой пыли виры,
- Летит тяжелый автобус,
- Как нити порванные бус,
- Внутри трясутся пассажиры.
- От сочетаний разных тряск
- Спиною бьешься о пол, о кол,
- И осей визг, железа лязг,
- И треск, и блеск, и дребезг стекол.
- Летим в огне и в облаках,
- Влекомы силой сатанинской,
- И на опаснейших местах
- Смятенных обормотов страх
- Смиряет добрый Рогозинский.
«Из Крокодилы с Дейшей…»
- Из Крокодилы с Дейшей
- Не Дейша ль будет злейшей?
- Чуть что не так –
- Проглотит натощак…
- У Дейши руки цепки,
- У Дейши зубы крепки.
- Не взять нам в толк:
- Ты бабушка иль волк?
«Вышел незваным, пришел я непрошеным…»
- Вышел незваным, пришел я непрошеным,
- Мир прохожу я в бреду и во сне…
- О, как приятно быть Максом Волошиным –
- Мне!
Четверть века
(1900–1925)
- Каждый рождается дважды. Не я ли
- В духе родился на стыке веков?
- В год изначальный двадцатого века
- Начал головокружительный бег.
- Мудрой судьбою закинутый в сердце
- Азии, я ли не испытал
- В двадцать три года всю гордость изгнанья
- В рыжих песках туркестанских пустынь?
- В жизни на этой магической грани
- Каждый впервые себя сознает
- Завоевателем древних империй
- И заклинателем будущих царств.
- Я проходил по тропам Тамерлана,
- Отягощенный добычей веков,
- В жизнь унося миллионы сокровищ
- В памяти, в сердце, в ушах и в глазах.
- Солнце гудело, как шмель, упоенный
- Зноем, цветами и запахом трав,
- Век разметал в триумфальных закатах
- Рдяные перья и веера.
- Ширились оплеча жадные крылья,
- И от пространств пламенели ступни,
- Были подтянуты чресла и вздуты
- Ветром апостольские паруса.
- Дух мой отчаливал в желтых закатах
- На засмоленной рыбацкой ладье -
- С Павлом – от пристаней Антиохии,
- Из Монсеррата – с Лойолою в Рим.
- Алые птицы летели на запад,
- Шли караваны, клубились пески,
- Звали на завоевание мира
- Синие дали и свертки путей.
- Взглядом я мерил с престолов Памира
- Поприща западной тесной земли,
- Где в утаенных портах Средиземья,
- На берегах атлантических рек
- Нагромоздили арийские расы
- Улья осиных разбойничьих гнезд.
- Как я любил этот кактус Европы
- На окоёме Азийских пустынь –
- Эту кипящую магму народов
- Под неустойчивой скорлупой,
- Это огромное содроганье
- Жизни, заклепанной в недрах машин,
- Эти высокие камни соборов,
- Этот горячечный бред мостовых,
- Варварский мир современной культуры,
- Сосредоточившей жадность и ум,
- Волю и веру в безвыходном беге
- И в напряженности скоростей.
- Я со ступеней тысячелетий,
- С этих высот незапамятных царств,
- Видел воочью всю юность Европы,
- Всю непочатую ярь ее сил.
- Здесь, у истоков Арийского мира,
- Я, преклонившись, ощупал рукой
- Наши утробные корни и связи,
- Вросшие в самые недра земли.
- Я ощутил на ладони биенье
- И напряженье артерий и вен -
- Неперекушенную пуповину
- Древней Праматери рас и богов.
- Я возвращался, чтоб взять и усвоить,
- Всё перечувствовать, всё пережить,
- Чтобы связать половодное устье
- С чистым истоком Азийских высот.
- С чем мне сравнить ликованье полета
- Из Самарканда на запад – в Париж?
- Взгляд Галилея на кольца Сатурна…
- Знамя Писарро над сонмами вод…
- Было… всё было… так полно, так много,
- Больше, чем сердце может вместить:
- И золотые ковчеги религий,
- И сумасшедшие тромбы идей…
- Хмель городов, динамит библиотек,
- Книг и музеев отстоенный яд.
- Радость ракеты рассыпаться в искры,
- Воля бетона застыть, как базальт.
- Всё упоение ритма и слова,
- Весь Апокалипсис туч и зарниц,
- Пламя горячки и трепет озноба
- От надвигающихся катастроф.
- Я был свидетелем сдвигов сознанья,
- Геологических оползней душ
- И лихорадочной перестройки
- Космоса в «двадцать вторых степенях».
- И над широкой излучиной Рейна
- Сполохов первых пожарищ войны
- На ступенях Иоаннова Зданья
- И на сферических куполах.
- Тот, кто не пережил годы затишья
- Перед началом великой войны,
- Тот никогда не узнает свободы
- Мудрых скитаний подревней земле.
- В годы, когда расточала Европа
- Золото внуков и кровь сыновей
- На роковых перепутьях Шампани,
- В польских болотах и в прусских песках,
- Верный латинскому духу и строю,
- Сводам Сорбонны и умным садам,
- Я ни германского дуба не предал,
- Кельтской омеле не изменил.
- Я прозревал не разрыв, а слиянье
- В этой звериной грызне государств,
- Смутную волю к последнему сплаву
- Отъединенных историей рас.
- Но посреди ратоборства народов
- Властно окликнут с Востока, я был
- Брошен в плавильные горны России
- И в сумасшествие Мартобря.
- Здесь, в тесноте, на дне преисподней,
- Я пережил испытанье огнем:
- Страшный черед всеросийских ордалий,
- Новым тавром заклеймивших наш дух.
- Видел позорное самоубийство
- Трона, династии, срам алтарей,
- Славу «Какангелия» от Маркса,
- Новой враждой разделившего мир.
- В шквалах убийств, в исступленьи усобиц
- Я охранял всеединство любви,
- Я заклинал твои судьбы, Россия,
- С углем на сердце, с кляпом во рту.
- Даже в подвалах двадцатого года,
- Даже средь смрада голодных жилищ
- Я бы не отдал всей жизни за веру
- Этих пронзительно зорких минут.
- Но… я утратил тебя, моя юность,
- На перепутьях и росстанях Понта,
- В зимних норд-остах, в тоске Сивашей…
- Из напряженного стержня столетья
- Ныне я кинут во внешнюю хлябь,
- Где только ветер, пустыня и море
- И под ногой содроганье земли…
- Свист урагана и топот галопа
- Эхом еще отдается в ушах,
- Стремя у стремени четверть пробега,
- Век – мой ровесник, мы вместе прошли.
«Весь жемчужный окоём…»
- Весь жемчужный окоём
- Облаков, воды и света
- Ясновиденьем поэта
- Я прочел в лице твоём.
- Всё земное – отраженье,
- Отсвет веры, блеск мечты…
- Лика милого черты –
- Всех миров преображенье.
Владимирская Богоматерь
- Не на троне – на Ее руке,
- Левой ручкой обнимая шею, -
- Взор во взор, щекой припав к щеке,
- Неотступно требует… Немею –
- Нет ни сил, ни слов на языке…
- А Она в тревоге и в печали
- Через зыбь грядущего глядит
- В мировые рдеющие дали,
- Где закат пожарами повит.
- И такое скорбное волненье
- В чистых девичьих чертах, что Лик
- В пламени молитвы каждый миг
- Как живой меняет выраженье.
- Кто разверз озёра этих глаз?
- Не святой Лука-иконописец,
- Как поведал древний летописец,
- Не Печерский темный богомаз:
- В раскаленных горнах Византии,
- В злые дни гонения икон
- Лик Ее из огненной стихии
- Был в земные краски воплощен.
- Но из всех высоких откровений,
- Явленных искусством, – он один
- Уцелел в костре самосожжений
- Посреди обломков и руин.
- От мозаик, золота, надгробий,
- От всего, чем тот кичился век, –