Читать онлайн Изгнание и царство бесплатно
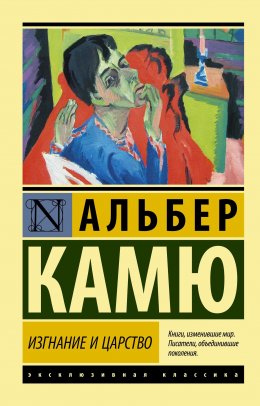
© Editions Gallimard, Paris, 1957
© Перевод. Е. Богатыренко, 2017
© Перевод. Д. Вальяно, 2018
© Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2021
© Перевод. И. Радченко, наследники, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Неверная жена
Окна в автобусе были закрыты, но внутри уже довольно долго кружила тощая муха. Она летала взад и вперед, как-то нелепо, словно выбившись из сил. Жаннин потеряла ее из виду, а потом увидела, как она села на неподвижную руку мужа. Было холодно. Каждый порыв ветра сопровождался скрипом песка по стеклу, и муха вздрагивала. В неверном свете зимнего утра автобус ехал медленно, с трудом, раскачиваясь, кузов гремел железом, оси грохотали. Жаннин посмотрела на мужа. Узкий лоб с низко растущими вихрами седеющих волос, толстый нос, кривоватый рот придавали Марселю вид капризного фавна. Она чувствовала, как он подскакивает и приваливается к ней на выбоинах шоссе. Потом мощное тело снова выпрямлялось, опиралось на расставленные ноги; застывшие, ничего не выражающие глаза смотрели в одну точку. Единственным, что оставалось в действии, были его руки – толстые, безволосые, казавшиеся еще короче из-за торчавших из-под манжет рукавов нижней фланелевой рубахи, закрывавших запястья. Эти руки с такой силой сжимали маленький матерчатый чемоданчик, примостившийся между коленями, что, казалось, не ощущали неуверенного движения мухи.
Внезапно ветер взвыл с новой силой, и песчаный туман, окружавший автобус, еще больше сгустился. Создавалось впечатление, будто невидимые руки швыряют песок на окна полными пригоршнями. Муха осторожно пошевелила крылышком, качнулась на ножках и взлетела. Автобус притормозил и почти остановился. Потом ветер словно бы успокоился, туман рассеялся, и машина снова набрала скорость. В пыльном пейзаже появились пятна света. В окне показались две или три чахлые и блеклые пальмы, как будто вырезанные из металла, и через мгновение исчезли.
– Ну и страна! – сказал Марсель.
Заполнившие автобус арабы делали вид, что спят, закутавшись в свои бурнусы. Кое-кто из них забрался на сиденье с ногами, и их качало больше остальных. В конце концов Жаннин почувствовала, что не может выносить их молчание и невозмутимость: ей казалось, что эта безмолвная компания сопровождает ее уже много дней. Между тем автобус отправился в путь с конечной станции у железной дороги на рассвете холодного утра, и уже два часа ехал по унылой каменистой пустыне, простиравшейся, по крайней мере вначале, ровной линией до красноватого горизонта. Однако потом поднялся ветер, и понемногу огромное пространство скрылось из глаз. С этого момента пассажиры уже ничего не видели; постепенно все замолчали и теперь ехали в тишине, напоминавшей бессонную ночь, изредка вытирая губы и глаза, воспалившиеся от проникавшего в автобус песка.
– Жаннин!
Окрик мужа заставил ее подскочить. Она в который раз подумала о том, как не подходит это смешное имя такой крупной женщине. Марсель хотел узнать, где находится сундучок с образцами. Она пошарила ногой под скамейкой и нащупала какой-то предмет, который приняла за сундучок. Вообще-то она не могла нагнуться, чтобы не начать задыхаться. А ведь в коллеже она была первой спортсменкой, дыхание ее никогда не подводило. Неужели это было так давно? Двадцать пять лет. Двадцать пять лет – это ничто, потому что ей казалось, будто только вчера она выбирала между свободой и браком, только вчера с тревогой думала о времени, когда она, может быть, состарится в одиночестве. Она не осталась одинокой, и студент-правовед, который хотел никогда с ней не расставаться, теперь находился рядом. Кончилось тем, что она приняла его, несмотря на маленький рост и на то что ей не нравились ни его манера смеяться – скупо и коротко, ни его черные глаза навыкате. Но ей нравился его кураж, типичный для французов, живших в этой стране. Кроме того, ей нравилось озадаченное выражение его лица, когда что-то или кто-то обманывал его ожидания. А больше всего ей нравилось быть любимой, к тому же он окружал ее заботой. Он так часто давал ей почувствовать, что она существует для него, что это существование стало реальностью. Нет, она не была одинокой…
Громкими гудками автобус расчищал себе путь среди невидимых препятствий. В салоне никто не шевелился. Вдруг Жаннин почувствовала на себе чей-то взгляд и повернулась в сторону скамейки, стоявшей напротив, через проход. Сидевший там человек не был арабом, и она удивилась, что не заметила его с самого начала. Он был одет во французскую военную форму; зимняя полотняная фуражка покрывала голову. Его загорелое лицо, вытянутое, с острым носом, напоминало морду шакала. Изучавшие ее светлые глаза смотрели угрюмо и пристально. Она вдруг покраснела и повернулась к мужу, все так же вглядывавшемуся вперед, в туман и ветер. Она закуталась в пальто. Но перед ее глазами по-прежнему стояло лицо французского солдата, длинного и тощего, такого тощего в тщательно пригнанной куртке, что он казался сделанным из какого-то сухого и хрупкого материала, из смеси песка и кости. Именно в этот момент она увидела худые руки и смуглые лица сидевших перед ней арабов и заметила, что, несмотря на широкие одеяния, им вполне хватало места на сиденьях, где они с мужем еле удерживались. Она потуже запахнула полы пальто. А ведь она не была такой уж толстой, скорее крупной и полной, в теле, и еще вполне желанной, – ей было приятно чувствовать на себе взгляды мужчин, – с немного детским выражением лица, ясными светлыми глазами, не очень-то соответствовавшими этому большому телу, сулившему тепло и уют.
Нет, все происходило не так, как она думала. Когда Марсель захотел, чтобы она поехала с ним в командировку, она стала возражать. Он думал об этой поездке уже давно, если точнее – с конца войны, с того момента, как дела пошли на лад. До войны им удавалось неплохо жить на доходы от маленького магазинчика тканей, который он унаследовал от родителей после того, как бросил учиться на юриста. Молодым людям, живущим на побережье, нетрудно стать счастливыми. Но он не очень любил напрягаться и вскоре перестал водить ее на пляж. Они выезжали из города на своей маленькой машинке только по воскресеньям. В остальное время он предпочитал находиться в своем магазине, среди разноцветных тканей, в тени арок квартала, сочетавшего в себе европейский и местный колорит. Они жили над магазинчиком, в трехкомнатной квартире, украшенной арабскими драпировками и мебелью Барбес. Детей они не завели. Много лет они так и жили, не открывая до конца ставни, в полумраке. Лето, пляжи, прогулки, даже небо были где-то далеко. Марсель, казалось, не интересовался ничем, кроме своей работы. Она решила, что разгадала его настоящую страсть – страсть к деньгам, и это ей не понравилось, хотя она и не очень понимала почему. В конце концов, она этим пользовалась. Он не был жадным; напротив, он проявлял щедрость, особенно по отношению к ней. «Если со мной что-то случится, – говорил он, – тебе будет где укрыться». И в самом деле, надо же укрываться от разных бед. Но где укрыться от остального, от того, что нельзя назвать бедой? Мысли об этом, не очень ясные, порой приходили ей в голову. А тем временем она помогала Марселю вести бухгалтерию и иногда подменяла его в магазине. Тяжелее всего приходилось летом, когда жара убивала даже сладкое чувство скуки.
А потом вдруг, внезапно, именно в разгар лета, началась война. Марселя мобилизовали, потом отпустили, поставки тканей прекратились, дела застопорились, раскаленные улицы опустели. Теперь, если бы что-то случилось, она уже не нашла бы, где укрыться. Именно поэтому, как только на рынке снова появились ткани, Марсель надумал объезжать деревни на плоскогорье и на юге страны, чтобы обойтись без посредников и вести дела напрямую с арабскими торговцами. Он захотел взять ее с собой. Она знала, что дороги в плохом состоянии, она задыхалась, она предпочла бы остаться и ждать его. Но он настаивал, и она согласилась: потребовалось бы слишком много сил, чтобы отказаться. И вот теперь они ехали, и, честно говоря, все получилось не так, как она себе представляла. Ее пугала жара, рои мух, грязные гостиницы, пропахшие анисом. Она не подумала о холоде, о пронизывающем ветре, о почти что полярных равнинах, заваленных валунами. Кроме того, она мечтала о пальмах и о теплом песке. А теперь она увидела, что пустыня – это нечто другое, это только камни, повсюду камни, и в небе, где висела хрустящая и холодная каменная пыль, и на земле, где среди камней изредка пробивалась сухая трава.
Автобус резко остановился. Водитель бросил в сторону несколько слов на языке, который она слышала всю жизнь, но никогда не понимала.
– В чем дело? – спросил Марсель.
Водитель ответил, на этот раз по-французски, что, судя по всему, песок забил карбюратор, и Марсель снова проклял эту страну. Водитель от души расхохотался и заверил, что ничего страшного не случилось, что он прочистит карбюратор, а потом они поедут дальше. Он открыл дверцу, в салон ворвался холодный ветер, и в лицо сразу вонзились тысячи песчинок. Все арабы уткнулись носами в бурнусы и съежились.
– Закрой дверь, – заорал Марсель.
Водитель со смехом вернулся к двери. Он не спеша вынул какие-то инструменты из бокового ящика, потом снова ушел вперед, очень маленький в тумане, а дверца так и осталась открытой. Марсель вздохнул.
– Можешь не сомневаться, он в жизни не видел мотора.
– Хватит! – сказала Жаннин.
Вдруг она подскочила. На обочине, совсем рядом с автобусом, неподвижно стояли люди, закутанные в бурнусы. Под капюшонами, за отворотом ткани, можно было увидеть только глаза. Эти люди, пришедшие неизвестно откуда, молча смотрели на путников.
– Пастухи, – сказал Марсель.
В салоне царила полная тишина. Все пассажиры опустили головы и, казалось, прислушивались к вою ветра, свободно носившегося по бесконечным равнинам. Внезапно Жаннин с удивлением отметила, что они путешествовали почти без багажа. На конечной железнодорожной станции водитель погрузил их собственный чемодан и несколько тюков на крышу. Внутри, в багажных сетках, лежали только сучковатые палки и плоские корзины. Судя по всему, все эти южане ехали налегке.
Водитель тем временем вернулся, он был все так же встревожен. Только его глаза смеялись над тканью, которой он тоже закрывал лицо. Он объявил, что автобус трогается. Он закрыл дверцу, ветер умолк, и стало лучше слышно, как песок бьется в стекло. Мотор закашлял, потом затих. Пришлось долго работать стартером, прежде чем он наконец закрутился, а водитель, нажимая на газ, заставил его взреветь. Автобус заикал и тронулся. Над толпой оборванных, по-прежнему неподвижных пастухов поднялась рука, потом она пропала сзади в тумане. Почти сразу же автобус начал подскакивать, дорога становилась все хуже. От этих толчков арабы безостановочно раскачивались. Тем не менее Жаннин чувствовала, что ее клонит в сон, и тут внезапно перед ней появилась маленькая желтая коробочка, наполненная слипшимися карамельками. Солдат-шакал улыбался ей. Поколебавшись, она взяла конфетку и поблагодарила. Шакал спрятал коробочку в карман и словно проглотил свою улыбку. Теперь он уставился на дорогу, прямо перед собой. Жаннин повернулась к Марселю и увидела только его мощный затылок. Он смотрел в окно на густевший туман, который поднимался над осыпавшимся придорожным валом.
Они ехали уже много часов подряд, усталость уже убила все проявления жизни в салоне, когда вдруг снаружи раздались крики. Автобус окружили дети в бурнусах, они бежали, прыгали, хлопали в ладоши, крутились на месте, словно волчки. Теперь автобус ехал по длинной улице, вдоль которой стояли низкие домики; они въехали в оазис. Ветер дул по-прежнему, но стены задерживали частицы песка, и они уже не заслоняли свет. Тем не менее небо оставалось пасмурным. Тормоза заскрипели, перекрывая крик, и автобус остановился перед глинобитной аркой у входа в гостиницу с грязными окнами. Жаннин вышла на улицу и почувствовала, что ее шатает. Она увидела возвышавшийся над домами тонкий желтый минарет. Слева от нее виднелись первые пальмы этого оазиса, и ей захотелось подойти к ним. Однако хотя время шло к полудню, было еще очень холодно, и от порыва ветра ее пробрала дрожь. Она повернулась к Марселю, а первым увидела идущего ей навстречу солдата.
Она ждала, что он улыбнется или поздоровается. Он прошел мимо, не взглянув на нее, и исчез. Что же касается Марселя, он был занят тем, что спускал с крыши автобуса тюк с тканями и черный сундук. Это было нелегко. Багажом занимался только водитель, который, стоя на крыше, то и дело останавливался и начинал разглагольствовать перед толпой в бурнусах, стоявшей перед автобусом. Оказавшись в окружении лиц, словно вырезанных из кости и кожи, оглушенная гортанными криками, Жаннин вдруг почувствовала усталость.
– Я зайду, – сказала она Марселю, который нетерпеливо окликал водителя.
Она вошла в гостиницу. Навстречу ей вышел хозяин, тощий и молчаливый француз. Он провел ее на второй этаж, на галерею, выходившую на улицу, и в номер, где стояли только железная кровать и стул, выкрашенный белой эмалевой краской, а за тростниковой перегородкой находился туалет с раковиной, покрытой слоем тонкой песчаной пыли. Когда хозяин закрыл дверь, Жаннин ощутила холод, исходивший от голых стен, побеленных известкой. Она не знала ни куда поставить сумку, ни куда приткнуться самой. Надо было либо лечь, либо остаться стоять, и в любом случае продолжать дрожать от холода. Она осталась стоять, не выпуская сумку из рук, уставившись на своего рода бойницу возле потолка, через которую было видно небо. Она ждала, сама не зная чего. Она чувствовала только свое одиночество и пронизывающий холод, а еще все нараставшую тяжесть где-то возле сердца. На самом деле она пребывала словно во сне, она почти не слышала поднимавшегося с улицы шума и возгласов Марселя, но при этом, наоборот, прекрасно осознавала, что через бойницу доносится звук, похожий на журчание реки – его порождал ветер, шевеливший листья пальм, которые, как ей казалось, были теперь совсем близко. Потом ветер словно бы усилился, мягкий шепот воды превратился в завывание волн. Она представила, как за стеной покрывается барашками грозовое море из прямых и гибких пальм. Ничего не походило на то, что она ожидала, но невидимые волны освежали ее измученные глаза. Она стояла, грузная, с повисшими руками, слегка сгорбившись, вдоль отяжелевших ног поднимался холод. Ей снились прямые и гибкие пальмы и молодая девушка, которой она когда-то была.
* * *
Приведя себя в порядок, они спустились в столовую. Голые стены были разрисованы верблюдами и пальмами среди мешанины розового и фиолетового. Через сводчатые окна проникал скудный свет. Марсель расспросил хозяина гостиницы о местных торговцах. Их обслуживал старый араб в гимнастерке, к которой была приколота военная медаль. Марсель был занят своими мыслями и отрывал куски от хлеба. Он не позволил жене выпить воды.
– Она не кипяченая. Выпей вина.
Ей это не понравилось, от вина у нее тяжелела голова. Потом оказалось, что в меню есть свинина.
– Коран это запрещает. Но Корану неизвестно, что от хорошо прожаренной свинины болезней не бывает. Уж мы-то умеем готовить. А о чем ты думаешь?
Жаннин не думала ни о чем, ну, разве что о победе поваров над пророками. Но надо было торопиться. Завтра утром они уезжали еще дальше на юг: во второй половине дня им предстояло увидеться со всеми важными торговцами. Марсель поторопил старого араба с кофе. Тот согласно кивнул не улыбнувшись и вышел мелкими шажками.
– Утром потихоньку, вечером не торопясь, – со смехом сказал Марсель.
В конце концов кофе им принесли. Они буквально проглотили его и вышли на холодную пыльную улицу. Марсель подозвал молодого араба, чтобы тот помог донести чемодан, потом, из принципа, начал торговаться по поводу платы. Его убеждение, о котором он в очередной раз сообщил Жаннин, основывалось на неясной теории о том, что эти люди всегда запрашивают вдвое больше, чтобы получить вчетверо меньше. Жаннин шла за двумя нагруженными мужчинами и чувствовала себя неловко. Она надела шерстяной костюм под толстое пальто, ей хотелось бы занимать меньше места. От свинины, пусть даже хорошо прожаренной, и того небольшого количества вина, которое она выпила, ей тоже стало нехорошо.
Они шли вдоль небольшого городского садика, засаженного пыльными деревьями. Проходившие мимо арабы вроде бы и не замечали их, но сторонились, подбирая спереди складки своих бурнусов. Несмотря на то что они были одеты в лохмотья, она чувствовала в них какую-то гордость, не присущую арабам из ее города.
Жаннин шла за чемоданом, он прокладывал ей путь в толпе. Они прошли мимо ворот крепостной стены из темно-желтой глины, вышли на маленькую площадь, где росли все те же древние деревья, а в глубине, по самой широкой стороне, под арками, стояли магазины. Они остановились прямо на площади, перед маленьким сооружением в форме мины, покрытым синей штукатуркой. Внутри, в единственной комнате, куда свет проникал только через открытую дверь, за прилавком из блестящего дерева сидел старый араб с седыми усами. Он разливал чай, поднимая и опуская чайник над тремя меленькими разноцветными стаканчиками. Марсель и Жаннин еще не успели ничего толком разглядеть в полумраке магазинчика, но сразу почувствовали свежий аромат мятного чая. Только переступив порог, пройдя мимо громоздившихся за ним связок оловянных чайников, чашек и тарелок вперемешку со стойками почтовых открыток, Марсель оказался перед прилавком. Жаннин осталась у двери. Она немного подвинулась, чтобы не заслонять свет. В этот момент она разглядела в полумраке, за старым торговцем, еще двух арабов, сидевших на раздутых мешках, которыми была завалена вся лавка, и смотревших на них с улыбкой. Со стен свисали черные и красные ковры, вышитые платки, пол был заставлен мешками и маленькими ящичками с ароматными зернами. На прилавке, вокруг весов с сияющими медными чашками, возле старого метра со стершимися цифрами, выстроились сахарные головы; с одной из них уже сняли бумажные обертки, и от верхушки был отколот кусок. Когда старый торговец поставил чайник на прилавок и поздоровался, запах шерсти и пряностей, пронизавший лавку, заглушил аромат чая.
Марсель говорил быстро, низким голосом, который обычно появлялся у него, когда он говорил о делах. Потом он открыл чемодан, показал ткани и платки, отодвинул весы и метр, чтобы разложить свой товар перед стариком. Он нервничал, повышал голос, смеялся невпопад, он выглядел как женщина, которая хочет нравиться, но не уверена в себе. Теперь, раскрыв ладони, он изображал процесс купли-продажи. Старик покачал головой, передал поднос с чаем двум сидевшим сзади арабам и сказал буквально несколько слов, которые, судя по всему, разочаровали Марселя. Он собрал свои отрезы, запихнул их в чемодан, потом вытер лоб, как будто вспотел. Потом подозвал мальчика-носильщика, и они пошли к аркам. В первой лавке, где продавец поначалу тоже изображал полное безразличие, им повезло немного больше.
– Корчат из себя богов, – сказал Марсель, – но все-таки торгуют! Всем жить нелегко.
Жаннин молча шла за ним. Ветер почти стих. Небо местами расчистилось. Из бездонных голубых окошек, открывавшихся в толще облаков, лился холодный, сияющий свет. Теперь они ушли с площади. Они пробирались по узким улочкам, вдоль глинобитных стен, с которых свисали подгнившие декабрьские розы, а порой среди них попадались сухие червивые гранаты. В квартале пахло пылью и кофе, дымом от сгоревшей коры, камнями, овцами. Лавки, примостившиеся в толще стен, стояли далеко друг от друга; Жаннин чувствовала, как ноги наливаются усталостью. Но муж понемногу успокаивался, ему удавалось что-то продать (поездка не будет бесполезной), и он становился более покладистым; он называл Жаннин «малышкой».
– Конечно, – говорила Жаннин, – лучше договариваться с ними напрямую.
Они вернулись в центр города по другой улице. Вечерело, небо уже почти расчистилось. Они остановились на площади. Марсель потирал руки, он с нежностью смотрел на стоявший перед ними чемодан.
– Посмотри, – сказала Жаннин.
С другой стороны площади подходил высокий араб, худой, сильный, в светло-голубом бурнусе, в легких желтых сапогах, в перчатках; он шел, высоко подняв загорелое лицо с орлиным носом. Отличить его от французских офицеров отдела по делам коренного населения, которыми порой так любовалась Жаннин, можно было только по шарфу, завязанному в виде тюрбана. Он спокойно шел в их сторону, но, казалось, смотрел поверх их голов, медленно стягивая перчатку с руки.
– Ну что же, – сказал Марсель, пожимая плечами, – а этот считает себя генералом.
Да, здесь все они выглядели гордецами, но этот и в самом деле перебарщивал. Вокруг них на площади никого не было, а он шел прямо к чемодану, не видя его, не видя их самих. Когда расстояние между ними совсем сократилось и араб надвинулся на них, Марсель резким движением схватился за ручку и потянул чемодан назад. Человек прошел, словно ничего не заметив, и тем же шагом двинулся к крепостной стене. Жаннин посмотрела на мужа, тот выглядел растерянным.
– Теперь они думают, что им все можно, – сказал он.
Жаннин ничего не ответила. Тупая наглость этого араба была ей отвратительна, и она вдруг почувствовала себя несчастной. Ей хотелось уехать, она подумала о своей квартирке. От мысли, что придется возвращаться в гостиницу, в эту ледяную комнату, ей делалось не по себе. Она вдруг подумала, что хозяин посоветовал ей подняться на галерею форта, откуда можно было увидеть пустыню. Она сказала Марселю об этом и о том, что чемодан можно было бы оставить в гостинице. Но он устал, он хотел немного поспать перед ужином.
– Прошу тебя, – сказала Жаннин.
Он посмотрел на нее, внезапно он стал внимательным.
– Конечно, дорогая, – сказал он.
Она ждала его перед гостиницей, на улице. Людей, одетых в белое, становилось все больше. Среди них не было ни одной женщины, и у Жаннин возникло ощущение, что она никогда не видела столько мужчин. И при этом ни один из них не смотрел на нее. Некоторые, словно не видя ее, медленно поворачивали в ее сторону худые смуглые лица, которые, как ей казалось, были все похожи друг на друга – на лицо французского солдата в автобусе, на лицо араба в перчатках, хитрое и гордое одновременно. Они поворачивались в сторону иностранки, они не замечали ее, а потом легко и молча проходили мимо нее, стоявшей с опухшими щиколотками. И ее чувство беспокойства, ее стремление уехать нарастали: «Зачем я приехала?» Но уже спускался Марсель.
Когда они поднялись по лестнице форта, было пять часов пополудни. Ветер совсем прекратился. Полностью расчистившееся небо теперь было бледно-голубым с сиреневатым оттенком. Холод стал более сухим, от него покалывало щеки. Лежавший у стены на середине подъема старый араб спросил, не нужен ли им гид, но при этом не пошевелился, словно был уверен, что они откажутся. Несмотря на многочисленные площадки из утоптанной земли, лестница была длинная и крутая. По мере того как они шли вверх, пространство расширялось, и они поднимались навстречу безграничному, все более холодному и сухому свету, и каждый звук, долетавший из оазиса, звучал ясно и чисто. Светящийся воздух, казалось, вибрировал вокруг них, и по мере того как они шли вперед, эти вибрации становились все более долгими, словно бы от их шагов на кристаллах света зарождалась звуковая волна, которая потом расходилась широкими кругами. А в тот момент, когда они вышли на галерею и их взгляд потерялся в безбрежном горизонте за пальмами, Жаннин показалось, что все небо издало оглушительный и короткий звук, чье эхо мало-помалу заполнило пространство над ее головой, а потом внезапно смолкло, оставив ее в тишине перед безграничным пространством.
Действительно, ее взгляд медленно перемещался с востока на запад, по идеальной дуге, не встречая ни единого препятствия. Под ней громоздились голубые и белые террасы арабского города, испещренные кроваво-красными пятнами сушившегося на солнце перца. Людей видно не было, но из внутренних двориков, откуда поднимался ароматный дым обжариваемых зерен кофе, доносились смеющиеся голоса и невнятное шарканье. Чуть подальше под ветром, не заметным на галерее, шелестели верхушки пальмовой рощи, разделенной на неровные квадраты глиняными стенами. Еще дальше начиналось царство камней, охристо-желтых и серых, и до самого горизонта в нем не было заметно никаких признаков жизни. Только невдалеке от оазиса, возле пересыхающей реки, уходящей к западу от пальмовой рощи, виднелись большие черные палатки. Неподвижные верблюды, казавшиеся отсюда совсем крохотными, выделялись на фоне серой земли темными знаками непонятной письменности, о смысле которой можно было только догадываться. Над пустыней нависала тишина, такая же необъятная, как пространство.
Жаннин, облокотившись на парапет, стояла молча, не в силах оторваться от созерцания открывшейся перед ней пустоты. Рядом с ней суетился Марсель. Он замерз, ему хотелось спуститься. На что тут можно смотреть? Но она не могла оторвать глаз от горизонта. Там, еще дальше к югу, в том месте, где небо и земля соединялись в четкую линию, там, вдруг показалось ей, ее ждет что-то, о чем она не догадывалась до сегодняшнего дня и тем не менее чего ей всегда не хватало. Дело шло к вечеру, и свет постепенно ослабевал; из хрустально-прозрачного он становился мягким. И в то же время медленно развязывался узел, стянутый годами, привычкой и скукой на сердце женщины, оказавшейся здесь по воле случая. Она смотрела на лагерь кочевников. Она даже не увидела живших там людей, ничто не шевелилось между черными палатками, и все же она могла думать только о них, хотя до этого дня почти ничего не знала об их существовании. Горсточка этих бездомных людей, отрезанных от мира, бродила по открывшейся ее взгляду обширной территории, которая все же была лишь ничтожной частью еще более огромного пространства, чей стремительный бег обрывался лишь через много тысяч километров к югу, там, где первая река давала наконец жизнь лесу. Испокон веков сухую, вконец растрескавшуюся землю этой бескрайней страны без устали бороздили немногочисленные люди, не имевшие ничего, но и не служившие никому, жалкие и свободные хозяева странного королевства. Жаннин не понимала, почему при мысли об этом ее переполняла грусть, такая сладкая и такая безграничная, что хотелось закрыть глаза. Она знала только, что это королевство было изначально обещано ей, и что, несмотря на это, оно никогда не будет принадлежать ей, больше никогда, быть может, только в этот неуловимый миг, когда она снова открыла глаза и увидела вдруг ставшее неподвижным небо и лившийся с него поток застывшего света. Голоса, доносившиеся из арабского города, резко умолкли. Ей показалось, что в этот момент остановился ход времени и что, начиная с этой минуты, никто уже больше не состарится и не умрет. Отныне жизнь замерла везде, кроме ее сердца, где в это самое время кто-то плакал от горя и восхищения.
Но свет пришел в движение, солнце, ясное и не дававшее тепла, склонилось к западу, где небо слегка окрасилось розовым, а на востоке появилась серая волна, готовая медленно накрыть собой огромное пространство. Завыла первая собака, и ее далекий голос пронизал воздух, ставший еще холоднее. Теперь Жаннин заметила, что стучит зубами от холода.
– Околеть можно, – сказал Марсель, – дурочка. Пошли обратно.
И он неловко взял ее за руку. Теперь она стала покорной, она отвернулась от парапета и пошла за ним. Старый араб на лестнице, по-прежнему не шевелясь, смотрел, как они спускались в город. Она шла, не видя никого вокруг, согнувшись под грузом огромной, внезапно навалившейся усталости, она еле тащила свое тело, чей вес теперь казался ей неподъемным. Ощущение восторга прошло. Теперь она чувствовала себя слишком большой, слишком толстой, слишком белой для того мира, в который только что заходила. Ребенок, юная девушка, худой мужчина, юркий шакал – вот единственные существа, которые могли тихо топтать эту землю. Что же теперь будет тут делать она – тащиться до сна, до смерти?
И в самом деле, она дотащилась до ресторана, за ней шел муж, внезапно молчаливый или жаловавшийся на усталость, а она слабо пыталась побороть простуду, чувствуя, как от нее повышается температура. Потом она дотащилась до кровати, а там к ней присоединился Марсель и сразу, ни о чем ее не спрашивая, погасил свет. В комнате царил ледяной холод. Жаннин чувствовала, как холод пробирает ее до костей, и в то же время температура ползла вверх. Она с трудом дышала, кровь пульсировала в жилах, не согревая ее; в ней нарастал какой-то страх. Она повернулась, старая кровать затрещала под ее весом. Нет, ей не хотелось болеть. Муж уже спал, ей тоже следовало спать, так было нужно. Через слуховое окно до нее долетал приглушенный шум города. На старых патефонах в мавританских кафе крутились смутно знакомые гнусавые мелодии, доносившиеся до нее сквозь неспешный шум толпы. Надо было спать. Но она все пересчитывала черные палатки; перед закрытыми глазами мелькали неподвижные верблюды; необъятное одиночество выкручивало душу. Да, зачем она приехала? С этим вопросом она заснула.
Чуть позже она проснулась. Вокруг нее царила абсолютная тишина. Но где-то на границе города в немой ночи выли охрипшие собаки. Жаннин вздрогнула. Она снова повернулась на другой бок, почувствовала своим плечом твердое плечо мужа и внезапно, в полусне, прижалась к нему. Она уносилась в сон, но не погружалась в него, она с неосознанной жадностью цеплялась за это плечо, словно за свой самый надежный причал. Она говорила, но из ее рта не вылетало ни единого звука. Она говорила, но вряд ли слышала сама себя. Она не чувствовала ничего, кроме тепла, исходившего от Марселя. Уже больше двадцати лет, каждую ночь, вот так, в его тепле, они всегда были вдвоем, даже в болезни, даже в путешествиях, как сейчас… Да и что бы она делала одна в доме? Детей нет! Может быть, именно этого ей не хватало? Она не знала. Она следовала за Марселем, вот и все, она испытывала удовольствие от чувства, что кто-то в ней нуждается. Он давал ей единственную радость – ощущать себя необходимой. Конечно, он ее не любил. У любви, даже исполненной ненависти, не бывает такого насупленного лица. А какое у него лицо? Они занимались любовью по ночам, не видя друг друга, на ощупь. А бывает ли другая любовь, не в сумерках, любовь, заявляющая о себе в полный голос средь бела дня? Этого она не знала, но она знала, что Марсель нуждался в ней, и что она нуждалась в том, чтобы он в ней нуждался, что она жила этим ночью и днем, особенно ночью, каждую ночь, когда он не хотел быть один, не хотел стариться, не хотел умирать, и у него делалось упрямое выражение лица, какое она иногда узнавала на лицах других мужчин, – единственное общее выражение для этих безумцев, что прячутся за маской разума, пока не попадут во власть бреда, который заставит их броситься от отчаяния к телу женщины и без всякого желания спрятать в нем страх, навеянный ночью и одиночеством.
Марсель слегка пошевелился, словно хотел отодвинуться от нее. Нет, он ее не любил, он просто боялся того, что не было ею, и им уже давно следовало бы расстаться и до самого конца спать в одиночестве. Но разве кто-то может всегда спать один? Так поступают некоторые мужчины, оторванные от других призванием или несчастьем – они каждый вечер ложатся в кровать со смертью. Марсель никогда бы не смог так поступить, уж он-то подавно не смог бы, этот слабый и беспомощный ребенок, всегда боявшийся боли, ее ребенок, который нуждался в ней и который именно в этот момент издал что-то вроде стона. Она еще плотнее прижалась к нему, положила руку ему на грудь. И про себя она назвала его любовным именем, которое дала ему когда-то и которое они иногда, все реже и реже, говорили друг другу, уже не думая о том, что произносят.
Она позвала его всем своим сердцем. В конце концов, она тоже нуждалась в нем, в его силе, в его маленьких причудах, она тоже боялась умереть. «Если я преодолею этот страх, я буду счастливой…» И тут же ее охватила непонятная тревога. Она отодвинулась от Марселя. Нет, она ничего не преодолела, она не счастлива, она действительно умрет, так и не освободившись. У нее заболело сердце, она задыхалась под немыслимым грузом, который, как она внезапно поняла, тащила уже двадцать лет и под которым теперь билась из последних сил. Она хотела быть свободной, даже если Марсель, даже если все остальные никогда свободными не были! Она проснулась, села в кровати и прислушалась к зову, раздавшемуся, казалось ей, совсем близко. Но со всех сторон ночи до нее доносились только отдаленные и неутомимые голоса собак из оазиса. Поднялся слабый ветер, она услышала, как под ним тихим потоком зажурчала пальмовая роща. Ветер дул с юга, оттуда, где ночь и пустыня смешались под неподвижным небом, оттуда, где жизнь остановилась, где никто уже не старился и не умирал. Потом поток ветра стих, и она уже не была уверена, что вообще что-то слышала, разве что немой призыв, который она, в конце концов, могла по собственному желанию слышать или не слышать и смысла которого она уже никогда не поймет, если немедленно не ответит на него. Немедленно, да, уж в этом она была уверена!
Она тихо встала и замерла неподвижно возле кровати, прислушиваясь к дыханию мужа. Марсель спал. Через мгновение тепло постели пропало, ей стало холодно. Она медленно оделась, нашарив одежду на ощупь в слабом свете уличных фонарей, пробивавшемся через жалюзи.
Держа туфли в руке, она подошла к двери. Она подождала еще минутку в темноте, потом осторожно отперла дверь. Скрипнула задвижка, она застыла. Сердце бешено колотилось. Она прислушалась и, успокоенная тишиной, еще немного повернула руку. Ей показалось, что задвижка поворачивается бесконечно долго. Наконец она распахнула дверь, выскользнула из комнаты и с теми же предосторожностями закрыла дверь. Потом, прижавшись щекой к дереву, стала ждать. Через мгновение до нее донеслось далекое дыхание Марселя. Она повернулась, почувствовала, как в лицо ударил ледяной ночной воздух, и побежала по галерее. Дверь гостиницы была заперта. Когда она возилась со щеколдой, наверху лестницы появился ночной дежурный с помятым лицом и заговорил с ней по-арабски.
– Я вернусь, – сказала Жаннин и бросилась в ночь.
Над пальмами и домами с черного неба свисали гирлянды звезд. Она бежала вдоль опустевшего короткого проспекта, ведшего к крепости. Холоду уже не приходилось тратить силы на борьбу с солнцем, и он безраздельно царил в ночи; ледяной воздух обжигал легкие. Но она бежала в темноте, почти вслепую. На холме в конце проспекта все же блеснули огоньки, потом они стали зигзагами спускаться к ней. Она остановилась, услышала стрекот крыльев, а потом, за все увеличивающимися огнями, разглядела наконец огромные бурнусы, под которыми поблескивали тонкие колеса велосипедов. Бурнусы промчались мимо, едва не задев ее; позади нее в темноте высветились три красных огонька и сразу же пропали. Она снова побежала к крепости. На середине лестницы воздух начал жечь легкие с такой силой, что ей захотелось остановиться. Из последних сил, превозмогая себя, она рванулась на галерею и прижалась животом к парапету. Она задыхалась, перед глазами все расплывалось. Бег не согрел ее, она по-прежнему дрожала всем телом. Но вскоре холодный воздух, который она судорожно втягивала в себя, равномерно заполнил все ее тело, и под ознобом начало зарождаться робкое тепло. Наконец ее глаза распахнулись навстречу ночному пространству.
Ни один вздох, ни один звук, не считая редкого приглушенного потрескивания камней, крошащихся в песок под действием холода, не нарушал одиночество и тишину, окружавшие Жаннин. Впрочем, через какое-то мгновение ей показалось, что в небе над ее головой происходит какое-то тяжелое вращение. В толще холодного и сухого ночного неба безостановочно рождались тысячи новых звезд и, подобно мерцающим льдинкам, скользили и скользили к горизонту. Жаннин не могла оторвать глаз от этих дрейфующих огней. Она поворачивалась вместе с ними и благодаря этому движению, при котором она оставалась на месте, постепенно воссоединялась с глубинами своей души, где теперь холод сражался с желанием. Звезды падали перед ней одна за другой, гасли среди камней пустыни, и с каждой упавшей звездой Жаннин все больше и больше раскрывалась навстречу ночи. Она дышала, она забыла о холоде, о весе живых существ, о безумной или застывшей жизни, о бесконечном страхе перед жизнью и смертью. После стольких лет, в течение которых она, спасаясь от страха, все бежала и бежала, не видя перед собой никакой цели, она наконец остановилась. И теперь ей показалось, что она нашла свои корни, в ее теле, уже не сотрясаемом дрожью, снова бурлил жизненный сок. Прижавшись животом к парапету, устремившись к беспокойному небу, она слышала только, как успокаивается ее растревоженное сердце и как в ее душе воцаряется тишина. Созвездия уронили последние гроздья звезд чуть ближе к горизонту пустыни и замерли. И тогда ночная вода с невыносимой нежностью стала наполнять Жаннин, затопила холод, постепенно поднялась из темной сердцевины ее существа и непрерывным потоком разлилась по всему ее телу, вплоть до рта, наполненного стоном. Еще мгновение – и над ней, упавшей на холодную землю, раскинулось все небо.
Когда Жаннин с теми же предосторожностями вернулась, Марсель не проснулся. Но когда она легла, он заворчал, а через несколько секунд резко сел. Он заговорил, а она не понимала, что он говорит. Он встал, включил свет, хлестнувший ее по лицу, как пощечина. Он вразвалочку подошел к умывальнику и долго пил минеральную воду из стоявшей на нем бутылки. Он уже собирался нырнуть под одеяло, но, встав коленом на кровать, посмотрел на нее непонимающим взглядом. Она плакала навзрыд, она не могла сдержаться.
– Это ничего, милый, – повторяла она, – ничего…
Ренегат, или Смятенный дух
Каша, какая каша в голове! Навести бы там порядок. С тех пор как мне отрезали язык, другой язык без устали молотит в мозгу, или еще что-то, а может быть, и кто-то: говорит, замолкает, опять за свое, и я слышу многое, чего не произношу, какая каша, а откроешь рот – будто галька зашуршит. Порядок, к порядку, – твердит язык и тут же о другом, да, порядка я всегда желал. Одно по крайней мере не вызывает сомнений: я жду миссионера, который должен прибыть мне на смену. Я поджидаю его на тропе в часе ходьбы от Тегазы, притаившись среди обломков скалы, сидя на старом ружье. Над пустыней занимается день, сейчас пока холодно, очень холодно, но вот-вот навалится жара, здешняя земля сводит с ума, а я, да я уже и счет годам потерял… Нет, еще последнее усилие! Миссионер должен приехать сегодня утром, а может, и вечером. Говорили, он будет с проводником, возможно, у них один верблюд на двоих. Ничего, я подожду, я жду, а что дрожь, так это только от холода. Потерпи немного, жалкий раб!
Как же долго я терплю. Дома, в Центральном массиве[1], мужлан отец и темная баба – мать, вино, похлебка с салом всякий день, но больше вино, кислое, холодное, и долгая, долгая зима, наледь, сугробы, омерзительные папоротники, о, как я хотел бежать, разом порвать со всем, зажить по-настоящему, под ярким солнцем и с прозрачной водой. Я поверил кюре, когда он рассказывал о семинарии, он занимался со мной каждый день, благо времени у него было предостаточно в нашем протестантском селе, где он и по улицам-то ходил крадучись, вдоль стен. Он говорил о будущем, о солнце, мол, католицизм – это солнце и есть, учил меня читать, вдалбливал латынь в мою тугую башку: «Смышленый малый, но упрям, как осел», – да, голова у меня и впрямь неподатливая, за всю жизнь, сколько я ни падал, ни кровинки. «Воловья башка», – скажет, бывало, скотина отец. В семинарии мне почет, новобранец из протестантских мест – победа для них, встречали меня, ровно солнце над Аустерлицем. Тусклое, прямо скажу, солнышко, все из-за вина, хлестали кислое вино, и дети выросли с гнилыми зубами, убить-то надо бы отца, впрочем, исключено, чтоб он подался в проповедники, поскольку давно уже помер, кислое вино в конце концов пробуравило ему дырку в желудке, так что остается застрелить миссионера.
Счет у меня к нему есть и к его учителям, к тем, кто меня учил и обманул, к гнусной Европе, я всеми обманут. Я только и слышал, что миссионерство да миссионерство, прийти к дикарям и проповедовать им: «Поглядите, вот Господь мой, он никого не бьет, не убивает, он повелевает тихим словом, подставляет другую щеку, это самый великий господин, выбирайте его, посмотрите, благодаря ему я сделался лучше, хотите убедиться – ударьте меня». И я поверил, э-э, и чувствовал, как становлюсь лучше; я пополнел, похорошел даже; я мечтал о поругании. Когда солнечным летним днем мы сомкнутым черным строем проходили по улицам Гренобля и нам встречались девочки в легких платьицах, я не отводил глаз, нет, я презирал их, я хотел, чтоб они меня оскорбили, и иногда они смеялись. Я думал: «Вот бы они меня ударили, плюнули бы в лицо», – однако и смех их был ничуть не лучше, он щетинился зубами, вонзался колкими иглами, но оскорбление и страдание были приятны. Я уничижался, и духовник мой недоумевал: «Да нет же, в вас много хорошего!» Хорошего! Кислого вина во мне было много – вот чего, ну и пусть, ведь как стать лучше, если и без того неплох, – это я хорошо усвоил в их учении. В сущности, только это я и усвоил, одну-единственную мысль, и, как подобает смышленому ослу, доводил ее до завершения, я искал наказания, я чурался обыденности, короче, я хотел сам послужить примером: глядите все и, глядя на меня, поклоняйтесь тому, кто сделал меня лучше, почитайте во мне Господа моего.
Солнце дикарей! Вот оно встает, меняется пустыня, давеча напоминавшая по цвету горный цикламен, горы мои родимые, снежные, мягкий ласковый снег, нет, сейчас все сделалось изжелта-серым, сумеречный час – преддверие всемогущего зарева. Впереди – ничего до самого горизонта, где плоскогорье мреет в нежных еще красках. Позади меня тропа карабкается на дюну, за которой скрылась Тегаза: название это вот уже многие годы железом бряцает в голове. Первым, кто рассказал мне о ней, был полуслепой старик священник, доживавший свой век в монастыре, собственно, первым и единственным, и даже не город из соли с белыми, опаленными солнцем стенами поразил меня в его рассказе, нет, поразительна была жестокость дикарей, населяющих недоступный чужеземцам край: на памяти старика только один из всех, кто пытался пробраться туда, один только смог поведать о том, что увидел. Они его высекли и выгнали в пустыню, засыпав солью раны и рот, спас случай: кочевники, которых он встретил, проявили к нему сострадание, и я с тех пор все предавался мечтаниям о жгучем огне соли и огне небесном, о храме идола и его рабах, вот где оно, варварство-то подлинное, то есть самое притягательное, вот где я призван явить Господа моего.
В семинарии они меня увещевали, охлаждали всячески мой пыл, мол, надо подождать, мол, и место неподходящее, и я еще незрел, я должен специально готовиться, познать себя должен, испытания пройти, а там видно будет! Все ждать да ждать! Нет уж, специальная подготовка, испытания – куда ни шло, тем более в Алжире, все ближе к месту предназначения, а в остальном я только тряс своей неподатливой башкой и долдонил свое: ехать к самым диким варварам, жить их жизнью и собственным примером показывать, хотя бы и в самом храме идола, что истина Господа моего сильнее. Они, разумеется, станут бить меня и оскорблять, но поругание не страшило меня, оно было как раз необходимо для моей цели, я снесу его безропотно и тем приворожу дикарей, точно могучее солнце. Могущество, я постоянно пережевывал это слово, я мечтал о неограниченной власти – той, что повергает на колена, заставляет противника складывать оружие, то есть обращает его в мою веру, и чем более он слеп, жесток и самоуверен, чем крепче цепляется за свои убеждения, тем выше возносится покоривший его. Наставить на путь истинный заблудших, но, впрочем, славных людей – таков убогий идеал наших священнослужителей, коих я презирал: при такой-то власти дерзать на такую малость, значит, не было в них веры, а у меня была, я хотел, чтобы сами палачи поклонились мне, чтобы пали на колена и говорили: «Зрим, Господи, победу Твою», хотел владычествовать словом над целым полчищем извергов. О, я не сомневался, что рассуждаю правильно, пусть в остальном я не слишком уверен в себе, но уж если овладеет мною какая идея, нипочем не отступлюсь, тут-то вся моя сила, сила, говорю я, но они жалели меня!
Солнце поднялось выше, голова моя горит. Камни вокруг глухо потрескивают, только ствол ружья прохладен, прохладен, как луг, как, помню, дождь по вечерам, когда на кухне варился суп и отец с матерью ждали меня, они иногда улыбались, я, может быть, их любил. Все кончено, жаром туманится тропа, приходи, миссионер, я жду тебя, мне есть чем ответить на твою проповедь, новые учителя преподнесли мне урок, я знаю, они правы, пора свести счеты с любовью. Когда я бежал из семинарии в Алжир, я представлял себе варваров совсем иными, в одном мечтания не обманули меня – они жестоки. Я обокрал казначея, сбросил сутану, я пересек Атласские горы, высокогорные плато, пустыню, и водитель в Сахаре тоже смеялся надо мной: «Не ходи туда», все в один голос, и были сотни километров песчаных волн, то надвигающихся, то отступающих под ветром, и снова горы, ощетинившиеся черными вершинами, с хребтами острыми, точно лезвие ножа, а дальше пришлось нанять проводников и идти по бескрайнему, гудящему от зноя морю бурых камней, обжигающих тысячью огнедышащих зеркал, до того места на границе земли черных и белой страны, где лежит соляной город. Проводник еще украл у меня деньги, которые я по наивности, опять же по наивности, показал ему, а он саданул меня в скулу и бросил как раз вот тут, на тропе: «Ступай, собака, вон дорога, честь имею, валяй, они тебя научат», – и они научили, о, они подобны солнцу, разящему гордо и без устали, исключая ночь, вот и сейчас разящему, ох как сильно, жгучими, яростно пронзающими землю копьями – скорее, скорее в укрытие, под скалу, не то и вовсе мрак.
Тень здесь приятна. Как можно жить в городе из соли, на дне заполненной белым зноем чаши? На ровных, грубо вытесанных стенах зарубки от кайла ерошатся сверкающими чешуйками, припорошенными бледно-желтым песком, а налетит ветер, очистит стены и плоские кровли, и все засияет умопомрачительной белизной под вычищенным до самой своей голубой корки небом. В такие дни я слеп от яркого пожара, часами неподвижно полыхавшего на белых плоских крышах, сливавшихся в единую массу, словно вырубленных из одной соляной горы, как если б некогда они срезали с нее верхушку, а потом прорыли в ее толще улицы, внутренние помещения, окна или, вернее, вырезали свой белый жгучий ад кипятком из брандспойта, лишь бы только доказать, что смогут жить там, где никто не сможет, в тридцати днях пути от всякого жилья, в яме посреди пустыни, где дневное пекло не позволяет людям сообщаться между собой, разделяя их частоколом незримого пламени с расплавленными в нем кристаллами соли, а сменяющая его ночная стужа враз замуровывает в соляных раковинах жителей этого сухого припая, черных эскимосов, стучащих зубами в ледяных кубах домов. Черных, потому что одеты они в длинные черные балахоны, и соль, вездесущая соль, забивающаяся под ногти и ночью хрустящая на зубах горечью полярного сна, соль, растворенная в питьевой воде единственного источника на дне сверкающей расселины, иной раз оставляет на их сумрачных платьях потеки, похожие на след улитки после дождя.
Дождь, Господи, один только дождь, обильный и затяжной, дождь с Твоего неба! И тогда подмытый у основания страшный город станет медленно, но неукротимо оседать и, растаяв без остатка, вязким потоком захлестнет и умчит в пески своих свирепых обитателей. Господи, один только дождь! Господь? Нет, господа они! Они царствуют в своих бесплодных домах, владеют черными рабами, морят их в копях, – за пласт вырубленной соли южные страны платят по человеку, – укрытые траурными покрывалами, они безмолвно движутся по белокаменным улицам и с наступлением ночи, когда город, словно призрак, одевается молочной пеленой, они, согнувшись, уходят во мрак жилищ, где лишь тускло мерцают соленые стены. Легок их сон, а едва проснувшись, они уже повелевают, бьют, все мы – единый народ, говорят они, и еще что их бог истинный и что надо повиноваться. Мои господа они, им неведома жалость, они не признают над собой ничьей власти, они хотят завоевывать и царствовать сами, поскольку никто, кроме них, не дерзнул построить в соли и песках ледяной тропический город. А я, да что там…
Какая каша, все путается от жары, я потею, они – никогда, тень постепенно накаляется, сквозь толщу скалы над головой я чувствую солнце, оно садит по камням, точно молотом бьет, так что звон стоит, немолчная музыка юга, вибрация сотен километров воздуха и камня, э-э, да я снова слышу тишину. Такая вот тишина много лет назад встретила меня, когда стража подвела меня к ним на залитую солнцем площадь, откуда город концентрическими террасами поднимался под опущенную на края чаши крышку ярко-голубого неба. Поверженный на колени, я стоял на дне вогнутого белого щита, огненные и соляные стрелы, исходившие из стен, кололи глаза, я был бледен от усталости, ухо, по которому хватил вожатый, кровоточило, и они, черные исполины, молча глядели на меня. День был в разгаре. Под ударами чугунного солнца гудело небо, точно раскаленный добела лист железа, звучала тишина, они смотрели на меня, время шло, а они все смотрели и смотрели, и я не выдержал их взглядов, сдавило горло, сильней, сильней, и когда наконец я разрыдался, они вдруг беззвучно развернулись ко мне спиной и все разом удалились. Стоя на коленях, я видел только, как блестящие от соли ноги в красно-черных туфлях приподнимали край скорбного платья, носки туфель были слегка задраны, задники едва слышно шлепали по земле, а когда площадь опустела, меня отволокли в их капище.
Скорчившись, вот точно как в сегодняшнем моем укрытии, где пекло над головой пронизывает толщу камня, я просидел неведомо сколько дней под сенью идолова дома, чуть возвышающегося над остальными, обнесенного соляной оградой, но без окон, полного мерцающей ночи. Все эти дни мне подавали миску солоноватой воды и бросали на пол горсть зерна, как курице, и я его подбирал. Днем, несмотря на запертую дверь, мрак делался чуточку прозрачней, будто неумолимое солнце просачивалось сквозь массу соли. Лампы не было, я ходил ощупью вдоль стен, натыкался рукой на гирлянды сухих пальмовых листьев, нашарил грубо вытесанную дверь на задней стенке, пальцы угадали на ней засов. Не скоро, много дней спустя, ни дней, ни часов считать я не мог, однако зерно мне к этому времени кинули раз десять, и я уже вырыл яму для нечистот, которая, как я ее ни закрывал, все воняла норой, так вот, много дней спустя дверь распахнулась на обе створки, и они вошли.
Один направился в тот угол, где я сидел, скорчившись. Соленая стена обжигала щеку, я вдыхал пыльный запах пальмовых листьев и смотрел, как он приближается. Он остановился в метре от меня и молча уставился перед собой, знак – я встал, он вперил в меня свои металлические глазки, поблескивающие без всякого выражения на коричневом лошадином лице, потом поднял руку. Все также безучастно он ухватил меня за нижнюю губу и стал медленно ее выворачивать, разрывая плоть, а затем, не разжимая пальцев, крутанул меня на месте, задом вывел на середину комнаты и рванул за губу вниз, так что я бухнулся на колени, обезумев от боли, с окровавленным ртом, а он повернулся ко мне спиной и пошел туда, где у стены стояли остальные. Они смотрели, как я стенал в невыносимом пекле не знающего тени дня, лившегося в широко раскрытую дверь, и в этом световом снопе возник вдруг колдун с волосами из рафии, телом, обтянутым жемчужной кольчугой, голыми ногами под соломенной юбочкой, в маске из тростника и проволоки с двумя прямоугольными прорезями для глаз. За ним шли музыканты и женщины в тяжелых пестрых бесформенных платьях. Они исполнили перед дверью в глубине грубый малоритмичный танец, подергались немного, и все тут, а затем колдун открыл дверцу за моей спиной, хозяева не шелохнулись, они глядели на меня, и, обернувшись, я увидел идола, его двуликую голову и железный нос, изогнутый змеей.
Они подтащили меня к его ногам, к самому основанию, заставили пить горькое-прегорькое черное пойло, отчего голова у меня запылала, и я захохотал: вот оно, надругательство, я поруган. Они раздели меня, обрили голову и торс, обмыли маслом и стали бить по лицу веревками, обмакнутыми в воду и соль, а я смеялся и отворачивался, но всякий раз две женщины хватали меня за уши и подставляли лицо ударам, которые наносил колдун с прямоугольными глазами, и, обливаясь кровью, я все смеялся. Остановились, все, кроме меня, молчали, в голове полная каша, потом меня подняли и заставили смотреть на идола, и я перестал смеяться. Я знал, что обречен отныне служить и поклоняться, о нет, я больше не смеялся, я задыхался от страха и боли. И в этом белом доме, в этих стенах, равномерно опаленных солнцем, со стянутой кожей на лице, в полубеспамятстве, я попытался молиться идолу, да, да, кому же еще: даже его чудовищная рожа была менее чудовищной, нежели весь прочий мир. Они связали мне щиколотки веревкой, отпустили ее на длину шага, и снова исполнили танец, теперь уже перед идолом, затем один за другим хозяева удалились.
Закрылась дверь, и опять зазвучала музыка, колдун разжег костер из коры и принялся топтаться вокруг него, заполнив комнату пляшущими тенями, они трепетали на белых стенах, изламываясь в углах. В одном углу он очертил прямоугольник, женщины отволокли меня туда, я чувствовал сухое нежное прикосновение рук, они поставили передо мной чашку с водой, насыпали зерна и показали на идола – я понял, что не должен отводить от него глаз. Колдун по одной подзывал их к огню, иных бил, они стонали и падали ниц перед идолом, моим теперешним богом, а он все танцевал, а потом отослал всех, кроме одной, совсем юной, которую он еще не бил, она сидела подле музыкантов. Он накручивал себе на руку ее косу, сильней, сильней, отчего у нее глаза вылезали из орбит, а сама она выгибалась назад, пока не повалилась навзничь. Тогда колдун выпустил ее и заорал, музыканты отвернулись к стене, а крик под маской с прямоугольными глазами нарастал и нарастал, и женщина как оглашенная каталась по полу и, наконец, присев на корточки, соединив руки над головой, закричала сама, но только глухо, и он, не сводя глаз с идола и продолжая вопить, овладел ею быстро и со злостью, лица ее я не видел, оно было теперь погребено под складками платья. И я, одичалый, шальной, я тоже орал, выл от ужаса, вперившись в идола, пока пинок ногой не отшвырнул меня к стене, и я грыз соль, как сейчас безъязыким ртом грызу камень, поджидая того, кого должен убить.
Солнце уже перевалило за середину неба. В расселины скалы я вижу его – зияющую дыру на каленом железе неба, глотку, как моя, словоохотливую, безостановочно изрыгающую огненные потоки над бесцветной пустыней. Впереди на тропе – ничего, ни пылинки на горизонте, а позади, там меня уже, наверное, хватились, хотя нет, рано еще, они лишь под вечер отпирали дверь и выпускали меня прогуляться, после того как я целый день наводил порядок в храме идола и обновлял приношения, а по вечерам повторялось действо, в иные разы они били меня, в другие нет, но всякий раз я служил идолу, чей образ железом врублен в мою память, а теперь и в мою надежду. Никогда еще бог не владел мной, не подчинял до такой степени, жизнь моя дни и ночи была посвящена ему; болью и отсутствием боли, это ли не радость, я был обязан ему, и даже желанием, да, да, оттого, что чуть ли не ежедневно присутствовал при безличном свирепом совокуплении, которое я теперь не мог видеть, поскольку под угрозой побоев должен был смотреть в угол. Уткнувшись лицом в соленую стену, на которой неистово трепыхались тени, я с пересохшим горлом слушал нескончаемый вопль, и жгучее бесполое желание сдавливало виски и живот. Текли за днями дни, не отличимые один от другого, точно расплавленные тропическим зноем, беззвучно отражались в соляных стенах, время обратилось в бесформенный плеск, в котором через равные промежутки взрывались воплями побои и совокупления, один долгий безвременный день, где идол царствовал, подобно лютому солнцу над моим укрытием в скале, где я снова стенаю от горя и желания и, испепеляемый жестокой надеждой совершить предательство, облизываю дуло ружья и его душу, именно душу, только в ружьях душа, а с того дня, как мне отрезали язык, я возлюбил бессмертную душу ненависти!