Читать онлайн Рефлексия и внутренний диалог в измененных состояниях сознания. Интерсознание в психоанализе бесплатно
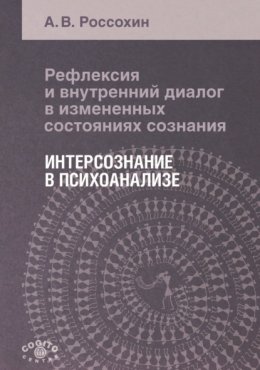
Моим любимым жене и дочке
В лаборатории психологии общения и психосемантики факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 1998 г. Слева направо: В. Ф. Петренко, Е. А. Климов, А. В. Россохин
Психоаналитический странник
Как писал датский философ-экзистенциалист Сирен Кьеркегор, истину нельзя познать, в ней надо быть. Автор этой монографии Андрей Владимирович Россохин не только ученый-исследователь, пишущий книги по психоанализу и измененным состояниям сознания, и не только успешный практикующий психоаналитик, ежедневно работающий с пациентами. Думаю, что в первую очередь он – путешественник в область неведомого.
Присущий ему поиск внутренней свободы привел его уже после получения высшего физико-математического образования в психологическую практику, а затем и на вечернее отделение факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Судьба свела меня с Андреем Россохиным более двадцати лет назад, когда молодой, красивый и несколько экстравагантный студент явился ко мне с просьбой быть руководителем его диплома, посвященного рефлексии в измененных состояниях сознания. Я с удивлением узнал, что к этому моменту он уже успел поработать психологом-консультантом в г. Припяти, куда несколько раз выезжал сроком на две недели для проведения психологической реабилитации ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Он, казалось, искал экстремальности, стремясь найти себя в этих «пиковых состояниях».
Мне не забыть наши совместные с Андреем Россохиным и гипнотерапевтом Владимиром Кучеренко групповые психологические тренинги на берегу реки Катуни и последовавшие за этим конные путешествия по горному Алтаю. Звездное небо и энергетика гор, как ничто иное, способствовали пробуждению мистической интуиции и обретению экзистенционального опыта расширенного сознания, переживания единства с миром.
Свое первое путешествие Андрей совершил в 18 лет, когда открыл карту горной Грузии, закрыл глаза и ткнул в нее пальцем. Палец попал на труднодоступные районы на границе Мингрелии и Сванетии. После одиночного путешествия по горам Грузии он отправляется на Украину, чтобы познакомиться с Порфирием Ивановым, удивительным человеком, разработавшим уникальную систему взаимодействия с Природой посредством ежедневного двухразового купания в ледяной воде. Как Андрей рассказывает об этом, это был важнейший для него опыт встречи с чем-то запредельным, таинственным и языческим. Этот опыт дал ему один из самых ценных инсайтов того, что значит быть гуманистическим психотерапевтом. «Я боюсь холодной воды», – говорил Порфирий Иванов, помогая своим ученикам с уважением и принятием относиться к темным и опасным аспектам архаического бессознательного. Смысл состоял не в нарциссическом преодолении страха перед погружением в прорубь, а в расслаблении и взаимодействии с Природой вовне и внутри себя.
Открыв для себя горный Алтай, Андрей Россохин в течение пятнадцати лет каждый год на все лето уходил в одиночные походы, занимаясь в горах йогой, медитацией и различными психотренингами. Крепко сложенный и сильный физически, он, согласно семейным преданиям, возводит свою родословную от новгородского ушкуйника, воеводы и боярина Михайло Россохина, который в конце XIV века основал его родной город – Вятку (Киров). С большой долей самоиронии, Андрей рассказывает, что несет в себе как дикую архаическую кровь предка, которого в летописях называли Лютым за его бесстрашие и воинственность, так и его стремление к свободе и демократии. Будучи народоначальником в Вятке, он точно так же, как и все остальные, подчинялся народному вече. Свободолюбивый дух вятчан позволил им сохранить свою независимость от Москвы дольше жителей других русских земель. Вятская республика вошла в состав Московского государства после падения Великой новгородкой республики.
Андрей выдвинул интересную гипотезу о влиянии бессознательной исторической памяти на его увлечение психоанализом. В 1412 году на берегах Вятки происходила знаменитая битва между вятичами и устюжанами, описанная в летописях как «битва слепородов» (слепых от рождения). Глубокой безлунной ночью дружественное войско устюжан пришло на помощь вятичам для обороны от напавших ранее на город золотоордынских отрядов. Вятское войско под предводительством Михайло Россохина приняло устюжан за вернувшихся врагов. Устюжане под началом друга Россохина боярина Анфала посчитали, что на них напали золотоордынцы, которые уже перерезали всех вятичей. В ходе того ночного братоубийственного побоища полегло большое количество воинов. Чувствуя свою вину и оплакивая погибших, вятичи в память об этой драме ежегодно устраивали поминальные игрища, разделяясь на две группы, кидая друг в друга глиняные шары и разбивая друг другу головы. Коллективная психическая травма постепенно прорабатывалась, начали появляться элементы символизации. Первоначально кровавое языческое повторение травмы (отыгрывание) с годами и веками сначала преобразовалось в простое бросание глиняных шаров с оврага вниз, затем шары превратились в глиняные свистульки, под звуки которых устраивались пляски, и, наконец, к началу XIX века появилась дымковская игрушка. «Многовековой путь от архаической до культурно-символической работы горя обязывает меня продолжить движение по такой психоаналитической дороге», – не то шутя, не то всерьез полагает Андрей Россохин.
Пройдя через увлечение психодрамой, гештальттерапией и гипнозом, он углубляется в телесно-ориентированную психотерапию. Творчество ее основателя, психоаналитика Вильгельма Райха, возрождает интерес к психоанализу, впервые возникший у Андрея, когда он был еще студентом-физиком. Дань уважения к В. Райху выразилась в издании Россохиным его фундаментального психоаналитического труда (Райх В. Характероанализ. М.: Республика, 1998). Психотерапевтическая работа с пациентами и часто экстремальные попытки самопознания побуждают Андрея Россохина заняться тематикой измененных состояний сознания. Дискутируя с идеями Станислава Грофа о психотерапевтической функции измененных состояний сознания (ИСС), он убедительно показал, что важен не столько факт вхождения в ИСС, сколько внутренняя индивидуальная работа самого пациента, его рефлексия, то есть ИСС – это материал для внутренней работы духа. В таком подходе сказываются традиции отечественной школы психологии, деятельностного подхода, идеи Алексея Николаевича Леонтьева о необходимости собственной активности человека. После успешной защиты в 1994 году кандидатской диссертации, также посвященной проблемам рефлексии в ИСС, Андрей Россохин, к сожалению, начинает ограничивать психоанализом свой научный интерес к ИСС. Он строго очерчивает поле своих исследований измененными состояниями сознания, которые возникают у пациентов в ходе психоаналитической терапии. Жаль, что другие виды ИСС (трансперсональные, мистические, религиозные) остаются вне этих границ. Надеюсь, что когда-нибудь он снова, как и в юности, обратится к их исследованию, тем более что в свое время он был научным руководителем двух немецких экспедиций по исследованию шаманизма и петроглифов в Алтае, Хакассии (1994) и в Туве (1995).
Андрей Россохин получил в Париже блестящее европейское психоаналитическое образование. Он учился у выдающихся французских психоаналитиков: восьмилетний анализ у Юлии Кристевой, пять лет супервизии у Джойс Макдугалл, четыре года супервизии у Андре Грина и три года супервизии у Сезара Ботелла.
Научная работа по этой тематике привела Андрея Россохина в 2009 году к защите на факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова докторской диссертации, посвященной исследованиям психоаналитического процесса. Особенностью его докторской диссертации, содержание которой частично отражено в его первой монографии «Личность в измененных состояниях сознания», частично в этой книге, заключается в том, что он успешно использовал методический инструментарий общей психологии для описания динамики психических процессов, происходящих в бессознательном пациента в ходе психоаналитической сессии. Андрей Россохин использовал методы психосемантики (Ч. Осгуд, Дж. Келли, В. Ф. Петренко), микро-семантический анализ (А. В. Брушлинский), дискурс-анализ (Т. Ван Дейк), метод экспликации ментальных карт (В. В. Латынов) и разработанные им авторские психолингвистические методы для описания личностных трансформаций пациента. Насколько успешно он смог это реализовать – судить читателю.
Разработав новое научное направление – психологию рефлексии измененных состояний сознания, А. В. Россохин реализует свой подход как в лекциях для студентов факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, так и в индивидуальной психоаналитической практике.
Организатор международных конференций по психоанализу, международных экспедиций по шаманизму и петроглифам, главный редактор и составитель вместе со своим французским коллегой и другом Аленом Жибо ряда энциклопедических сборников по психоанализу, Андрей Россохин одинаково уверенно чувствует себя как на высокогорной алтайской тропе, так и на международных конференциях в Париже.
Да осилит дорогу идущий!
В. Ф. Петренкочлен-корр. РАН, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова
ССИ | ИСС:
Опыт прояснения сознания в диалоге психолога-исследователя и психолога-практика
Читатель! Пусть тезис, выражающий мою общую оценку новой книги А. В. Россохина, как и полагается тезису, опередит доводы. Перед нами – Самое Серьезное Исследование, посвященное Измененным Состояниям Сознания. Кратко: ССИ | ИСС (что образует первую часть названия этого небольшого вступительного очерка). Решая задачу о том, что может быть условием и механизмом интеграции индивидуального сознания и усматривая решение в «диалоге», автор решает еще и сверхзадачу: что могло бы быть источником интеграции сознания психолога-исследователя и психолога-практика (психоаналитика), – и предлагает нам диалогическую форму решения.
Перейду к доводам.
Новая книга Андрея Владимировича Россохина, посвященная поиску ответов на вопросы: как психоанализ работает, что происходит с пациентом и аналитиком, зачем вообще нужна психотерапия, не только долгожданна, но и злободневна. Злоба дня состоит в том, что психология сейчас – это две психологии, что кризис двух психологий, фундаментальной и практической, не чета тому кризису, о котором писал Л. С. Выготский и о котором В. П. Зинченко небезосновательно говорит как о поре расцвета психологии. Тот самый кризис – расцвет. Кризис двух психологий или применительно к сегодняшнему кризису точнее говорить о схизисе – это реальность, в которой мы существуем и которая в каком-то смысле от нас зависит, будет ли этот кризис восприниматься десятилетиями спустя как мрачный разлом или, может быть, видеться как расцвет и рассвет психологической мысли. Именно в этой ситуации работа А. В. Россохина, на мой взгляд, – очень добрый знак, повод к надежде на преодоление схизиса. О долгожданности этой работы можно судить по тому, что наши коллеги, как и я сам, относят себя к категории людей, неустанно подчеркивающих диалогичность и рефлексивность сознания. Но одно дело – обсуждать друг с другом эти внутренние разговоры, направляющие рефлексию, и совсем другое дело – их эмпирически исследовать. Работа А. В. Россохина, может быть, покажется долгожданной не всем из нас, а только тем, для которых взгляд на психологию как науку не утратил своей привлекательности под натиском альтернатив. А они существуют.
Есть еще один достаточно важный момент – это категория измененных состояний сознания. Часто определение сознания как измененного тавтологично. Как мне представляется, это так даже в исходном определении самого автора первых систематических исследований ИСС немецкого психолога Людвига. Но ведь ИСС – это альтернатива ясному сознанию. Требуется их со-определение, а если его нет, то наша психология сознания как теоретическая дисциплина пребывает в полубессознательном состоянии. Поэтому разработка данного вопроса автором может рассматриваться как реакция на насущную необходимость ответа на вопрос о том, что есть само сознание, являющееся центральной категорией психологической мысли.
В современном дискурсе о герменевтике, феноменологии, психологии как искусстве постижения духовного, дискурсе, в который мы все в той или иной мере вовлечены, в дискурсе, где звучат дорогие нам голоса коллег, – в большом театре военных действий, прямо или косвенно нацеленных на элиминацию ценностей эмпирического знания или сомневающихся в ценности такого знания, явно не хватает некоего контрапункта, а работа А. В. Россохина как раз и являет собой такой контрапункт. Автор убедительно показал, что феноменология Гуссерля, феноменологическая концепция Мерло-Понти служат важнейшим методологическим основанием для понимания рефлексии измененных состояний сознания. И он дал понять в то же время, что общепсихологическое понимание рефлексии как рефлексии нерефлексивного в ИСС на фоне всей этой глубокой терминологии герменевтического характера подразумевает необходимость проведения эмпирических исследований, для осуществления которых требуется разработка нового методического арсенала.
Автору удалось разработать этот самый методический аппарат, релевантный поставленным задачам и показать его действие на материале психоанализа. Не только подтверждается, но и уточняется, я бы сказал, утончается при этом психоаналитическое изображение того, что происходит в процессе работы с пациентом. И нам приоткрывается здесь целое поле новых психологических феноменов. Вот некоторые из них. Рефлексивные процессы, ведущие к интеграции ИСС и ясного сознания, выступают в двух формах: монологической и диалогической, причем именно диалогические формы рефлексии создают условия для порождения новых смысловых образований. Другой феномен: автор определяет фазы становления произвольной саморефлексии, хотя он и не использует данный термин. Это внимание, обращенное на себя и на содержания собственного сознания, это называние происходящего с опорой на индивидуальные системы значений. И наконец, осмысление отдельного явления в логике целостной многоуровневой смысловой сферы личности. Я думаю, что леонтьевское видение сознания оживает и работает в этой модели генеза произвольной саморефлексии.
Активизация рефлексивных процессов в ИСС приводит к расширению способов внутриличностного взаимодействия, что, в свою очередь, приводит к осознанию и переосмыслению неосознаваемых ранее внутриличностных конфликтов. За этим результатом стоят не слова, а прекрасно работающий авторский метод диагностики эффектов рефлексии.
Рассматривая возможную организующую роль рефлексии, протекающей в основном в диалогической форме, автор в значительной мере справляется с труднейшей задачей, которую поставил сам перед собой и которая, на мой взгляд, вне эмпирической работы просто неразрешима. Что представляет собой эта задача? Показать, что именно рефлексия ведет за собой интеграцию сознания, а не спонтанные ИСС, на которые можно было бы уповать, полагаясь на мудрость природы. И вот в этом процессе конструктивную роль играет все более интериоризирующаяся роль психоаналитика, который вначале извне, а потом изнутри детерминирует происходящее. В этом случае я предпочитаю говорить о персонализации, отраженности значимого Другого. Рождается мультисубъектная структура личности консультируемого. Там есть мое Я, там есть мое Ты и там есть интериоризированная фигура психоаналитика.
Соотнося количественно (а за этим соотнесением стоит глубокая качественная работа) внутренние монологи и диалоги, автор показывает нарастание удельного веса последних в процессе психоаналитической работы. По сути, рождается внутренний собеседник. Не он ли потом позволяет отойти в сторону психоаналитику, сделавшему свое дело, а анализируемому индивидууму не цепляться за психоаналитика? Здесь реально рождается отраженный в человеке психоаналитик, отраженный Другой.
В своей предыдущей монографии А. В. Россохин, объединяя два метода исследования – психосемантический дифференциал и контент-анализ транскриптов психоаналитических сессий (что само по себе уже беспрецедентно), – эмпирически обосновывает основное положение психоанализа, согласно которому в процессе психоанализа «где было Ид, должно стать Эго». Я спрашиваю себя: мог ли предвидеть творец психоанализа, что когда-нибудь его идея будет обоснована с опорой на методы математической статистики.
Уникальная фиксация динамики внутренних объектов в процессе психоанализа – это также замечательное достижение работы. Если кто-то еще сомневается в феномене, например, трансферентных отношений, есть смысл прочитать работу и сомнения отпадут сами собой. А чего стоит описание актуализации защитных механизмов в процессе внутреннего диалога, который вначале усиливается и при этом защитные тенденции возрастают, это диалоги по-старому, потом эти диалоги уходят, а затем они опять возрождаются, только уже как диалоги конструктивные, которые перестраивают смысловую сферу человека. И все это зафиксировано количественно.
По сути, все процессы, задействованные в психоанализе: кларификация, интерпретация, перенос, сопротивление и даже механизмы свободных ассоциаций, за которыми стоят актуализированные намерения, – все они были затронуты и изучены в результате эмпирической работы с применением оригинальных авторских техник.
Имея в основном дело с психоанализом, автор переступает его пределы, поставляя новые методы исследования, значимые для коллег из других психотерапевтических школ: и для представителей личностно-центрированной, понимающей психотерапии и для гештальт-терапевтов, и для последователей психосинтеза Ассаджиоли, и для транзактных аналитиков, к которым я принадлежу. Это фундаментальное сочинение, это подлинная персонология, работа, перебрасывающая мост между академическими и практическими разработками.
Будучи не только ученым-исследователем, но и профессиональным практикующим психоаналитиком, работающим с одним пациентом три-четыре раза в неделю в течение четырех-шести лет, А. В. Россохин хорошо знает цену наивного психотерапевтического оптимизма. Трудность достижения реальных психических изменений, их неустойчивость и хрупкость подробно описаны в его книге.
Часто при прочтении работ по психотерапии может складываться иллюзия, что в ходе внутреннего диалога с собой «всё рефлектируемо», что объекты становятся ярче, конкретнее, многомернее, меняются взаимоотношения между ними, и эти новые взаимоотношения, в свою очередь, могут быть отрефлектированы и т. д. – своего рода гимн кларификации, прояснению измененных состояний сознания, продвижения к тому, что я вслед за старыми психиатрами предпочитаю называть ясным, а не просто обычным состоянием сознания. Но я считаю, и я убежден, что автор согласен со мной, что то, что в ходе внутренних диалогов все проясняется и т. д., – это еще не вся правда об эффектах саморефлексии.
Вот, к примеру, парадокс неизреченности мысли. «Мысль изреченная есть ложь», – сказал Тютчев и обманулся. Это и вправду ложь. Мысль есть всегда то, что изречено (не существенно, высказано ли это про себя или вслух; любое мышление является мышлением «речевым», знаковым). И можно только, так сказать, про себя продолжить: «С полсотни слов переведешь, пока не осознаешь снова, мысль изреченная есть ложь. Об этом никому ни слова!». Неизреченность есть феномен особого рода, когда любое «прикосновение» к переживанию ведет к его искажению. Перевод переживания в мысль часто ведет к искажению самого переживания, сколь бы близко означенное переживание ни подходило к исходному переживанию. Подлинно сакральное – это не то, что я не могу высказать другому, а то, что я не могу высказать себе, а значит – для себя. Такого рода содержания в своих работах я называю «качествами второго рода», сравнивая их с объектами микромира (любое прикосновение познающего инструмента ведет к искажению познаваемого).
В отличие от этих «качеств второго рода», «качества первого рода» (геометрические представления, «красное», «боль» и т. п.) в момент рефлексии не подвергаются феноменологической трансформации. Здесь есть аналогия с объектами макро-и микромира. Качества второго рода, подобно микрообъектам в физике, становясь предметом активного исследования (рефлексии), претерпевают определенные изменения: рефлектируемое оказывается небезучастно к самой рефлексии. Взять хотя бы фигуры невозможного. То, что дано нам в переживаниях («объект – вот он!»), совершенно непохоже на мысль об этом объекте («нет, это совершенно невозможно!»). Другой пример – неуловимости «Я» в рефлексии: любая попытка осознать свое «Я» ведет к трансценденции за пределы исходных переживаний, что в свою очередь порождает переживание неполноты самопроявления в рефлексии, чувство того, что «главное» остается за чертой осознания. Вследствие этого цель построения внутренне достоверного образа себя оказывается недостижимой: образ себя никогда не тождествен аутентичному переживанию самости.
К категории качеств второго рода может быть отнесено также чувство общности с миром (Сартр), дорефлексивной общности, в том числе общности с другими людьми. Как то, так и другое в момент рефлексии ведет к распаду слитности с миром, и таким образом рождается отношение «субъект – объект» или, соответственно, «я и Другие» (Другой), на чем зиждется иллюзия того, что просоциальное поведение, поведение в пользу ближнего – это всегда прагматизм, как если бы в конечном счете я это делал бы для себя. Теория разумного эгоизма – это плод нашей интеллегентской рефлексии. В рефлексии, именно в рефлексии, мы рассекаем действительное переживание общности, существующей между мной и ближним, и тогда рождается мучительный, хотя и ложный в своей постановке, вопрос: ради кого ты это делаешь?
Таким образом приоткрывается перспектива исследований взаимосвязи рефлексии и ИСС, состоящая в том, чтобы вслед за феноменами макродинамики сознания (из месяца в месяц, из года в год) обратиться к микродинамике, имея дело с объектами «неуловимого» в рефлексии и рефлексией их неуловимости.
Как раз именно это и осуществляет А. В. Россохин с помощью разработанного им метода микрорефлексивного анализа клинического материала отдельного сеанса психоанализа. Ювелирное исследование самой ткани психоаналитического процесса позволяет читателю почти физически ощутить зарождение и развитие процесса смыслообразования, рождение нового смысла и его рефлексивное прорастание во внутренней реальности пациента.
Монография А. В. Россохина – внутренне завершенное произведение, стало быть, у него есть границы. Это слово «граница» наводит на мысль о контакте с чем-то иным, по ту сторону завершенного произведения, и здесь я перейду к соображениям, которые у меня возникли совершенно естественно во внутреннем диалоге с автором в процессе осмысления представленных им богатых мыслями и фактами материалов.
Автор неоднократно прибегает к метафоре «внутренних собеседников». Я ставлю акцент именно на слове «метафора». Часто в тексте, вместо «внутреннего собеседника» появляется «внутренний объект». Конечно, за этим словоупотреблением стоит психоаналитическая традиция говорить об «объектных (а не субъект-субъектных) отношениях». Само по себе это не случайно. Идея реального, живого присутствия Другого, например, в виде эго-состояний, подобных берновским, не типична для этой традиции. Конечно, с внутренним объектом, таким, как материнская грудь, подлинный диалог – это метафора. Диалог и ответные реплики – это лишь особый неаутентичный способ описания происходящего (в рамках такого подхода). Есть такая шутка: «Если человек говорит с Богом, то это молитва; а если Бог – с человеком, то это шизофрения». Здесь она очень уместна, это весьма забавная шутка, ее приятно вспомнить к слову. Но все-таки, если мы просто шутим, мы что-то теряем. При этом мы вытесняем из сознания глубокую джеймсовскую идею «множественной личности», которая уже не шуточна, она отнюдь не является прямым указанием на патологию. В нас идеально представлены другие, они инобытийствуют в нас. При таком подходе внутренний диалог утрачивает смысл метафоры, приобретая смысл аутентичного описания происходящего. С другой стороны, метафоричность слов о внутреннем собеседнике может быть глубоко оправдана в тех случаях, когда реального диалога нет, а есть спонтанные проявления то одного, то другого, то третьего и т. д., различных субъектов нашей мультисубъектной личности. По сути, это может быть сдвоенный, строенный и т. д. монологи, которые мы можем принять за внутренний диалог. Тексты психоаналитических транскриптов могут быть проанализированы, на мой взгляд, с данной точки зрения. Всякий ли раз «ответные реплики собеседника» являются «ответными репликами», и именно «собеседника»? Например, Пушкин написал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!». Что это: монолог или диалог? К кому это обращено? Может быть, нам отказаться от метафоричности, говоря о собеседниках, может быть, нам стоит признать существование других людей, которые живут в нас.
Мне кажется, что это имеет отношение и к категории ИСС. Если мы откажемся от осторожной метафоры «внутреннего собеседника», универсально распространяемой на интрапсихические проявления отраженных Других в нас (будь то другие люди или мы сами в другие моменты жизни), то, как мне кажется, мы сможем лучше выразить суть измененных и ясных состояний сознания и смысл психотерапевтической работы. В измененных состояниях сознания отсутствует признак обратимости саморефлексии при переходе между разными субъектами. Автор говорит о полилоге. Давайте возьмем слово «полилог» как обозначение множества логик в нас. Когда я перехожу скачком из логики одного субъекта, живущего во мне, в логику другого, то может рваться связь между тем и другим. Я не могу вернуться в свое исходное состояние, я прохожу точку невозврата. Я проваливаюсь в другое состояние сознание и не могу мысленно вернуться назад, связывая исходную и конечную точки. В субъектном плане я превращаюсь в другого. Один крепко пьющий человек объяснял мне: «Я выпил, и я – другой, а другому – еще хочется… Ты меня не поймешь…». А ясное состояние сознание – это подлинный диалог между разными «я», возможность проживания и имитации позиции каждого каждым и возможность при этом вернуться к себе, быть «у себя». И с этой точки зрения цель психотерапии – наладить этот диалог, превратить разные «я» в собеседников, опосредствуя их диалог. Таким же внутренним неметафорическим собеседником становится при этом сам терапевт.
Под-ход к такому пониманию, несомненно, содержится в работе А. В. Россохина, а я предлагаю свой «за-ход» (по ту сторону хода).
Одно-единственное теоретико-экспериментальное исследование А. В. Россохи-на упразднило, по сути, десятки верных, но бездоказательных рассуждений о том, как «работает психотерапия». Эта книга являет собой фундаментальный вклад в метаанализ систем психотерапии.
В. А. Петровскийчлен-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии личности ГУ-ВШЭ
От автора
Рефлексия, приведшая меня к написанию этой книги, зарождалась и развивалась в результате внешнего и внутреннего полилога со многими значимыми для меня людьми.
Для меня всегда были важны любовь матери и слово отца. Их открытость всему новому, бесстрашие перед лицом неопределенности, способность удивляться, изменяться и двигаться вперед, сохраняя при этом опору под ногами, всегда служат для меня примером.
Мне никогда не удастся выразить словами всю значимость для моей работы моей семьи: жены и дочери, их любовь и вера в меня были главными источниками моего вдохновения. Живое бессознательное, творческая сила и глубокий ум жены, эмоциональность, любопытство и искренность дочери заряжали меня в моменты сомнений и колебаний. Жена – настоящий соавтор этой книги, во внутреннем и внешнем диалоге с ней книга писалась.
Виктор Федорович Петренко, не приемлющий компромиссов ни в чем, что касается научного знания, его действительной новизны и значимости, служит для меня идеалом человека, целиком и полностью посвятившего себя служению науке. Будучи на протяжении двадцати лет его учеником, сотрудником и другом, я по возможности стремился соответствовать той высокой планке, которую он установил. Думаю, что я не состоялся бы в науке без его требовательной поддержки, дружеской снисходительности к моим ошибкам, без атмосферы научной и творческой свободы, которую он создал в лаборатории психологии общения и психосемантики, где я проработал много лет.
Важнейшим значимым другим в моей внутренней и внешней реальности является Александр Григорьевич Асмолов, сила его личности, глубина и размах идей, излучаемое стремление к свободе мысли и творчества оказали на меня неоценимое влияние. Неустанное утверждение Александром Григорьевичем необходимости наведения прочных мостов между культурно-исторической психологией и психоанализом всегда поддерживало меня. Оба этих научных направления органично живут и творчески взаимодействуют в этом ярком и неординарном человеке и ученом.
Я благодарен судьбе за встречу с Андреем Владимировичем Брушлинским, удивительно искренним и благородным человеком, ученым-аристократом, сочетавшим в себе здоровый научный консерватизм с поисками новых, оригинальных подходов к исследованию человеческой души. Совместное с ним научное руководство написанием двух кандидатских диссертаций не только творчески обогатило меня, но и позволило ближе соприкоснуться с живым и любознательным Я выдающего ученого. Именно Андрей Владимирович всемерно поддержал мою идею издать многотомную «Антологию современного психоанализа», содержащую переводы ключевых современных психоаналитических статей. Благодаря его помощи был издан первый том антологии, и Андрей Владимирович написал к нему предисловие (Брушлинский А. В. Психоанализ в России // Антология современного психоанализа. Т. 1 / Под ред. А. В. Россохина. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 10–13). Светлая ему память.
Такую же преданность науке и внутренне благородство я встретил у Виктора Владимировича Знакова, ближайшего сотрудника и друга Андрея Владимировича Брушлинского. Виктор Владимирович всегда был моим незримым ангелом-хранителем в науке. Во многом благодаря его постоянному вниманию к моим работам на свет появилась моя первая монография «Личность в измененных состояниях сознания». Классик психологии понимания, Виктор Владимирович обладает уникальной способностью, свойственной выдающимся скульпторам, – увидеть в куске мрамора будущее произведение.
В своих научных исследованиях я опирался на пионерские работы Елены Теодоровны Соколовой. Глубина ее научных открытий и психотерапевтическая интуиция всегда восхищали меня. Развитие психоаналитического знания в стенах факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова во многом осуществляется благодаря научным и преподавательским усилиям Елены Теодоровны.
Я глубоко благодарен своему коллеге и другу Вадиму Артуровичу Петровскому за творческое сотрудничество и психотерапевтическое взаимопонимание. Невероятно талантливый, страстный, вырывающийся за границы познанного и поэтически описывающий открывающиеся его взору новые пространства, Вадим Артурович заражает своим влечением к жизни всех окружающих.
Мое развитие как психолога-исследователя происходило под влиянием отечественной школы психологии А. Н. Леонтьева, Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, а становление как профессионального психоаналитика стало возможным благодаря французской психоаналитической школе. Я хотел бы выразить глубочайшее признание и благодарность моим Учителям – выдающимся французским психоаналитикам: Юлии Кристевой, Андре Грину, Джойс Макдугалл и Сезару Ботелла, работа с которыми открыла для меня бесконечный мир бессознательного. Отдельная благодарность моему другу и проводнику в мир международного психоанализа Алену Жибо, чья душевная щедрость, психоаналитическое искусство и гуманизм всегда удивляли меня.
Особая признательность коллегам, с которыми меня связывают научные и дружеские отношения: Алексею Николаевичу Гусеву, Галине Владимировне Солдатовой, Александру Шамильевичу Тхостову, Дмитрию Алексеевичу Леонтьеву, Владимиру Владимировичу Селиванову, Лидии Владимировне Матвеевой, Владимиру Вильетарьевичу Кучеренко, Ольге Валентиновне Митиной, Светлане Васильевне Кривцовой, Елене Евгеньевне Насиновской, Ольге Николаевне Аристовой, Александру Евгеньевичу Войскунскому, Владимиру Владимировичу Умрихину, Юрию Ивановичу Фролову, Станиславу Олеговичу Раевскому, Ангелине Игоревне Чекалиной.
Я благодарен коллегам-психоаналитикам: Игорю Максутовичу Кадырову, Екатерине Семеновне Калмыковой, Анне Владимировне Казанской, чьи работы, посвященные психоаналитическим исследованиям, имеют важное значение для интеграции психоаналитического знания в психологию.
Хочу поблагодарить университетских коллег, с которыми меня долгие годы связывает научная работа: Юрия Петровича Зинченко, Евгения Александровича Климова, Вячеслава Андреевича Иванникова, Бориса Сергеевича Братуся, Федора Ефимовича Василюка, Андрея Андреевича Пузырея, Сергея Николаевича Ениколопова, Татьяну Васильевну Корнилову, Сергея Дмитриевича Смирнова, Виктора Михайловича Аллахвердова, Антонину Александровну Ждан, Диану Борисовну Богоявленскую, Игоря Александровича Васильева, Витиса Казиса Вилюнаса, Наталью Борисовну Березанскую, Анатолия Николаевича Кричевца, Елену Евгеньевну Соколову, Веронику Валерьевну Нуркову, Анну Владимировну Визгину, Елену Ивановну Шлягину, Леонору Сергеевну Печникову, Анну Алексеевну Матюшкину, Екатерину Евгеньевну Васюкову, Ольгу Владимировну Гордееву, Аиду Меликовну Айламазьян, Елену Юрьевну Федорович, Марию Вячеславовну Фаликман, Алексея Львовича Гройсмана, Татьяну Игоревну Менчук.
Я благодарен своим ученикам, студентам и аспирантам, в особенности тем, кто участвовал в исследованиях, представленных в этой книге: Марии Пугачевой, Ольге Лутовой, Любови Сизовой, Анне Шепеленко и Анне Кадыровой.
Введение
Многовековая история изучения рефлексии в философии и позднее в психологии, отражает значимость этой уникальной способности человека для развития личности и понимания им самого себя. Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что, несмотря на весь огромный вклад предыдущих поколений исследователей, проблема рефлексии продолжает оставаться в определенной мере таинственным феноменом человеческой психики, во многом еще непонятным психическим механизмом, 1) обеспечивающим целостность личности, 2) все время подвергающим эту целостность испытаниям и конфликтам и одновременно с этим 3) способствующим переосмыслению личностью самой себя и своих психических содержаний в процессе разрешения внутренних конфликтов и тем самым приводящим личность к новому более целостному состоянию.
Существует большое разнообразие подходов не только к изучению рефлексии, но и к пониманию ее роли в обеспечении поведения и деятельности, в развитии и становлении личности. Изучение проблемы рефлексии в отечественной психологии начинает свою историю от теоретических работ Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и других ученых, рассматривавших рефлексию в качестве одного из объяснительных принципов организации психики человека, прежде всего, его высшей формы – самосознания.
Согласно Л. С. Выготскому, важнейшей задачей является постановка вопроса о рефлексии в психологическом исследовании. А. Н. Леонтьев в рамках деятельностного подхода рассматривал рефлексию как внутреннюю работу личности по решению задачи на смысл. С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что с процессом рефлексии связано ценностно-смысловое определение жизни.
Проблема рефлексии в отечественной психологии изучается с четырех основных позиций: кооперативной – Е. Н. Емельянов (1981), А. В. Карпов (2002, 2004), И. С. Кон (1989), В. Е. Лепский (2005), В. А. Лефевр (1973, 1990), Г. П. Щедровицкий (1974, 1995) и др.; коммуникативной – Г. М. Андреева (1981), А. А. Бодалев (1982, 1983) и др.; интеллектуальной – А. В. Брушлинский (1982, 1994, 1996), Т. В. Корнилова (1997, 2006), Ю. Н. Кулюткин (1979), А. М. Матюшкин (1984), О. К. Тихомиров (1984), В. В. Давыдов (1975), А. Н. Матюшкин (1985), О. К. Тихомиров (1984), И. Н. Семенов (1990), И. С. Ладенко (1990) и др.; личностной – К. С. Абульханова-Славская (1973, 1991), В. М. Аллахвердов (2000), А. Г. Асмолов (1986, 1996, 2001), Б. С. Братусь (1998, 1999, 2005), С. П. Варламова (1997), Ф. Е. Василюк (1984, 1991, 2005), Н. И. Гуткина (1982), Б. В. Зейгарник (1981), В. В. Знаков (1996, 1998, 2005), Д. А. Леонтьев (1999, 2006), В. С. Mухина (1998), В. Ф. Петренко (1988, 1990, 2005), В. А. Петровский (1992, 1996, 2000), И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов (1985, 1990), В. И. Слободчиков (1994), Е. Т. Соколова (1989, 1997, 2001), В. С. Шаров (2000) и др. При этом первые два направления представляют собой исследования коллективных форм деятельности и опосредствующих их процессов общения, а другие два – исследования индивидуальных форм проявления мышления, сознания и самосознания.
Личностная рефлексия понимается большинством авторов как психологический механизм изменения индивидуального сознания. Рефлексия здесь выступает смысловым центром внутренней реальности человека и всей его жизнедеятельности в целом.
Говоря о современных исследованиях личностной рефлексии, следует упомянуть о появлении нового направления – рефлексивно-гуманистической психологии (Е. П. Варламова, C. Ю. Степанов), в котором предметом изучения является процесс творчества (творческое самоопределение, саморазвитие), объяснительным принципом – рефлексивно-инновационный процесс, а методом работы с феноменами высших творческих проявлений человека – рефлепрактика.
Обращаясь к зарубежным исследованиям рефлексии в метакогнитивизме, я могу отметить их интеллектуалистическую ориентацию в теоретическом плане, присущую большинству исследований мышления в зарубежной психологии, а также их остающуюся близость к методологии информационного подхода. Все функции рефлексии в метакогнитивизме замещаются метакогнитивными процессами (формирование метакогнитивных стратегий, метакогниция, метапонимание, мета-когнитивная регуляция, метапроцессы как «клей» для целостной психики и т. п.). Однако происходит не просто замещение рефлексивных процессов метакогнитивными, но и существенное обеднение при этом самой сущности рефлексии. Она низводится до обслуживания контроля, мониторинга, регуляции и управления. Не нужно и говорить о том, что здесь исчезает не только личностный план рефлексии, но и вся «целостная личность», чьим «клеем», с точки зрения, культурно-исторической психологии и является рефлексия. При этом организованная иерархическим образом рефлексивная регуляция (А. В. Карпов) или прямо отождествляется с метакогнитивными процессами, или, в более частных случаях, превращается или в один из метакогнитивных процессов либо даже в «базовый регулятивный компонент метакогниции».
Оценивая в целом изучение рефлексии в зарубежной психологии, я могу констатировать дефицит экспериментальных и эмпирических исследований, направленных на разработку такого важнейшего типа рефлексии как личностная рефлексия. При этом на тему личностной рефлексии написано достаточно много работ с общими рассуждениями и подходами. Тематика личностной рефлексии подробно рассматривается в различных направлениях психотерапевтической практики: психоанализе, гуманистической и экзистенциальной психотерапии, гештальт-терапии и др. Однако, здесь проблема рефлексии разрабатывается с перспективы терапевтической помощи человеку, что, конечно, часто сужает рамки исследований до влияния рефлексии на эффективность тех или иных видов психопрактики. Теоретическое, экспериментальное и эмпирическое исследование личностной рефлексии как интеграционного механизма личности остается по-прежнему актуальным как никогда.
Являясь активным субъектным процессом, преобразующим внутреннюю реальность человека, рефлексия трудноуловима эмпирически и операционально. Я согласен с А. В. Карповым (2004), отмечающим беспрецедентную сложность рефлексии как предмета общепсихологического изучения, слабую разработанность собственно методических аспектов проблемы, недостаточность эмпирических и экспериментальных методов ее изучения. Малое число конкретных закономерностей, описанных в психологии в отношении рефлексии не означает, что их на самом деле мало и что они поэтому малозначимы.
Однако мой подход к исследованию рефлексии принципиально отличается от метакогнитивно-ориентированной концепции рефлексии А. В. Карпова. В последней рефлексии отводится регулятивная роль, способствующая достижению адаптации субъекта в его отношениях с миром. Я же понимаю рефлексию не просто как процесс осознания, регуляции, самоконтроля, управления и т. п., но как процесс смыслопорождения, смыслообразования, как уникальную способность личности к рефлексии нерефлексивного, способную приводить к возникновению принципиально новых смыслов, принципиально качественным изменениям не только в самом рефлексивном функционировании, но и к принципиально качественному (а не количественному!) развитию субъектности, всей личности в целом.
Когда рефлексия подменяется метакогницией, то та же участь ожидает и субъекта, из которого исчезает все нерефлексивное, бессознательное, иррациональное и непостигаемое. Мы можем часто встретить акцент на «повышение меры адаптивности» субъекта и в современных исследованиях рефлексии. Однако, благодаря работам Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, А. Г. Асмолова, А. К. Абульхановой-Славской, В. А. Петровского и др. мы уже хорошо знаем, что наличие только адаптивных тенденций взаимодействия человека с самим собой и с миром недостаточно для развития, для формирования личности как субъекта активности. Именно, благодаря рефлексии, понимаемой мною вслед за А. Н. Леонтьевым как внутренняя работа и вслед за А. Г. Асмоловым как активный субъектный процесс порождения смыслов, и возникает выход за пределы адаптивного поведения, позволяющий преодолевать сложившиеся стереотипы и порождать принципиально новые личностные смыслы и способы рефлексии, формируя субъектность как важнейшее качество развивающейся личности.
Вне всякого сомнения, регуляция, координация, организация, контроль и управление играют существенную роль в процессе адаптации субъекта к жизни и деятельности, к своим внутренним переживаниям и др., однако, для развития и становлении личности, обретения субъектом индивидуальности, их участие конечно необходимо, но совершенно недостаточно. Важнейшие аспекты рефлексии, обеспечивающие именно процесс развития личности, интегративные процессы, включающие в себя не только сознательные (и тем самым регулируемые), но и неосознаваемые психические содержания не должны оставаться без внимания.
В этой связи мы можем опереться на новые философские подходы к пониманию рефлексии, разрабатываемые в современной феноменологии (М. Мерло-Понти, П. Рикер) и согласно которым рефлексия – это не только «мышление о мышлении», «познание о познании», но главным образом «рефлексия о нерефлексивном» (М. Мерло-Понти). Традиционная интерпретация рефлексии, выражающаяся в конституирующей работе сознания, расценивается современными феноменологами как понимание рефлексии исключительно с позиций интеллектуализма. Новое понимание рефлексии исходит из понимания недостаточности сферы сознания, его зависимости от нерефлексивных психических содержаний. В этом отношении сама возможность рефлексии о нерефлексивном рассматривается как уникальная способность человека. Это новое современное философское понимание рефлексии акцентирует также такое важнейшее свойство рефлексии как способность изменять структуру сознания и приводить при этом человека в состояние подлинного творчества. С этой современной философской перспективы мы можем ясно увидеть сходство психического функционирования психоаналитической, художественной, актерской и любой другой присутствующей в различных творческих процессах рефлексии, каждая из которых имеет прямую связь с нерефлексивными психическими содержаниями и поэтому разворачивается и осуществляется в измененных состояниях сознания.
Именно в этом, на мой взгляд, заключается суть личностной рефлексии, позволяющей мне рассматривать ее как механизм качественных изменений ценностно-смысловых образований и интеграции личности в новое, более целостное состояние.
Предпосылки к этому новому пониманию рефлексии как рефлексии о нерефлексивном мы можем встретить и в отечественной психологии – в идеях А. Н. Леонтьева о рефлексии как о «внутренней работе решения задач на личностный смысл», работе по раскрытию уникальных, часто неосознаваемых личностных смыслов, или как об этом писал В. К. Вилюнас, работе по «обретению вербализованных смыслов, в результате осознания смыслов невербализованных в ходе «решения задачи на смысл»». Благодаря этому, мы лучше понимаем важнейшую интегративную роль рефлексии в процессах смыслообразования и развития личности.
Итак, мое определение рефлексии состоит в следующем. Личностная рефлексия – это активный субъектный процесс порождения смыслов, основанный на уникальной способности личности к осознанию бессознательного (рефлексия нерефлексивного) – внутренней работе, приводящей к качественным изменениям ценностно-смысловых образований, формированию новых стратегий и способов внутреннего диалога, интеграции личности в новое, более целостное состояние.
Именно это, общепсихологическое понимание личностной рефлексии как способности личности осуществлять рефлексивную работу с нерефлексивными психическими содержаниями, переосмысливая не только эти последние, но также и свои собственные рефлексивные стратегии, способы внутреннего размышления и понимания, и интересует меня в исследованиях измененных состояниях сознания (ИСС). Психоанализ, являясь методом погружения субъекта в ИСС в ходе особым образом организованной аналитической рефлексии, предоставляет уникальный эмпирический материал для общепсихологического исследования динамики личностной рефлексии и ее влияния на различные аспекты жизнедеятельности личности. Я могу здесь заметить, что измененные состояния сознания, возникающие в психоаналитическом процессе специальным образом организованной рефлексии, могут быть также названы рефлексивными состояниями сознания, имеющими различную степень выраженности рефлексии (различные уровни рефлексии).
Именно эта личностная рефлексия в возникающих в психоанализе ИСС, как раз и направлена на рефлексию о нерефлексивном, запуская процессы глубокого рефлексивного переосмысления внутренних психических содержаний в ИСС и приводя к формированию новых личностных смыслов. Теоретическое и эмпирическое исследование этой личностной рефлексии и ее взаимосвязи с внутренним диалогом в психоаналитических ИСС и служит главной целью моей работы.
Проблема ИСС разрабатывается не только в общей психологии и психологии личности, но также в психиатрии, клинической психологии и трансперсональной психологи. При этом каждая научная дисциплина рассматривает свой собственный аспект ИСС.
Систематические научные исследования проблемы ИСС начались с работ немецкого психолога А. Людвига, первым разработавшего модель ИСС, основанную на положении о модульной структуре состояний сознания (Ludwig, 1966). Согласно классическому определению Людвига, измененные состояния сознания представляют собой «любые психические состояния, индуцированные физиологическими, психологическими или фармакологическими событиями или агентами различной природы, которые распознаются самим субъектом или внешними наблюдателями, и представлены существенными отклонениями в субъективных переживаниях или психологическом функционировании от определенных генерализованных для данного субъекта норм в состоянии активного бодрствования» (Ludwig, 1966, р. 9). Основываясь на исследованиях А. Людвига, французский антрополог Э. Бургиньон делает вывод: «ИСС – это состояния, в которых изменяются ощущения, восприятия, эмоции и когнитивная сфера» (Бургиньон, 2001, с. 410).
В современной психологии разрабатываются различные модели, описывающие ИСС: дискретные (Tart, 1975), континуальные (Martindale, 1981) и дискретно-континуальные (Dittriсh, 1981). Согласно Ч. Тарту, измененное состояние сознания – это новая по отношению к базисному состоянию (например, обычному бодрствованию) психическая система, обладающая присущими только ей характеристиками, своей хорошо упорядоченной, целостной совокупностью психологических функций, которые обеспечивают ее стабильность и устойчивость даже при значительных изменениях отдельных подсистем или определенной перемене внешних условий (Tart, 1969).
Наиболее активно ИСС исследуются в трансперсональной психологии, в рамках которой утверждается, что изучение феноменологии ИСС позволяет переосмыслить проблему сознания и расширить границы традиционного понимания личности. Трансперсональными психологами предложен ряд классификаций, систематизирующих и описывающих необычные переживания личности в ИСС, и модели психики, на них основывающиеся. Самые известные из них: спектр сознания К. Уилбера (Wilber, 1977); картография внутренних пространств С. Грофа (Гроф, 1994), модель холодвижения Д. Бома (Bohm, 1986); модель личности Р. Уолша и Ф. Воган (Walsh, Vaughan, 1980).
В связи с положениями трансперсональной психологии о спонтанном и самопроизвольном достижении интеграции личности при погружении в ИСС при условии полного прекращения рефлексии и абсолютного доверия глубинной логике бессознательного актуальной становится проблема: какой из двух процессов (рефлексивная работа с нерефлексивными содержаниями как трансформация личностных содержаний и их взаимоотношений или самопроизвольная, спонтанная интеграция в более целостное Я в ИСС) является причиной, а какой следствием. Рефлексия как процесс смыслопорождения вызывает интеграцию или произошедшая в ИСС спонтанная интеграция приводит к переосмыслению себя и своих отношений с внутренним миром. В ряде работ (Россохин, 1993, 1995, 1996, 2000, 2004) я показал, что рефлексивная работа в ходе погружения в ИСС с проявляющейся символической презентацией, личностными содержаниями (т. е. образом личности, с которым отождествляет себя Я во время переживания конфликта и частью личности, ранее неосознававшейся) и их взаимодействием друг с другом и есть механизм их интеграции в более целостный образ Я, характеризующийся новыми, реорганизованными способами и формами рефлексии, эмоционального восприятия и взаимодействия как с психической, так и с внешней реальностью.
В отличие от психиатрического, клинического и трансперсонального подходов к исследованию ИСС предметом моих исследований является феноменология ИСС, возникающая в ходе психоаналитического процесса, который представляет собой особым образом организованный процесс аналитической рефлексии в ИСС.
В отечественной психологии пионерские исследования психотерапевтического и психоаналитического процесса были осуществлены Е. Т. Соколовой (1995, 1997, 2002), внесшей фундаментальный вклад в их понимание и в разработку эмпирических методов их исследования. Е. Т. Соколова теоретически и эмпирически исследовала мотивацию и восприятие субъекта в норме и в различных патологических состояниях (1976); самосознание и самооценку субъекта при различных аномалиях личности (1989); особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях (1995) и разработала не только интегративный подход к исследованию психотерапии невротической и пограничной личности, но и авторскую интегративную психотерапию личности.
В рамках психосемантического подхода к исследованию ИСС (Кучеренко, Петренко, Россохин, 1996) я рассматриваю измененные состояния сознания через изменения форм категоризации сознания субъекта.
Мое определение ИСС состоит в том, что ИСС – это состояния, в которых происходят трансформация семантических пространств субъекта, изменения формы категоризации, сопровождающиеся переходом от социально-нормированных культурой форм категоризации к новым способам упорядочения внутреннего опыта и переживаний. Разработанные нами в соавторстве (Кучеренко, Петренко, Россохин, 1996) критерии возникновения ИСС следующие: 1) переход от преимущественной опоры на вербально-логические, понятийные структуры, к отражению в форме наглядно-чувственных (довербальных) образов; 2) изменения эмоциональной окраски отражаемого в сознании внутреннего опыта, сопровождающие переход к новым формам категоризации; 3) изменения процессов самосознания, рефлексии и внутреннего диалога; 4) присутствие во внешнем диалоге фрагментов внутреннего диалога; 5) изменения восприятия времени, последовательности происходящих во внутренней реальности событий, частичное или полное их забывание, обусловленное трудностью, а иногда и невозможностью, перевода внутреннего опыта, полученного в измененных состояниях на «язык» социально-нормированных форм категоризации, например, сложность воспроизведения последовательности событий сновидения во время рассказа о нем в бодрствующем состоянии сознания.
Возникающие в ходе психоанализа, рассматриваемого мною как особым образом организованный процесс аналитической рефлексии в ИСС, состояния сознания полностью соответствуют этим критериям и демонстрируют появление характерных для ИСС изменений в психическом функционировании субъекта. В ходе психоаналитического процесса субъект, проходящий психоанализ, постепенно погружается в особые регрессивные ИСС, сопровождающиеся изменением эмоциональной окраски отражаемого в сознании внутреннего опыта, изменениями процессов самосознания, рефлексии, восприятия времени и последовательности происходящих во внутренней реальности событий.
Характерной особенностью регрессивных ИСС является оживление прошлого в настоящем, приводящее к активизации глубинных бессознательных содержаний личности и их взаимодействию с сознательным Я. Этот новый интерактивный диалог приводит к возникновению у субъекта специфических трансферентных измененных состояний сознания. Активный рефлексивный процесс их переосмысления и проработки, осуществляемый субъектом с помощью аналитика, приводит к порождению новых личностных смыслов и качественно новых рефлексивных стратегий и способов внутреннего диалога.
Современный психоанализ, согласно Д. А. Леонтьеву «направлен именно на раскрытие уникальных, часто не осознаваемых личностных смыслов. В этом отношении психоанализ имеет некоторую специфику, поскольку если в повседневном общении мы оперируем, как правило, общепринятыми денотативными и коннотативными значениями слов, то психоаналитику нередко приходится сталкиваться с весьма специфичными, глубоко индивидуальными смыслами, игнорирование которых (в частности ориентация исключительно на универсальные символы) становится достаточно распространенной ошибкой» (Леонтьев, 1999).
Другой признак, по которому феноменологию, полученную в процессе психоанализа, можно отнести к продукции ИСС, – присутствие во внешнем диалоге фрагментов внутреннего диалога. Происходит «диалог сознательного и бессознательного» (Россохин, 1993), т. е. вербально выраженное взаимодействие между различными психическими структурами, имеющими различную степень представленности в сознании, осознанности. Именно благодаря ИСС появляется возможность реализации важнейшей функции рефлексии – рефлексии ранее нерефлексивных психических содержаний.
Подобные регрессивные состояния сознания и та или иная рефлексивная активность в этих состояниях, возникающие у субъекта в ходе психоанализа, находят свое отражение в вербальном материале психоаналитических сессий. Соответственно посредством изучения этого вербального эмпирического материала могут быть исследованы как сами ИСС, так и динамика рефлексивной активности личности в этих состояниях и ее взаимосвязь с внутренне диалогическими личностными процессами.
В более широком контексте, одной из важнейших задач моих исследований является анализ и осмысление психоаналитических феноменов с общепсихологических позиций. Психоанализ представляет собой не только терапевтический метод, но и исследовательскую процедуру, направленную на изучение и развитие личности человека. Специальным образом организованная аналитическая рефлексия как внутренняя работа, порождающая новые смыслы, представляет собой самую сердцевину психоаналитического метода. Именно поэтому, исследования рефлексии ИСС я провожу на эмпирическом материале, полученном в ходе психоаналитического процесса.
Итак, новое общепсихологическое понимание личностной рефлексии как рефлексии о нерефлексивном в ИСС ведет к необходимости проведения новых эмпирических исследований, для осуществления которых требуется разработка нового методического арсенала. Если же мы обратимся к исследованиям рефлексии и внутреннего диалога в ИСС, то обнаружим их практически полное отсутствие. Психология рефлексии в ИСС остается неисследованным полем, и поэтому анализ рефлексии в ИСС, ее взаимосвязь с внутренним диалогом, а также эмпирическая и экспериментальная разработка этих проблем находятся в данный момент на начальной стадии исследования.
Ранее я детально исследовал особенности и динамику рефлексии в измененных состояний сознания в психоанализе и ее влияние на различные аспекты психического функционирования личности (Россохин, 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006). Эти исследования составили основу разработанного мною нового научного направления – психологии рефлексии измененных состояний сознания, которое остается чрезвычайно актуальным и сегодня. Продолжение разработки этого направления является важнейшей психологической задачей.
В этой монографии представлены новые теоретические и эмпирические исследования рефлексии и внутреннего диалога, проявляющихся и развивающихся в ходе психоаналитического процесса.
Глава 1
Проблема рефлексии измененных состояний сознания в философии и психологии
1.1. Проблема рефлексии в философии и психологии
1.1.1. Философские концепции рефлексии
Понятие рефлексии в философию ввел Рене Декарт. Он так описывал процесс рефлексии: «Когда… взрослый человек ощущает что-либо и одновременно воспринимает, что он не ощущал этого ранее, это второе восприятие я называю рефлексией и отношу его лишь к разуму, хотя оно настолько связано с ощущением, что оба происходят одновременно и кажутся неотличимыми друг от друга» (Декарт, 1994, с. 565). Являясь основателем рационалистической теории самосознания, Рене Декарт считал рациональную интуицию способом, с помощью которого человек открывает содержание врожденных идей: «Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что он не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим». Сделав мышление исходным пунктом своей философии, Р. Декарт подчеркивал автономность рефлексии как способа организации знания.
Отвергая точку зрения Декарта о врожденных идеях, Дж. Локк полагал, что все наши знания мы черпаем из опыта. Постулат Локка гласит, что «в сознании нет ничего, чего бы не было в ощущениях». Он пишет: «Под рефлексией… я подразумеваю то наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность и способы ее проявления, вследствие чего в разуме возникают идеи этой деятельности» (Локк, 1960, с. 155). И в другом месте: «Называя первый источник (опыта) ощущением, я зову второй рефлексией, потому, что он доставляет только такие идеи, которые приобретаются душою при помощи рефлексии о своих собственных внутренних деятельностях» (там же). Рефлексия у Дж. Локка – это человеческие размышления, связанные с анализом своих мыслей, переживаний и наблюдений – анализом собственного психического состояния. Понятие рефлексии обретает у Локка психологический оттенок и в большей степени отображает понятие самопознания.
Рассматривая развитие проблемы рефлексии в философии Нового времени, В. М. Розин утверждает, что понятие рефлексии было призвано объяснить целостность и развитие человека как личности, и отмечает, что «с одной стороны, личность постоянно приобретает новые знания, представления, понятия, способности, с другой – все эти новообразования прочно закованы в круг Я, принадлежат универсуму личности и, следовательно, должны проистекать из уже существующего в Я, т. е. из старого. Разрешение этого противоречия, как и в античной философии, происходит в рамках рефлексивного мышления (но в данном случае уже вводится осознанное понятие рефлексии). Универсуму личности приписывается особая способность – рефлексия, сочетающая в себе одновременно искусственный план (отображение деятельности души, познание ее) и естественный (сама рефлексия есть часть души, механизм ее изменения). Безусловно, личность изменяется не только и не столько сама по себе, сколько под влиянием внешней среды (взаимоотношений, деятельности, попыток разрешить различные проблемы) и поэтому отнюдь не является универсумом. Однако в плане реальности Я личность есть именно универсум, и пока подобная точка зрения работает, будет работать и понятие рефлексии» (Розин, 1987, с. 224).
Немецкая классическая философия внесла существенный вклад в понимание рефлексии. Кант, исследуя познавательную способность человека, говорит о «рефлексирующей способности суждения». Рефлексия для него представляет собой «осознание отношения данных представлений к различным нашим источникам познания, и только благодаря ей, отношение их друг к другу может быть правильно определено» (Кант, 1994, с. 345). Кант выделяет две формы рефлексии: логическую рефлексию, осуществляющую сравнение представлений без реализации познавательной способности, и трансцендентальную рефлексию, благодаря которой представления сравниваются друг с другом, одновременно соотносясь с познавательной способностью (с чувственностью или с рассудком). Трансцендентальная рефлексия «содержит основание возможности объективного сравнения представлений друг с другом и образования понятий… Трансцендентальная рефлексия обязательна для всякого, кто желает a priori судить о вещах» (с. 250). Кант считал, что, являясь необходимым для познания особым состоянием души, рефлексия представляет собой психический акт, концентрацию сознания на самом себе, средство и форму познания.
Ю. О. Орлова (2006) указывает на то, что кантовское «состояние» трансцендентальной рефлексии в определенном смысле аналогично аристотелевскому истолкованию «мышления мышления» и выступает в общем ряду опыта сознания как событие дискретное и случайное. Однако как рефлексивный акт оно представляет «целесообразно себе самой действующую действительность» – мышление, согласованное с собственными принципами и «нацеленное» на сами эти принципы. Кант, так же, как Аристотель и Гуссерль, специально подчеркивает отсутствие «способности» (в смысле возможности или «умения» осуществления этого акта) к трансцендентальной рефлексии, последняя представляет собой состояние, в которое можно «впасть», а можно и не «впасть».
В философии Гегеля рефлексия представляет собой практически движущую силу развития духа. О. Генисаретский (1981) полагает, что в «Науке логики» Гегель пользуется терминами «рефлексия» и «сознание» фактически как синонимами, заставляя читателя ощущать сдвоенность сознания и рефлексии, доходящую порой до их отождествления друг с другом.
В «Феноменологии духа» рефлексия духа о самом себе выступает как форма со-развертывания духа, как основание, благодаря которому возможен переход от одной формы духа к другой. Мышление, согласно Гегелю, является рефлексивным тогда, когда, кроме получения предметного знания, оно осознает способы его получения; когда возникает проблема обоснования знания и его истинности и когда рефлексия обеспечивает мышлению возможность контролировать само себя. Гегель описывал это так: только порождая себя, мысль себя находит. Мышление становится рефлексивным и действительным в подлинном смысле слова лишь в том случае, когда оно осознает себя, предстает перед самим собой в качестве объекта. Продолжая традицию метафизики света, Гегель описывает рефлексию как свет, который «превращается в молнию мысли, ударяющую в самое себя и создающую, исходя отсюда, свой мир» (Гегель, 1994, с. 146).
Гегель описывает две формы рефлексии: теоретическую и практическую. Теоретическая рефлексия представляет собой метод «восхождения ко многим определениям предмета, и осуществляющееся благодаря этому сведение их в некотором единстве», к которому человек прибегает как к единственному способу понимания собственной сущности. Только человек обладает способностью к рефлексии – способностью подниматься от единичности ощущения к всеобщности мысли, к постижению своей субъективности. Практическая рефлексия – это процесс становления человека человеком, обретения им своей индивидуальности. Прежде всего рефлексии, согласно Гегелю, подвергаются побуждения человека, что означает для него стремление узнать не только о побуждениях, но также и о том, что им противоположно.
Можно видеть, что всей новоевропейской философии, включая немецкую классическую, была свойственна убежденность в единообразии разума как познавательной способности человека. От Декарта, уверенного в том, что люди практически не различаются «по разуму», через Канта с его концепцией «трансцендентального субъекта» до Гегеля, в системе которого единый и нераздельный дух познает и обретает сам себя, эта рационалистическая установка сохранилась практически неизменной. Н. А. Калашникова (2006) уверена, что именно с этой установкой связана убежденность в принципиальной «прозрачности» и доступности для рефлексии субъекта всех его психических процессов. Как дополнительное следствие этого рационального понимания рефлексии, в то время было очень устойчивым убеждение, что раз не существует принципиальных трудностей в самопознании, то их не может быть и в познании «другого» человека.
На новый уровень понимания проблемы рефлексии выходит в своих работах Э. Гуссерль. Поль Рикер так пишет об его исследованиях: «Я не скрываю, что такая рефлексия свойственна не всем концепциям философии; тем не менее я верю, что она имеет значение для целой группы философских концепций, которые в широком смысле слова можно было бы назвать рефлексивными и к которым были причастны Сократ, Декарт, Кант, Гуссерль. Все эти концепции заняты поиском подлинной субъективности, подлинной деятельности осознания. Что мы должны без конца открывать и открывать, так это то, что путь, ведущий от Я к Я – и именно это мы будем называть осознанием…» (Рикер, 1998, с. 48).
Рефлексия у Гуссерля оказывается «способом видения», включенным при этом в сам метод описания. Она трансформируется в зависимости от того, на какой феномен она направлена, например, рефлексия фантазии сама должна быть фантазией, рефлексия воспоминания – воспоминанием. В отличие от Канта, относившего рефлексию к области действия способности суждения и обособлявшего рефлективный акт от чувственности, Гуссерль приписывает рефлексии также и качества «созерцания». С одной стороны, согласно Гуссерлю, рефлексия как всякий акт сознания, с необходимостью переживается, однако, характер рефлексивного переживания отличается от всех остальных, так как в рефлексии мы имеем дело со свершающимся редуктивным актом, который как бы вплетен в событие рефлексии.
С другой стороны, в поздней феноменологии Гуссерля, всякая рефлексия интенциональна, но не аффективна. Аффект (первичное впечатление) никогда темпорально не совпадает с рефлексивным осознанием, хотя аффект формально непрерывен. Рефлексия же представляет собой снятие аффекта, «истаивающего» под лучом рефлексии. Рефлексия как событие в эмпирическом опыте дискретна, так как фактическая непрерывность мышления невозможна. Ю. О. Орлова обозначает возникающую проблему, которая заключается «не только в том, что в рефлексии мы имеем дело с расколом Я, с надстраиванием всякий раз «нового» субъекта незаинтересованного наблюдения, как неоднократно замечает Гуссерль, но так же и в том, что рефлексия, вместе со всей структурой расщепления Я переживается. Хотя рефлексия не есть аффектация, мы все же не только осуществляем рефлексию, но и переживаем ее, мы аффицированы ее осуществлением» (Орлова, 2006, с. 160).
Вся феноменологическая работа, возможность ее осуществления, предмет и все результаты, согласно Гуссерлю, «принадлежат» рефлективному опыту. Рефлексия становится у Гуссерля универсальным методом самопознания сознания: «феноменологический метод безусловно и исключительно вращается среди актов рефлексии».
Для моего исследования рефлексии ИСС актуальны и значимы две важнейшие идеи Гуссерля. Первая заключается в том, что его феноменологический анализ рефлексивного процесса не ограничивается простым описание рефлексий различных уровней, а приходит к необходимости анализа процесса рефлексии рефлексии. Гуссерль конкретизирует: «то, что называется актуализацией себя, может происходить лишь посредством рефлексии рефлексии. О сущности такой феноменологической саморефлексии я уже говорил».
Вместе с тем, несмотря на то, что понятие рефлексии и является фундаментальным концептом феноменологии сознания, Н. В. Мотрошилова (2003) отмечает, что Гуссерль так и не прояснил возможность «технического использования» рефлексии и поэтому понимание рефлексии как «орудия» работы в поле «феноменологического познания» остается «не вполне конструктивным». Для феноменологии, с точки зрения Н. В. Мотрошиловой, принципиальной методологической проблемой остается практическое «овладение» процедурой рефлексии.
Вторая важная для меня идея Гуссерля состоит в понимании им существенной связи между рефлексивным и нерефлексивным опытом.
Гуссерль подчеркивает, что, с одной стороны, Я постоянно пребывает в само-осознанности, присутствуя во всех активных и пассивных актах, однако, с другой стороны, все эти акты принадлежат ему, являются его собственными актами. При этом, Гуссерль акцентирует, что «чистое Я» не является результатом или продуктом рефлексии, оно «живет» даже в бессознательных актах. Таким образом, Гуссерль, замечает И. Н. Шкуратов (2002), вынужден предположить существование «латентного Я» (бессознательного).
В. И. Молчанов (1988) отмечает, что в феноменологии Гуссерля вопрос о природе рефлексивного акта изначально связан с вопросом о природе сознания. Гуссерль, рассматривая эти вопросы, рассуждает скорее об общем отношении сознания и рефлексии (а не рефлексии и «отдельного» интенционального акта). Феноменологическое истолкование «круга» рефлексия-сознание приводит к обнаружению «тройственного» характера этой круговой природы: это круг «сознание – время – рефлексия». Относительно же собственно феноменологического понимания рефлексии Молчанов отмечает, что в феноменологии остается неразрешенным вопрос об исходном основании рефлексивного акта: «…каковы истоки самой рефлексии? Если они коренятся в нерефлексирующем сознании, не означает ли это, что рефлексия имеет внерефлексивный фундамент? В этом случае на всеобщность рефлексии накладываются существенные ограничения» (Молчанов, 1988, с. 51).
В свою очередь И. Н. Шкуратов (2002) замечает, что рефлексия понимается Гуссерлем как сознание, направленное на другое сознание. Рефлексия не является необходимым моментом каждого сознания, но она может быть направлена на каждое сознание. В рефлексии первичное сознание изменяется и определенным образом встраивается в этот новый акт, становясь предметной данностью (феноменом в строгом смысле). Гуссерль так пишет об этом: «Любая, – какой бы она ни была – „рефлексия“ обладает характером модификации сознания, причем такой, какую в принципе может испытать любое сознание». Вместе с тем, понимание того, что первичное сознание потому и первично, что оно существовало само по себе до рефлексии, разделяет все переживания сознания на «рефлективные» и «нерефлективные» («дорефлективные»).
И. Н. Шкуратов указывает в связи с этим, что в такой постановке вопроса имплицитно уже заложено, что нерефлективное переживание является именно сознанием, т. е., в сущности, интенциональным переживанием. Дистанцируясь от подобных определений, он предагает, в отличие от Гуссерля или Сартра (с его «дорефлективным cogito»), говорить о дорефлективном опыте или даже жизни, которую потом рефлексия может превратить в смысл (жизни). Шкуратов добавляет, что было бы крайне опрометчиво утверждать, что раскрываемое в рефлексии принадлежит ей самой, так как рефлексия, согласно Гуссерлю, конечно, открывает нерефлективное, но, раскрывая его, она не воспроизводит «живую жизнь», первичное переживание не переживается вновь, а предстает как явление, как интенциональный объект нового акта. Самое важное различие между рефлективным и нерефлективным состоит в том, что непредметное («сама» психическая жизнь) посредством рефлексии превращается в предмет. Рефлексия, следовательно, не просто открывает «взору» первичное переживание, но преобразует его и представляет в значительно модифицированном виде. При этом Шкуратов, вслед за Гуссерлем, замечает, что не существует никаких гарантий, что в подобном преобразовании не выпадают некоторые существенные характеристики первичного переживания, о чем свидетельствует опять-таки сама рефлексия. Признавая, что объем и характер рефлективной модификации составляет серьезнейшую проблему, и, по сути, оставляя этот вопрос открытым, Гуссерль в качестве основного «оправдывающего» рефлексию тезиса выдвигает положение о том, что рефлексивная модификация не затрагивает сущности первичного переживания. Кроме этого Гуссерль предъявляет дополнительный аргумент в защиту рефлексии: сомневаться в рефлексии противосмысленно, поскольку такое сомнение уже есть рефлексия. И. Н. Шкуратов отвечает на это, что он не сомневается в существовании рефлексии, как не сомневается также и в том, что она открывает и познает нерефлективное. Однако его критика касается постулата Гуссерля об очевидности («прозрачности») и универсальности рефлективного познания. Обращаясь к тому, что называетя нерефлективным, он отмечает, что Гуссерль понимает опыт как «нерефлективный» в двух аспектах. Первый аспект: нерефлективный опыт – это опыт «естественной установки» в противоположность рефлективному опыту «чистого сознания»; второй аспект: дорефлективный опыт – это любой неотрефлектированный опыт, включая и опыт неотрефлектированных рефлексий. Первое понятие нерефлективного опыта представляет частный случай второго, так как невозможно предполагать, что нерефлективный опыт – это лишь «повседневный опыт». Любая рефлексия подобного опыта сама по себе есть такой же неотрефлектированный опыт. Таким образом, под нерефлективным опытом понимается всякий опыт, который еще не стал рефлективной данностью.
В качестве иллюстрации, поясняющей взаимоотношения рефлективного и нерефлективного, И. Н. Шкуратов приводит фрагмент одной из гуссерлевских лекций: «Воспринимая какую-либо вещь, я „растворяюсь“ в этом восприятии, я „потерян“ в нем. Но это не „самопотерянность“ глубокого сна. Замечая-рассматривая, я направлен на дом. Но то, что я есмь замечающий-рассматривающий – и в этом состоит самопотерянность, о которой идет речь, – об этом я ничего не знаю, и это означает, что на это я не направлен. Это происходит только в форме рефлексии, восприятия более высокой ступени… Осуществляющее рефлексию Я пребывает, естественно, в модусе «самозабвенного Я», и его собственный видящий акт пребывает в модусе самозабвенного акта. Если же мы спрашиваем, откуда мы знаем об этой самозабвенности более высокой ступени, то ответ ясен и он тот же самый, что и в отношении самозабвенности нижней ступени: посредством рефлексии, правда, теперь посредством рефлексии второй ступени, с принадлежащим ей рефлектирующим и, со своей стороны, опять самозабвенным Я…» (Шкуратов, 2002). Далее Гуссерль поясняет, что термин «самозабвенное Я» не слишком подходит, так как предполагает забывание знаемого, а понятие «бессознательного» слишком многозначно; в данном случае, с его точки зрения, лучше вести речь о «латентном Я».
И. Н. Шкуратов заключает в этой связи, что в рефлексии, конечно, открывается нерефлективный опыт, но, в отличие от Гуссерля, он показывает, что не существует никаких оснований для того, чтобы считать, что рефлексия способна открыть саму непосредственную сущность нерефлективного опыта. Вполне возможно, уточняет он, что рефлексия попросту несоразмерна этой сущности (бессознательному). До-рефлективный опыт как таковой не может быть дан в рефлективном опыте, следовательно, его сущность a priori нельзя усмотреть в рефлексии. Вспоминая «принцип всех принципов», Шкуратов переформулирует проблему следующим образом: до-рефлективное переживание не может быть усмотрено как дорефлективное, поскольку всякое усмотрение обозначает здесь рефлективное усмотрение.
Описанные выше проблемы взаимоотношения рефлекивного и нерефлективного порождают опасность их смешения друг с другом. Впервые попытка непредвзятого описания нерефлективной жизни, с учетом обозначенной проблемы, была предпринята М. Хайдеггером в «Бытии и времени». Поль Рикер так пишет об этом: «Если хайдеггерианская и постхайдеггерианская герменевтика и наследует гуссерлевскую феноменологию, то она в конечном счете в равной мере и реализует, и переворачивает ее. Философские последствия этого переворота значительны. Это, в частности, отказ от всякого высокомерия рефлексии, от всяких притязаний субъекта найти основание в самом себе» (Рикер, 1991).
М. Хайдеггер критикует прежнюю метафизику за отождествление бытия с сущим – в ней, по его мнению: «субъектность, предмет и рефлексия взаимосвязаны», «по своей сути representatio опирается на reflexio. Поэтому существо предметности как таковой обнаруживается только там, где существо мышления познается и в собственном смысле осуществляется „я мыслю нечто“, т. е. как рефлексия» (Хайдеггер, 1993, с. 184). И далее, он конкретизирует свою критику Гуссерля, у которого: «мышление как рефлексия означает горизонт, мышление как рефлексия рефлексии означает орудие истолкования бытия сущего» (цит. по: Калашникова, 2006).
Полемизируя с ранней феноменологией Гуссерля, которую он понимает как проект феноменологии на основе «вопроса о сознании», М. Хайдеггер предлагает собственный проект феноменологии на основе «вопроса о бытии». Феноменология Гуссерля, с точки зрения Хайдеггера, приходит к нескольким онтологическим философским упущениям. В отношении проблемы рефлексии этих упущений два. Первое заключается в том, что Гуссерль, согласно Хайдеггеру, не до конца проводит критику постулата имманентности, которая означает «одно в другом». «Другое» же представляет собой как раз бытие рефлексии и поэтому проблемы с различением рефлектирующего и рефлектируемого содержания приводят Гуссерля к некритической «абсолютизации» бытия (рефлексивного) сознания как собственно имманентного. Вопрос о трансценденции (инобытии сознания), заключает Хайдеггер, тем самым решается традиционным для новоевропейской философии способом отказа от философского спрашивания о бытии как таковом. Второе упущение Гуссерля касается проблемы «абсолютности», которая, согласно Хайдеггеру, является не бытийной характеристикой области интенциональных переживаний, а определением отношения одного переживания к другому. В этом случае также «тематизируется не сущее само по себе, но сущее как возможный предмет рефлексии» (Хайдеггер, 1998, с.112) (цит. По: Орловой, 2006).
В противоположность феноменологической концепции своего учителя, М. Хайдеггер для характеристики истинного мышления употребляет термин «вслушивание». Полагая, что бытие живет в языке, язык – это дом бытия, а экзистенция – выход в «истину бытия», он считает, что бытие нельзя просто созерцать – ему можно и нужно только внимать (Калашникова, 2006).
Согласно концепции настроения Хайдеггера, дорефлективный опыт исходно, т. е. еще до всякой рефлексии, открывает свое присутствии именно в настроении. Ссылаясь на И. Н. Шкуратова (2002), я описывал выше, что дорефлективный (нерефлексивный) опыт называется так потому, что он предшествует всякой рефлексии. Этот опыт ближе к нам, чем любое рефлективное сознание, этот опыт – мы сами, а, следовательно, его прояснение требует своеобразной «самодеконструкции» рефлективного опыта. С этой целью, в лекциях «Основные проблемы феноменологии» Хайдеггер, трактуя рефлексию как отражение, предлагает способ «само-размыкания» самости: «Рефлектировать означает здесь: преломляться, отражаться от чего-то, т. е. показывать себя в отблеске, отраженным от чего-то по направлению к нам» (Хайдеггер, 2001). Первично мы живем не в своих переживаниях и даже не среди вещей, но посреди мира; последнее указывает на то, что мир еще не стал для нас предметом, пред-ставлением, к которому мы могли бы отнестись как к противостоящему. До всякого рефлексивного схватывания мы сами захвачены миром. Дорефлективный опыт и представляет собой, согласно Хайдеггеру, опыт захваченности. Для рефлективного сознания эта захваченность всегда оказывается бывшей и, соответственно, отразить захваченность рефлексия может, только став жертвой другой захваченности (Шкуратов, 2002).
И. Н. Шкуратов иллюстрирует этот ход рассуждений следующим примером: «Интересная книга, фильм, научная работа, общение или природа способны захватывать. При этом мы с головой погружаемся в новый мир, будь то мир работы или произведения искусства. Захватывающий роман или музыка не оставляют нам возможности быть сторонними наблюдателями (слушателями), занимать какую-либо рефлектирующую оппозицию. Мы переносимся в открытый мир и уже более не воспринимаем текст на странице или звуки музыки. Теперь мы живем отнюдь не в восприятии (хотя рефлективный опыт будет утверждать обратное), но посреди самого мира литературного или музыкального произведения. Конечно, мы не становимся «персонажами» этого мира, однако же и не наблюдаем его со стороны. Мы попросту растворены в нем. Рефлексия способна вырвать нас из этого мира и сделать очевидным факт восприятия текста или музыки. Однако рефлексия, «освобождая» нас от прежнего «мирка», сама не парит в безмирном пространстве, но относится к некоторому «другому» миру. Этим миром может быть, например, «мир повседневных забот», и в нем мы снова оказываемся захваченными не в меньшей степени, чем ранее в каком-то «вымышленном» мире».
Захваченность миром как исходный образ единения самости и мира обнаруживается, согласно Хайдеггеру, посредством настроения, проявляет себя в настроении. Самость (Я, «мы») первично обретается и понимает себя из своего мира. Хайдеггер подчеркивает, что «бытие-в-мире» есть экзистенциальное основоустройство самой субъективности. Будучи первоначально захваченной миром, самость может затем отстранять свой мир посредством рефлексии, исследовать его, теоретически постигать и развивать. Однако еще до этого самость уже находит себя в настроении и уже оттуда посредством рефлексии приходит к разнообразным концепциям Я. Вводя категорию «настроение», Хайдеггер стремится акцентировать целостное «чувство жизни» и избежать рассмотрения многообразных чувственных (интенциональных) переживаний человека. Настроение представляет собой непосредственный и целостный опыт бытия того сущего, который является исполнителем интенциональных переживаний. И. Н. Шкуратов подчеркивает, что основной способ бытия самости состоит в настроении, самость есть как настроение и, таким образом, настроение есть первичный опыт человеческого бытия. Определяя человеческое бытие как «вот-бытие» и указывая тем самым на то, что это сущее всегда есть для себя самого «вот» (само свое «вот»), Хайдеггер проясняет, что бытие человека открыто для самого себя, и оно есть сама своя открытость. И эта открытость человеческого бытия изначально «конституируется» не сознанием, но настроением, которое, по Хайдеггеру: «основоспособ, каким Вот-бытие как Вот-бытие есть».
Настроение не является чувством, сопровождающим и окрашивающим переживания человека, оно не конституируется в сознании, напротив, сознательные переживания конституируются «в» настроении. Настроение – не многоуровневый акт, но простая целостность, не содержащая каких-либо реальных или интенциональных «частей», именно оно и есть то Я, в котором свершаются и к которому отсылают переживания сознания. Хайдеггер утверждает: «Если настроение есть нечто, что присуще человеку, есть „у него“, как мы говорим, или человек его имеет, и если эту присущность нельзя высветить с помощью осознанности и бессознательного, то мы вообще к ней не приблизимся до тех пор, пока рассматриваем человека как нечто, отличающееся от материальной вещи тем, что оно имеет сознание, что оно – животное, наделенное разумом, animal rationale или Я с чистыми переживаниями, которое связано с плотью. Эта концепция человека как живого существа, которое к тому же имеет разум, привела к совершенному непониманию существа настроения» (цит. по: Шкуратов, 2002).
Резюмируя, И. Н. Шкуратов приходит к выводу, «что основополагающим промахом всей традиции новоевропейского рационализма-трансцендентализма стало некритическое приписывание сущностей вторичного опыта (будь то картезианское сомнение или гуссерлевская рефлексия) опыту первичному. Философское познание, выстроенное по модели мышления как рефлексии, неизбежно вращается в заколдованном круге cogito. Немудрено поэтому, что cogito схватывает самое себя как единственное основание опыта и сущностную определенность самости. Однако представители данной стратегии склонны не замечать, что опыт, „в плену“ которого они находятся и о котором говорят, – продукт искусственной установки (настроенности) философствования, а вовсе не тот „естественный“ опыт, изнутри которого возникает сама эта философская настроенность» (Шкуратов, 2002). В отличие от критикуемой им философской рационалистической традиции, И. Н. Шкуратов, следуя за М. Хайдеггером, обнаруживает единство фундаментального опыта субъективности и мира: смотрим ли мы «в мир» или «внутрь себя», – на любом пути опыта первично «встречаемым» оказывается настроение, которое «не столько мое, сколько настроение меня». Самость не имеет настроение, она есть как настроение или, точнее, настроение показывает себя в себе самом.
Ж.-П. Сартр, являющийся как и М. Хайдеггер, одним из основателей экзистенциализма, принципиально разделяет сознание и знание, сознание при этом не обязательно имеет дело с миром объектов, в то время как знание с необходимостью предполагает объект, к которому оно относится. Внешний в отношении сознания, отличный от него и независимый от него мир (мир «в себе») исходным образом не выступает как мир объектов, а, следовательно, не является предметом знания. Сознание, согласно Сартру, по своей природе нерефлексивно, и поэтому оно первоначально не знает не только мира внешних объектов, но и самого себя. Однако сознание сразу же осознает само себя в качестве отличного от мира «в себе». Поэтому Сартр называет сознание бытием «для-себя» (бытие дорефлексивного cogito) и разводит самосознание и знание себя (рефлексию). Сартр подчеркивает, что индивидуальное Я – это целиком продукт рефлексии и оно не существует до тех пор, пока не начался рефлексивный процесс (Калашникова, 2006).
Согласно Сартру, фундаментальная онтологическая недостаточность сознания инспирирует интенцию «сделать себя» посредством индивидуального «проекта существования», в силу чего бытие конституируется как «индивидуальная авантюра: «бытие сознания себя таково, что в его бытии имеется вопрос о своем бытии. Это означает, что оно есть чистая интериорность. Оно постоянно оказывается отсылкой к себе, которым оно должно быть. Его бытие определяется тем, что оно есть это бытие в форме: быть тем, чем оно не является, и не быть тем, чем оно является». На этом пути индивидуальному бытию необходимо «нужен другой, чтобы целостно постичь все структуры своего бытия». Сартр – в дополнение к понятию «бытия-в-мире» (бытия в бытии) приходит вслед за Хайдеггером к формулировке «бытия-с» («бытие-с-Пьером» или «бытие-с-Анной» как конститутивные структуры индивидуального бытия). В отличие от Хайдеггера, у Сартра, «бытие-с» предполагает, что «мое бытие-для-другого, т. е. мой Я-объект, не есть образ, отрезанный от меня и произрастающий в чужом сознании: это вполне реальное бытие, мое бытие как условие моей самости перед лицом другого и самости другого перед лицом меня», – не «Ты и Я», а «Мы» (цит. по Можейко, 2001).