Читать онлайн Из века в век бесплатно
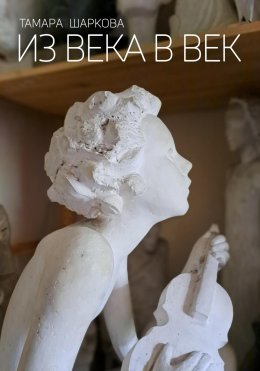
Стакан воды
В этот день я возвратился из музыкалки чуть раньше, чем обычно. Дверь в ванной была приоткрыта, и оттуда доносился шум воды. Совершенно уверенный в том, что там отец, я заглянул и… Какая-то женщина, поставив ступню на край ванны, вытирала мокрые чулки МОИМ полотенцем!
Ошарашенный увиденным, я на цыпочках полетел к себе в Логово и беззвучно прикрыл за собой дверь.
Вообще-то у отца часто бывают гости. А когда он болеет, то прокладывается просто муравьиная тропа какая-то из посетителей: студенты с зачетками, сотрудники с документами.
И женщин среди них много. Чай с нами пьют или кофе, даже посуду моют. Но чтобы ноги!!
Раздумывая над этим, я просидел в комнате тихо, как мышь, до того времени, пока дама не ушла. Тогда вылез, удивив отца своим неожиданным появлением.
– Как ты пришел, что я не услыхал? Случилось что-нибудь?
Я обиделся, но вида не показал. Отец – это не Стоян. Ему не скажешь:
«По-твоему, я должен устраивать пятибалльное землетрясение, чтобы меня заметили?!»
Но про себя подумал именно так, хотя и несправедливо. От злости за такую его знакомую.
Вечером, выключив свет, я протолкнул пакет с оскверненным полотенцем в форточку. Подобную операцию я уже проводил, так что опыт был, хотя и не совсем удачный.
Я тогда в первый класс поступил, а отец приехал из Германии и привез мне классную такую модель «Вольво» и клетчатую рубаху… с цыпленком на кармане. Предполагалось, что я буду ходить в ней в школу.
Одного взгляда на этого цыпленка под зонтиком было достаточно, чтобы я понял – это конец! Потому как только отец вышел из комнаты, я быстро открыл окно и швырнул скомканную рубашку вниз. Каков же был мой ужас, когда через некоторое время я посмотрел через стекло и увидел, что рубашка полощется на ветру, зацепившись за ветку. Чтобы скрыть это зрелище от посторонних глаз, я притащил из гостиной здоровенный столетник. Но потом сообразил, что отец поливает цветы сам, и отнес его обратно. Следующим прикрытием стал календарь из туалета со страшными африканскими масками, наводившими на меня священный ужас. Стоян специально повесил этот календарь напротив унитаза, чтобы я не делал из туалета убежище во время принудительных занятий музыкой.
Вскоре рубашку сбило дождем, и календарь вернулся на место.
Отец вспомнил о ней только через месяц, а, не найдя в шкафу, "утешил" меня, обещая привезти точно такую же. Потому весь учебный год я с ужасом ждал его из каждой командировки. Обошлось.
Следующая неделя прошла вроде бы обыкновенно.
В понедельник Борька поссорился с дылдами из восьмого, а фингал под глазом они поставили мне. Чтобы не было синяка, я по методу доктора Дагмарова приложил к глазу тертую морковку. Но у нее, оказывается, было особое предназначение для супа, и отец все углы обшарил в ее поисках. Я усердно помогал.
Во вторник я в третий раз за месяц прищемил палец дверью.
Вместо того чтобы посочувствовать, Стоян орал, что незачем ломать двери собственными костями. И если у меня много лишних пальцев, их можно просто отрезать и выбрасывать.
В среду из-за пропуска хора меня не допустили до занятий по специальности. Записку отцу я сразу же уничтожил в общественном туалете и со спокойной совестью активно провел академический час на свежем воздухе.
В четверг я нечаянно сунул разорванную тетрадь с двойкой по словарному диктанту мимо мусорного ведра. Отец так же нечаянно ее нашел. Было много шума… Не из-за двойки. И я еще раз убедился, что лень до добра не доводит. Ведь что стоило лишний раз вытряхнуть ведро в мусоропровод.
В пятницу я осознал, что одержим навязчивой мыслью: придет или нет та самая "дама из ванной" в гости к отцу еще раз.
Не расставаясь с этой мыслью, я отправился в тот же вечер покупать Бобу на день рождения книгу "Кемпо" о восточных единоборствах. Деньги у отца на подарок я, конечно, забыл взять и потому настрелял полтинников у всего класса.
В магазине было темновато. Мне пришлось подойти к ярко светящейся витрине, чтобы рассортировать свою мелочь.
Пристроившись за силуэтом упитанного Карлсона, парившего над чердаками Стокгольма с каким-то бестселлером в четырехпалой руке, я принялся за работу. И вдруг, подняв голову, увидел отца. Он стоял на тротуаре в полуметре от меня, как всегда с непокрытой головой, и густые светлые волосы его были запорошены снегом. Отец смотрел куда-то влево. Потом опустил голову и поднял руку с цветами, стараясь укрыть их от метели полами куртки.
Сколько мы простояли так в полуметре друг от друга, я не знаю. Но я чувствовал, что в эти минуты расстояние между нами куда больше, чем от нашего города до Шведской столицы.
Потом я увидел, как весь он подался вперед к подъехавшей машине и помог выбраться из нее… совсем не той женщине, что мыла ноги в нашей ванной.
Какое-то время они стояли у края тротуара. Она уткнулась лицом в цветы, а он что-то говорил ей, поддерживая под локоть и смеясь.
Затем они прошли вдоль витрины, которая казалась мне рамкой киноленты, беззвучно шевеля губами. Не хватало последнего кадра с надписью
"The End".
И тут у меня начался приступ "морской болезни", которой я мучился в раннем детстве при всяких нелепых страхах.
В последний раз это случилось лет пять назад. Всех увезли из санатория на автобусе, а за мной должен был приехать Стоян на машине. Я его до вечера ждал, целый день простоял у ворот, глядя на дорогу. А потом меня " укачало", да так, что, проснувшись утром, я никак не мог сообразить, как очутился на своей кровати и почему рядом ничком на ковре спит Стоян. В белой рубахе. И галстук у него на спину заброшен.
В магазине в это время вокруг меня засуетились какие-то продавщицы в халатах. Кто-то сунул в руки пакет, кто-то усадил на стул и принес воду в пластиковой бутылке. Но как я ни старался дышать глубже, рвота не прекращалась.
Потом меня засовывали в Неотложку и надоедливо спрашивали, "как сообщить родителям", а я втолковывал им, что это не отравление и со мной такое бывает.
По дороге мне что-то укололи и в больницу привезли без рвоты, но бесчувственного, как полено. Впрочем, когда две дюжие тетки вознамерились все-таки втолкнуть в меня кишку для промывания желудка, я ожил, сел на пол, прижав голову к поднятым коленям, и заявил, что встану только тогда, когда сообщат обо мне доктору Стояну Борисовичу Дагмарову по рабочему телефону, и назвал номер.
– Отец твой? – спросила одна из теток, обессилено рухнув на клеенчатую кушетку.
– Да, – ответил я, с ужасом ощущая себя святотатцем.
Стоян примчался ко мне через полчаса. Он опустился передо мной на корточки, схватил за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:
– Я уже здесь, малыш, и все будет хорошо.
И тут я разревелся как сосунок, потому что, сколько я себя помнил, Стоян никогда не был со мной сентиментальным. И это послужило той каплей, которая переполнила чашу моей жалости к себе.
Поскольку на доктора Дагмарова мои слезы возымели совершенно обратный, отрезвляющий эффект, здоровое равновесие в наших отношениях быстро восстановилось.
– Прямо фонтан какой-то, – недовольно сказал он, выталкивая меня из приемного покоя, – еще немного и придется вкатить тебе пол литра физраствора в …мягкое место.
Стоян много еще произносил… монологов.
Отец пришел довольно рано. Они со Стояном ненадолго уединились в кабинете, а потом позвали меня ужинать.
Есть я не мог, но ужасно хотелось пить, а чайник, как назло, все не закипал.
– Что с тобой случилось? – спросил, наконец, отец и положил мне руку на плечо.
Я не ответил и отодвинулся. Еле-еле.
– Его из книжного привезли, а что уж там произошло…
И тут я почувствовал, что сердце мое просто остановилось, потому что сейчас случится что-то непоправимое.
– Где он был? – переспросил отец, как мне показалось, чужим голосом.
Стоян вскинул на него глаза.
Отец схватил меня за плечо и развернул к себе.
– Ты меня видел?
Я не ответил.
– Я спрашиваю, ты видел нас?
У меня перехватило дыхание. Я рта не мог открыть, даже если бы захотел.
Вместо меня в разговор включился Стоян:
– Кого "вас"?
– Меня и Рэну, – бросил ему отец, продолжая крепко держать меня
за руку. – Дай ему воды.
Стоян налил в стакан воды и протянул было его мне, но вдруг замер, держа стакан на весу.
– Увидел тебя и Рэну? Ты думаешь, его из-за этого выворачивало? Он что, приревновал тебя? Тоже – граф Альмавива! Знал бы – не спешил! Пусть бы этого щенка до моего приезда с двух сторон промыли.
Чтобы дурь поскорее вышла.
И Стоян демонстративно вылил воду из стакана в раковину.
Теперь сердце мое застучало как сумасшедшее. Я рванулся из рук отца и, опрокинув стул, выбежал из кухни.
У себя в Логове я быстро закрыл дверь на стул и залез под кровать – мое привычное убежище с детских лет. И все-таки я успел услыхать, как в ответ на негодующее восклицание отца, Стоян резко сказал:
–…именно потому я не позволю ему изобретать трагедии!
Что перед этим говорил отец, я не разобрал.
Пока я лежал, уткнувшись носом в голенища старых сапог, кто-то несколько раз подходил к двери, дергал за ручку и уходил, не сказав ни слова.
А я все лежал и безумно жалел себя. Я ненавидел эту тетку-провокаторшу из ванной, я ненавидел свою отвратительную слабость, но больше всего я ненавидел Стояна, пожалевшего для меня стакан воды и назвавшего меня щенком.
Разве я вмешивался в их жизнь и что-то в ней менял?
Наоборот, я хотел… хотел, чтобы в ней ничего не менялось…
Тут я споткнулся об эту мысль, как будто с разбега налетел на стену.
И хотя то, что сказал Стоян, было отвратительно несправедливым, он… был прав. Я решительно не хотел делить отца с кем бы то ни было. И сейчас, лежа в своем убежище, ничуть в этом не раскаивался. Я просто злился, что Стоян додумался до этого раньше меня.
Но пить очень хотелось.
Я вылез и осмотрелся.
На столе стояла банка с водой, чуть закрашенной акварелью. Некоторое время я глядел на нее с сомнением, а потом решительным жестом поднес к губам. Глоток этой отвратительной жидкости дался мне с трудом, но я утешал себя мыслями о том, что, если я отравлюсь, это будет целиком на совести доктора Дагмарова.
Потом я подумал, что будет со мной, если от этого глотка я потеряю сознание, а дверь не смогут открыть… И тихонько вытащил стул.
Лежа теперь уже на кровати, я продолжал злиться на Стояна. Ведь если бы не он, отец… Я как-то не мог додумать до конца эту мысль. Ну, в общем, мне хотелось какого-то особого утешительного разговора, чтобы он обнял меня, как в детстве, и всякое такое… Но теперь, похоже, от этого придется отказаться до конца жизни. И все из-за того, кого я считал лучшим другом, нет – братом! Хотя (тут я задумался) отец вряд ли смог бы родить Стояна в десять лет.
Я так устал от всех этих мыслей и событий, что на минуту закрыл глаза и тотчас же отключился.
Когда я проснулся, в доме было темно и тихо. На мне был плед, который обычно валялся у Стояна на диване.
По-прежнему очень хотелось пить.
Стараясь не натыкаться на мебель, я направился в кухню, ощупью открыл кран и прильнул к струе.
Возвращаясь к себе, я вдруг подумал, что никогда не видел отца спящим. Вот про Стояна я знаю, что после дежурства он просто бросается ничком на диван и засыпает, а в остальные дни спит на спине, закинув руки за голову. А папа всегда встает раньше меня, а ложится позже.
Поскольку завтра (нет, сегодня!) была суббота, я разделся, лег и не стал заводить будильник.
Но заснуть во второй раз за ночь мне никак не удавалось. Я все крутился и крутился на постели, терзаемый обидой на Стояна.
Зачем он сказал так… про ревность и щенка?
Сам же прекрасно знает, после чего у меня началась "морская болезнь".
Мне трех лет не было, когда мы в аварию попали: мама, папа и я. Мама и шофер сразу погибли, а мы с отцом сидели на заднем сиденье и уцелели. Отец руку в двух местах поломал, которой меня закрывал, и голову разбил. А я совсем не пострадал.
В больнице меня от папы никак не могли отцепить. А потом врач дал мне какое-то лекарство с водой, я уснул, и меня от отца оторвали.
Когда я проснулся, то всех здорово напугал, потому что у меня, по словам Стояна, началась "неукротимая рвота". Прекратилась она только тогда, когда меня к папе принесли. Я в него опять вцепился, и снова меня чем-то поили, чтобы оторвать.
Так несколько раз повторялось, пока палатный врач не велел поставить для меня раскладушку рядом с папиной кроватью.
Домой мы возвращались втроем: отец с забинтованной головой и рукой в гипсе и доктор Дагмаров со мной на руках. С тех пор он так и живет на два дома: то у нас, то у себя в коммуналке.
Когда Стоян собирается исчезнуть надолго, то всегда говорит:
– Пошел по девочкам!
Раньше я не понимал, что это значит, а теперь, кажется, начинаю
соображать.
Маму я совсем не помню, и это отца очень расстраивает. К тому же у меня от нее только цвет глаз и ресницы, кстати, такие же, как у Стояна. Когда я иду рядом с отцом и доктором Дагмаровым, все говорят: «Это надо же, наполовину отец – наполовину дядя.»
Прямо как в сказке про слона Хортона, который высидел из яйца птичку с хоботом.
Заснул я уже под утро, а когда встал, нашел на кухонном столе стакан молока, бутерброды и записку отца: "Приду к пяти часам. Будь дома. Целую – папа". Рядом почерком Стояна была приписка: "Если меня будут искать, пусть звонят: …" – и какой-то номер телефона.
"Вот папа написал "целую", – думал я, перечитывая записку,– и как будто никакого вчерашнего происшествия и не было вовсе. А Стоян никаких таких слов для меня не нашел ".
На меня опять накатила обида на него. Я так распалился, представляя, как нужно было бы ответить ему вчера, что, когда действительно кто-то позвонил и спросил о нем, я неожиданно для себя ответил:
– Доктор Дагмаров здесь не живет.
Опомнившись, я ужаснулся своей выходке и долго торчал возле телефона, надеясь, что перезвонят. Может, именно потому, когда раздался звонок и я услышал голос самого Стояна, я не придумал ничего лучшего, как бросить трубку на рычаги. А потом, когда телефон зазвонил опять, я убежал к себе в комнату и сунул голову под подушку.
Отец пришел чуть раньше пяти, потрепал меня по волосам доброй рукой и пошел к себе в кабинет. Не успел я дойти до кухни, чтобы поставить чайник на огонь, как раздался звонок в дверь. Один.
Я открыл.
Стоян стоял набычившись. В куртке с поднятым воротником и вязаной шапке, натянутой до бровей, он имел просто-таки уголовный вид. Позвякивая связкой ключей в левой руке, он дал мне понять, что звонил специально, чтобы сразу встретиться со мной лицом к лицу.
– Ну, то, что ты бросил трубку, когда позвонил я – это просто наглая
выходка, которую я могу понять.
А вот из-за того, что меня не нашли вовремя, мог погибнуть человек. И это тебе даром не пройдет.
Тут Стоян влепил мне такую оплеуху, что я пролетел через весь коридор и шмякнулся на пол у ног онемевшего от изумления отца.
– Стоян! Ты же ему челюсть сломаешь! – наконец сказал он сдавленным голосом.
– Сам – сломаю, сам – вылечу! – рявкнул в ответ доктор Дагмаров, забрасывая мокрую шапку на полку.
Рывком поставив меня на ноги, отец немного помолчал, стиснув зубы так, что желваки заходили на скулах, а потом решительно заявил:
– Вот что. Я не потерплю в доме таких отношений. Идите и сейчас же объяснитесь – раз и навсегда!
Тут он круто развернулся и ушел в кабинет, резко закрыв за собой дверь.
Я стоял, прислонившись к стене и приложив руку к пылающей щеке. Нервно передергивая плечами, Стоян сбросил куртку, вылез из сапог и, схватив меня за плечо, потащил в гостиную. Там он плюхнулся на диван, отпустив меня, и я, едва удержавшись на ногах, чуть не сел мимо кресла.
Несколько минут Стоян раскачивался на диване, то наклоняясь вперед, то откидываясь на спинку. Я в это время сидел, застыв, как соляной столб, и зажав ладони коленями.
Наконец Стояна прорвало:
– Не ждал я от тебя такой подлости. Думал, что-то для тебя значу.
Я весь был истерзан раскаянием и муками совести, но то, что я сказал в результате этой сложной душевной работы, сразило не только доктора Дагмарова, но и меня самого.
Я сказал:
– А ты, а ты… Я тоже никогда не думал, что ты на старости лет не
подашь мне даже стакана воды!
После этой тирады мы вперились друг в друга глазами.
Я – уже смутно сознавая, что сказал что-то не то, Стоян – в полнейшем недоумении.
Пауза затягивалась.
– Чьей старости? – почему-то шепотом спросил он.
– Не знаю, – ответил я тоже беззвучно, как бы ища разгадки этих
слов у самого Стояна.
И тут он захохотал. Он смеялся так заразительно, с таким наслаждением, что я не выдержал и …фыркнул.
На фоне освещенной стеклянной двери кабинета показался силуэт отца. Он постоял немного, сбитый с толку нашим дружным и неуместным смехом. Но, полагая, очевидно, что для окончательного выяснения отношений прошло слишком мало времени, решил не вмешиваться и скрылся в глубине комнаты.
Наконец, досмеявшись до слез и полного изнеможения, Стоян встал и сказал мне:
– Ладно, пойду принесу тебе стакан воды. А то умрешь от старости и не узнаешь, какой я добрый.
Все!
История с географией
– Что там у тебя с географией? – требовательно спросил отец, раздраженно глядя на меня с высоты своего двухметрового роста.
– Принеси дневник.
Я в это время пристраивался на ковре у ног Стояна. Пришлось вставать и плестись к себе в комнату, показывая всем своим видом, что подобное действие совершенно лишено здравого смысла.
Дознание велось в кабинете. Дневник просматривался страница за страницей с начала четверти, как редкий архивный документ. Наконец отец оторвался от его листов, на которых жирными красными вопросительными знаками обозначались пропуски записей домашних заданий. В предчувствии неприятных выводов я скосил глаза в сторону открытых дверей и увидал беспечного доктора Дагмарова, который в ожидании хоккейного матча разыгрывал немыслимые комбинации на кнопках телевизионного пульта.
– Это можно как-нибудь разумно объяснить? – спросил отец с интонацией, близкой скорее к изумлению, чем гневу.
Я мысленно представил, как среди весьма приличных отметок с назойливым постоянством повторяются двойки по географии, которые сопровождает странный иероглиф учительской подписи, из-за которого нашу училку зовут Аш-хлор.
Двойки были числителем, а знаменателем – записи внизу страниц. Географичка писала ручкой с зеленым стержнем, паста размазывалась, и мне казалось, что Соляная Кислота оставляет на бумаге пятна своей ядовитой крови.
– "Рисовал безобразные рожи в учебнике", – читал вслух отец. – "Отвлекал учеников глупыми вопросами". "Забрался на стол и прыгал на нем в позе лягушки?!!" " Менялся обувью с соседкой по парте…"
Тут отец остановился и спросил меня с неподдельным изумлением:
– Ты что, надевал женские туфли?!!
Вопрос его был так неожиданно наивен, что я не удержался, всхлипнул от душившего меня смеха и сразу же пожалел об этом. Теперь я точно знаю, что значит выражение "его глаза метали молнии".
– Да у нее не туфли были, а кроссовки. Они ей жали. Но мои тоже не подошли.
Мне показалось, что у отца вырвался вздох облегчения.
"Ясно, – подумал я.– Испугался за мою сексуальную ориентацию".
К счастью, из-за этой дурацкой записи все окончилось почти благополучно. Успокоенный отец продолжил уже почти благодушно:
– Так за что же такая нелюбовь к географии?
– Из-за Соляной Кислоты! Я еще летом весь учебник прочитал, а она меня не спрашивает и отметки ставит за поведение.
– Все! Прекрати! Что еще за Соляная Кислота! Чтобы я не видел подобных записей! Не хватало еще, чтобы мне на работу звонили по поводу каких-то там туфель или этого как там…
Отец перевернул страницу.
– "Смотрел на девочек в трубочку из бумаги"! Скучно ему! Географ великий! Прочитал учебник за седьмой класс и все на свете узнал. Я понимаю, если бы ты тайну Розетского камня разгадал, а тебя заставили обычный алфавит осваивать. Уверен, ты даже пролив Лаперуза на карте не найдешь.
Я изобразил на лице возмущение скромного, незаслуженно обиженного отличника, втайне надеясь, что папа не заставит меня искать этот самый пролив. В общем, дело окончилось отлучением меня от телевизора до тех пор, пока из дневника не исчезнут двойки и обвинительные записи.
Два дня я терпеливо ждал помощи Стояна. На третий стал волноваться, а на четвертый мне забрезжил лучик надежды. И все потому, что по ящику начали транслировать хоккейный чемпионат. В такие дни доктор Дагмаров после дежурства мчится к нам и проводит вечер на уже навечно закрепленном за ним диване перед теликом.
Но ему неуютно "болеть" в одиночестве. Отец демонстративно заявляет, что лично он свое "отболел" еще в семидесятых. Он из поколения Третьяка и считает, что хоккей выродился. Вместо коллективной игры превратился в холуйскую суету вокруг звезд. Огибая вечером телевизор с чашечкой кофе в руке, он всегда ворчит, глядя на нашу "сладкую парочку": " Опять весь вечер на арене Агра-Амонти".
Стояну не только хочется иметь рядом с собой единомышленника, с которым одно удовольствие синхронно орать и топать ногами. Ему еще необходимо при этом кого-то трясти и тормошить. На эту роль идеально подошел бы какой-нибудь покладистый ньюфаундленд, московская сторожевая или, на худой конец, престарелый эрдель. Однако, за неимением домашнего животного доктор Дагмаров снисходит до меня.
Итак, на четвертый день "по суду пана Мещерского" (это выражение Стояна) в дверях моей комнаты появился долгожданный хоккейный фанат и, взявшись за косяк, застыл в позе архитектурного Атланта.
– Послушай, двоечник, эта твоя географичка… ну, в общем, сколько ей лет?
Я воззрился на Стояна с изумлением. Откровенно говоря, никогда не думал, что у такого существа, как Аш-хлор, может быть возраст.
– Старая она или молодая? – торопил меня доктор Дагмаров.
– Не знаю… Но не молодая. Это точно.
– Ясно. А кто для тебя молодой?
Глубоко задумавшись, я запустил пятерню в волосы надо лбом, что осуждалось отцом, ибо, по его словам, превращало меня в подобие австралийского аборигена.
– Студентки твои из училища. Раечка с третьего этажа…
– Понятно. Значит, не очень молодая – это как я, а старая – как Роман.
Я пожал плечами и тактично потупил глаза.
– Кроме того, что двоечник, еще и нахал невоспитанный. Так она как я или как отец?
– Как ты, наверное.
– Ладно. Как зовут?
– Наталья Семеновна Слоним.
– В школе каждый день?
– Не знаю. В седьмом "Б" у нее по пятницам шестой урок.
Пятница была завтра, и я надеялся, что Стоян попытается сразу же схватить быка за рога, точнее – географичку за горло. Так и случилось.
После шестого урока мы с Борькой задержались в классе. Его брат из второго "А" притащил нам одну из развивающих игр, которые раздают малькам на переменах, чтобы они не мотались по коридорам у всех под ногами.
Мы ломали над ней голову весь последний урок, но так и не смогли сложить фигуры в нужном порядке. Очень не хотелось позориться, но пришлось. Плюнув с досады на собственный рюкзак, Боб возвратил коробку со злополучной игрой нагло улыбающемуся щербатому Илюшке. Тут я и заметил, что девчонки, только что собравшиеся разбегаться по домам, опять влетели в класс, перешептываясь и хихикая. Столпившись у дверей, эти гусыни стали высовывать шеи в коридор с таким видом, как будто там разыгрывал свои мистерии Дэвид Копперфилд.
Пока я запихивал в рюкзак все, что валялась на и под столом, Борька растолкал девиц и сам выглянул в коридор.
Вернулся он с ошарашенным видом, сделал страшные глаза и шепнул мне на ухо: "Юлик, там твой дядька!"
Теперь мне стало ясно, отчего безумствуют наши девчонки.
Стоян – это покруче их любимого Ди-Каприо. Стоян – это мачо в косухе ста восьмидесяти пяти сантиметров роста, с раздвоенным подбородком и пылающим взглядом черных глаз. Полное его имя – Стоян Борисович Дагмаров. Отец говорит, что в Болгарии все мужчины красавцы, но Раечка с третьего этажа считает, что и среди них Стойко – первый.
Вечером, отбарабанив свое задание по музыке и наскоро выучив уроки, я слонялся по квартире, не зная, чем себя занять в ожидании "названного дядьки". Он пришел почти одновременно с отцом и вел себя как настоящий иезуит. За ужином пикировался с отцом и даже не смотрел в мою сторону.
Тогда я пошел в свою комнату, улегся на медвежью шкуру возле кровати и затаился, как питон в ожидании добычи. Наконец папа удалился к себе в кабинет, и Стоян явился ко мне для переговоров.
– Послушай, старик, я все уладил, но… придется выполнить некоторые условия. Гм… И тебе, и… мне.
Я сел на шкуре, как шаман в чуме, и вопросительно уставился на Стояна.
– Ну, мне пришлось пообещать твоей Наталье Скорпионовне, что раз в неделю ты будешь делать на уроке короткие сообщения.
– Что-о?!! – я просто взвился с пола.
Стоян вытянул руки с выставленными перед собой ладонями и плюхнулся в кресло.
– Погоди. Я не все сказал. Во-первых, сообщения короткие, минут на пять. Во-вторых, ты выбираешь тему сам. В-третьих, я тебе приволок целый чемодан журналов "Вокруг света".
– Ну а ты, ты? – спросил я, задыхаясь от негодования. – Ты что пообещал для нее сделать?
– Я? Я обещал регулярно приходить в школу и узнавать, как у тебя дела.
Он сделал паузу, поставил локти на колени и уткнулся лицом в ладони. Потом поднял свою коротко остриженную иссиня-черную голову и, наморщив лоб, умоляюще посмотрел на меня.
– Ты думаешь, мне будет легче?
Я безмолвно рухнул у его ног, и мы долго молчали, объединенные общей печалью.
Впрочем, все окончилось не так плохо, как начиналось.
Я с удовольствием перечитал все журнальные подшивки, сделал пару сообщений, а Соляная Кислота поставила мне за них пятерки. Потом она заболела, а четверть окончилась. В конце концов, после долгих каникул я превратился в обыкновенного ученика. Почитывал на уроках "Молоток", списывал сам и давал списывать другим, но географичка смотрела на это сквозь пальцы.
Что же касается доктора Дагмарова, то, сделав над собой героическое усилие, он еще раза два пришел в школу, переполошив весь наш курятник и оставив романтическую память в сердце Натальи Семеновны, которой оказалось от роду двадцать шесть лет и три месяца.
Зато мы оба вдоволь наорались и настучались ногами, сидя перед ящиком, каждый раз доводя отца до приступа мигрени. Впрочем, отдавая дань его благородству, нужно сказать, что он не навязывал нам своей симпатии к "Детройту" и стоически ждал окончания чемпионата.
Боты
В ту зиму погоду просто-таки лихорадило. Пару дней держался легкий мороз, падал снег, потом неделю стояла весенняя теплынь с лужами на дорогах и частой капелью с крыш. Так, попеременно одерживая верх друг над другом, мороз и оттепель боролись весь декабрь и январь.
Прошлогодние сапоги мои не то, чтобы стали дырявыми, а как-то поизносились и оттого легко промокали. Тем более что мы с Борькой по пути из школы обычно гнали ногами перед собой все, что напоминало хоккейную шайбу. Ну и, конечно, луж не обходили.
Обнаружив, что я постоянно хожу в мокрой обуви, и не найдя в ней видимых изъянов, отец велел мне вытирать сапоги тряпкой и сушить их недалеко от батареи. Но я постоянно забывал об этом, и к приходу отца сапоги обычно плавали под вешалкой в лужице грязной воды. В зависимости от настроения папа или относил их сушиться, ни слова не говоря, либо вызывал меня в прихожую и указывал на сапоги, как на провинившихся щенков. Ни в том, ни в другом случае они не успевали полностью высохнуть до утра, потому что отец задерживался у себя в институте допоздна.
Наконец отцу это надоело, и он купил специальную сушилку обуви. Это был четырехугольный ящик с гофрированными трубками, похожими на слоновий хобот. Работая, ящик симпатично ворчал, а из трубок дул теплый ветер.
Почти целую неделю я таскал ворчуну сапоги для сушки. А один раз даже попробовал высушить им волосы. Потом это занятие мне надоело, и папа, передохнув, заступил на привычную вахту. Но на этот раз его терпение лопнуло очень быстро. Дня через три он грозным тоном вызвал меня в прихожую. Мои сапоги, зажатые в его железных пальцах, как в тисках, казались жалкими и беспомощными зверьками. В дополнение к этому они беззвучно плакали редкими грязными слезами из растаявшего снега.
– Все! – жестко сказал отец. – Завтра же они отправятся на помойку, а тебе я куплю боты.
После этого он швырнул сапоги на пол и исчез в направлении кабинета.
Я еще немного постоял, глядя на пол, как завороженный, потому что вместо сапог видел двух беззащитных существ, обреченных из-за меня на неминуемую гибель среди картофельной кожуры и бумажных обрывков. Опомнившись, я схватил их в охапку и бросился к сушилке.
Весь оставшийся вечер и еще полночи я думал, что же это за обувь такая – БОТЫ! Если не промокает, то значит из резины, но тогда почему бы ни сказать: "Куплю резиновые сапоги".
Боты… Боты… Я перебрал все книги на своих полках, потому что где-то с этим словом встречался. И, как назло, Стойко после дежурства не появился, спросить было не у кого.
Утром я явился в класс злым и не выспавшимся, забыв дома половину учебников, и к тому же без сменки. Сердобольная тетя Клава дала мне какие-то затрапезные тапочки из тех, что валялись в гардеробе невостребованными с прошлых каникул. С Борькой я обсуждать эту проблему не стал: будет тут хрюкать под ухом. Перебрав в уме всех одноклассников, я остановился на Ленке Карташовой. Она всегда в рюкзаке вместе с учебниками таскает какие-то толстенные тома и все читает, читает. Даже на перемене стоит в коридоре, уткнувшись в книгу. Поэтому, наверное, бурный поток классной жизни обтекает ее, как Бразильский карнавал фонарный столб. Но не зря же она столько книжных слов переварила, может, и вспомнит что-нибудь о ботах.
На большой перемене я подошел к Карташовой и очень вежливо спросил, что она читает. Елена захлопнула книгу и со здоровым любопытством посмотрела на обложку.
– Боборыкина.
– Кстати, – совершенно некстати заметил я. – Ты не знаешь, что из себя представляют "боты"?
– Обувь, – безо всякой паузы ответила Карташова.
– Понятно! Но как они выглядят? Тебе же, наверное, попадалось какое-нибудь их описание.
Елена подняла на меня свои выпуклые близорукие глаза и серьезно ответила:
– Описания не помню. У бабушки моей были не "боты", а "ботики" – высокие такие галоши на каблучках, а сбоку кнопочки. И еще…
Что у них было "еще", я не узнал, потому что, взявшись за руки, нас окружила неразлучная троица – Алиса, Зита и Сонечка. Алиска просто закатывалась от смеха.
– Юрик и Леночка обсуждают семейную покупку к 8 Марта! Ботики с кнопочками!
Если бы моя нервная система не была истощена недосыпанием, я бы вывернулся. Сказал бы, например, что подарок готовлю не Карташовой, а самой Алиске. Да только не знаю, где достать коробку для упаковки, разве что чемодан прикуплю. У этой дылды нога размера на три больше моей. Так нет! Вместо этого я покраснел и понес какую-то ахинею о литературных архаизмах! Жуть! Это меня и сгубило.
До конца следующего урока Алиска оглядывалась на меня и вытягивала губы трубочкой, отчего ее длинное лицо приобретало совершенно лошадиный вид. При этом она таращила глаза и произносила: "Бо-бо-бо…" В конце концов ничего не подозревающий Борька принял это на свой счет и огрел ее географическим атласом, вызвав огонь на себя.
И все же до следующего дня я не был уверен, что это дурацкое "Бо-ботики" не прилипнет ко мне как прозвище. У Алиски уникальная способность приклеивать людям клички. В прошлом году она сказала Витьке Каплану: " Ах ты, дуряка такой!
Так он с этой "Дурякой" целый месяц проходил. А назови его таким нелепым словом другой – оно так и осталось бы случайным.
Таким образом, если утром у меня была одна проблема, то к вечеру их стало две.
Придя с работы, отец о сапогах не вспомнил. Но на всякий случай я спрятал их под кровать. Отец ведь железный, если сказал, что купит "боты", то так и сделает. Не ходить же мне в этих самых галошах на каблуках на самом деле!
Мы мирно поужинали, и я совсем уже собирался ложиться спать, когда явился слегка захмелевший доктор Дагмаров. Как он объяснил – "с корпоративной вечеринки". Я сварил ему кофе в джезве. Потом заварил папе его любимый зеленый чай. Себе я налил молока. Я его очень люблю, и потому Стойко называет меня "молоконасосом". Я на такое прозвище не обижаюсь, потому что он произносит его не обидно.
– Стоян, а как тебя звали в школе?
– Даг.
– Всегда?
– Нет.
– А как еще?
– По-разному. Но я не откликался.
– А тебя, па?
– Ну, не знаю… В младших классах по имени, а потом – "Князь".
– Почему?
– Фамилия такая. Князь Трубецкой, "князь Мещерский".
– А "Рич" – это из-за меня?
Я знал, как это случилось, но сейчас мне захотелось услышать обо всем от отца.
– Из-за тебя, поросенка. Когда нам телефон поставили, то в первые дни ты мчался во весь опор и сам снимал трубку. Я не прислушивался, о чем ты там болтаешь. Потом на кафедре то один, то другой вдруг обращаются ко мне "Ричард", "Ричард"… Ну и извиняются, конечно, а я ничего не пойму. Наконец, рассказал Стояну. Он расхохотался, а потом притащил тебя и говорит:
– Вот автор. Его благодари, ему и кланяйся.
Тут выяснилось, что "Роман Ильич" тебе было не выговорить, ты и отвечал "Рич", Рич". Так и приклеилось. Кстати, тогда же ты окрестил себя Юликом, и до тех пор, пока сам не научился "р" выговаривать только на Юлика и откликался. Так-то, Юрий Романович, а теперь ложись спать.
Слегка расслабленный, Стойко балансировал на задних ножках стула, благодушно улыбаясь.
Я вымыл свой стакан, чмокнул отца в щеку, обнял Стояна за шею и удалился. А когда уже тянулся к выключателю, услышал шаги доктора Дагмарова.
– Вот что, старик, – сказал он, стоя в дверях. – Если не захочешь, она не прилипнет.
– Кто? – торопливо сказал я, сбивая его со следа.
– Кличка. Ведь это все о ней?
Через несколько дней у меня появились крепкие ботинки на меху с высокой шнуровкой и на толстой подошве. А про боты Алиска забыла.
Все!
Свинка
Борька заболел на третий день после своего дня рождения. Можно сказать, подложил нам свинью перед весенними каникулами, потому что за ним сразу же заболели Гарик, Левка и я.
Я редко болел с высокой температурой и теперь переносил ее тяжело, все время был в каком-то дурмане. Иногда мне казалось, что я весь ужасно распухший и громадный. А когда ко мне подходил отец и Стоян, я их почему-то путал.
В те часы, когда температура поднималась до сорока, у меня перед глазами появлялась деревянная игрушка: медведь и мужик били молотками по наковальне. И так они громко били! Я просил отца унести их, а он вместо этого вытирал меня чем-то противно мокрым.
И тут же его длинные узкие ладони превращались в смуглые крепкие
руки Стояна. Почему-то меня это мучило – путаница с руками.
Когда температура спала, я посмотрел на себя в зеркало и с отвращением увидел бледно-синюшного головастика с оттопыренными ушами.
Нездоровая терпимость Стояна сменилась к тому времени привычной язвительностью. Я стал именоваться "поросюком", "Мумми-свинкой", "милой Хавроньей". Наконец, не выдержав, я запустил в него подушкой, которая, к сожалению, из-за моей слабости до него не долетела. Стоян поднял ее и принес на вытянутых руках, обращаясь ко мне с подчеркнутой почтительностью:
– О, свирепый вепрь!
Что же касается отца, то он ухаживал за мной, как за младенцем.
Это вызвало у меня запоздалые муки совести по поводу нелегально
съеденной до болезни коробки неизвестно кем подаренных конфет.
Но, похоже, "свинка" все спишет.
На пятый день температура опустилась до тридцати семи с небольшим хвостиком и больше не поднималась. Днем я уснул, а когда проснулся, вся комната была залита теплым весенним солнцем.
По мохнатому ковру на стене бегали наперегонки солнечные зайчики. Меня вдруг охватило пронзительное чувство радости.
За окном тявкала собачка и жалобно скулил потревоженный кем-то
автомобиль. Из кухни доносились приглушенные голоса отца и Стояна. Я вновь закрыл глаза.
Тихо скрипнула дверь, но я продолжал неподвижно лежать лицом
к стене в сладкой полудреме.
– Спит, – прошептал отец. – Послушай, у него очень тяжелая форма?
– Не самая легкая, но летального исхода не ожидается.
– Стойко, прекрати! Но ты уверен, что это… гм…не отразится на нем
как на мальчике?
– Как на мальчике, так и на девочке.
– Я серьезно!
– А чем твой мальчик отличается от девочки?
– Стоян!
– Сливным устройством?
– Выйдем! Еще разбудим его. Вечно ты со своими медицинскими шуточками.
Они вышли. Я тот час же открыл глаза и перевернулся на спину.
Что значит "как на мальчике"? И почему Стоян ответил этой глупостью … про девочку?
Мне уже было не радостно и не спокойно. И все из-за доктора Дагмарова.
Тут он появился в комнате собственной персоной со стаканом
клюквенного морса на блюдце.
– Проснулись? Ну, так извольте откушать, – с ернической интонацией произнес он и поставил стакан на стул у кровати.
Я мрачно взглянул на него и молча отвернулся.
– Ну-ну! С чего бы депрессуха в столь нежном возрасте?
Я промолчал.
– Ладно, Наф-наф! Я ухожу на дежурство. Приду послезавтра.
Не вставай, даже если температура будет нормальной. И пей только
то, что даст отец. Никакого молока из холодильника.
Он похлопал рукой по одеялу в том месте, где предполагались мои
дистрофичные колени и вышел.
Весь следующий день я выдумывал предлог, под каким мог бы
легально взять у отца нужный том энциклопедии, потому что он весь
день был дома. Мало того, его сотрудники решили провести у нас
в квартире выездное заседание кафедры. Так что мне не то, что в кабинет незаметно пройти, мне в туалет было не выбраться.
Заботливый папа принес мне из кухни маленький телик. Но я был такой дохлый, что не выдержал даже половины "Джанго" и заснул.
На следующий день отец вынужден был пойти в институт на
Ученый Совет, который, к моей радости, никак нельзя было пропустить. Как только он ушел, я сразу же сделал вылазку в кабинет и вытащил том "Рубежное- – сферолиты". Быстро пролистал его до "свиньи" с таблицей каких-то свиноматок, но понял, что это не то и стал возвращаться назад. Стоп! Вот! "Свинка (заушница, эпидемический паротит)… так..от пяти до пятнадцати, заражение…, "лицо заболевшего принимает характерный вид". Да уж! Дальше, дальше… "Из осложнений наблюдается …воспаление половых желез". Хотел бы я знать, где они у меня.
Нужен том на "П".
Тут в гостиной послышались шаги, и я понял, что, зачитавшись, не услышал, как пришел Стоян. И все же я успел поставить энциклопедию на место, радуясь, что сделал это вовремя.
Обнаружив меня в комнате отца, Стоян сделал жест: "марш к себе в комнату".
– Тебе своих книг мало? С чего такая любовь к научной литературе?
И тут острый взгляд доктора Дагмарова заметил злополучный том на букву "П", поставленный мной вверх ногами.
– Нездоровый интерес к своему здоровью? – фыркнул он.
Я не дал себя спровоцировать на какой-нибудь непродуманный
ответ, молча удалился в Логово и забрался под одеяло. Но отделаться
от недочитанной фразы в энциклопедии было нелегко. Хотя думать
о воспалении этих самых желез было противно.
А вдруг со мной это уже случилось? Недаром же папа волновался?
Вдруг я вырасту каким-то не таким!
Температура к вечеру не поднялась. Стоян объявил, что нечего меня
обслуживать, как в ресторане в отдельном кабинете, и велел идти
ужинать "на кухню в общепит".
Я сидел скучный и вялый. Мне казалось, что я уже не такой как
раньше. Хотя в чем я не такой, мне было не совсем ясно.
Отец несколько раз участливо спрашивал меня, не кружится ли у меня голова и еще что-то там такое. Зато Стоян невозмутимо и с большим аппетитом ел свои любимые спагетти.
Неужели я ему так безразличен?!
Доктор называется!
Наконец, тягостный ужин окончился, и я отправился в постель,
терпеливо пережив процесс "укутывания околоушных желез"
вонючей мокрой марлей и ватой. Как прокаженный, которому прижигали прыщик на носу.
Пожелав мне спокойной ночи, отец ушел, а я остался в темноте
один на один со своим осложнением. И вдруг кто-то вошел и сел
на кровать у меня в ногах. И этот кто-то сказал голосом Стояна:
– Страдания мартовского кота? Утешься. Трансвеститом не станешь!
У меня прямо дыхание перехватило от негодования.
–Ты, ты…
Я приподнялся, вытянул руки и попытался столкнуть его с кровати.
Стоян, смеясь, отшатнулся и вдруг совершенно неожиданно наклонился, опершись руками на подушку, и потерся колючей щекой о
мою щеку.
Все!
В "городе Киеве"…
Каждое лето начиналось с того, что я с нетерпением ждал, когда студенты отца сдадут свои экзамены, а сам отец закончит, наконец, писать отчеты Грандам. Я никогда не спрашивал отца, кто они такие. Само собой – важные персоны в Испании. Впрочем, однажды, когда меня спросили по телефону, чем занят отец, я оговорился и безмятежно ответил:
– Пишет отчет Дожам!
– Кому-кому? – осторожно переспросили на другом конце провода.
– Ой, не Дожам, а Грандам в Испанию, – поправился я.
Вечером отец проводил ликбез на тему, что такое "гранты", кто и от кого их получает. Все это происходило под истерический смех Стояна:
– Дожам! До-жам! Профессор, Павлик Морозов уличил Вас в запрещенной переписке.
Ну, в общем, когда, по словам Стояна, отец решался ненадолго оставить “свой курятник” без присмотра, мы втроем отравлялись к дяде Мите в Город на Днепре. Вернее в дяди Митину квартиру, потому что чаще всего папин двоюродный брата Митя с женой Вероникой и моей любимой сестрой Маргошей на это время уезжали к родственникам в Ригу. Оставшуюся часть Митиного отпуска мы проводили на различных широтах и в разном составе.
Традиция совместной поездки в Город была нарушена только один раз – в прошлом году. За четыре дня до предполагаемого отъезда Стоян внезапно объявил, что… едет с коллегами в Карелию на байдарках. И, похоже, даже билеты по брони не успеет для нас получить.
При этом известии отец молча медленно осел в кресло у телевизора, скрестив вытянутые ноги и упершись подбородком в грудь.
Пауза затягивалась.
Стоян постоял-постоял рядом и плюхнулся на свой диван.
– Понимаете, они достали мне эту … “Щуку”…надувную байдарку, всего 8 кг веса и гидродинамические показатели э-э-э лучше, чем у “Тайваня”.
Стоян замолчал, чувствуя, что сказал что-то не то.
– Я хотел сказать – у “Тайменя”…
Голос его пресекся.
Отец деликатно кашлянул. Ведь даже мне было совершенно ясно, что представления Стояна о байдарках приблизительно такое же, как в свое время было у меня о “грантах”.
Следующие четыре дня мы ходили вроде бы как обычно. Отец, правда, за бронью не пошел и купил билеты в порядке общей очереди.
Стоян приходил два раза, но на ночь не оставался. Один раз играл с отцом в шахматы и ужасно неумно острил. Отец выслушивал все его нелепые шутки с терпением и состраданием врача у постели больного.
Я радовался жизни без школы и музыкалки и целыми днями болтался с ребятами во дворе.
Если же мне удавалось встретиться со Стояном на безопасном расстоянии от отца, я демонстративно дулся и всеми доступными средствами показывал доктору Дагмарову, что он обманщик и перебежчик.
За два дня до отъезда Стояна внезапно осенило, что если мы уедем, без полива погибнут его любимые горькие перчики, которые он выращивал на кухонном подоконнике с самого Нового года.
Китайская роза обещала пережить невзгоды в корыте с водой, что ей было не впервой. Но любимые перцы! И Стоян решил тайно подсадить их на клумбу, которую с маниакальным постоянством разбивал и поливал наш дворник, татарин Хаким. И с таким же маниакальным постоянством вместо цветов к осени там вырастал один бурьян.
Поздно вечером мы направились во двор. Стоян тащил ведро с водой и пакет с горшками. Я волочился за ним с китайским фонариком и детским железным совком для песочницы. При таинственном свете фонарика Стоян отыскал среди зарослей крапивы подходящее место для трех ямок.
Мы влили в них воду и посадили три хилых растеньица, на одном из которых уже завязался крошечный зеленый перчик.
Это было похоже на сцену из старого фильма “Белые одежды”, где какие-то передовые генетики в лице артистов Болтнева и Гаркалина прятали в сорняках свои ценные сорта картофеля. Я потому этот фильм запомнил, что отец ни одной его серии не пропустил. А потом нашел для Стояна книгу, которая как-то странно называлась. Я только одно слово запомнил – “сессия”, потому что постоянно слышал его от отца. А дальше были просто отдельные буквы. И они долго ее обсуждали. Я слушал-слушал и стал выращивать из хомяка Дейла маленькую собачку: сделал ему ошейник и косточки давал.
Стоян это заметил, дал мне хорошего щелбана по затылку и сказал:
– Лысенко какой нашелся! Еще увижу – самого на поводок посажу.
Когда до отхода поезда оставалось несколько часов, отец закрылся в кабинете, чтобы очередной раз напомнить своим сотрудникам, что к его приезду они должны, а чего не должны делать.
Стоян отправился в кухню готовить сэндвичи и складывать их в нашу походную бутербродницу: жест доброй воли и скрытого раскаяния.
Проходя мимо кухни, я заглянул в дверь и сделал одну из своих коронных “морд”, которая выражала жалость, доходящую до скорби, с элементами презрения. Стоян только зубами скрипнул, но не сказал ни слова. Это и ввело меня в заблуждение. Потому, когда на пороге своей комнаты я почувствовал у себя на загривке его тяжелую руку, спастись было почти невозможно.
И все-таки я успел вывернуться. Убирая свое логово перед отъездом, я развернул стол так, что он отгородил угол комнаты, куда я и успел пролезть. Здесь я был в относительной безопасности. Попробуй Стоян пролезть под столом, меня бы уже и след простыл.
– Ладно, малолетний мерзавец, платить по счету будешь по возвращении. Вылезай! Заключим перемирие, только перестань корчить эти жуткие рожи. Я тебя предупреждал – можешь остаться с такой мордой на всю жизнь. Я понятно говорю?
– Хау! – бодро ответил я. – Но только я не вылезу отсюда, пока ты не выйдешь!
Стоян перегнулся и попытался ухватить меня за рубашку. В ответ я сцепил руки замком и отбил атаку.
В эту минуту в дверях появился отец.
Тебе нечего делать, Юра? – спросил отец со сталью в голосе.
Стоян оттолкнулся от стола и вышел из комнаты, не сказав ни слова.
– Я повторяю! Тебе нечем себя занять?
Я молчал.
– Тогда садись за рояль и пять раз проиграй этюд на октавы. Живо!
Итак, Стоян был отомщен, и я отправился выкручивать свои суставы, уж не знаю на радость или на горе старику Бехштейну.
Я вяло отыграл два раза “этюд № 4, Черни т. IV”, обнаружил, что до меня уже никому нет дела, и выскользнул из-за рояля.
Поскольку в этот раз билеты брал отец, у нас оказалось два верхних места. Я сразу же представил, каким удобством для остальных пассажиров будет почти двухметровый отец, читающий научный трактат на приставном стульчике в коридоре! И все потому, что сидеть на чужой полке была для отца недопустимым, спать в поезде – невозможным, а лежать – неудобным.
Почти у нашего подъезда Стоян тормознул какую-то ВАЗ-овскую развалюху, и мы доехали до вокзала достаточно быстро и без приключений. Отец остался на перроне объясняться с молоденькой проводницей, а Стоян поднял меня вместе с сумкой и поставил на площадку, минуя все ступени. Потом вскочил сам. Мы быстро нашли свое купе и я грустью убедился, что нашими соседями будут… дамы.
Одна – пожилая, похожая на забуревшую картофелину, с толстыми линзами на выпуклых глазах. Другая – хилый картофельный проросток цвета солонина. Места для наших вещей под их полками, конечно же, не нашлось.
– Так! – сказал Стоян. – Забрасываем сумку в нишу над входом:
– По крайней мере, не будете зависеть от того, когда проснутся эти ку-у… купейные соседки, – добавил он шепотом.
Пристроив мой рюкзак к сумке, мы вышли в коридор. Отец, не любивший духоту стоящих вагонов, ждал нас на платформе.
– Послушай, бандит, следи за отцом в оба. Не давай профессору проводить сухую голодовку. Бери у проводника чай и приноси. Раза два-три. Все ясно? Ну, а сам продолжай наши с тобой славные традиции: отсыпайся и отъедайся за двоих.
Тут мимо нас стали проталкиваться какие-то пассажиры с огромными ящиками и тюками, и я волей-неволей “пал на грудь” Стояна.
На груди доктора Дагмарова я неожиданно обнаружил, что срочно нуждаюсь в носовом платке. Стояну пришлось вытереть мой шмыгающий нос собственноручно, поскольку в коридоре было тесно от пассажиров и отстраниться от него я не мог, даже если бы хотел.
– Ну, что, кривляка, съел? О мордах я тебя предупреждал! Еще немного и останешься при соплях и слезах до седых волос. А между тем соленой воды на Земле избыток!
Тут Стоян ловко поменялся со мной местами.
– Прижмись к окну, на перрон не выходи.
И исчез.
Через минуту они вместе с отцом появились у окна. На меня они не смотрели. Стоян что-то втолковывал отцу, потом стал хлопать себя по карманам куртки и, в конце концов, вытащил какую-то пластинку с крупными таблетками, которую ловко затолкал в жилетку отца. Отец всегда одевал в дорогу джинсы с жилетом, потому, что страшно не любил копаться в сумке и предпочитал билеты и все прочее держать в полном смысле слова “под рукой”.
Тут что-то звякнуло, вагон дернулся, и оба, отец и Стоян, посмотрели почему-то в разные стороны. Потом обнялись, и отец побежал к ступенькам.
А доктор Дагмаров искоса взглянул на заляпанное грязью окно, за которым подразумевалось мое присутствие, и, засунув руки в карманы, пошел против движения поезда. Не оглядываясь.
Я быстро перескочил в купе и запрыгнул на вторую полку против движения поезда. Отец ее не любил. И лег лицом к перегородке.
В общем ехали так, как я и предполагал. Отец сидел с книгой в коридоре, я приносил чай ему и соседкам по купе, слопал, не слезая с полки, все свои бутерброды, пару раз проветрился в коридоре, а остальное время спал “как сурок”.
Картофельная дама оказалась ветеринаром на пенсии, а девица – любительницей кошек, так что тем для разговоров у них было предостаточно.
Первую, русскую, таможню я проспал. Когда проверяли документы во второй раз, я проснулся оттого, что в глаза мне ударил яркий свет. Я увидел затылок отца, стоящего перед столиком спиной к окну, и пограничника, тыкающего мне в лицо фонарик. И это при включенном на всю мощь верхнем освещении!
Полусонные дамы, лежа на спине, держали паспорта в скрещенных на груди руках. Жуткое зрелище! Низкорослый пограничник все листал и листал паспорт отца, периодически бросая на него странные взгляды.
– Вам никто не говори, что вы похожи на Иствуда?
Брови отца поползли вверх.
– Или Чемберлена?
– Лорда Чемберлена? А как вы его себе представляете?
Я прыснул от смеха. Спрашивать отца о голливудских звездах!!!
Кроме того, Иствуд и Ричард Чемберлен также похожи между собой, как отец и Чак Норрис!
Я попытался было сказать этому свихнутому на Голливуде, что я о нем думаю, но отец положил мне руку на плечо. Ох уж эта папина рука! Все, что надо, поймешь без слов. Сейчас она вежливо так попросила: “Чтоб и звука от тебя не было слышно!”. Так что с таможенным кинолюбителем мы расстались мирно.
Финансовый крах наш был предопределен с той минуты, когда отец, не торгуясь, дал таксисту десять баксов, хотя красная цена дороги до Липок была доллара два с половиной.
Дядя Митя жил в знаменитом доме на узкой тенистой улице. Мемориальных досок была на нем почти столько же, столько окон.
Обычно бывало так. В первые дни отца как подменяли. Казалось, он вообще забывал о нашем со Стояном существовании. Он исчезал из дома ни свет, ни заря и возвращался вечером. Когда я допытывался у Стояна, где отец, он отвечал:
– Бродит по дорогам прошлого. Но тебе этого не понять. Ты еще существо без биографии.
Я дулся и уходил к ребятам во двор гонять мяч. Стоян валялся в постели до десяти, потом бежал в магазин за пивом и опять заваливался теперь уже на диван и просматривал по видаку все новинки из коллекции дяди Мити.
Но, к сожалению, время безграничной свободы проходило быстро. И однажды утром отец никуда не уходил и из романтического странника опять превращался, по словам Стояна, в “отца-наставника”. Явление печальное и неотвратимое. На этот раз никаких перевоплощений не было.
В день приезда отец отсыпался, а мне велел сидеть дома. Спал он долго. Я нашел картошку и сварил. Немного съел, остальное сунул под подушку – для отца. Включил холодильник и положил туда неприкосновенный запас, который Стоян, незаметно, сунул мне в рюкзак – немного сыра, колбасы и масло.
На другой день было воскресенье. Отец дозировано выпустил меня во двор, но сам никуда не отлучался, уверенный, что пункт обмена валюты в воскресенье закрыт.
Наконец, пришел понедельник.
Отец отправился менять валюту на гривни и вернулся в прекрасном настроении с двумя пакетами всякой еды.
– Ты знаешь, Юра, везде все есть, и в этих… в “гривнях” или “гривнах” очень даже доступно.
Отец достал из кармана целую пачку денег, ну, просто толстую-претолстую. На одной бумажке я узнал здание банка, который стоял на соседней улице. Там дядя Митя получал свою золотую школьную медаль. И еще было много синих гривен с портретом Богдана Хмельницкого.
Всю эту кучу денег отец сунул в тумбочку у кровати, и мы отправились на кухню разбирать сумки с продуктами.
В этот же день объявился какой-то школьный друг дяди Мити – Вадим, Вадим Петрович.
Сотрудников его института отпустили на все лето в отпуск за свой счет. Через неделю он собирался к родственникам в деревню, как он сказал, – “подхарчиться”. А пока он предложил отцу повозить нас на какие-то озера под Козинцем. Уверил, что они экологически чистые, и там можно покидать спиннинг. “Вот только… вот только бензин в Украине дорогой”.
– Ну, это не проблема, – сказал отец и все расходы взял на себя. Еще бы! Такой соблазн для спиннингиста!
Итак, мы стали ездить на озеро, где у Вадима Петровича жил друг, а у того была лодка с подвесным мотором. Отец бросал спиннинг, друг Вадима Петровича с рыбным именем Карп сидел на моторе, я купался и собирал на берегу ракушки, а хозяин машины вдохновенно готовил “козацький кулиш”. Из продуктов, купленных на деньги отца.
Разжигался костер, втыкались «рогульки», и в черном от сажи казане дядьки Карпа, больше похожем на котел общепита, поочередно варилась курица, какая-то крупа и… рыба! “Кулиш” или “чумацька уха” заправлялась острым тузлуком из помидоров, чеснока и горького перца. И его с аппетитом уплетали… Вадим Петрович с другом, которому “за услуги” полагалась еще четвертинка “Горилки”.
К кулешу шел молодой чесночок, ранние крымские помидоры и молодая картошка. Отец и я удовлетворялись нескольким ложками странного варева и парой картофелин. Потом пили чай с сахаром вприкуску. Добычу забирал Вадим Петрович:
– Чтоб вам дома не возиться!
На пятый день Вадим Петрович приехал прощаться и привез в двухлитровой кастрюльке с незабудками “рыбу фиш” – фаршированную щуку, тушеную с овощами в красном вине. Было очень вкусно и… очень мало. Остальными восемью щуками, надо полагать, “подхарчевывалось” все пять дней семейство дяди Митиного однокашника.
На следующий день отец выдвинул ящик тумбочки, и … убедился, что там осталось только несколько мелких купюр с портретами князя Владимира и Ярослава Мудрого. Он с изумлением взял их в руку, силясь осознать, что же такое случилось с той огромной пачкой денег, которые он положил сюда так недавно. Отец даже ящик вытащил и осмотрел его дно, как будто это был реквизит фокусника.
Потом, вспомнив о моем присутствии, отец, не выпуская ящика из рук, посмотрел на меня через плечо с выражением, которое Стоян назвал бы “изумление и смущение в одном флаконе”.
– Побудь у себя, Юра!
“У себя” – это значит в “светелке” Маргоши, где я всегда обитаю, приезжая к дяде Мите. “Светелкой” называет комнату ее мама. И, по-моему, точнее не скажешь.
Узкий диванчик под старинным гобеленом: “Пикник за стенами замка”. Каждую ночь, засыпая, я разглядываю знатных барышень в костюмах пейзанок, кавалеров в белых чулках и слуг, уставляющих скатерть на траве корзинами с изысканной едой и изящными кувшинами. Наверное, с вином и водой. Когда мы жили со Стояном и отцом под Ногайском, там все болгарские женщины пили вместо воды вино с водой. И детям давали. Мне нравилось.
У окна – стол. У него тонкие фигурные ножки, соединенные разными арками. Если бы к нему крепилось зеркало, он стал бы похож на туалетный столик “эпохи гобелена”.
В замок узкого верхнего ящика был вставлен крошечный ключик. Я не смел даже прикоснуться к нему. Потому что там… хранились тетради с Маргошиными стихами. Кстати, по-польски “Swietlica” – клуб. Поэтический клуб…
"Небрежная походка. Шляпа. Фрак.
Глаза устремлены наверх, на небо.
Так ходит в городе смешной чудак,
Узнать его – случится непременно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И верит, что наступит век добра,
И милосердье не пустым взметнется звуком.
А Вы, случайно встретив чудака,
Не отворачивайтесь, протяните руку.
Пусть, как дитя, наивен он и чист,
В его руках да не умолкнет лира!
Он спотыкается. Да ведь не смотрит вниз,
Его влекут небесные светила".
Какая несправедливость родиться кузеном да еще на десять лет позже!!!
А она мне написала:
– Здравствуй “раз и навсегда!”
Над столом – две книжные полки. На нижней царит Наполеон и Цветаева. На верхней – только томики любимых поэтов Серебряного века и несколько тоненьких поэм Лины Костенко. Они раскинуты двумя крыльями, а между ними – деревянный складень: “Спас нерукотворный” и “Владимирская икона Божьей матери”.
Против дивана – секретер, сделанный по чертежам моего двоюродного деда. Когда полка-стол поднимается, получается просто закрытый шкаф, а ножка образует рамку с “Танцовщицами” Дега.
Итак, я сижу на застеленном пледом диванчике и пытаюсь осмыслить то, что произошло.
Из спальни никаких звуков. Потом крутится телефонный диск. Несколько раз. Но разговоры коротки и, как видно, проблему не решают.
Время тянется медленно, и я, не замечаю, как засыпаю. Будит меня отец:
– Я думал ты зачитался. Идем ужинать.
Ужинал я. Отец пил чай. Потом сказал:
– Возможно, нам придется возвратиться домой.
Я подумал, “а куда же еще”, но смолчал.
Взял свою тарелку и пошел к мойке.
– Послезавтра, – добавил отец.
Я не раскрывал рта. Зоопарк, Новый Ботсад, Канев, Устье Десны… Ничего этого не будет. Вот был бы с нами Стоян, такого бы не случилось.
Вечером мы с отцом смотрели по телику “Трех мушкетеров”, в котором Арамиса играл Ричард Чемберлен. Отец сидел в кресле, а я у его ног, опираясь спиной на отцовские колени. Вообще-то тот тронутый таможенник в чем-то был прав. Но попробуй узнать в этом французском ловеласе отца, если характером он вылитый граф де ля Фер.
Сеанс был ночной, и глаза мои слипались сами собой. Но лень было подняться и идти спать. Хотелось, как той лисе из сказки, притвориться меховым воротником, чтобы отец, как бывало раньше, сам отнес меня в постель.
Но не тут-то было!
Я уже упоминал, что руки отца умеют говорить очень выразительно.
Я прочитал в каком-то журнале у Стояна, что известно более пяти тысяч языков, включая мазатекский язык свиста. Мальчики-индейцы этого племени начинают свистеть раньше, чем говорить. Так вот, отец утверждает, что его слова не всегда доходят до моего сознания, а руку на плечо положит – и мне все ясно!
Сложный такой язык прикосновений. Но в тот вечер отец совершенно бесчувственно тряхнул меня и сказал:
– Иди в постель и не засни на ходу!
Откровенно говоря, эта его бесчувственность так меня разозлила, что сонливость как рукой сняло.
Я плюхнулся на диван, прямо разжигая в себе обиду на отца. Почему из-за каких-то денег мы должны уезжать из Города? И тут же с не меньшим раздражением стал думать о Стояне. Плавает в Карелии на своем “Таймене-Каймане” и, наверное, забыл о нас.
Потом я вспомнил, как Стоян шел по перрону, не оглядываясь и тяжко отрывая ноги от асфальта. Будто водолаз, идущий по земле в стальных башмаках. И мне стало стыдно!
Господи, почему я такой бессердечный? Почему ни разу до сегодняшнего дня я не вспоминал о Стояне. Вдруг он там перевернулся на своей байдарке или что-то там еще случилось? А я вот даже сейчас просто думал об этом, а ничего такого не чувствовал. Вот когда неожиданно увидал, как отец обнимает незнакомую женщину, тогда вообще ничего не думал, только чувствовал… до потери разума.
Я встал и подошел к столику Марго. Там к стене под полками она прикрепляла скотчем записочки такие маленькие, с какими-нибудь стихами, изречениями. В прошлом году это был очень красивый псалом царя Давида: “Господь – Пастырь мой…”.
Теперь там тоже был листочек. Я все эти дни скользил по нему взглядом, скользил, а так и не вчитался толком. Все некогда было. Из постели на рыбалку, с рыбалки – в постель. А теперь меня просто тянуло к нему.
“Это очень лично, но надо к этому стремиться: научиться любить хоть одного человека с забвением себя…” – было написано рукой Марго. – Антоний Сурожский.
Открывшееся мне знание о себе было пугающе и не приятным. Я не умел любить даже самих близких.
Я любил их только тогда, когда они делали мне что-то нужное или приятное.
Любил бы я Марго, если бы она не присылала мне свои стихи, тем самым возвышая меня в моих же собственных глазах?
Любил бы я отца, если бы он каждое лето отправлял меня в какой-нибудь лагерь, а не возился со мной весь свой отпуск. Вот отдыхал бы он где-то с красивой женщиной Ирэной – любил бы я его?
И, наконец, любил бы я Стояна, если бы он не то, чтобы на байдарке без меня куда-то там отправился, а взял бы женился и переехал в другой город?
Я с большим трудом задал себе эти вопросы, даже не пытаясь на них ответить.
Вместо этого, не влезая в тапочки, я поплелся в кухню пить воду. Часы в гостиной пробили два раза. Через полуоткрытую дверь ее было видно, что в спальне горит свет.
Чтобы не греметь посудой, я присосался к крану, вопреки суровым после чернобыльским запретам. Вернувшись в светелку, я залез в постель и натянул на голову простыню. Хотя мне самому непонятно было, от чего я хотел отгородиться. Ведь все пугающее меня находилось во мне самом!
– Господи, – искренно шептал, как мне казалось, неискренне, театрально, с какими-то вымученными слезами, – Научи меня любить… самых близких…
Потом мне стало душно. Я вылез из своего кокона и долго крутился на влажных простынях.
Когда я открыл глаза, на будильнике было шесть часов пятнадцать минут, и кто-то отчаянно трезвонил в парадную дверь. Я соскочил с дивана и бросился в прихожую.
– Спроси кто! – крикнул из спальни отец.
Но я уже крутил все замки двумя руками. На пороге, набычившись и держа руки в карманах, стоял доктор Дагмаров.
Я бросился ему на шею, оцарапав лицо жесткой щетиной отпущенных им усов и бороды. С таким “ярмом” Стоян и переступил порог, за которым нас уже ждал совершенно одетый отец. Разве что рубашка его была застегнута не на все пуговицы.
– Да сними ты с меня этого клеща! – взмолился Стоян, пытаясь разжать мои пальцы.
Но отец не стал отрывать меня от Стояна, а просто заключил нас в объятия длинными своими руками.
Сбросив с плеча сумку у порога, Стоян решительно объявил о своей программе:
– Мыться, есть и спать! Летел в кабине пилотов во-от в таком положении (показал согнутый крючком указательный палец), весь рейс травил байки. До этого двое суток не спал, а в самолете пил только кофе.
Пока Стоян блаженствовал в огромной старинной ванне на чугунных львиных лапах, я судорожно соображал, чем его кормить. В холодильнике лежали последние два яйца, кусок сыра, и я решил сделать свою коронную “королевскую глазунью”.
Посыпал желтки тертым сыром и зеленым луком. Получилось экзотическое блюдо.
Отец в кухню не заходил. Стоян заявился к столу с мокрыми курчавыми волосами. И тут я впервые заметил, что борода его кое-где как бы испачкана мелом. Я даже не сразу сообразил, что это… седина.
Седина у Стояна?
Вооружившись вилкой, Стоян плотоядно склонился над тарелкой:
– Что, лопоухий, жаба давила? Слабо было еще два яйца разбить?
Я отвел глаза. Отец, появившийся было в дверях, круто развернулся и вышел.
– Та-а-ак! – протянул Стоян, – Потом разберемся.
Запив кефир сладким-пресладким чаем, он заглянул в холодильник, присвистнул и отправился разыскивать отца.
– Как я догадываюсь – семейный дефолт?
– Пока нет, но, понимаешь…неразумная доверительность… гм …в денежных отношениях.
– Так. Туземные знаки остались?
– Мелочь какая-то.
– А капуста?
– Капуста? Зачем тебе капуста?
– Рома! Вспомни “лимон”.
– А-а-а! На три билета, Юрке – без места. Но ведь это … “зеленые”?
– Синонимы. Богатый и могучий современный язык. Ладно. Как там говорила эта, которую уносил ветер? Хорошие мысли приходят после хо-о-рошего сна. Ты в спальне устроился?
– Да.
– Я прикорну рядышком. Батарейки подсели. Что бы ни было – меня не будите и не делайте лишних телодвижений. Все.
Убирая свою постель, я вспомнил историю с “лимоном” и прыснул. Но тут же оглянулся на дверь, за которой укрылся в кабинете отец.
Что позволено Стояну, как говорится, не позволено никому.
А дело было так. Когда я был маленьким, к отцу зашел в гости школьный приятель и пожаловался, что не может достать для своего предприятия какие-то детали на другом заводе, потому что к директору без “лимона” не подберешься. И наивный отец принес ему из холодильника несколько слегка подсохших плодов. Что тут было с нашим гостем и Стояном!
Стоян проснулся в полдень. Принял душ и уединился с отцом. Меня выставили на кухню. Слов разобрать я не мог, но понял, что отец железно стоит на своем: уезжать!
А Стоян злится и не соглашается. Никогда еще я не слышал в его голосе такого отчаянного призыва пойти ему навстречу. Наконец, отца вообще не стало слышно, и говорил только Стоян.
Потом замолчали оба.
Вскоре кто-то, очевидно Стоян, открыл дверь. Отец сказал вдогонку примирительно:
– Ей Богу, Стоян, это же разумно! Оставайся! Уговори Юрку, а деньги я вам передам. Живите здесь, сколько хотите!
– Ты так ничего и не понял! Я не хочу, чтобы мы расставались и не могу вернуться.
– Но объяснить почему – можешь?
Молчание.
– Знаешь, Стойко, мне иногда кажется, что у меня не один ребенок, а два. И с каким труднее – не знаю.
Опять пауза.
– Ты вспомни, как Юрка требовал, чтобы ты пошел на рынок за деньгами и купил ему велосипед. Что ты ему ответил семь лет назад? “Деньги на рынках только цыганам даром достаются”. А сейчас ты пытаешься уверить меня, что достанешь 100 долларов в чужом городе за пару дней, как будто они здесь под ногами валяются.
Отец отвлекся и не заметил того, что увидел я: Стояна реплика о рынке, как громом поразила. Он тряхнул чернокудрой своей головой и хитро так протянул:
– Цы-ы-гане, значит, на рынке деньги даром получают.
Ну, что ж, мы “люди не здешние”, не гордые, сойдем и за цыган.
Отец с недоумением воззрился на него, но заметил весьма добродушно:
– Особенно в твоем костюме от Версаче.
– Ну, если, дорогой профессор, "главное, чтобы костюмчик сидел”, – переоденемся! Юрка, где Митины брюки, в которых он на рыбалку ездит?
И, не дожидаясь моей реакции, сам полез на антресоли и достал пакет, из которого, кроме брюк непотребного вида, выпали красная футболка Марго и бейсбольная кепка, которую дядя Митя не раз использовал как подсак. Стоян с ходу напялил на меня два последних предмета, при этом в горловину футболки вылезло мое голое плеча.
– Это что? – срывающимся голосом сказал отец. – Сейчас же сними эту дрянь. Здесь вам не театр “Ромэн”.
– Отчего же! Парень – настоящий Калдерари, цены не будет на рынке такому спутнику!
Разъяренный отец сорвал с меня футболку, и она вместе с кепкой полетела на пол. Сам же профессор Мещерский удалился на балкон, где уселся под сенью вынесенного из комнаты лимонного дерева. Чтобы схваченное по дороге первое попавшееся под руку печатное издание удерживалось на коленях, отец поставил ноги на небольшую скамеечку.
В старом кресле с резной спинкой, похожем на трон, в странной позе с поднятыми коленями да еще рядом с китайскими деревянными шторами, закрывающими окна спальни, он был похож на сурового правителя царства Цинь.
Стоян в это время задумчиво водил утюгом по злополучным брюкам.
Наконец отец не выдержал, явился в кухню.
Увидев его, Стоян плутовски снял брюки со стола и прикинул к себе:
– Сойдет для цыгана?
– Вот что! Прекрати дразнить меня этим маскарадом. А ты, Юра, – сбегай за хлебом и кефиром. Эти… гривни… в тумбочке.
Отец ушел, а Стоян швырнул брюки на пол и сказал мне:
– Убери с глаз долой!
Пока я заталкивал весь этот реквизит обратно на антресоли, он написал что-то на клочке бумаги, оставил ее на кухонном столе, схватил одной рукой нашу необъятную хозяйственную сумку, а другой вытолкнул меня на лестницу черного хода.
До метро мы бежали, выкладываясь, как на стометровке.
Я спросил:
– Стоян, ну, зачем ты сердишь отца? Что ты написал в записке, и куда мы спешим?
– Пытаем счастья, сынок! Пытаем счастья! Остальное узнаешь потом, а то рано состаришься.
Длинные эскалаторы, сменяя друг друга, увозили нас прямо в ледниковые глубины.
Стоян стоял ступенькой выше.
Вдруг он обнял меня и, склонившись к правому уху, прошептал:
– Я не могу возвратиться, Рыжий, и остаться один без вас тоже не могу. Ты уж меня прости!
Мы сошли на левобережном рынке и сразу же направились к овощным рядам. Там Стоян прислонил меня к ограде.
– Жди!
А сам быстро пошел вдоль прилавков, перебрасываясь с продавцами коротким фразами. Наконец, остановился, уперся руками в прилавок и даже влез под козырек.
Торговка семечками, которая сидела рядом со мной, раскорячившись на низенькой скамейке, как и я не спускала глаз со Стояна.
– Доню! – позвала она.
– Шо вам? – отозвалась молодая женщина, поливающая на лотке пучки увядшей зелени.
– Дывы! То не актор, що грав Будулая?
– Ни, просто схожий. Молодый ще.
– То воны ж грымуються!
Боясь расспросов, я стал старательно вжиматься в ограду.
– Хлопчык, любыш семки? На! – торговка протянула мне газетный кулечек с жареными семечками.
– Спасибо, спасибо, у меня денег нет.
– Та я не за гроши. То я тебя прыгощаю.
Стоян в это время уже спешил назад.
– Давай за мной на ту сторону платформы!
– Дядько! – игриво окликнула его торговкина дочка. – Вы часом нэ з кино? Ми тут гадаемо, чи вы сын Будулая, чи може онук?
– Внук, внук, только не Будулая, а Карая.
И мы помчались в обратную сторону. Но только у меня от смеха сбилось дыхание, и я начал отставать. Стоян, чертыхнувшись, велел мне “не хрюкать” и не терять его из виду.
А дело в том, что когда я был маленьким, он сам же читал мне книгу о пограничном псе Карае. Потом было продолжение – “Сын Карая”, которое я прочел уже самостоятельно. Но и этими героическими историями я не начитался и замучил Стояна просьбами принести мне новое продолжение: “Внук Карая”. И сколько он не убеждал меня, что такой книги нет, я не успокаивался. Потом топнул ногой и сказал:
– Так сядь и напиши!
На другой стороне насыпи были ряды, где продавали мед. Среди продавцов было много мужчин. Увидев носатого седого старика в каком-то театральном брыле, Стоян остановился, как вкопанный, и закричал:
– Хома! Хома!
Тот встрепенулся.
– О Стоянэ, сынку! Яким витром занэсло тебэ сюди, волоцюга?
А цэ хто з тобою? Давай-но його сюды!
Он перегнулся через прилавок и подхватил меня под руки узловатыми, как корни, пальцами.
– Пид мыкитки його! Пид мыкитки! – хохотали тетки.
Не успел я оглянуться, как очутился среди мешков, корзин и липких бидонов.
– Очи твои, цыганськи, клятый булгар, а тильки дуже воно билявэ та тэндитнэ.
То твий хлопець чы ни?
– Мой, мой. Наполовину!
– А на другу?
– Романа Ильича.
– А-а-а, прохвесора!
– Слушай, Хома, отойдем. Есть разговор.
– Тетяна! Прогощуй малого мэдом. Я зараз.
Каким только медом не угощала меня тетка Татьяна и ее не то односельчане, не то родичи. У меня уже все слиплось внутри от этого угощения, а Стояна и деда Хомы все еще не было.
Наконец, они объявились. Веселые. Нос у деда стал еще больше и покраснел. В руках Стояна была наша необъятная кошелка, откуда торчали горлышки каких-то бутылей, закупоренных кукурузными початками. Они расцеловались.
– Петко прыйиде до Риздва, йому и виддасы гроши. Прохвесору перекажэш прывит и запрошэння до Водяной. З Юрком. И з тобою, звисно. И скажи: медовуха справжня, на бджолыний заквасци. А я, разумиеш, зрадив, що Юрко – то твий хлопець, не впизнав малого. До рэчи, Петко вже на онукив чэкас, а ты…
Тетяно, сходи до дивчат, нехай збэруть йому до борщу, и сальце визьмы у Мыколы, та з проростю, як Стоян любить.
Мы вернулись к ужину, нагруженные, как верблюды.
Отец открыл дверь, не сказал ни слова и ушел в кабинет дяди Мити.
Записка по-прежнему лежала на кухонном столе. Я прочитал: “Колдерари ушли на промысел”.
– Ну вот, сказал я. – Доигрались в цыган. Теперь “будет нам и белка, будет и свисток”.
– Помолчи! – неожиданно резко сказал Стоян и пошел за отцом.
Я тоже вышел из кухни, плотно прикрыв за собой дверь, как будто там, в сумке, находились не продукты, а бомба замедленного действия.
– Неужели ты допускаешь, что таким дурацким розыгрышем задержишь меня здесь хотя бы на один лишний день! – донеслось из кабинета.
Я прошмыгнул на балкон и уютно устроился в кресле, где, судя по всему, отец старательно изучал “Советы молодым хозяйкам” госпожи Молоховец.
И надо же, отец и Стоян вдруг решили в качестве исповедальни использовать спальню. Кто-то, вероятно Стоян, рухнул на кровать возле самого окна, в полуметре от меня!
– Когда ты отказался ехать с нами, ты уже знал? – услыхал я.
– Не все. Мишке сообщили, что там ЧП. Но я сразу почувствовал – с Асей!
– И ты ничего мне не сказал?!
– Я бы и сейчас не грузил тебя всем этим. Просто ты меня достал! Что не скажешь – у тебя на все одна реплика: “В Москву! В Москву”. Прямо “Три сестры” Виктюка!
– Стоян, как ты говоришь!!!
– Боже мой, я еще должен следовать правилам изящной словесности! Юрки-то – нет! И потом ты что, думаешь, он в школе изъясняется языком Державина?
– Оставь, сейчас мы не это обсуждаем, и все же пощади мои уши. Кроме
того, пьеса все-таки не Виктюка.
Молчание.
– Не сердись, Стойко, рассказывай.
– Он уговорил ее оставить группу и идти через пороги вдвоем. Спасатели нашли их через два дня. У этого идиота была сломана пара ребер и морда побита о камни.
А у Аси…
Ты знаешь, где мы с Мишкой ее перехватили? В местной больничке. Готовили к ампутации обеих ног. Мы договорились с военными… Завидов бился в истерике и настаивал, чтобы делали операцию на месте.
– Почему?
– Он боялся, мы ее не довезем.
– А ты?
– Я об этом не думал.
– А если бы не довезли?
– Его бы судили… вместе с нами. А живая Ася, даже без ног, взяла бы вину на себя. Но, вообще, лучше всех держалась Аська!
У нее хватило сил сказать: “Мальчики – к Бурденко”, и только после этого она отключилась.
По улице то и дело проезжали машины, скапливаясь у светофора на углу. Оттого я слышал не все. Но и того, что услышал, было достаточно, что бы любой из них свернул мне шею за непотребное любопытство. И разбираться не станут, как я очутился у них под окнами.
– Знаешь, о чем она попросила, когда пришла в себя и поняла, что ноги при ней? “Морикразу” достать.
– Что это?
– Новый препарат, чтобы на морде у него не остались рубцы.
– Она будет ходить?
– Будет. Годик на костылях, а потом с палочкой, потом без палочки.
Они замолчали. Только кровать под Стояном заскрипела.
– Послушай, Стойко, может это покажется тебе банальным… если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним.
– Как можно изменить отношение к тому, что ты… теряешь человека?!
– Ася жива и будет ходить! Безразлично с кем и где! Ася бу-дет!
Если бы мне сказали сейчас, что Машка есть… Где-то там, не со мной, но
жива… Понимаешь? Хотя мне ее никто не заменит!
– “Пой, ласточка, пой!” Попробовал бы я в свое время предложить тебе
“изменить отношение!”
– Хорошо, что удержался! Но я-то не двадцатилетний моралист! Ты
знаешь, сколько за этим стоит… (отец не успел закончить).
– …женщин – Инга, Лера, Рэна! Просто монах!
– Что?!! (послышался ” плюх”, будто кто-то свалился с кровати на пол).
Тут я четко осознал, что с балкона нужно исчезать. Если бы я был кошкой, то, не раздумывая, спрыгнул бы с пятого этажа на все четыре лапки. Но представив после этих жутких разговоров об ампутации, что реально случится с моими хилыми конечностями после приземления, я просто стал на четвереньки, выбрался на кухню и уже на двух ногах спустился во двор, предусмотрительно захватив с собой ключ.
Стемнело, когда оба нашли меня на качелях. Отец тормознул меня в верхней точке и медленно спустил в руки Стояну, который не устоял на ногах и опрокинулся в детскую песочницу.
После того как мы с отцом вытащили его, он долго отряхивался от песка, загаженного дворовыми собаками и кошками. Отец пытался помочь. Когда с этим было покончено, мы отправились домой.
Впереди шел я с ключом наготове (свои ключи они, разумеется, не взяли).
За мной брели, спотыкаясь обо все неровности дороги, отец и Стоян и дружно ругали меня всякими нехорошими словами. И пахло от них как от деда Хомы – чем-то хмельным и медовым.
И я шел и думал, что надо бы с утра пораньше сбегать за квасом. Вот только знать бы, куда Стоян сунул деньги.
Все!
Стихи Ольги Стрижковой.
"Бунт на корабле"
– Ты что Левке собираешься подарить? – спросил Боб.
– Не знаю.
– Давай на мяч скинемся?
– Это по сколько выходит?
– Если Митроху уговорим – будет по тридцатнику…
– Ладно. Покупать вместе пойдем?
– Ну, да! Дождешься тебя с твоими сольфеджиями. Сам куплю.
На том и решили.
Разговор был недели за две до Левкиного дня рождения. Я сразу же у отца взял деньги и обрадовался тому, что он не стал мне десятки отсчитывать, а дал одну бумажку в пятьдесят рублей. Значит можно будет и без Митрохи обойтись.
В этом году Левка решил пригласить к себе чуть ли не половину класса и даже знакомых по даче девчонок.
–А что, – объяснил Левка, – батя сказал "гуляй на родительскую деньгу, пока молодой, пока паспорт не получил, а на следующий год курьером тебя пристрою, и на свои тусовки сам будешь зарабатывать".
– Между прочим, первыми мы с Митрохой паспорта получим, а ты еще в "детках" целую четверть проходишь, – отреагировал на его заявление Борька.
–Дались вам эти паспорта, – сказал я. – Этих заработков курьерских хватит разве что на пару заходов в Му-Му, а других выгод я, например, не вижу.
–Не видишь, потому что получишь его последним. А я так жду не дождусь, потому что с паспортом меня уже не повезут как багаж по доверенности. Будьте добры, вначале спросить меня, хочу ли я ехать, и без этого документа шиш ты билет на меня купишь, – распалился Боб.
В прошлом году он со старшей сестрой ездил к тетке, и родители оформляли Катерине доверенность, чтобы она имела право брать с собой в поездку брата. Борьку тогда это здорово задело. Он даже ехать не хотел, хотя тетка его в Пскове живет и пообещала свозить их в Михайловское. Тогда ведь двухсотлетний юбилей Пушкина отмечали. А теткин друг по студенческим годам в Питере теперь был директором музея в Тригорском. Он сам показал им и усадьбу, и Святогорский монастырь, и парк. И книгу свою подарил – "Золотая точка России". Жаль только, что когда наша русичка взяла Борьку в заложники и хотела заставить его во всех седьмых подробно рассказывать о празднике в Пушгорах, Катерина принесла эту книгу в жертву школе. Зато Боб был спасен.
День рождения приходился на понедельник, а в воскресенье отец посмотрел на меня как-то особенно пристально и заявил:
–Завтра пострижешься. Совсем на девчонку стал похож. И, пожалуйста, безо всяких крысиных хвостиков сзади. Коротко.
– Не буду я коротко! Я же не первоклассник!
–Пострижешься, как я сказал, – резко оборвал отец разговор и отправился к себе в кабинет. Тут-то я и вспомнил наш вчерашний базар о паспортах, и признался самому себе, что Борька, возможно, был прав. Если бы у меня в кармане был такой документ, папа не позволил бы себе обращаться со мной как с десятилетним пацаном!
О дне рождения Левки я злонамеренно отцу не напомнил. Если он забудет – его проблема. У него же профессорская память! В понедельник после уроков я забросил рюкзак к Борьке в соседний подъезд, оттуда и отправился на день рождения, минуя парикмахерскую.
У меня были длинные волосы, Левкины дачные знакомые оказались классными девчонками, к тому же его родители деликатно оставили нас одних. Всем заправляли его сестра со своим бой-фрэндом из экономического колледжа. Пили шампанское, диски были что надо, студент обучал всех танцевать хастл, но мне было как-то не по себе.
Часов около одиннадцати я пришел домой. Отец (невиданный случай!) сидел перед телевизором. Я сказал "добрый вечер" и хотел проскользнуть в свою комнату, но он спросил меня железным голосом:
–Где… ты… был?
Пришлось задержаться на пороге.
–Ты же знаешь – у Левки на дне рождения, – ответил я, как мне показалось спокойно и невозмутимо, но войти внутрь Логова и закрыть дверь не решился. Пауза затягивалась.
–Хорошо, иди спать, поговорим завтра, – наконец сказал папа, и я нырнул в свое убежище.
На следующий день после уроков я отправился в парикмахерскую и постригся наголо. Таким и заявился в музыкалку. Когда из класса вышла Карина – местный вундеркинд шести лет, которая занималась передо мной – она артистично всплеснула своими талантливыми ручками:
–Юра, тебя в Чечню посылают?
–Вай, Кариночка, типун тебе на язык, родная! – всполошилась ее бабушка Ануш Вазгеновна. – Мальчик не Самсон, чтобы ему волосы свои беречь!
Вечером перед ужином, увидав мою шарообразную голову с оттопыренными ушами, отец ничего не сказал и только высоко поднял брови. Но после чая не выдержал:
–Ну, и как называется эта …это? – и жест такой сделал в направлении моей головы.
Мне бы просто сказать – "никак не называется", потому что это была бы чистая правда. Ведь я постригся наголо именно для того, чтобы уничтожить всякое подобие прически. Нет прически – нет проблем!
Но, неожиданно для себя, я на полном автомате произнес – "зачистка". Это было то слово, которое я услышал от нашего школьного охранника по прозвищу "Дембель", с которым столкнулся на пороге парикмахерской. Он тогда сказал: "Что, пацан, "зачистку" сделал, «операция антивошь"?
Я ему не ответил, только плечами пожал, потому что "зачисткой" в школе называют резинку для стирания.
Отец помолчал немного, потом встал и склонился надо мной. В левой руке на отлете он держал чашку с чаем, а правой прижал мою голову к себе и шепнул на ухо:
–Горя ты еще не знал, мой мальчик…
И ушел.
С чего я так подставился – сам не пойму. Ясно, что у отца вылетевшее воробьем словечко не с резинкой ассоциацию вызвало. В последнее время водится за мной такая дебильность: хочу сказать одно, а говорю… В общем, язык мой – враг мой.
А что касается "зачисток", "зеленки" и заложников, то мы с ребятами живем как бы отдельно от всего этого, хотя об армии базарим довольно часто. В основном, как от нее откосить. Особенно от службы в Чечне, потому что цену генеральским разговорам о контрактниках и добровольцах все знают. Считается, что лучше всего дать взятку врачу и получить справку о том, что ты псих.
С доктором Дагмаровым я на эту тему не говорю. Скажешь ему про справку и получишь в ответ: "Я тебе ее и без денег дам, если ты еще раз в тазик с моей рубахой свои носки бросишь!" или что-нибудь в этом роде.
Спустя несколько дней после Левкиного дня рождения, я смотрел новости по НТВ вместе со Стояном, и там сообщили, что в Чечне в засаду боевиков попала и была уничтожена почти полностью рота наших ребят-десантников. Я спросил Стойко: "Это много?"
Он посмотрел на меня, как-то оценивающе что ли, и спросил после паузы:
–Сколько у вас одиннадцатых?
–Два.
–Представь все стулья пустыми.
Сказал, как отрезал, и направился в кухню.
И не успел я отреагировать на его слова, как на экране появилась размытая картинка любительского видео. Контуры нечеткие, цвета плывут, но понять можно, что в окружении бородатых вооруженных людей стоит пожилой человек в каких-то лохмотьях.
Год назад я увидал, как изменилась жизнь в теплом доме дяди Вади, когда умерла, ушла " за перевал", как говорят на Кавказе, тетя Эля. Мне казалось, что там все замерло, как в сказке о "Спящей красавице". Но приехал Геня и разбудил и Дом, и дядю Вадю. Жизнь к ним вернулась, хотя была уже не такой, как раньше.
А вот теперь, когда камера "наехала" на лицо в центре кадра, я понял, что вижу, как жизнь покидает человека до прихода смерти и возрождения не будет…
–Сейчас меня будут убивать… – услышал я какой-то механический голос, как будто бы уже с того света. – Но, может, вы успеете выкупить…
И он назвал какие-то имена.
После этого он по-старчески неловко стал на колени, и над ним занесли саблю…
Я моментально выключил ящик и скрылся в своем Логове.
Меня не мутило, как бывало раньше при всяких сильных переживаниях, меня просто… не… бы-ло… И говорить обо всем этом не хотелось ни с кем.
Несколько дней после школы я отсиживался у себя в комнате, перечитывал Николая Гумилева, к ящику не прикасался и даже к Бобу не наведывался, хотя он опять подцепил ангину от Илюшки. Потом во мне что-то начало устаканиваться, и я решил покататься на велике. Погода была не ахти, ветер гонял по двору скрюченные кленовые листья, похожие на разноцветных крабов, но мне хотелось куда-то мчаться и ни о чем не думать.
Ездил я на отцовском полугоночном "Туристе". Ничего была машина – легкая на ходу, но истрепанная временем. Во всяком случае, полагаться на ручной тормоз не приходилось. Большинство ребят, и я в том числе, обычно катались во дворе: места хватало и для гонок и для фигурной езды по детской площадке. Иногда вместе с Борькой мы гоняли по парку или ездили в гости к Левке, который жил в четырех трамвайных остановках от нас. Единственным местом, где отец категорически запрещал нам кататься, были вечно скользкие глинистые берега зловонной парковой речушки. Там на каждом шагу валялись железки, стекла и другой опасный хлам, который оставляли после себя бомжи, ночующие летом в прибрежных кустах. Любил там развлекаться только Гришаня со своей компанией из строительного колледжа. Они там и костры жгли и пивом баловались. Гришаня раньше учился в нашей школе в классе коррекции, хотя нормальный был парень, даже с харизмой. Просто жутко ленивый, когда дело касалось учебы, зато геймер продвинутый. И вот этот Гришаня заметил, что я один, без Борьки, и предложил мне прокатиться вместе с их бандой. Мне его приглашение показалось даже лестным, поскольку парни такого возраста на нас обычно внимания не обращали.
Вначале все было отлично. Мне понравилось чувствовать себя своим среди взрослых парней, тем более что я удачно совершил объезд и пристроился вторым за Гришаней.
Все случилось на мостике через русло мелкого ручейка, весной впадающего в речушку. Собственно, это и не мостик был, а несколько щербатых досок, кое-где скрепленных планками. Его нужно было проезжать, не снижая скорости, а я по неопытности замешкался, мне стали наседать на пятки, колесо вильнуло, и я свалился. Велосипед не очень пострадал, а вот я пропорол себе ступню огромным гвоздем. Он вонзился в изношенную подошву моих кроссовок и вышел между пальцами. Кровищи было ужас! Надо сказать, Гришка вел себя, как настоящий парамедик. Он велел парням крепко держать мою ногу, а сам рванул доску с гвоздем. Потом он перевязал мою ступню своей банданой поверх носка, усадил меня на багажник и отвез к своей тетке – акушерке. Она жила в доме напротив. Анастасия Ивановна промыла рану перекисью и перебинтовала ногу. Потом сказала, что нужно поехать в травмопункт и сделать укол от столбняка. Я поблагодарил и пообещал сделать все, как она советовала.
Мне было неловко, что я испортил Гришане прогулку, но парни вели себя так, будто ничего особенного не произошло. Доставили меня домой и отправились прежним маршрутом.
Я несколько раз проковылял из кухни в Логово и обратно, что-то почеркал в тетради по русскому и завалился в постель до прихода отца часов в десять. Чтобы не испачкать белье, надел на раненую ногу два носка: один свой и один Стояна. Заснул почти мгновенно. Ночью мне снились кошмары. Какие-то мясники рубили мясо на чудовищных колодах и все ближе и ближе подходили ко мне, а я будто прирос к земле.
Когда я проснулся в холодном поту, в комнате горел свет, а на кровати сидел папа и осторожно стаскивал с ноги очередной носок. Одеяло валялось на полу.
–Ты так кричал, что у лифта было слышно! Что, Юра, что случилось?
Он говорил и осторожно разматывал бинт. Я приподнялся на локте, ступню дергало.
–Чем поранился?
–На гвоздь напоролся.
Слипшийся от засохшей крови бинт перестал раскручиваться.
Отец вышел из комнаты и быстро вернулся с клеенкой и бутылочкой перекиси.
–Чем-нибудь смазывал?
–Перекисью.
–Хорошо. Теперь потерпи, я размочу и сниму повязку.
Ступня без бинта оказалась опухшей с багровым синяком у пальцев. Отец приложил к ране бинт, густо смазанный какой-то гадостью от доктора Дагмарова, и опять перевязал ногу. Потом принес мне чаю, выключил свет, но уходить не стал, а устроился в кресле у кровати.
–Спи.
Утром отец разбудил меня и велел одеться.
–Сможешь идти?
–А если нет? – неожиданно для себя развязно произнес я.
–Тогда попробуешь опираться на дедушкину палку, – невозмутимо ответил папа.
В конце концов выяснилось: единственное, что я могу, – это допрыгать на здоровой ноге до прихожей и натянуть куртку.
Тогда, ни слова не говоря, отец подхватил меня на руки, вынес на улицу, остановил частника и привез в больницу. Там мне наложили новую повязку и вкатили укол под лопатку.
Да, еще фотографию скелетную сделали! Жуть! Костлявая нога голода!
Дома я весь день валялся на кровати – бритый, перебинтованный и совершенно несчастный.
Доктор Дагмаров приехал на следующий день. Этот провел настоящее дознание и осмотрел не только ногу, но и велосипед.
–Нашел себе новое развлечение! – гремел он. – Ноги гвоздями протыкать! Сектант несчастный! И такая стойкость духа! Молча помирал в моем грязном носке!
–Я чистый взял!
–Молчи! В любом случае, я его лишился! Не хватало, чтобы меня звали "Стоян – кровавый носок". Устроил тут бунт на корабле!
–Может, я на берег хочу списаться.
–Послушай, селявка, не буди во мне зверя… морского!
–Стойко, а котики свирепые?
–У тебя что, бред уже начался?!
–Ну, ты сам только что… ну, про зверя…
Доктор Дагмаров вдруг замолчал, погрустнел и раздумчиво сказал после паузы:
–Всеядны, но на десерт предпочитают исключительно наглых детенышей… Научный факт.
–"Исключительно предпочитают" или "исключительно наглых"? – спросил я невинным тоном и тут же был слегка придушен подушкой.
Вечером я тихо проползал через гостиную по пути из туалета. Дверь кабинета была приоткрыта.
–Я, собственно, не понимаю, что происходит именно потому, что, на мой взгляд, не происходит ни-че-го! Я не понимаю, за что он обижается на меня и почему меня избегает! Может он дуется из-за того, что я забыл, когда у его друга день рождения? Но ведь деньги на подарок я дал заранее? Или там случилось что-то, из-за чего он постригся, как арестант, а я этим не поинтересовался?
–Роман! Опомнись! Ты передо мной что ли оправдываешься или покаянную речь готовишь перед этим паршивцем.
–Да я сам с собой пытаюсь разобраться. Вот гвоздь! Неужели я такой изверг, что оставил бы его без помощи из-за старого велосипеда, гори он ясным пламенем! Простить себе не могу, что мальчишка до сих пор калечится на такой рухляди…
Знаешь, я таким злым домой возвращался, звонил Юрке днем раз пять, и никакого ответа. Если бы его крик не услышал, даже не посмотрел бы, как он там спит. Куртка висит на месте, чайник еще теплый – все нормально. Представляешь, довел бы ребенка до остеомиелита!
–Ну, профессор, нахватался ты от меня словечек! Небольшое воспаление, "нарывчик" – по-домашнему. Всего и делов-то. А вообще порадуйся, что поросячий паротит его уже позади. Отрок-то наш мужает. Почувствовал: потом от него пахнет. Так-то.
–Хорошо бы мужал без особых опасностей для здоровья.
–Его или твоего?
–Нашего.
–Такого не бывает. И учти – это самая ранняя стадия переходного возраста, так что наберись терпения.
–Наберешься тут на всех вас! Переходной возраст! У Юрки – подростковый, у тебя с твоими "девочками" – кризис тридцатилетних…
Стоян засмеялся:
–А у тебя самого – "опасные сороковые" с рефлексией сложных порядков. Сюжетец – то каков! "Взрослый сын молодого человека".
После этого послышались такие звуки, как если бы отец запустил в доктора Дагмарова диванной подушкой.
Потом начали опрокидываться стулья.
–Ладно! Ладно! Сдаюсь! – сдавленным голосом молил Стоян. – Профессор! Вы же не Дракула!
Я не удержался, просунул голову в дверь и сказал с интонацией миссионерской терпимости:
–Спокойной ночи.
Не успел я и шага сделать в направлении своего Логова, как в дверном проеме показались две встрепанные головы – одна над другой – и сказали дуэтом сакраментальную фразу:
– А ты, что здесь делаешь, а?!
И затем, уже на своей территории, я услыхал речитатив Стояна, с поправкой отца:
–"Минерал" запел…
–"пропел!"…
–"о чем-то"!
Когда уходят…
С того дня, как Стоян помог отцу доехать со мной из больницы домой, мы стали одной семьей. Ведь я еще тот фрукт был: почти год никому, кроме отца и Стояна, не давался. Так что, пока у отца не срослась рука, несчастный Стойко лишился всякой личной жизни.
Отец еще не был профессором, но докторскую диссертацию уже защитил и заведовал лабораторией в институте. Пока он выздоравливал, у нас в квартире побывали все его сотрудники, поодиночке и группами.
Я пугался гостей и, если дома был Стоян, влезал на него, как обезьяна на дерево.
С ним знакомились, а он отвечал, протягивая руку:
–Арина Родионовна…
–Арина Родионовна…
–Арина Родионовна… В медицинских кругах известен под псевдонимом "доктор Дагмаров".
Сейчас, когда у нас разворачиваются прения по поводу очереди в туалет или собственности на диванную подушку, Стоян вопит:
–И на это вредное насекомое я потратил лучшие годы своей жизни?!
На что я резонно отвечаю:
–Значит, такая была им цена, этим годам.
После чего обычно начинается баталия со швырянием подушек, беготней и опрокидыванием мебели.
Если отец дома, он терпит-терпит, а потом вылетает из кабинета и выставляет меня в мое "Логово".
–Ты можешь мне ответить, кто из вас взрослый, а, Стойко?!
–Только не я! – Стоян демонстративно укладывается на диван, скрестив руки. – Я – наивный младенец. Чудовище – он! "Младенец и чудовище"!
–"Красавица и чудовище!" – поправляю я, высунувшись из-за двери.
–Юрий! Прекрати ерничать! – грозно отзывается отец.
Я быстро захлопываю дверь.
За ней молчание. Кажется, занавес опустился.
Но тут дверь приоткрывается, стукнув меня по лбу, и влезает лохматая голова доктора Дагмарова:
–И совсем не то, чудовище, что с красавицей, а то, что "огло" и "лайа".
Дверь тихо и плотно вжимается в паз.
Я не берусь объяснить, почему два таких разных по возрасту и характеру человека, как мой отец и доктор Дагмаров, сблизились после знакомства в больнице… Написал и подумал, что нужно сразу оговориться: они – натуралы. Стоян так просто "Дон Жуан". Говорят, раньше, если одинокие мужчины дружили, то никому в голову не приходило называть их "голубыми". А в наше время только это всем в голову и приходит. Поэтому на вопрос, кем мне приходится Стоян, я отвечаю – "дядя".
Теперь у меня родственников – своих кровных и Стояна – как у косоглазого друга Винни-Пуха: полк и еще шеренга. И что удивительно, многие живут в Меатиде, малороссийском Приазовье: и украинцы, и русские, и болгары, и поляки. Настоящий Вавилон!
А в городе на реке Берде, где живет самый старший и любимый папин родич Вадим Иванович Львов – все говорят на таком странном жаргоне, что украинцы принимают его за русский язык, а русские – за украинский.
Дядя Вадя, как я его называю, – это уютная копия отца. Ну, вот точно такой же, только гораздо ниже ростом и старше. Я не жалуюсь, что мой папа может быть украшением баскетбольной команды. Но не все же утыкаться носом в пряжку на его ремне. Хочется уже и плечом к плечу постоять и в глаза не снизу вверх посмотреть.
Стоян называет дядю Вадю "вечным комбатом Второй мировой", а квартиру Львовых рядом с портом – "Домом у моря".
Когда я в младенчестве совершал в "Доме у моря" какую-нибудь оплошность, отец жутко переживал, беря вину на себя. Ему казалось, что, разбивая рапан на подставке или поворачивая не в ту сторону парус на декоративном корабле, я просто-таки меняю ход истории. Он не наказывал меня и даже не говорил каких-либо особенно строгих слов, но его волнение передавалось мне, и я то впадал в состояние крайнего возбуждения, то плакал и капризничал.
Стоян в таких случаях поступал не лучше. Он давал мне по рукам и выставлял за шиворот в коридор, заявляя, что в приличный дом такого "шмендрика" даже на порог нельзя пускать. (Тоже словечко откуда-то выискал!).
И только мудрый дядя Вадя ласково обнимал меня за плечи и говорил:
–Ну, и шо вы хотите от ребенка? Помазать одно место клеем и на стул посадить? Нашлись тоже Песталоцци на его голову.
Потом он уводил меня в "детскую", из которой давно улетели в далекие края два его замечательных и ученых сына, укладывался на широкий диван и говорил:
–Ну, давай, родненький, неси своего "Ушастика" и плед прихвати.
Мы уютно устраивались под штопаным красно-черным шотландским пледом, и дядя Вадя с большим личным интересом читал мне о приключениях чешского игрушечного медвежонка.
Это были, пожалуй, самые тихие и спокойные минуты в моем раннем детстве. Я успокаивался и засыпал, уткнувшись в теплый бок дяди Вади, а когда просыпался, все неприятности – реальные и надуманные – оставались в далеком и уже забытом прошлом.
Я никогда не называл его дедушкой, но, про себя, думал именно так.
Жену дяди Вадима – Эллу Ивановну – я побаивался. Она преподавала английский язык в институте и очень точно и твердо знала, что плохо, а что хорошо, что ей нравится, а чего она терпеть не может.
Тетя Эля назидательно учила меня, как надо обращаться с игрушечными машинками, и так же обстоятельно объясняла дяде Вадиму недостатки технологического процесса на заводе, где он был директором.
У нее была энциклопедическая память, и беседы с папой были для обоих просто праздником.
–Это же Мещерский! – говорила она, обсудив все культурные и научные новости в жизни большого города с жадностью провинциального интеллигента.
–Это же Мещерский! – повторяла она уже с другой интонацией, круто сдобренной иронией, когда упиралась в "железобетонную" отцовскую щепетильность.
Стояна она обожала. Только для него делалось исключение, и он мог существовать в этом доме на правах родственника, как угодно долго. В других случаях звучало непререкаемое:
–Три дня – гость. А потом пусть устраиваются, как хотят. Я не собираюсь менять свой образ жизни и лишаться приобретенных удобств из-за кого бы то ни было!
Потому сверх деликатный отец, к которому эти слова не относились, на четвертый день брал меня в охапку и съезжал к рыбакам в поселок у маяка. А "Балканский завоеватель" Стоян наслаждался благами цивилизации и морем в "одном флаконе" под крылышком тети Эли сколько хотел. И это при том, что южная кровь постоянно провоцировала обоих на горячие перепалки по поводу того, как готовить "манжо, солить кавуны, кто лучший нападающий в "Колосе" или защитник в "Днепре", хороший ли голос у Соловьяненко, и, вообще, "эта медицина, она хоть чем-то отличается от ветеринарии?".
Только своих детей тетя Эля любила во всяком возрасте. Людей младше пятнадцати лет она вниманием не удостаивала, не признавая за ними право быть личностью.
У нее были красивые золотистые волосы, волнами ниспадающие ниже пояса. Они были похожи на золотое руно из мультика об аргонавтах. Тетя Эля мыла их яичным желтком, потому что не признавала ничего ненатурального ни в еде, ни в жизни вообще.
К тете Эле Вадим Иванович относился, как добрый лев к любимой укротительнице: притворялся ручным и выполнял ее капризы исключительно по собственному желанию.
Тетя Эля говорила одно, дядя Вадя соглашался и делал другое, но как-то так, что оба были довольны, и ссор я не помню. Правда, голос тети Эли звучал всегда громко, а дяди Вадин был почти не слышен.
В этом году дяде Вадиму исполнялось семьдесят пять лет. И отец решил непременно с ним увидеться. Мы ведь не были в Доме у моря пять лет, а там многое изменилось. И самое главное – не стало тети Эли. Когда это случилось, туда летал один папа.
Теперь дядя Вадим жил вместе со своим старшим сыном Геней, ровесником отца. Он тоже был биологом, как папа, и долгое время работал на какой-то научной горной станции возле Алма-Аты. Геня часто, хотя и ненадолго, наведывался к нам, и я звал его "дядя Йог". Все из-за того, что на одной из фотографий, присланных отцу, Геня в плавках сидел на склоне снежной горы, и ноги у него были сложены кренделем.
После юбилейного застолья отец пробыл с нами, вернее в обнимку с дядей Вадимом, всего три дня, а потом вылетел в Питер на какой-то симпозиум. Ну, а меня решено было оставить на десять дней со Стояном, хотя август оканчивался и начинался учебный год.
После отъезда папы Стоян объявил мне, что хочет дня на три смотаться к друзьям в Приморск. Будь это пять лет назад, как бы я рад был побыть наедине с дядей Вадей. Но теперь я испугался чего-то нового и непонятного мне, что поселилось в этом Доме, и от чего мне хотелось убежать и укрыться…
В этом любимом мной "Доме у моря" как будто бы ничего не изменилось: не сдвинулся с места ни один стул, не пропала с полки ни одна книга. Но я помнил этот дом живым, теплым, с виноградной лозой в окнах вместо штор, со смешными дверями, которые или двигались по рельсам, как в поезде, или складывались гармошкой. Книжные полки украшали диковинные раковины, коралловые кусты и веселые кораблики с разноцветными парусами.
И по всему Дому разносился громкий голос тети Эли.
Теперь это был печальный виноватый Дом, который стыдился того, что пережил хозяйку. Он тускло отражался в застекленных портретах тети Эли, и даже юбилейная суматоха не изменила его настроения.
Дядя Вадим прятал за темными очками свои печальные глаза, ставшие старческими, и при разговоре невпопад кивал головой. Он почти полностью потерял слух. Испугавшись этих перемен, я не находил себе места от какого-то внутреннего волнения и просто не отлипал от Стояна, который, по-моему, и сам чувствовал себя не в своей тарелке.
Геня разрешил мне играть в последнюю версию "Цивилизации", снял с полок добрый десяток томов из моей любимой серии "Фэнтази", но мне все было не в радость. Посмотрел название одной из книг Лукьяненко "Мальчик и тьма", и меня замутило. В компьютере отходила какая-то пайка, и все время приходилось стучать, чтобы вернуть изображение на монитор. Чем больше я стучал, тем меньше мне хотелось играть.
Геня изредка подходил ко мне, спрашивал ласково:
– Ну, что, родненький, не скучаешь?
Я фальшиво улыбался и отвечал:
–Спасибо. Нет.
А самого до холодка в животе тревожил пристальный Генин взгляд, так похожий на прищур тети Эли. В этой комнате было особенно много ее портретов. На снимках тетя Эля была молодой и веселой, и я никак не мог поверить, что это она лежит там, в земле, на высоком холме над речкой, куда возил нас дядя Вадим.
Накануне отъезда Стояна в Приморск я поздно уснул, а среди ночи вдруг проснулся мокрый, как мышь. Не от жары, а от приступа безотчетного страха. Задыхаясь, я сполз с постели и на дрожащих ногах добрел до дивана, где спал Стоян.
–Стоян! Стойко! – я тряс его и трясся сам.
–А? Что? Юрка? Что случилось?
–Стоян! Не оставляй меня здесь одного! Я чувствую… У меня предчувствие…
Стоян помотал головой, сел и притянув меня к себе.
–Что-то приснилось?
–Нет! Нет! Я просто боюсь…
–Чего, дурачок?
–П-п-портретов… – только и смог выговорить я.
Стоян помолчал, потом встал, обнял меня за плечи и повел в ванную. Там поставил под теплый душ, а затем, закутав в купальное полотенце, взял меня, как маленького, на руки, принес на кухню и посадил на табуретку. После этого без единого слова поставил на огонь чайник. Пока вода закипала, Стоян очень буднично вынул из шкафа две чашки, нашел к ним блюдца и стал разыскивать сахарницу.
–Не знаешь, где сахар? – спросил спокойно.
Я показал рукой на полку над холодильником. Голос еще не слушался меня. Стоян налил в чашки холодную заварку, кипяток, размешал сахар и, придвинув одну ко мне, стал невозмутимо потягивать горячий чай из своей.
Так мы и сидели молча, пока чашки не опустели. Потом Стоян вымыл их, поставил в сушилку, и мы возвратились в "детскую". Там, подтолкнув меня к своему дивану, он сказал:
–Ложись к стенке.
Проснулся я поздно. Один. Прислушался. Из гостиной доносились голоса Гени и дяди Вадима, работал телевизор.
Я оделся и, не зная, где Стоян, некоторое время стоял перед дверью, не решаясь ее открыть. Наконец, не выдержал и вышел в коридор. На звук раздвигаемой, как в купе, двери туалета из гостиной выглянул Геня:
–А… Ореховый Соня проснулся…
И тут же потеснился, пропуская Стояна.
–Давай, матрос, умывайся поскорее и за стол. Нас с тобой рыбаки на Косу пригласили. Виталик тебя уже ждет не дождется.
–Может, ты его здесь оставишь? – сказал Геня. – Я бы с ним позанимался или устроил бы в свою школу. Все-таки седьмой класс.
Я похолодел, не смея даже взглянуть на Стояна, чтобы Геня не понял, как я отношусь к его приглашению.
–Этого диверсанта… в школу… сопредельного государства?! Не хватало ноты протеста от вашего МИДА!
И хотя Стоян при этих словах засмеялся, я понял, что одного меня он здесь не оставит. Это решено.
Пока я умывался, завтракал, пока ждал, когда Стойко соберет наши вещи, я все пытался разобраться, что со мной происходит.
Мне вспомнилось, как я разглядывал средневековую картинку из школьного учебника. На ней был изображен путник, который высунул голову через дырку в небесном своде и с изумлением глядит за край Земли. Вообще-то я тогда тоже удивился тому, что там увидал: облачка какие-то и пара колес от телеги.
Но сейчас мне было не до шуток. Тетя Эля ушла за край земной жизни, и я не мог думать ни о чем другом.
Этот Дом… этот дом с виноградными лозами вместо штор смотрелся без нее театральной декорацией. Живым казался только Генин стол в детской с виртуальной реальностью на экране монитора.
А что чувствовал папа, когда мы вернулись из больницы без мамы? Я ведь ее так и не вспомнил…
Когда я смотрю на фотографию в старинной рамке, которая стоит на отцовском столе, я узнаю на ней только папу, хотя и с трудом. Такой он на ней веселый и молодой. Про остальных я просто знаю, что красивая девушка с длинными темными волосами – моя мама, а толстый лысый младенец с бессмысленным взглядом – я.
Неужели… неужели папе не страшно вот так жить и думать, что эта жизнь может внезапно оборваться? У него… у Стояна…у …
Я так увяз в этих печальных мыслях, что даже обрадовался, когда Стоян обозвал меня захребетником и велел уложить в рюкзак зубные щетки и еще что-то. Чтобы "ускорить процесс", он даже вытянул меня полотенцем пониже спины.
Геня проводил нас до «парка лейтенанта Шмидта» и усадил в микроавтобус.
Пассажиров было мало, шофер скучал на лавочке у ограды, и Стоян убедил Геню не ждать нашего отъезда. Мы расцеловались, и он ушел по своим делам.
Я уселся на сидении лицом к водителю и с удивлением уставился на металлическую табличку с надписью:
"Хлопнешь дверью – умрешь от монтировки!"
Уяснив смысл надписи, я не удержался и фыркнул. Стоян, сидевший напротив меня, удивленно спросил:
–Ты что хрюкаешь?
Тут меня затрясло от смеха. Кроме того, что надпись была более чем странной, я еще был взвинчен всеми своими ночными и дневными страхами и потому не мог выдавить из себя ни одного членораздельного звука, а только указал рукой на табличку. Стоян прочитал и покачал головой:
–Приколы города Урюпинска.
В это время в автобус забралось сразу несколько пассажиров. Шофер метко выстрелил окурком в урну и, лениво переваливаясь с боку на бок, направился к кабине. Он уже поставил ногу на ступеньку, когда в открытой двери салона показалась худая старушка в рваных кедах на босу ногу. Она вопросительно посмотрела на водителя и только успела спросить: " А льготы, сынку…", как водитель, устраиваясь на сиденье, кинул ей кирпичом:
–Бабка! Ты шо, слипа? Чытать умееш? Это ж загродний рэйс!
И раздраженно изо всех сил хлопнул дверью.
Стояна так и подбросило в кресле. Он ловко левой рукой помог глуховатой старушке устроиться в салоне, а правой крепко ухватил водителя за плечо и, повернув голову в профиль, как на египетских фресках, отчеканил:
–А ты, крутой, умеешь? Помнишь о монтировке?
Шофер глянул в жгучие глаза доктора Дагмарова и так газанул, что нас откинуло на спинки кресел, как космонавтов при взлете.
Минут через десять мы выехали на Косу – узкую полоску песка, уходящую далеко в море. По одну ее сторону сонно плескалась вода в заливе, укачивая уток, собравшихся к отлету на Юг. По другую – волновалось море, покрывая берег пенным кружевом. На небе не было ни облачка. Вдоль дороги серебрились рощи диких маслин. У самой воды под разноцветными зонтами возились дети, а рядом в самых нелепых позах лежали недвижные тела взрослых.
На горизонте медленно тащился длинноносый сухогруз, а от берега в открытое море, кренясь бортом, спешила белая яхта.
В автобусе тихо переговаривались белорусы. Я расслышал:
"гэта", "тяглык", "диети"…
Шуршали шины по разогретому асфальту, я сидел и, как видеокамера, фиксировал все, что проплывало мимо меня в окне. Разомлевшего от жары Стояна подбрасывало на кресле и он, теряя равновесие, наклонялся и упирался ладонью в спинку моего сиденья…
И вдруг меня охватило острое чувство беспричинной радости. Словно невидимая рука схватила меня, как зайца за уши, встряхнула и пробудила от тяжелого сна. И я, как будто впервые, увидел и это выцветшее от зноя небо, и это синее море, играющее в пятнашки с солнцем, и храбрую рыбацкую моторку, отважно прыгающую по волнам, и такую родную руку Стойко со шрамом на запястье. И все это было моим – весь этот мир, вся эта красота. И любовь Стояна, дяди Вади, Гени… И папа приедет из Питера…
Я просто захлебнулся от нахлынувших на меня чувств и, чтобы перевести дыхание, уткнулся в стекло.
Когда мы приехали на конечную остановку недалеко от маяка, Стоян помог старушке выйти, а потом бросил на сиденье рядом с шофером гривню – плату за проезд без льгот.
Мы уже долго шагали по тропинке между камышами, удаляясь от автостоянки, а я все еще чувствовал на своей спине злобный взгляд "шефа", прошивающий нас Зингеровской строчкой.
Вдруг Стоян оглянулся на меня и сказал насмешливо:
–Помог бы старушке выйти… ты… Вертер!
Вот всегда так. Скажет как припечатает.
Узнавай теперь, кто он такой, этот "Вертер"!
“У рыбаков”
Когда мы со Стояном вынырнули из высоких жестких зарослей камышей, то оказались на берегу зловонного лимана. По краю его была проложена узкая тропа, небрежно вымощенная осколками битых кафельных плит. И тут мы сразу же увидели Светлану Ивановну – статную, не по южному белокожую, с бушменской копной светлых волос. Она энергично взбиралась на кучу строительного мусора у дома напротив. На ногах у нее были старые галоши на босу ногу, короткое яркое платье открывало полные круглые колени. Несмотря на то, что ей приходилось выбирать, куда поставить ступню – на железный обломок бетонной арматуры или погрузиться в зловонную жижу каких-то пищевых отходов, она мгновенно отреагировала на наше появление из-за камышовых кулис:
–Ой! – крикнула она и с той же скоростью, с которой взбиралась на Анапурну из мосора, стала спускаться вниз.
–Хорошо, что успела вас увидеть!
Светлана Ивановна была почти одного роста со Стояном. Она обняла его одной рукой, а другой – притянула меня к себе. Я потерял равновесие и неловко уткнулся ей в живот.
– Ну, вы просто прелесть, Стоян Борисович! Ну, все такой же молодой и красивый! А Юрочка, Юрочка… Вот уж Виталик обрадуется. А я до наших спешу. У них же бригада, а Тимофей в городе, так взяли Васю. А он после вчерашнего, ну никакой. Они с "крышей" гуляли. Так хлопцы ничего, а этот вышел злой как черт. Да машина еще неисправная, на тележку придется все нагружать и тащить. Думаю может помогу чем.
Стоян опустил сумку на землю.
– Светлана Ивановна! Вы возвращайтесь, а я пойду помогу.
– Не-е… Вы же не найдете. Они сейчас лодки в другом месте держат. А вообще, если есть желание, можем вместе пойти. А Юрочка пусть с вещами во двор идет. Там Таня. Вы же знаете, наверное, от Гены. Два месяца уже осталось.
– Так, – сразу же отреагировал Стоян. – Дуй во двор, командир, становись на постой. Без меня, чтоб и нос за ворота не высовывал! Ясно? Иначе голову оторву!
И не успел я сообразить, что ответить, как под невообразимый визг и лай кривоногих косяцких уродцев и блеяние коз Светлана Ивановна и Стоян преодолели мусорную высоту и скрылись в кукурузных джунглях.
Я вздохнул, ухватился за ремень сумки и поволок ее к калитке. Снаружи все было как раньше.
Белые жестяные чайки на голубых воротах, шиповник у ограды, длинноногие поросли разноцветных мальв у сарая.
Я отворил калитку и шагнул за порожек. И сразу же просто оглох от злобного лая посаженной на цепь беспородной собаки, слегка смахивающей на немецкую овчарку.
Это было уже не то, чтобы незнакомое, но просто-таки чужеродное явление для этого дома. Пять лет назад мне навстречу выкатился бы целый выводок звонкоголосых собачонок: Кнопа, Джеб, Муха и, конечно, отважный сэр Тобиас, размером с пакет молока.