Читать онлайн А где же Слава? бесплатно
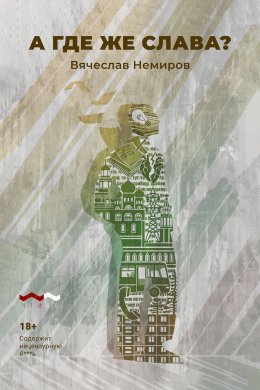
А где же Слава?
Повесть
I
Куда же теперь идти? Я хуй пойми где – если чуть поточнее, то в Рязани. Стою, как последний идиот пялюсь на изрисованное маркерами расписание автобусов и ровным счётом ничего не делаю для своего счастья. А что я могу, собственно говоря, сделать?
Пока я стою и продолжаю пустым взглядом рассматривать цифры незнакомых мне номеров автобусов и маршруток, предлагаю коротенькую этимологическую справку, чтобы вам не было скучно.
Википедия сообщает: «Название города представляет собой притяжательное прилагательное мужского родаРѣзань(с суффиксом – jь-) от мужского имениРѣзанъ. Само имяРѣзанъ является краткой формой страдательного причастия резанный – так могли назвать младенца, „вырезанного из чрева матери“. Таким образом, Рѣзань – „Резанов город“». Короче, город, где я так бездарно схлопотал экзистенциальный кризис, назвали в честь какого-то пидораса, которого из мамы ножиком вырезали. А вы никогда не думали, почему кесарево сечение называется именно так? Говорят, в честь Гая Юлия Цезаря собственной персоной и назвали его[1]. Поэтому, если как-нибудь вам нужно будет построить ассоциативную цепочку «Цезарь – Рязань», вы без труда сделаете это за три шага.
Как я там? Всё ещё стою и смотрю на картонную табличку в тисках ржавой рамки, бегаю взглядом по цифрам, пытаясь отыскать какую-то зацепку? Да, всё ещё. Ну, тогда можно ещё немного о кесаревом сечении.
Постарайтесь припомнить, что вы делали 5 марта 2000 года. Если не получается, ничего страшного, я тогда ещё даже не родился. Мама была мною беременна в тот день. Я хоть этого и не помню, но мама божится, что это именно так. К чему вообще 5 марта? А к тому, что для одной мексиканской женщины по имени Инес Рамирес Перес этот день выдался крайне непростым. Она находилась у себя дома, в мексиканской деревеньке, носила ребёнка, а тут раз – и схватки. Ближайшая акушерка была в 80 километрах. Перес рожала уже в девятый раз, так что была достаточно опытна в этом деле, чтобы понять: что-то идёт не так. Решила делать кесарево сечение самой себе. Выпила для анестезии, ножиком себя порезала, достала ребёночка, перерезала пуповину и потеряла сознание. А через примерно полгода родился я. Кстати говоря, без всякого кесарева сечения. Взял и родился. А ещё через двадцать лет десять месяцев я стою посреди города, названного в честь вырезанного из живота мужика, стою, прикованный взглядом к расписанию автобусов.
Спустя пару минут я наконец-то очнулся. Видимо, окончательно осознав тщетность попыток найти послание или инструкцию в номерах автобусов, я перестал пристально изучать табличку, присел на скамейку и закурил. Кстати, откуда у меня появились сигареты? Я же вроде, когда выходил из затхлого подъезда на улице Пушкина (не думайте, что я для художественного вымысла её так назвал, улица действительно так называется, с картами можете свериться), обратил внимание на то, что сигареты кончились. Хотел даже купить, да только все магазины уже закрыты были, а какая-нибудь лавчонка круглосуточная никак на глаза не попадалась.
Нет, в самом деле, откуда у меня взялась пачка сигарет? Это момент интересный. В каком-то роде, можно сказать, мистический. Ладно бы она была полной, я бы себя убедил в том, что таки купил её где-то, да и забыл об этом. Знаете, это на меня похоже: тратить деньги, а потом забывать, на что я их потратил, – ничего изумительного, правдоподобно. Но пачка неполная, в ней всего-то сигарет пять. И если вы думаете, что этот момент самый мистический, то не тут-то было. То, что я вам сейчас сообщу, слабонервных способно повергнуть в неподдельный первобытный ужас. Дело в том, что в пачке «Мальборо» лежат две сигареты «Кэмел», «Филип Моррис» с арбузной кнопкой, а ещё… Впрочем, нет. Всё это не более, чем феномен, к тому же на «Москву – Петушки»[2] больно похоже, на самое начало, где Веничка сокрушался по поводу того, что не помнит, где и что он пил. А ведь я мог запросто продолжить всю эту мудянку и, заменив имена и детали, пересказать вам «Москву – Петушки», – потому что это гениальная книга о вечном возвращении. Эту книгу вам кто только не пересказывал, с самого сотворения мира. Гильгамеш, Одиссей, Дон Кихот, Уленшпигель и многие другие всю историю трясутся в прокуренном вагоне поезда – то ли на Москву, то ли из Москвы, чёрт его разберёт.
– Ты, конечно, Слава, ври, да не завирайся, – прерывает моё размышление чей-то удивительно знакомый голос.
А вокруг никого. Сплошная мистика.
– Никакой мистики, глаза разуй. На расписание автобусов посмотри, дурень. Когда не надо было, ты его поперёк и вдоль изучил, а теперь, как нарочно, глаза прячешь.
Поднимаю глаза и, вы не поверите, вместо изрисованного расписания автобусов вижу портрет Венедикта Васильевича Ерофеева. Причём не просто фотографию, а живой портрет, как в «Гарри Поттере».
Знаете, бывал я в Петушках – хотели мы с другом попасть в музей Венедикта Ерофеева. А музей оказался закрыт. Выходной. В итоге мы купили пива и потом купались в Клязьме. Думаю, что как раз в этом и есть смысл такого музея – быть вечно закрытым, чтобы все покупали пиво и купались в Клязьме. Это я к чему? А к тому, что где Петушки, а где Рязань – случалось ли живому Ерофееву вообще бывать в Рязани?
– Может, и случалось, – откликается мне портрет, – только тебя это в любом случае касаться не должно. Пускай я мёртвый, пускай говорю с тобой со своей фотографии, но именно это, как ни странно, сейчас важно.
– Хорошо, – отвечаю я, делая вид, что беседовать с фотографиями писателей, материализующимися из воздуха, для меня в порядке вещей.
– Хорошо-хорошо, – поддразнивает Ерофеев (я разговариваю с Ерофеевым!), – ты бы помалкивал и слушал, что я тебе расскажу. Вот ты сейчас сидишь на остановке «Улица Стройкова». Ты вообще знаешь, кто такой этот Стройков?
– Не знаю, да и зачем…
– Затем! Для педагогического эффекта. Показать тебе, что нихуя ты не знаешь. Николай Стройков – военный лётчик, между прочим! А его однофамилец Арсений Стройков – участник Гражданской войны. Работал в Москве на заводе Гужон, а в Стране Советов[3] как этот завод назывался? Снова не знаешь?
Меня стало разбирать едкое злорадство, потому что я знал.
– Знаю. «Серп и Молот» он назывался!
По лицу писателя видно было, что знанием своим я его оскорбил. Многие знания – многие печали. И не только свои. Вот, писателя расстроил.
– Короче, я с тобой тут не в «Умники и умницы» играть собираюсь, – после недолгой паузы к моей радости продолжил Ерофеев, хоть и с явной обидой в голосе, – и вообще, времени у меня не вагон, чтобы препираться. Слушай внимательно, может, хоть что-то из моих слов поймёшь. Ты сейчас сидишь на скамейке, в один из дней 1985 года ровно на том же самом месте сидел токарь четвёртого разряда Сиплаков Константин Олегович, человек простой, хоть и непьющий. Была у него жена, была хорошая работа, дома ждали дети, а ещё он мучился простатитом и геморроем. Ужасное сочетание, не приведи господь тебе такое испытать. Мучился Константин Олегович страшно. Вот сидел на этом самом месте и страдал. И до пизды ему были все эти размышления о жизни, смерти, Эросе и Танатосе – у него одновременно болели хуй и жопа. А потом Константин Олегович поднялся со скамейки, чтобы посмотреть, не идёт ли автобус, 36-й номер, и в этот самый момент помер. Двое хлопцев из люмпенов давно его заприметили и вон за той ракитой стояли, ждали, когда бы поудобнее тюкнуть. И тюкнули. Так, что мало не показалось, сразу наповал. Понял?
Сказать честно, ничего я не понял. Вы не подумайте, я не дурак, и канву сюжета про несчастную судьбу Константина Олеговича Сиплакова я уловил, однако никакого катарсиса за этим не последовало, в то время, как тон рассказа был такой, что катарсиса должны были быть полные штаны.
– Не понял, – после некоторой паузы прервал я тишину рязанской ночи.
– Ну и дурак. Потом поймёшь, – сплюнув, прохрипел писатель и растворился в воздухе. Больше я его никогда не видел.
II
Стоит начать по порядку. Хотя нет, по порядку уже не получится. Сюжет и фабула разъехались, как ноги женщины, опьянённой развратом или развращённой пьянством, на ваш вкус. В любом случае вопросов накопилось довольно много, и, чтобы вам и мне хоть как-то стало проще, давайте представим, что у меня берут интервью, а я максимально здраво и трезво поясняю, что вообще происходит.
Но сперва нам необходима фигура интервьюера, – потому что с умозрительным болванчиком я разговаривать не хочу и не буду…
– Разрешите представиться, – с этой репликой из-за той самой ракиты, за которой прятались молодцы из люмпенов, убившие несчастного токаря четвёртого разряда, появляется блестяще одетый молодой человек с лисьей хитрецой во взгляде, прекрасным пробором и кохиноровским карандашом за ухом. – Если вам нужен интервьюер, то я рад был бы отрекомендоваться. Степан Степанович Степанов, всегда оказываюсь там, где возникает необходимость в интервью. Чувства вины, обиды, страха и ненависти – сделаю так, что читать об этом будет интересно.
Нет, мне он не нравится, поэтому я смотрю по сторонам: вдруг где-нибудь ещё люди есть, а то изливать душу вот этой обезьяне в костюме вообще не хочется. Все эти журналисты у меня вызывают обострённую гомофобию. Не подумайте, я к голубым отношусь нейтрально, если этот голубой, скажем, программист или хотя бы водитель автобуса. Но вот голубой журналист всегда вызывает во мне злющую гомофобию.
– А вы не думали, – внезапно прерывает течение моего внутреннего монолога Степан Степанович, – что ваша «журналистская гомофобия» – это обыкновенная зависть? Тоже ведь небось хотите журналистом быть, да силёнок не хватает. Усидчивости никакой нет, и о чём писать, не знаете, и вся ваша ненависть ко мне и ко мне подобным испарится, как только вам впервые заплатят сколько-нибудь стóящие деньги в приличном издании.
Из принципа этому пидорасу не скажу, что он прав. Хоть режьте меня, хоть ешьте. И вообще, мы, кажется, здесь интервью берём. Так что, дорогие читатели, ниже вы найдёте результат нашей со Степаном Степановичем не слишком приятной беседы, произошедшей в ночь с пятого на шестое июля в городе Рязань на остановке «Улица Стройкова».
Степан Степанович (С.): Итак, главный вопрос, который интересует всех: кто вы такой?
Я: Меня зовут Слава.
С.: Кем вы работаете?
Я: Лирическим героем.
С.: Любопытно, а за это платят?
Я: Пока не сильно, но я надеюсь…
С.: Хорошо, как вам Рязань?
Я: Пока не могу сказать, не так много видел. Город как город. Ничего особенного. На кремль надо посмотреть.
С.: Не боитесь ли вы, что до кремля не дойдёте и тем самым повторите, можно сказать, центральный конфликт поэмы Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки»?
Я: Побаиваюсь, поэтому первым делом постараюсь до кремля добраться, чтобы уж потом никто не посмел меня упрекнуть в том, что я там у кого-то что-то тиснул. Я не такой, я вообще хочу свой оригинальный творческий путь…
С.: Все хотят. Как вы оказались в Рязани? Вы же москвич.
Я: Вот вы вроде и журналист, наверное, с образованием, а такие глупые вопросы задаёте. Билет купил на электричку и приехал. От Казанского вокзала и до Рязани. Без пересадок.
С.: Спасибо за остроумие. Перефразирую: почему вы решили приехать в Рязань?
Я: Захотелось. Душно мне в Москве.
С.: Температура и влажность тут такие же.
Я: Спасибо за остроумие. Перефразирую: мне надоела Москва, тяжко там и грустно.
С.: А здесь весело?
Я: Нет, понимаете… я не могу оставаться наедине с собой. Мне двадцать лет, я оканчиваю институт, нужно думать о будущем, о том, куда идти работать, а я ужасно этих мыслей боюсь.
С.: Все боятся. Если бы все ехали в Рязань, то она бы уже побольше Токио была.
Я: Вы пришли задавать вопросы или издеваться?
С.: Одно другому не мешает. Давайте восстановим хронологию. Когда вы уехали из Москвы?
Я: Четвёртого июля, утром.
С.: То есть днём вы были уже в Рязани?
Я: Да.
С.: Что вы делали потом?
Я: Снял квартиру, однушку на улице Пушкина. У забавного мужика. Его Прохор зовут, он на велосипеде катается. Квартира загаженная, конечно, но в бюджет хорошо вписалась. Затем в магазин ходил. Купил поесть…
С.: Спиртное употребляли?
Я: Это допрос или интервью?
С.: Что и сколько?
Я: Водку. Бутылку, кажется. Ноль семь. И потом ещё столько же.
С.: А потом?
Я: А потом навалилась на меня громадина мыслей.
С.: Поменьше поэзии, побольше деталей.
Я: Ну, сидел я на балконе, курил, в темноту смотрел. И так от себя невыносимо тошно стало. Думал, убегу, как Чайльд Гарольд[4], в чужой земле найду смысл всего, в Москву приеду новым и свежим, и вот в тот момент взглянул на себя со стороны и гадко стало: сидит двадцатилетний лоб, пускает сопли, водку гасит и плачет о том, что не быть ему великим писателем или поэтом.
С.: Так вы у нас великим писателем или поэтом собираетесь стать?
Я: Не собираюсь, я так…
С.: Что так?
Я: Хуем об косяк. Неужто никто не мечтает никогда о том, чтобы стать академиком, гроссмейстером, писателем, киноактёром, режиссёром?
С.: Мечтают, но до такого свинства мало кто доходит. Хорош, конечно, – обмечтался, напился и побежал номера автобусов рассматривать.
Я: Вы журналистскую этику нарушаете.
С.: А ты ещё маме пожалуйся, сопляк.
На этом моменте я послал Степана Степановича Степанова нахуй. И больше я его никогда не видел.
III
От Москвы до Рязани можно добраться фирменными поездами-экспрессами. Они отправляются с Казанского вокзала. До Рязани вы доедете за три часа. Взрослый билет в одну сторону стоит 1000–1600 рублей.
«И видивъ Олегъ, яко поиде стягъ Володимерь и нача заходити в тылъ его, и вбояся, побѣже Олегъ, и одолѣ Мьстиславъ. Олегъ же прибѣже Мурому и затвори Ярослава Муромѣ, и самъ идеРязаню. Мьстиславъ же прииде Мурому и створи миръ с муромьци, поя люди своя, ростовцѣ же и суждальци, и поиде к Рязаню по Ользѣ. Олегъ же выбѣже из Рязаня, а Мьстиславъ створи миръ с рязаньци и поя люди своя, яже бѣ заточилъ Олегъ. И посла къОлгови, глаголя: „Не бѣгай никаможе, но послися ко братьи своей с молбою не лишать тебе Русьской земли. А язъ послю къ отцю молится о тобѣ“ [5].»
Геральдическое описание герба города Рязань гласит:
«В золотом поле стоящий князь в червлёной (красной) епанче, скреплённой на груди золотой застёжкой, в зелёных шапке, платье, сапогах и серебряных штанах, держащий в правой руке серебряный меч, а в левой – серебряные ножны при таком же поясе; шапка и епанча оторочены чёрными соболями. Герб увенчан Шапкой Мономаха. Щитодержатели – серебряный с золотыми гривой и хвостом, чёрными копытами и червлёным языком конь и золотой с червлёным языком грифон, обременённый червлёными огнями („грифон – феникс“) на золотом узорном подножии („арабеска“). Щит окружён золотой церемониальной цепью – должностным знаком главы муниципального образования – города Рязани. Девиз: „Славная история – достойное будущее“ – начертан чёрными литерами на золотой ленте».
Древнейшая часть города – Рязанский кремль, который в настоящий момент представляет из себя один из чудеснейших в европейской части России историко-архитектурных музеев-заповедников под открытым небом. Располагается кремль на высоком обрывистом холме, окружённом реками Лыбедь и Трубеж. Архитектурная доминанта кремля – ансамбль Успенского собора и Соборной колокольни. Их видно практически из любой точки исторического центра города.
Вот я и добрался до кремля. Стою, покуриваю. Последняя сигарета осталась. Тот самый «Филип Моррис» с арбузной кнопкой. Но я кнопку никогда не лопаю. Я выдумал, что если когда-нибудь лопну кнопку у сигареты, то непременно случится нечто непоправимое. Я знаю, что это глупость, но устанавливать для себя запреты всегда очень интересно. Мне трудно жить в мире, в котором можно всё, стоит только захотеть. Хочешь заработать миллион – можно, хочешь трахнуть блядь с обложки Maxim – заработай миллион, и тогда можно, хочешь лопнуть кнопку сигареты – тоже можно. Мир вседозволенности отрицает свободу. Если можно всё, то нельзя ничего. Именно про это говорила власть в романе Оруэлла. «Свобода – это рабство»[6]. Старо. Откуда-то из-за кустов мне попытался возразить какой-то бородатый мужик, но от него так пахло перегаром, что я даже разбираться не стал, что там осознанная необходимость, а что неосознанная, просто пошёл дальше. Не люблю я этих личностей: сначала материализмом завлекут, а через пару минут ты уже помогаешь им двадцатью рублями на чекушку или сигаретой угощаешь. Не люблю.
А кремль особого впечатления не производит. Церковь, парочка валов, и всё тут. Хотя чего я ещё ждал? На самом деле ждал любви. Знаете, наверное, во всяком возрасте по-своему, но в двадцать лет ждёшь любви тогда, когда она с наименьшей вероятностью может случиться. Надеешься, что вот выйдешь посреди ночи за сигаретами – а там любовь тебя поджидает. Надеешься, что вот успеешь на последний ночной автобус на Каланчёвской улице[7], а там где-то между работягами, лежащими поперёк кресел, и смурными поддатыми мужеподобными бабами затесалась любовь. Большая и настоящая.
Я ведь вам не рассказал, что пока шёл по Первомайскому проспекту (это у них тут в Рязани главная улица, что-то вроде Тверской или Невского), уже всё придумал:
Томная темнота летней ночи, слегка прерываемая убаюкивающей песней сверчков. Молодому человеку казалось, что он один в этом городе. Рязань спала. И лишь шаги молодого человека гулко отзывались по улицам сонного царства.
Силуэт величественного собора возвышался над казавшимися крохотными домишками. Молодой человек с тоской поднял глаза к небу. Он бессловно молил провидение о знаке. И в эту минуту он почувствовал запах её парфюма. Нежный, как сливки, пьянящий, как первый глоток красного вина.
Запах вёл молодого человека к кремлю. Он, похожий на безумца, почти переходя на бег, спешил по следу запаха, который, казалось ему, не забыть во всю жизнь. Незнакомка сидела на лавочке и смотрела на звёзды. Лунный свет играл её волосами. Незнакомка посмотрела на молодого человека и улыбнулась, и в её взгляде он прочитал: «Я ждала тебя всю свою жизнь». Сдерживая дыхание, боясь вспугнуть то хрупкое чувство, возникшее от встречи взглядами, молодой человек аккуратно подошёл к ней.
– Можно присесть? – с дрожью в голосе спросил он.
– Можно. Какая же сегодня ночь, – ответила она своим бархатным голосом.
Это было начало долгой истории, о которой, наверное, стоило бы поведать в другой книге.
Вот что-то такое я придумал. Знаю, что дурно и пошло, но в этом тоже какое-то особое удовольствие есть. У Достоевского герои упиваются своим страданием, это уже не уникально, а вот своей пошлостью упиться, мечтами любви голливудско-мелодраматичного пошиба – это ещё ничего, главное помнить, что нужно всегда себе и всем окружающим говорить: «Я пошляк самого высочайшего уровня, пошляк и мещанин, выросший на американском кино и низкопробных книжках». Если это заклинание повторять почаще, будет свежо, если ещё что-нибудь про новую искренность присовокупить – высший класс.
А если отбросить всю эту экзальтацию, то Рязанский кремль – хуйня на постном масле. Вы поспешите назвать меня нигилистом, что, мол, ничего святого во мне нет. В своё оправдание скажу, что днём я кремль не видел, но ночью он мне показался именно что хуйнёй на постном масле. Ни больше ни меньше. Чему удивляться? Огромному каменному сундуку, которому много сотен лет? Или Есенину, по пупок закопанному в землю? Нет, господа хорошие, я на кремль насмотрелся. Вот взглянул на него последний разок. Вот развернулся. Ушёл. И больше Рязанский кремль я никогда не видел.
IV
А всё-таки сигарет купить нужно. Но по пути как назло не попадается никакого магазинчика-круглосутки. Может, во дворы лучше свернуть? Эти магазинчики на тараканов похожи. Света боятся. Страшновато. Ещё кто-то огреет меня, как того токаря. А я, может быть, ещё пожить хочу. Мне, может быть, рано умирать. Ну, хорошо, давайте представим, что вот там, где стоит пятиэтажное здание общаги (как понял, что общага? а там балконов нет), выкрашенное жирно-жёлтой краской, сейчас за углом поджидают меня двое.
Один – здоровый малый, с бритой черепушкой, в кожаной куртке. В кармане у него кастет. Второе место на чемпионате Рязанской области по боксу за 2008 год. Из пьющей семьи. Мама его никогда не любила, всегда называла дармоедом и подонком, а папа пил так сильно, что в принципе утратил ощущение дихотомичности мироздания, перестал отличать «люблю» от «не люблю». Второй – малый ещё крепче первого. Золотая медаль на чемпионате Рязанской области по дзюдо за 2009 год. Детдомовский. Его даже описывать боюсь.
И вот они меня, ничего не подозревающего, поджидают. Мне до этого тёмного угла идти ещё минуты три. Как думаете, молча стоят? Может, и молча.
– А схуяли нам молчать, Лысый? – предварительно сплюнув, ухмыляется первый.
– «Молчи, скрывайся и таи»[8], хули. Ты потише говори, вон того лохопеда сейчас убивать будем.
– А зачем нам его убивать? Он ведь сам рано или поздно умрёт, если он, конечно, не Агасфер[9].
– Был бы Агасфером, я бы его прям сейчас ёбнул, ненавижу жидов. Россию спасать от таких надо. Все они, жиды, бессмертные. Поэтому и богатые. Сам рассчитай арифметику: если даже по десять рублей в день откладывать, то с Рождества Христова можно 7 000 000 накопить!
– На квартиру хватит.
– Вот-вот. А они, ебать, думаешь по десять рублей откладывают? Ротан шире держи.
– Они по 100 откладывают, – первого распирает от сделанного другом открытия и от лютой ненависти к семитскому народу. Он хрюкает.
Я останавливаюсь. Оглядываюсь по сторонам. Вроде никого. А ведь как будто что-то хрюкнуло. Нет, пожалуй, во дворик я не пойду. Хуй с этими сигаретами. Не до жиру – быть бы живу. А вот тоже, конечно, вопрос: если я сейчас заверну за угол в надежде найти круглосуточный магазин, а там, за углом, те двое меня и прикончат, то можно будет считать, что меня погубило курение? В статистику мой случай попадёт?
– Ну ты и идиот, сорвётся же наш клиент. Мы же тут нужны только для того, чтобы его убить, – шепчет Лысый.
– Это ещё почему?
– Видать, тебя Обухом не просто так зовут. Слушай внимательно, что я тебе скажу, не поймёшь – меня не ебёт. 85-й год себе примерно представляешь?
– Ну…
– Был, ебать, такой крендель, звали его Сиплаков, токарем на заводе спину свою работящую сгинал в позе рака. И вот он в 85-м году аккурат на остановке сидел. У мужика геморрой и простатит одновременно обострились. Ссать охота, но больно, жопа горит так, ну, не знаю, представь, что тебе чёрт кочергу раскалённую в очко вставил, представляешь?
– Представляю…
– Вот, он только встал глянуть, идёт автобус или не идёт, а ему тут же хуяк по голове, и замочили. Понял?
В тишине, повисшей над улицей, можно было утопить несколько щенков.
– Лысый, хоть убей меня бог с рогатки, но не понял.
– И правильно, что не понял. Это не ты понимать должен, а вот этот лошок, которого мы сейчас кончать будем.
– А мы будем? Он же не Агасфер, простой парень, жалко же. У него и мама, наверное, есть.
– А у Сиплакова мамы не было? Ведь раскурочили ему черепушку так, что мама не горюй.
– Вообще, знаешь, Лысый, не хочу я и не буду его убивать.
– Это ещё с какого хуя?
– А с такого, ты вот про вуду что-нибудь знаешь? Молчишь, а стоило бы знать. Вот у них, у этих вудов, есть такой дух, привидение, демон – шут его знает… Барон Суббота. Он как бы у них олицетворяет смерть, а если по этому… как его, фашист этот, который кокаин жрал вместо зубной пасты?
– Фрейд, что ли? Так он не фашист.
– Да какая разница: фашист, не фашист. В другом тут цимес, Лысый. По Фрейду этот Суббота олицетворяет Танатос. Начало смертельное. Врубаешь? И фишка в том, что этот демон ихний, он может в кого угодно вселяться.
– Так это и бес может, не удивил. Обух, мля. Доебал темнить. К чему вообще вся музыка?
– А ты не перебивай! Я не договорил. Он когда вселяется… вот в тебя вселится, да… – ты не начнёшь там головой крутить, орать латынью. Если он в кого вселится, то человек начинает жрать, как свинья, курить много, алкашкой заливаться, – и не без удовольствия Обух добавил: – Понял?
– Хуёнял. Всё я понял. Типа ты мне тут затираешь: все мы себя убиваем, движемся к смерти через удовольствия? Ты мне Америку открывать собрался?
– Тоже мне, гений нашёлся. Я, может, техникум, как ты, и не заканчивал, но до всего своим умом доходил. И книжек я поменьше твоего читал, а по мордасам тебе сейчас как хуйну!
И хуйнул. А Лысый ответил. В два раза сильнее. Обух не растерялся и ответил в два раза сильнее, чем ему ответил Лысый, на что тот ответил в два раза сильнее предыдущего удара.
Одна из апорий Зенона звучит так:
«Чтобы преодолеть путь, нужно сначала преодолеть половину пути, а чтобы преодолеть половину пути, нужно сначала преодолеть половину половины, и так до бесконечности. Поэтому движение никогда не начнётся».
Но я уже давным-давно прошмыгнул мимо зловещего тёмного угла, за которым Лысый и Обух решили вздуть друг дружку. И больше я их никогда не видел.
V
А круглосуточный магазин я наконец нашёл. Тёплый мигающий свет такой знакомой каждому вывески «Продукты 24». И, как это и положено, большая часть букв не горела, образуя загадочное «роды 2». Внутри – ничего удивительного. Прилавок, полки с продуктами. Возле кассы – весы, на которых ещё царя взвешивали, и лоток с жвачкой.
– Извините, а мне бы вот сигареток.
Только дребезжание лампочки.
– Извините, пожалуйста…
И снова дребезжание лампочки было ответом.
Что ж, Рязань – город немаленький, да и светать уже скоро начнёт, через какой-нибудь часок, можно помыкаться по дворам. Не единственный же это магазин. А продавец – хам.
Заскрипела дверь подсобки, заскрипел стариковский голос:
– Слышу, слышу, уже бегу, – из подсобки вышел (скорее, выполз) дряхлый дедуля – если кто и Агасфер, то он. – Вы вообще кто?
Если не знаете, как сбить человека с толку, особенно посреди ночи, то задайте ему этот простой вопрос: вы кто? Действует безотказно. Я опешил. Когда постоянно задаёшь этот вопрос себе, уже привыкаешь к стандартным ходам интеллектуальной мастурбации, умственному пинг-понгу. Но когда этот вопрос задаёт кто-то другой, кто-то находящийся вне твоей черепной коробки, берёт оторопь. Неужели кто-то ещё задаётся вопросом, кто я?
– Назовите себя. Кто вы? – проскрипел дедуля, видимо, подумав, что я не услышал.
– Я… Э-э-э… Покупатель?
– Так-с, покупатель… А я, стало быть, продавец. А когда я вам продам то, что вам надо, вы кем будете? – явно съязвил старый хрен.
– Человеком, – готов побожиться, другого на ум не пришло ничего. Я умолял Господа послать хоть какую-нибудь мыслишку, пускай самую дурацкую, но на язык просились только самые очевидные ответы, они к нему намертво прилипли.
– Человеком. Человек человеку человек. Хомо хомини хомо эст. Вам что-то ещё?
– Мне бы сигарет купить.
– Вам какие? – дед со скоростью черепахи под транквилизаторами шаркал в сторону прилавка.
– «Мальборо» красный, пару пачек.
– А их нет.
– Тогда «Кент», четвёрку.
– А их тоже нет.
– «Кэмел» тогда, жёлтый.
– И их нет.
– А что тогда есть?
– Сигареты.
– А какие?
– А какие вам нужны?
Дорогие читатели, наверняка вы думаете, что я стану описывать, как начал терять терпение, однако спешу вас уверить, что нет. Почему-то мне показалась крайне забавной идея повторить ещё разок, и я сказал:
– «Мальборо» красный, пару пачек.
На что мне ответили:
– А их нет.
Я решил принять правила игры и парировал:
– Тогда «Кент», четвёрку.
Мой визави, похоже, не собирался сдаваться так просто:
– А их тоже нет.
Что же мне оставалось, дорогие читатели? Я ответил:
– «Кэмел» тогда, жёлтый.
Как вы, наверняка, догадались, я услышал:
– И их нет.
Словом, мы повторили наш диалог раз пять, явно получая удовольствие от этого процесса. Под конец, запыхавшийся, но довольный равным поединком, старик-примиритель достал из-под прилавка пачку «Явы».
– 120. Пойдём покурим. У меня тут в подсобке можно.
Подсобка оказалась гораздо просторнее, чем я ожидал. Наверное, из-за того, что в ней не было никакой мебели, кроме огромного красного полинялого кресла, похожего на мухомор, и старой табуретки. Старик бесцеремонно плюхнулся в кресло и жестом пригласил меня сесть на табуретку. Из переднего кармана смешной дедовской рубашки он вынул такую же, как у меня, пачку «Явы», прикурил и со смаком пожилого курильщика затянулся. Меня дважды приглашать не надо было.
Минуту-другую мы сидели молча. Заговорил старик:
– Куда уходит детство, в какие города?
Неожиданный выбор темы, да и слова какие-то знакомые, читал, что ли, их где-то? Тон был самый доверительный, поэтому я посчитал, что можно и пооткровенничать чуток.
– Не знаю, я сам думаю об этом. Вот мне двадцать лет. А можно ли это детством считать? Ребёнок ли я? Кого вообще ребёнком можно назвать? Вот я из мамы вылез, агукаю – понятно, ребёнок. А дальше? Я для себя решил, что детство – это ореол сказки, который окружает те или иные моменты нашей жизни. Детство – это время, куда хочется вернуться.
– И где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? – снова что-то знакомое. Чертовски знакомое. Ну где я это слышал? Или читал? Может, это что-то моё собственное? Из моих стихов?
– Не знаю, в него вряд ли можно вернуться. Знаете, мне кажется, только потому, что туда нельзя вернуться, оно и остаётся детством. Оно должно исчезать, чтобы оставить воспоминания, понимаете? – я чувствовал, что перехожу черту откровений, слишком много откровений на единицу времени, слишком мало язвительности. Но уж больно этот старикан мне понравился.
Он закивал:
– Оно уйдёт неслышно, пока весь город спит. И писем не напишет, и вряд ли позвонит.
И тут до меня дошло! Песня! Это же песня[10]. То есть что, получается, я здесь изливаю душу, а этот старый пидорас надо мной смеётся? Серьёзно? Это оскорбление, самое настоящее, форменное оскорбление. Скормить мне эти строчки песни, когда я хочу потаёнными мыслями поделиться. Один царь греческий так Зевсу своего сына скормил. Зевс был в ярости, а я в ещё большей, – потому как Зевс мог хотя бы молнию метнуть, снять этим напряжение, и баб у Зевса было четыре вагона, а я и без молнии, и без бабы! Нет, никакого смысла здесь оставаться я не вижу. Я встал, развернулся и подошёл к двери. Старик всё так же лениво сидел, развалившись в своём похожем на мухомор кресле. И больше я его никог…
– Вернись! Я хочу сказать тебе что-то важное.
Что ж, умеешь заинтриговать. Умеешь.
– Понимаете ли, молодой человек… – как же он скрипит. Помните Монеточку: «Ты говоришь, как скрипит задвижка в старой пустой квартире»[11]? Он ещё хуже. – Понимаете ли, вот я старик, а старики, они очень на детей похожи в следующем моменте: ребёнок, он только родился, у него за детской спинкой звенящее ничто, а вот старик… ему это звенящее ничто в самую морду тычется, понимаете меня? Но вот ловкость рук, без всякого мошенничества: вы живёте, не подозревая, что умереть можете в любую секунду: упадёт кирпич, двое молодцев из люмпенов за ракитой подкараулят, – на этом моменте меня прошибает холодный пот: до того скрипучий голос старика напоминает мне голос поэта Ерофеева, – или ещё какая оказия стрясётся, всякое в этой жизни происходит, все мы игрушки в руках случая, и звенящее ничто, оно у нас у всех за спиной стоит, как у младенца, и всем нам в лицо дышит, как старикам. Все мы одновременно и старики, и младенцы. Каждую секунду почти что умираем, каждую секунду почти что рождаемся. И я, молодой человек, я не дурак, я очень большой недурак! Я жизнь прожил, долго думал, я уловил пульс, уловил, как вот дёргается эта кривая «родился-умер». Всем нам чрезвычайно легко склонить эту кривую к оси «умер»: ножичком, таблеточкой, болезнью какой – готово, а вот я, молодой человек, я несколько дальше собираюсь пойти. Я собираюсь преломить ход в сторону «родился». Понимаете?
Может быть вы, дорогие читатели, что-нибудь и поймёте, несколько раз перечитав вышестоящий абзац, но я не понял ничего. Так и ответил.
– Я от вас понимания не требую. Я для проформы спросил, потому что так принято. Мы с вами, молодой человек – или лучше просто человек, ведь вы сами так себя назвали, – ещё увидимся, очень скоро увидимся. Я бы сказал, что этой же ночью и увидимся, да только сейчас уже никакая не ночь. Сами поймёте, поймёте беспроблемно. Может быть, поймёте. Не может быть, а точно поймёте. А теперь идите – мне нужно готовиться. Я устал, сейчас я буду капризничать. Идите!
Не претендую на лавры Чезаре Ломброзо[12], физиогномист из меня никакущий. Но по лицу старикашки, по его сморщенным, как урюк, чертам заметно было, что он недоговорил: своими насекомьими желваками словно дробил и переваривал что-то. Словом, что-то ещё ему хотелось сказать. Я поднял бровь (получается плохо, знаю, но Бог даровал человеку возможность не видеть своего лица – жест, достойный дарителя, а человек, как обычно, всё изгадил – зеркало придумал).
– Да-да, и ещё, если вы не ушли… Да… Как же я забыть мог. Вы, моло… кхм, человек, когда из магазина выйдете, вы всегда прямо идите, да… Всегда прямо, прямо…
Забавно: он взял и уснул, не договорив фразы. Ну и пусть дрыхнет, а я пойду.
И больше я его никогда не видел?
VI
«Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нём вины».
Константин Олегович Сиплаков родился 17 октября 1930 года в Рязани. Отец – Олег Иванович Сиплаков, стрелочник на железной дороге. Мать – Анастасия Петровна Сиплакова (в девичестве Петухова), продавщица в галантерейном магазине. Первым словом Константина Олеговича Сиплакова было «мама», произошло это 30 августа 1931 года. 20 марта 1936 года Константин Олегович Сиплаков сочинил сказку: «На столе в вазе стоял красивый цветок. На цветке была муха. Её хотел обидеть злой паук. Но его прогнал папа. Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец». 24 сентября 1936 года Константин Олегович Сиплаков впервые подумал о том, что небо очень красивое. 16 апреля 1939 года Константин Олегович Сиплаков написал свою первую любовную записку.
Константин Олегович Сиплаков окончил техникум. Константин Олегович работал токарем. Константин Олегович женился на Тамаре Алексеевне. У Константина Олеговича родился первый ребёнок. Константину Олеговичу дали квартиру. У Константина Олеговича родился второй ребёнок. У Константина Олеговича умер первый ребёнок. Константин Олегович стал лечиться от простатита. У Константина Олеговича родился третий ребёнок. Константин Олегович начал мучиться от геморроя. У Константина Олеговича родился внук. Константина Олеговича убили люмпены. Всё.
Часы на руке Константина Олеговича не остановились, – потому что он не носил часов. Мать Константина Олеговича не заплакала, когда его убили, – потому что она умерла в 1973 году от сердечной недостаточности.
Константин Олегович не узнал о том, что у него был рак простаты. Не узнал, что метастазы добрались до костей. Константин Олегович никогда не узнает, что его внучка выйдет замуж за художника, который за всю жизнь не напишет ни одной картины; не узнает, что она сделает три аборта; не узнает, что она повесится в странно пустой квартире на улице Марата[13], прямо рядом с Московским вокзалом.
Константин Олегович забыл, куда положил очки. Никогда не вспомнит. Константин Олегович никогда не вспомнит, что заначка, 130 рублей, спрятана в старой шине в гараже. Константин Олегович никогда не вспомнит вид фурнитуры для изделий галантерейной, обувной, швейной и полиграфической промышленности, шесть букв, первая – «л», последние две – «р» и «с». Забудут Константина Олеговича.
В ту минуту, что объединила в себе жизнь и смерть Константина Олеговича, в 1025 минуту 179 дня 1985 года в мире родилось 256 детей. Ровно на одного ребёнка больше, чем в среднем. После удара Константин Олегович был жив ровно 30 секунд, и в эти 30 секунд родилось 153 ребёнка, а во вторые 30 секунд, когда никакого Константина Олеговича уже не было, свет увидело 103 ребёнка. Сколько из них умерло при рождении? Не знаю.
Константин Олегович Сиплаков писал стихи. Ниже привожу некоторые из них.
I
- Я разглядываю небо.
- Небо кажется красивым.
- А потом я понимаю:
- Это небо – над Россией.
- Я люблю страну родную.
- Её реки и поля.
- Я люблю её любую.
- Я люблю её всегда.
II
- Коли мне бывает грустно
- И пусто на душе,
- Спешу покушать вкусно —
- Улыбка до ушей.
III
- Я люблю тебя, дорогая,
- Я тебя называю родной.
- Ты красивее сирени в мае,
- Свою жизнь я проживаю с тобой.
- Мы с тобой родили деток,
- Будем нянчить внуков, детей детей.
- И вот эту пару мимозных веток
- В день рождения я дарю тебе.
Константин Олегович никогда никому не показывал своих стихов.
Константин Олегович почти не писал писем. Самое длинное письмо он написал своей жене, Тамаре Алексеевне Сиплаковой, летом 1983 года. Ниже привожу это письмо (пунктуация и орфография сохранены).
«Дорогая моя Тамара! Пишу тебе из больницы. Мне здесь хорошо. Опиацию мне сделали хорошо и я чувствую себя лучше. У меня уже почти не болит живот, но я ем только по диете с этим тут строго. Спасибо что вы с детьми прислали мне письмо. Я его читал много раз со вчера. Оно мне очень сильно понравилось. Сегодня я читал книгу и играл в сквере в шахматы. Я очень скучаю по тебе Тамара и по Свете и Серёже. Я очень рад что вы все вместе поехали на дачу. Очень грустно что я в больнице и не могу помочь соберать смородину. Напишите мне ещё письмо. Передай привет всем. Я тебя люблю сильно. Твой Костя».
Это было не последнее письмо из тех, что за свою жизнь написал Константин Олегович. Оно, кстати, валяется где-то среди кучи других бесполезных бумаг на антресоли двухкомнатной квартиры на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома серии II-17 на улице Шевченко – эту квартиру сейчас снимают у внука Константина Олеговича двое мужчин из Украины. Одного из них зовут Симоненко Игорь Петрович, а второго – Колотюк Игнат Семёнович. Оба работают малярами. Очень хорошие специалисты.
В один из тех ноябрьских дней, когда выходить на улицу не может хотеться, в один из тех ноябрьских дней, когда на улицу выходят только по неотложной необходимости, Игорь Петрович и Игнат Семёнович затеют небольшой косметический ремонт своей съёмной квартиры. В ходе него они выбросят с антресоли все бумаги. Даже не будут читать, потому что чужих писем и тем более стихов без спроса не читают. Вы, наверное, скажете: «Ничего себе, воспитанные какие, – чужих писем без спроса не читают, а выбрасывают их только в путь». Зачем так плохо думать об Игоре Петровиче и Игнате Семёновиче? Ещё тогда, когда они только в качестве потенциальных квартирантов смотрели жильё, внук Константина Олеговича сказал им:
– Ремонт у нас, конечно, очень косметический, считайте, что нет. Тут давно никто не жил, это дедова квартира вообще. Зато делайте что хотите, если умеете. Выбрасывайте что угодно, мне всё равно.
Игорь Петрович и Игнат Семёнович кивнули. И выкинули.
А ночь кончается внезапно, или римская цифра «семь», или самая короткая из глав
Летом такое бывает. Иногда. Проснёшься рано утром. Нужду справить или попить. Грешным делом посмотришь в окно, потом на часы, затем снова в окно – не веришь. Маленькое чудо. В три – светает. В пять уже так же светло, как днём. Всякий раз, как вижу, не верю. Никакое не маленькое чудо. Огромное. И снова я не поверил, выйдя из круглосуточного магазина под вывеской «роды 2». Солнце. Настоящее живое солнце. И конец химерам снов моих. Сон разума рождает чудовищ. Этой ночью мой разум спал крепче любой красавицы, и чудовища были соответствующие. Нет, подумать только. С Ерофеевым болтал! И старик этот… Он точно всамделишный?
Так, старик (который не факт, что настоящий) завещал всегда идти прямо. А с учётом того, что человек, идущий прямо, всегда немного забирает влево… Или вправо? Неважно. Корректировать-то этот перекос нужно? Или под «прямо» имелось в виду идти по асфальтированной дорожке под взглядом полусонных окон убитых пятиэтажек? Так, пожалуй, попроще будет. Так и пойду. Что-то всё уж больно знакомо. Ракита. Остановка. Слава, неужто она? Да, похоже, она. Давай хором скажем. Три, четыре. «Улица Стройкова». И что же я вчера такого увидел в этих номерах автобусов? 349-й – до больницы. 102-й – до вокзала. 36-й – до улицы Шевченко. Глупость. Такая же глупость, как и гулять с ребёнком в это время суток. Мамаша точно в норме? Хотя, может, уже намного позже? Сейчас часа четыре утра, а она с коляской. Или девять? Или уже день? Народу-то много на улице, сам посмотри, идиот. А теперь посмотри в коляску. Зачем? Просто посмотри. Сейчас, поравняется со мной, и посмотрю. Уже почти поравнялась, можно на цыпочки привстать. Я что, дурак? Просто посмотри.
И я посмотрел. И ребёнок глянул на меня, подмигнул. Божусь, что подмигнул. И я узнал – это он. Из круглосуточного магазина. Старая гусеница. Старая хитрая гусеница. Какие уж тут разговоры о кесаревом сечении. И бесполезно идти всё время прямо в обратном направлении, никакой круглосутки там нет. Я просто сошёл с ума. Интересно, хотя бы сигареты-то у меня настоящие в кармане? Нащупал пачку, достал. Подмигивать не будут? Вроде не подмигивают.
* * *
Слава открыл пачку. Среди восемнадцати пролетарских «Яв» ехидно сверкал красным кружком «Филип Моррис» с арбузной кнопкой. Слава пару минут поглядывал то на расписание автобусов, то на красный кружок. И правда, похож на арбуз в разрезе. 349-й – до больницы. 102-й – до вокзала. 36-й – до улицы Шевченко. Глупость. Лопнул кнопку. Закурил.
И больше Славу никто никогда не видел.
Принцесса
Рассказ
В парке дождём смыло мост. Я этот мост хорошо знал, он был перекинут через небольшую речку Серебрянку в парке. Её так легко было перепутать с ручьём. Там всегда водилось много плавунцов. А пару месяцев назад прошёл злющий ливень, и мост смыло. Как узнал об этом, понял: никак не могу его вспомнить. Не могу даже примерно сказать, какого цвета он был и был ли вообще выкрашен, не могу припомнить, был ли он из дерева или из металла, или соткан из моих снов добрыми феями, у которых крылья похожи на батистовые носовые платочки.
Сперва я очень расстраивался из-за того, что мост я забыл. Потом крепко обиделся, не знаю, на что конкретно. Наверное, на всё сразу. На свою память, на то, что дожди иногда смывают мосты (именно вот на это «иногда» – если бы всегда смывали или никогда, то ещё ничего, привыкнуть можно, а нерегулярность явления ужасает своей несправедливостью), на дедушку, который так часто водил меня в детстве в этот парк, что мост примелькался, начисто потеряв вещественный образ, превратившись в безликую функцию. Вместе с обидой пришло озлобление на всё вокруг. Послал нахуй соседа по общежитию, за что получил, а затем и сам дал ему по морде, расстался с женщиной (давно пора было), одну ночь проспал в зале ожидания Савёловского вокзала и очень неискренне извинился перед соседом. Последнее – самое гадкое. Он был добрым, простил меня и даже накормил пельменями, их он всегда варил очень вкусно: с лаврушкой и другой всячиной.
Вот посылаешь человека нахуй, бьёшь его, потом извиняешься с фигой в кармане, а тебя ещё и пельменями кормят, думал я ночью. Ворочался, терпеть себя не мог, телу хотелось бросить такую грязненькую душонку, в нём прописавшуюся, но душонка вцепилась намертво. Чуть не заплакал.
Утро было развесёлым, ветер игрался, как школьник, в кронах деревьев, старики просыпались с утренней эрекцией к немалому удивлению своих старух, а на северной окраине города, как позже поговаривали, в небо от радости улетел кот, умудрившийся где-то украсть полпалки колбасы. Словом, жить хотелось в то утро. Мне в голову пришла мысль, что можно попробовать самому наладить мост через Серебрянку, новый и добротный. За утренним чаем я поделился этой идеей с соседом. Он уже и забыл о том, как совсем недавно лупил меня по щекам своими вологодскими кулачищами (насчёт вологодских я немножко привираю, он не прямо из Вологды, а из Тотьмы, но это рядом; представляете, там река полгода течёт в одну сторону, а полгода – в другую[14]), и задорно отозвался:
– Дело хорошее, только ничего у тебя не получится.
– Это почему?
– Да потому что ты рохля, ты тяжелее кисточки ничего в руке не держал. Ты же, можно сказать, дитя большого города, для вас гвоздь и доска – краснокнижные звери. А дюбель для тебя, наверное, – сводный брат Дюрера, – тут он крякнул от остроумности своего каламбура.
На самом деле он был прав. Куда мне мосты наводить? Зато я могу мост нарисовать. Вот поеду и хотя бы простенько так, карандашиком, набросаю мост, любой, какой захочу. И будет у меня рисунок, а он намного надёжнее памяти, подумал я.
Получалось вполне прилично. У меня всегда неплохо рисуется, я только поэтому и поступил в художественное училище. Я не художник ни в жизни, ни в искусстве (если вообще это можно/нужно разделять). Я просто хорошо рисую карандашом и чуть похуже красками.
Речка на бумаге казалась даже живее, чем в реальности, а мост был – загляденье, я для красоты представил его как сказочную версию Золотых Ворот[15] в США.
– Простите, а вы архитектор?
Это был примерно пятнадцатый по популярности вопрос из тех, что мне задавали случайные свидетели моего ремесла, поэтому я не обернулся на мягонький, как свежий белый хлебушек, от которого хотелось отщипнуть поскорее чуточку, голос.
– Не-е, просто рисовальщик, скромный токарь карандаша и сапожник масла, – видно, не только мой сосед в это утро отличался остроумием, я даже себя похвалил за так изящно и неожиданно обронённые слова. Как если бы уронил при всех из кармана 5000 рублей и не поднял бы не из-за того, что я весь из себя богатый, а просто по доброте – кому-нибудь, мол, пригодятся. Вот как хорошо я чувствовал себя в это утро!
– Правда, здорово получается. Намного лучше того моста, который тут был.
Я круто обернулся.
– А вы его помните? А каким он был? – пока спрашивал, осознал, насколько неприлично вот так набрасываться с вопросами, и извинительно добавил: – Я просто совсем его не помню…
– Ой, знаете, он такой обычный был, почти деревенский, как вот… вы были в Царицыне? Вот там похожие мостики, они деревянные такие, а перила у них железные. Но у этого моста перила были почему-то только с одной стороны. Отломали, наверное. И ещё там такая дырка была посередине, доска треснула, мне всегда было очень страшно ходить по нему, думала: нога застрянет, и буду тут часа три сидеть, никому не нужная.
Вот так она начала. А я сидел, одетый в растянутые треники и дырявую футболку «Секс Пистолз», и слушал её красоту. Я, знаете, так считаю: красоту мы воспринимаем ушами. Есть какая-то ультразвуковая частота (доступная и глухим от рождения, в медицинском плане), на которой красивые люди и вещи восхитительно поют, а все вокруг слушают и отзываются едва различимым даже на этой ультразвуковой частоте плачем. Для меня красота – очень грустная штука. Какой бы она ни была здоровой и источающей энергию жизни, красота всегда поёт о скорой своей смерти, о том, что вот ещё немного, и она зачахнет, отцветёт. В этом её особенная ценность. Если вам печально думать, как что-то умрёт, то это что-то истинно красиво.
Она стала для меня даже больше, чем «что-то». Она была что-то с чем-то! Наверняка, в то щемяще-чистое утро мне благоволили тайные течения удачи, и она не убежала по срочным делам, когда я, наспех скомкав свой рисунок, предложил немножко погулять вместе. Она даже вроде не слишком сильно стеснялась моего откровенно квазимодьего наряда.
Я угадал: она была меня старше. На девять лет. Я узнавал у неё только какие-то общие моменты: местная/не местная – местная, кем работает – репетитором по литовскому языку (представьте себе!), и всё такое прочее. Она же спрашивала обо мне больше: долго ли я учился рисовать – я вообще не учился, взял в детстве карандаш, и давай малевать всё подряд, так кто-то берёт фотоаппарат и начинает фотографировать мамупапубабушкудедушкуфонарьсобакумашинусоседейкрыльцоещёсобакудвухкошекдачугрибы, и всё это вне правил композиции и без других умностей; нравится ли мне учиться – мне нравилось именно то, что я ничему не учился; как я планирую зарабатывать – я не планировал, а зарабатывал: порисовывал что-нибудь на заказ, иногда папа мне какую-то нетрудную работу подыскивал, он у меня в детском издательстве большой человек, так что множество детей и их экзальтированных мам лили слёзы умиления над моими собачками и ёжиками.
Я отвечал прозаично, а улыбался поэтично (то есть по-дурацки), но её это даже очаровывало. На один взмах крыла бабочки мне стало очень за неё грустно. Настолько, видимо, жизнь её была похожа на постный кисель однообразных дат и дел, что такое заурядное существо с необычной профессией, как я, вызывало в этой взрослой, на минуточку, женщине восторг маленькой принцессы, перед которой показывают фортеля потрёпанные жизнью мудрецы, собранные со всего королевства.
– Скажите, а вы не принцесса? – с едва скрываемой тоской, делавшей мою собеседницу ещё красивее, спросил я.
– Конечно, принцесса, – ответила она.
Потом мы шли к метро и видели, как с ветки на ветку перелетала странная птичка, маленькая, но очень неповоротливая. Нам с принцессой было в разные стороны: ей – на юг, а мне – на север. Но договорились ещё погулять, как-нибудь. Она записала мой номер.
На восьмой этаж общежития я влетел на невесомых крыльях предчувствия. Предчувствия любви. Сосед в это время заканчивал эскиз, получалось у него больно мудрёно: какая-то церковь подводная, крестный ход – нравилась ему вся эта символика. То, что я зашёл не через дверь, а через окно, его вообще не смутило. Он рассказывал, что его дед в дом заходил всегда только через трубу, а выходил через подвал. Когда я начал судорожно запихивать вещи в дорожные сумки, сосед ухмыльнулся: мол, опять на вокзал?
– Да на какой вокзал! Ты не понимаешь?! Мне в Африку надо! – я был не в себе.
– В ту Африку, которая «Чёрный континент»? И зачем? Там художникам работу давать будут? – к вечеру острить он стал лениво, больше был поглощён тем, что выводил закомары подводной церкви.
– Художника там скорее съедят, чем ему работу дадут. Не за этим! Тут такая женщина, ты себе не представляешь! Она, я не знаю, она… Принцесса! Правда, я тебе говорю, самая настоящая принцесса, которая вот так запросто гуляет по парку по утрам. Представляешь, эта женщина, она литовский преподаёт! Кто я вообще рядом с ней.
– А с чего ты решил, что ты рядом с ней? Раз вопрос. И к чему тут Африка? Два вопрос.
– Она мой номер записала, поэтому мне надо торопиться в Африку. Понимаешь, она такая… А я кто? Я кто? Рисую чёрт-те что и сижу здесь на кровати целыми днями, твой храп слушаю. А она литовский преподаёт! Её, представляешь, в университете литовскому научили! Я не знаю… я сегодня рядом с ней шёл – выгляжу как люмпен, говорю как маргинал. Мне нужно срочно в Африку, я должен убить слона или пожить в каком-нибудь племени, хотя бы стать освободителем небольшого угнетённого народа и войти в кабинет министров новой республики, пускай на пару денёчков, так даже интереснее, если на пару денёчков, ещё для охоты на гиппопотама-людоеда время останется! Потому что только так я себя рядом с принцессой ничтожеством чувствовать не буду. Она как Ахматова! Лучше, чем Ахматова. А я ни секунды не Гумилёв, мне нужно срочно «огумилёвиться», понимаешь?