Читать онлайн Разум преступника и логика преступления. О психиатрии, судах и серийных убийцах бесплатно
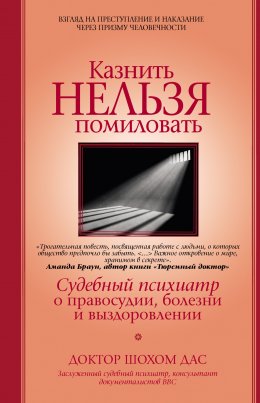
Dr Sohom Das
IN TWO MINDS
Stories of Murder, Justice and Recovery from a Forensic Psychiatrist
© Dr Sohom Das, 2022
© Перевод на русский язык, оформление. ООО «Издательство АСТ», 2022
* * *
Ризме, моей жене и наперснице, Камрану и Райяану, моим маленьким сообщникам
От автора
Помимо тех случаев, которые уже стали достоянием публики, герои этой книги, в том числе пациенты и коллеги, останутся анонимными. Я преднамеренно изменил имена, некоторые демографические подробности, а иногда и дату и место наших взаимодействий, чтобы их труднее было узнать. Иногда я объединял несколько случаев в один. Все это делалось с целью сохранить конфиденциальность больных, а также проявить уважение к жертвам и членам их семей. Тем не менее суть моих историй на сто процентов правдива (и моя жена и дети существуют на самом деле!)
По-видимому, важно объяснить, зачем я написал эту книгу. Моя цель – распахнуть двери в специализированные психиатрические отделения, тюрьмы и суды, где я проводил психиатрическую экспертизу и помогал в реабилитации правонарушителей, страдающих психическими расстройствами. Надеюсь, мне удалось пролить свет в темные уголки, которые обычно скрывают от глаз широкой публики. Моя цель – рассказать всем о жестокой реальности, о мучениях людей особенно беззащитных, духовно изувеченных и нередко непонятых. Как еще нам приподнять завесу тайны над судебной психиатрией и избавить наконец от стигматизации тех, кто оказался внутри этой системы? От всей души надеюсь, что мне удалось удержаться на тонкой грани – написать о своих пациентах со всей возможной деликатностью и при этом ничего не приукрасить.
Пролог
Тот день был особенно ненастным. Порывы ледяного ветра подстерегали толпу полицейских в форме, солиситоров в костюмах и барристеров в париках и мантиях, стоило им выйти за порог Олд-Бейли. Я приехал заранее, без малого за два часа, и все утро провел, меряя шагами улицу перед зданием. Перечитывал свои показания, как одержимый, пытался стряхнуть ощущение холодного ужаса и прикуривал сигарету за сигаретой: мне предстояло свидетельствовать по делу об убийстве – неплохой предлог для рецидива. Какие там бабочки в животе – у меня внутри резвились крылатые упыри, которые только толстели от помпезности и величественности Олд-Бейли, от всех этих колонн, статуй, барельефов и латинских надписей.
И вот наконец я в новеньком, с иголочки, костюме вышел на кафедру для свидетелей, не обращая внимания на пот, заливавший глаза, и прочитал вслух волшебную формулу: «Со всей серьезностью, искренностью и откровенностью заявляю и утверждаю, что мои показания – правда, только правда и ничего, кроме правды». Перевел дух. И в ожидании беспощадного перекрестного допроса судьи и барристеров отхлебнул несколько глотков воды, чувствуя себя газелью у водопоя, которая, трепеща, торопится напиться и при этом следит, не подбирается ли к ней лев.
В то время я был младшим врачом и должен был согласовывать все важные решения с консультантом, который руководил нашей группой. Однако мой начальник решил, что этот случай, несомненно, станет настоящим кладезем познаний обо всех закоулках мира судебной медицины, поэтому предоставил все мне. Я подал судебный отчет – и через несколько недель меня вызвали на заседание по делу об убийстве для дачи устных показаний. Сейчас я играю роль свидетеля-эксперта совершено профессионально, это моя специальность, но тогда я взмок, как мышь.
Там, за кафедрой для свидетелей, я остро осознал, как важно судебному психиатру подобрать верные слова. Закон не обязывает нас выступать в суде, но наше мнение сильно влияет на судей. Если при перекрестном допросе мы даем слабину и нам не удается подтвердить свои показания, это влечет за собой тяжкие последствия. Наши слова способны изменить жизнь человека на скамье подсудимых. Мы можем уберечь бессильных, беззащитных, безголосых от тюрьмы до гробовой доски и наставить их на путь исцеления. Но стоит ошибиться – и мы станем орудием, при помощи которого убийство буквально сойдет преступнику с рук.
Подавляющее большинство психиатрических больных не склонны к насилию. Подавляющее большинство тех, кто совершает насильственные преступления, не страдают душевными заболеваниями. Но когда два этих мира пресекаются, это может привести к катастрофе. В том случае, который тогда рассматривался в Олд-Бейли, способная школьница, раньше отличавшаяся примерным поведением и никогда не совершавшая ничего антиобщественного, в приступе психоза убила маленького ребенка, навсегда разрушив жизнь целой семьи. Те, кому поручают диагностировать, лечить и реабилитировать пациентов, чьи симптомы вызывают насильственные действия, – это те, кому поручают предупреждать насилие в будущем и защищать общество от опасности. И я один из них.
Моя работа состоит в том, чтобы обследовать, в том числе и с точки зрения оценки риска, лечить и реабилитировать тех, кого мы, специалисты, называем психически больными правонарушителями, а желтая пресса – обезумевшими злодеями. Мои клиенты – это обычно люди, которые нападают на ближних, грабят, избивают, поджигают, насилуют. Некоторые убивают. Часто ими движет паранойя и мания величия. Кто-то слышит голоса, которые приказывают совершать все эти зверства. У большинства есть сопутствующие заболевания и прочие обстоятельства, в том числе, скажем, алкоголизм, наркомания или тяжелые стойкие пороки – бессердечность, аморальность, отсутствие эмпатии. Это приводит к тому, что они постоянно оскорбляют окружающих, нападают на них, лгут, манипулируют и обращаются с ближними черство и безразлично. В совокупности все эти черты называются «расстройство личности». Судебная медицина – это еще и мир сострадания. Мои пациенты – едва ли не самые искалеченные и беззащитные люди, которые когда-то и сами были жертвами. В детстве они не раз и не два сталкивались с самыми уродливыми проявлениями насилия. К тому же они подвержены двойной стигматизации – и за душевные болезни, и за преступления. Мы, судебные психиатры, должны сначала выявить таких людей, а затем взять на себя ответственность за их лечение в тюремной психиатрической клинике, мы досконально анализируем их жизнь и пытаемся понять, какие же обстоятельства стали причиной для совершенных преступлений, и таким образом оцениваем факторы риска. Мы устраняем все, что можно устранить, и на это уходят годы, а иногда и десятилетия. Мы стремимся дать своим пациентам все возможности вернуться в общество, которое в лучшем случае старается их не замечать, а в худшем мечтает запереть их под замок и выбросить ключ.
Ее звали Ясмин Хан. Она убила своего двухлетнего племянника – задушила подушкой. И была убеждена, что изгоняет из него демонов и он оживет. Это был один из первых моих судебных процессов, и именно по делу Ясмин я впервые оказался в Олд-Бейли. В дальнейшем я провел сотни экспертиз и лечил множество психически больных правонарушителей. Когда наблюдаешь самые разные преступления и вникаешь в самые разные кровавые подробности, легко привыкнуть. Но некоторые случаи навсегда отпечатались в моей памяти. Иногда насилие особенно потрясает своей бессердечностью. Иногда жертва особенно беспомощна или невинна. Иногда и насильник таков. Иногда диагноз неоднозначен или его трудно поставить. В случае Ясмин совпало все вышеперечисленное.
У судебных психиатров четыре естественных ареала обитания, и мы обычно работаем одновременно в одном-двух, не больше. Чаще всего нас можно найти в специализированных психиатрических клиниках – за массивными, антивандальными, как на секретных предприятиях, магнитными дверями, которые открываются по отпечатку пальца, и в окружении высоких заборов из проволочной сетки. Эти больницы отведены для клиентов из группы наивысшего риска, и безопасность там ставится на первое место, а все сотрудники постоянно настороже, поскольку всегда возможны и агрессия, и нездоровое возбуждение. Некоторые из нас – таких немного – работают в государственных центрах охраны психического здоровья, где наблюдают пациентов уже после выписки из тюремных больниц и помогают им вернуться в общество. При этом мы единственные среди психиатров и вообще среди врачей обязаны еще и обеспечивать безопасность окружения наших больных – их друзей, родных, случайных встречных. Потенциальных жертв.
Другой ареал обитания судебного психиатра – нутро всевозможных тюрем по всей стране, где нередко слышатся и леденящие душу вопли, и нецензурная брань и где душевные недуги цветут пышным цветом. Здесь мы обычно входим в состав бригады психиатрической помощи и, как правило, работаем в психиатрических отделениях тюремных больниц. Там нашими пациентами становятся несчастные, которых терзают психозы, когда им требуется самое тщательное лечение и наблюдение.
Еще мы участвуем в уголовных процессах – и в составе группы выявления и сортировки, и в качестве независимых экспертов. Здесь наша задача – обследовать перед tête-à-tête с судьей всех подсудимых, явившихся в суд когда и откуда угодно: из полицейских участков (если их арестовали), из дома (если они отпущены под залог), из тюрьмы (если они возвращены под стражу). Мы выявляем тех, кто страдает тяжелыми душевными расстройствами, а также тех, у кого есть другие обстоятельства вроде алкоголизма или наркомании либо расстройства обучения, и направляем их в соответствующие медицинские или социальные службы. В тех редких случаях, когда подсудимые очевидно больны и тяжесть их состояния такова, что их нельзя отпускать в общество, мы помещаем их в специализированные психиатрические клиники на принудительное лечение.
Некоторые судебные психиатры исполняют также обязанности свидетелей-экспертов. В основном это частная деятельность, не связанная со всем вышеперечисленным. Наша роль свидетелей-экспертов – консультировать уголовный суд по самым разным медико-юридическим вопросам, от того, может ли психическое состояние подсудимого полностью снять с него уголовную ответственность (если человека признают невменяемым, уголовное дело прекращается), до того, можно ли переквалифицировать предумышленное убийство в непредумышленное (то есть признать человека ограниченно вменяемым). Мы определяем, кто подлежит срочной принудительной госпитализации в специализированные психиатрические клиники, где содержится большинство опасных психически больных правонарушителей, с учетом того, что количество мест в таких клиниках ограниченно, а процесс реабилитации всесторонний, трудоемкий и длительный. Все эти медико-юридические вопросы, как и многие другие, предстояло решить и в случае Ясмин, дело которой было особенно сложным и тяжелым.
В тот день в Олд-Бейли барристер со стороны обвинения возражала против моих рекомендаций – и против моих доводов как психиатра в защиту подсудимой, и против возможной переквалификации дела (то есть перевода Ясмин из тюрьмы в больницу). Она настаивала на пожизненном тюремном заключении, но не потому, что ее интересовали тонкости закона о психическом здоровье или она сомневалась в верности поставленного Ясмин диагноза, и правда неоднозначного. Нет, она оспаривала мою способность давать экспертные показания как таковую и настойчиво повторяла, что у меня ограниченный опыт. Если слух меня не обманывал, она с особым упором произносила слово «младший» в словосочетании «младший врач» и продолжала именовать меня этим титулом, хотя о моей должности уже давно упомянули. Она агрессивно пыталась сбить меня с толку, намеренно делая из моих слов незначительные поверхностные выводы так, чтобы показалось, будто я сам себе противоречу. Но такова была ее работа. Я это знал. Как говорил когда-то Крестный отец, «ничего личного, только бизнес». У меня было преимущество – я несколько месяцев обследовал Ясмин и основательно познакомился с ее делом. Со стороны барристера было разумно сразу вцепиться мне в горло и попытаться дискредитировать. Я твердо стоял на своем. Барристер продолжала задавать мне заковыристые наводящие вопросы. Я отвечал на них логично и беспристрастно. Она делала нелогичные выводы. Я их парировал, как учили в университете. Наша дискуссия была затянутой, циклической, пассивно-агрессивной, формальной и сугубо интеллектуальной. За ней наблюдал судья с непроницаемым каменным лицом. Наверное, как его учили в университете. И тут, пока я стоял за кафедрой свидетеля, меня осенило: мало того, что первоначальное волнение как рукой сняло, я еще и получал от происходящего извращенное удовольствие. От своего костюма, от мантий и париков, от ненужной латыни, от пышности всей обстановки. И к тому же я побеждал в споре. Помню Ясмин как сейчас. Мышиное личико, косички, растерянно поднятые брови. Странная пустая улыбка. Ее случай остается одним из самых душераздирающих в моей карьере и одним из самых тяжелых эмоциональных переживаний за всю мою жизнь. У меня осталось так много вопросов. В то время мы с женой планировали в ближайший год-два обзавестись детьми. Неужели такую драгоценность, на создание которой нужно столько времени, и правда можно уничтожить в одно мгновение? Сможет ли Ясмин когда-нибудь примириться с тем, что сделала – потом, когда туман психоза развеется? Смогут ли родные когда-нибудь простить ее? Сможет ли она заново выстроить свою жизнь? Я знал, что, если хочу получить ответы на все эти вопросы, мне придется и дальше работать в той узкой области, куда я только-только заглянул одним глазком, стать в ней профессионалом. Однако для меня как для младшего доктора это разбирательство было великолепной возможностью узнать много нового, и я благодарен начальнику за то, что поверил в меня и позволил взять дело в свои руки.
Опыт работы в Олд-Бейли много чему научил меня. Нервозность и сигареты мне теперь ни к чему. Я могу вполне достойно выступать в роли свидетеля-эксперта. Перспектива перекрестного допроса заставляет леденеть сердца многих моих коллег, а я от происходящего просто в восторге. До того заседания я сомневался, подходит ли мне работа судебного психиатра. Но опыт за кафедрой свидетеля пробудил во мне что-то новое. Я понял, что именно этим и хочу заниматься. А еще я понял, что мне многому предстоит научиться. И я стал учиться. Всего-то несколько сотен дел, обследований, перекрестных допросов, всего лишь бесконечная череда исследований жестоких нападений, убийств, изнасилований – и вот я здесь.
Часть I. Специализированные психиатрические клиники
Глава первая. Немного истории
Криминалистикой я заинтересовался задолго до психиатрии. Точнее, было так: сначала рэп, потом криминалистика, потом психиатрия. С ранних подростковых лет, пришедшихся на 1990-е, я сидел и слушал, словно завороженный, как Cypress Hill, House of Pain и Wu-Tang Clan открыто и беззастенчиво читают рэп о том, как торговать наркотиками, избивать кого попало и даже убивать. Эти музыканты разбудили во мне интерес к преступному миру, а Снуп Догг начисто взорвал мозг (это было в те времена, когда он еще называл себя Снуп Догги Догг; потом он отказался от «Догги», видимо, решив, что его псевдоним какой-то уж слишком собачий).
Творчество Снупа, которого продюсировал Доктор Дре, было не просто невероятно смелым и вызывающим, но еще и очень понятным. Тот же человек, который сейчас снимается в камео в голливудских фильмах и приплясывает в рекламе Just Eat, безо всяких экивоков читал рэп о том, как пить джин с соком, курить марихуану, убивать кого попало и вступать в плотские отношения с самыми разными потрясающими женщинами, даже не давая себе труда позвонить им назавтра из вежливости. Сейчас я, разумеется, не могу смириться с этой отвратительной мизогинией и призывами к насилию, но тогда я прилипал к стереомагнитофону (убавив звук до предела, когда родители были дома, поскольку таких бесчинств они бы не потерпели) не ради содержания текстов Снуп Догга, а ради их дерзости.
Меня завораживало его хладнокровие. Воспитывали меня строго, в замкнутом семейном кругу, а жили мы в скучной, хотя и пасторальной деревушке Пойнтон в Чешире, где из всех житейских опасностей меня подстерегала разве что тарзанка, на которой не полагалось слишком сильно раскачиваться. Полицейские сирены, бандитские разборки и убийства в тюрьмах принадлежали к какому-то полуреальному миру фантазий.
Моя мама работала секретаршей в фирме, производившей беруши, а потом – секретаршей университетского преподавателя. Отец был инженер-химик, чья работа, как ни поразительно, состояла в разработке быстросохнущего и относительно не канцерогенного клея для сигарет. Родители приехали в Лондон из Индии в начале 1960-х, поодиночке, и выгодно отличались от своих многочисленных братьев и сестер тем, что заключили брак по любви, а не по сговору семей. Они сталкивались и с откровенным расизмом, и с дискриминацией. После того как им пришлось раз за разом стучаться в закрытые двери (в буквальном и в переносном смысле), мечты об интеграции и принятии сменились жаждой успеха и доминирования – и в этом мы с ними расходимся и по сей день. Как принято у индийцев, родители бросили все силы на то, чтобы обеспечить блестящее будущее нам со старшей сестрой. Поскольку я был неглуп и предпочитал естественные науки, меня уговорили поступать в медицинскую школу, хотя я был еще совсем ребенком, а медицина была мне попросту безразлична. Родители приехали из страны, где не было никакого социального обеспечения, поэтому хорошее образование ценилось на вес золота. Вопрос – без преувеличений – был в том, что ждет человека: устроенная жизнь или голодная смерть на улице. Поэтому родители заставляли меня каждый день часами заниматься дополнительно, чтобы опережать и сверстников, и школьную программу. Разумеется, сейчас я понимаю, что за то, что я попал в медицинскую школу и дальше, мне следует благодарить поддержку и поощрение родителей, а не собственную вялую мотивацию, но в то время я злился, что меня заставляют учиться. А я хотел только кататься на велосипеде, а потом – заниматься восточными единоборствами и играть на компьютере, а еще через несколько лет – покупать выпивку на поддельные удостоверения личности и ходить на вечеринки.
Как и многие мои сверстники, лет в 13–14 я увлекся боевиками. Эту страсть только подпитывала игра Street Fighter II на приставке Super Nintendo, которая, с моей точки зрения, была величайшим изобретением человечества, не считая огнива. И даже лучше огнива. Сейчас у нас дома в кухне стоит настоящий большой игровой автомат со Street Fighter II – бельмо на глазу у моей супруги и отрада моих очей. Поскольку тогда у меня еще не выработался вкус к проработанным сюжетным ходам и динамике персонажей, я находил актерское мастерство Жан-Клода Ван Дамма вполне приемлемым, а его удары ногой с разворотом на 720 градусов прямо-таки восхитительными. Родители требовали, чтобы я возвращался домой гораздо раньше, чем было принято среди моих приятелей, и строго следили, с кем я вожу знакомства, какие внешкольные занятия выбираю и что у меня с финансовой независимостью, однако совершенно не возражали, когда я еще подростком каждую пятницу брал в видеопрокате Blockbusters (земля пухом) кассеты с пометкой «18+»; невероятно, но факт. Меня манило насилие. «Робот-полицейский», «Терминатор-2» и «Ребята по соседству» произвели на мою податливую психику сильнейшее впечатление. Они раз за разом вытаскивали меня из унылой, набитой учебниками жизни подростка в царство фантазий, и я и не подозревал, что пройдет 20 лет, и я буду постоянно сталкиваться с убийцами и насильниками.
Я мечтал оказаться как можно дальше от сонного Чешира и в 1997 году поступил в Эдинбургскую медицинскую школу, где проучился с 19 до 24 лет. В уличной жизни я ориентировался на уровне церковного хориста, но был полон решимости перековаться. К диплому я просто плыл по течению. К занятиям мы с приятелями относились, что называется, без огонька: вместо того, чтобы воспользоваться случаем овладеть ремеслом и заодно завести новые знакомства, мы считали университет одной большой вечеринкой, где приходилось мириться с эпизодическими неудобствами вроде надоедливых лекций и клинической практики. Занятия мы посещали по минимуму, ровно настолько, чтобы избежать отчисления. В наши дни за посещаемостью следят значительно внимательнее, но в наше время в тех редких случаях, когда все-таки приходилось отмечаться на занятиях, например, когда мы препарировали трупы для зачета по анатомии, мы отбирали из своих рядов своего рода ответственного водителя, который должен был заставить себя встать с постели, преодолеть похмелье и записать в ведомость все наши фамилии. В те редкие дни, когда я все-таки оказывался на занятиях по анатомии, зрелище мертвых тел отнюдь не лишало меня душевного равновесия. Они выглядели и пахли настолько нереально – обесцвеченные, замаринованные в формальдегиде, – что мне трудно было даже представить себе, что когда-то это были живые люди, которые ходили и дышали. Мои действия (и бездействие) возымели последствия. Я провалил почти все экзамены за первый курс и был вынужден готовиться к пересдаче все летние каникулы – на волосок (99 микрометров, спасибо анатомии) от того, чтобы остаться на второй год. Я решил начать относиться к занятиям серьезно и взяться за книги не в пример прежнему. Когда в начале второго курса мои приятели вернулись с каникул, решимость моя, признаться, ослабела. Но так или иначе я умудрялся держаться на плаву до самого диплома. Теперь я понимаю, что такое отношение было проявлением глубокой незрелости. Сейчас, когда мне за 40, я отношусь к работе со страстью и увлечением. Однако тогда, на студенческой скамье, у меня был настрой подростка. Разница была только в том, что теперь не нужно было возвращаться домой к определенному часу, потому что так требовали родители, и не требовалось фальшивое удостоверение личности, чтобы покупать выпивку.
В середине обучения я взял академический отпуск, чтобы защитить магистерскую диссертацию по второй специальности – фармакологии. Я бы с радостью рассказал, как меня увлекала эта тема, но на самом деле я просто хотел оттянуть тот момент, когда придется взяться за унылую работу младшего врача. После этого я вернулся на четвертый курс – мне было 22 года, и я наконец познакомился с психиатрией. Меня назначили на практику в группу психиатров-консультантов в одну эдинбургскую больницу, и я сразу ощутил склонность к этой специальности. Врачи и медсестры относились ко всем студентам-медикам приветливо и дружелюбно. Это ярко контрастировало с тем, как с нами обращались раньше во время практики – словно к зловонному облаку кишечных газов, которое повсюду преследовало старших докторов и в основном боялось даже в глаза заглядывать, не то что задавать вопросы по существу.
Как и раньше во время клинической практики, я поначалу решил относиться к ней спустя рукава в расчете проглотить весь экзаменационный материал в последние две недели. Однако, к моему удивлению, мне удалось наверстать недостаток врачебных познаний сочувствием и общительностью. Когда к нам поступали больные с передозировкой парацетамола, после первичной оценки риска и необходимых медицинских процедур им нужна была эмоциональная разрядка – посидеть с кем-то, кто выслушает рассказ об их бедах и не станет осуждать. И я это мог!
Честно говоря, раньше мою способность к эмпатии никто не проверял. Я не сталкивался с трагедиями в семье и среди друзей, не хоронил никого из близких и вырос в семье, где к жизни относились с азиатским стоицизмом. А здесь я впервые встретил настоящих людей с настоящими проблемами. Насилие, нищета, алкоголизм, бездомность, разрыв отношений и, естественно, психические болезни. Я смутно осознавал, что такой мир где-то существует, но до той поры он был от меня так же далек, как стрельба из машины и бандитские войны за территорию из текстов Снуп Догги Догга. А здесь я и правда мог на что-то повлиять.
Вторую половину практики я провел в нескольких разных психиатрических отделениях. Я говорил с десятками больных в психозе, и их рассказы и биографии, иногда выходившие за рамки реальности, сразу же заворожили меня. Я беседовал с ними об их бредовых идеях, и это было дико и даже страшновато – но всегда увлекательно. Я сразу заметил тонкую грань между тем, чтобы сострадать их искаженному мировосприятию, и тем, чтобы поощрять его. Вот владелец паба, считающий, что постепенно тает и вот-вот исчезнет. Бывшая университетская преподавательница, убежденная, что она реинкарнация Клеопатры. Тощая, как скелет, девочка-анорексичка, уверенная, что отвратительно разжирела. Особенно тронула мое сердце учительница средних лет по имени Фрида Милликен, которая несколько месяцев назад попала в ужасную аварию, в которой погиб ее сын-школьник. Ее привез в отделение скорой психиатрической помощи муж, поскольку она не спала три ночи. Я никогда не видел человека, настолько убитого горем. Поскольку я работал в отделении уже полтора месяца и проявил чуткость и компетентность, дежурный врач доктор Портер позволил мне осмотреть больную совершенно самостоятельно, без надзора со стороны. Хотя владелец паба, которого я осматривал накануне, вызвал у меня сочувствие и даже некоторое понимание, его психоз был настолько диковинным и чуждым, что казался мне нереальным, словно трупы в анатомичке. А история Фриды была другая. Такое могло случиться с каждым. Такое могло случиться со мной.
Фрида жаловалась, что несколько раз в день чувствует, как у нее «в животе лопается воздушный шар» – как в тот момент, когда автомобиль оторвался от земли, – и ее мучают навязчивые воспоминания о том, как несколько секунд спустя кровь ее сына стекала по разбитому лобовому стеклу. Она сказала, что «застряла в том дне на повторе» и «вынуждена проживать его снова и снова». Она жаловалась и на другие симптомы и особенности поведения – постоянная подавленность, усталость, которая не позволяла ей ни заниматься хозяйством, ни обслуживать себя, неспособность уследить за ходом разговора и даже телепередачи. Муж уговорил ее сходить поиграть в бинго, которым она страстно увлекалась до аварии; она посещала игры каждую неделю.
– Это было жалкое зрелище, – призналась она. – Никакой радости. И все будто бы глазели на меня из-за того, что все это произошло. Я только и ждала, когда вернусь домой.
Фрида боялась выходить из дома. Ей было страшно увидеть мальчиков-школьников, особенно долговязых и худых с растрепанной шевелюрой, которые напоминали ей сына. От одного их вида она теряла присутствие духа и потом часами терзалась из-за навязчивых образов.
Рассказывая об этом, она вдруг расплакалась. Я взял ее за руку, подал коробку с салфетками. Твердил, как соболезную ей. И тут мое сердце сжалось от незнакомого ледяного чувства. Я никогда никого не жалел с такой силой. Отодвинул протокол психиатрического обследования, который недавно выучил наизусть. И инстинктивно сменил русло и начал расспрашивать Фриду о сыне. Череда бесконечных вопросов о психиатрических симптомах слишком отдавала клиницизмом, и задавать их сейчас было бы слишком бессердечно.
Какой он был? Какую музыку любил? Какая была его любимая еда? Его звали Ангус, а друзья называли его Мангуст. Ему было 17, он обожал хип-хоп и компьютерные игры – совсем как я в отрочестве. Главной его драгоценностью были недавно приобретенные «деки» – ди-джейский проигрыватель для пластинок. Он подрабатывал после школы в местном супермаркете Scotmid (шотландский аналог британской сети Budgens) и почти все время и деньги тратил на редкие записи. Чем больше она делилась со мной нежными воспоминаниями, тем длиннее становились промежутки между приступами рыданий. А все необходимые вопросы я задал потом, между делом. Лет через 10, когда я проходил очередной тренинг по психиатрии для младшего медицинского персонала, меня научили вставлять нужные вопросы в диалог словно бы невзначай, а не зачитывать подряд. Я не знал этого, когда разговаривал с Фридой о Мангусте, но послушался интуиции.
Потом, когда я докладывал об этом случае доктору Портеру, мне удалось соотнести рассказы Фриды с реальными симптомами. Пока я говорил, в голове всплывали обрывки фраз из учебников, и в конце концов замерцала диагностическая лампочка. Навязчивые образы – это же флешбеки, психологическое репереживание!
– Эти жалобы у нее слишком давние, чтобы объяснить их типичным переживанием горя, – сказал я доктору Портеру за кофе. – У больной посттравматическое стрессовое расстройство.
Доктор Портер был не просто первым в моей жизни врачом, который разрешал пить кофе во время врачебной конференции: он еще и приносил его всей своей команде. Мне было интересно, все ли психиатры такие душки.
– Хорошо. Еще что-то?
– Мне кажется, у нее клиническая депрессия. Ну, то есть расстройство адаптации, которое прогрессировало до клинической депрессии.
– На каком основании?
– У нее недостаток энергии и мотивации, расстройства внимания и, вероятно, ангедония.
Последний симптом – это невозможность получать удовольствие от прежних занятий, главный признак депрессии.
– Какие вы предлагаете варианты лечения?
Я начал сыпать ответами, чего сам от себя не ожидал.
– Когнитивно-поведенческая терапия, десенсибилизация и переработка движением глаз, антидепрессанты.
– Какой антидепрессант показан при посттравматическом стрессовом расстройстве?
– Хм… пароксетин?
– Хорошо. – Доктор Портер кивнул.
– И еще я думаю, что у нее агорафобия. Она боится выходить из дома.
– Осторожнее. Думаю, избегание у Фриды связано с ПТСР. Все, что напоминает о сыне, вызывает флешбеки, поэтому она их избегает.
Это было более логично.
– Не забывайте, в психиатрии нельзя ничего переусложнять. Избыточная диагностика всегда ставит на человеке клеймо и редко помогает. Главное – будьте проще.
«Проще? – подумал я. – Это про меня!»
Я вышел из отделения со смешанными чувствами. Моя поверхностная студенческая жизнь, полная развлечений, окружала меня словно коконом, а вкус страданий Фриды, зрелище трагедий реального мира пробило брешь в этой оболочке. А еще у меня возникло совершенно новое ощущение. Я почувствовал себя врачом. И понял, что психиатрия – одна из немногих медицинских специальностей (в эту категорию я бы включил еще врачей общей практики), где личные отношения и умение вести себя у постели больного – не просто приятное дополнение, а необходимое условие успеха. Когда имеешь дело с кардиохирургом, конечно, хочется, чтобы он был вежливым и приятным в общении, но главное – чтобы он как следует провел операцию, а остальное не так уж важно. В психиатрии все иначе. Я понимал, что это скорее искусство, чем наука. Что произойдет – впустит вас больной в свой интимный и иногда даже параноидный внутренний мир или отвергнет – полностью зависит от ваших навыков коммуникации и умения сочувствовать.
Был у меня и более меркантильный мотив: несомненно, я умел налаживать связи с больными и вытягивать из них жалобы не хуже, а нередко и лучше моих однокурсников-медиков, не таких общительных. Я обнаружил в себе особый талант – все, кто оказывался передо мной, чувствовали себя легко и непринужденно независимо от жизненных обстоятельств и демографических особенностей, от молоденького члена банды с шизофренией и юной девушки, которая пыталась устроить себе передоз, чтобы отомстить бойфренду за измену, до старушки с деменцией. Я умел очаровывать, обезоруживать и исподволь заставлять собеседника выдавать, что он чувствует. А мои соученики, которые усердно учились и давали нам с друзьями фору на экзаменах, нередко были склонны к замкнутости и чопорности в общении. Не знаю, в чем дело, – возможно, сказались бесконечные разговоры о душе с кем попало в клубах драм-эн-бейс в предыдущее четыре года в университете (иногда мы были все в поту, а иногда голые по пояс). Преисполнившись уверенности в себе, я ощутил жажду знаний.
Меня увлекали все эти странные симптомы – от кататонии и закупорки мыслей до так называемой скачки идей. Я был очарован болезненной ненормальностью. Впервые в жизни я учился ради себя самого, а не для того, чтобы угодить родителям, и не в страхе перед предстоящими экзаменами. Каждая психиатрическая жалоба, каждый симптом и синдром, о которых я узнавал, становились потенциальной деталью головоломки, которая когда-нибудь позволит поставить диагноз. Кроме того, я хотел узнать все о всевозможных медикаментах и о том, как они влияют на рецепторы, нейроны и нейромедиаторы, чтобы пополнять свой арсенал вариантов лечения.
Я был новоиспеченный врач 24 лет от роду. И чувствовал, что, вместо того чтобы сразу начать работать по специальности, надо сначала выбить из организма кое-какую дурь. Для этого, помимо ненужной интернатуры по хирургии, понадобилось еще полтора года колесить по Австралии. Там между дежурствами в приемном покое и на психиатрическом отделении я впитывал в себя образ жизни антиподов. Я имею в виду сетчатые майки, миниатюрные пивные кружки, барбекю и пляжный отдых (хотя работать над загаром мне, понятно, не требовалось). Разумеется, на собеседованиях при приеме на работу я утверждал, что сделал перерыв в учебе с благородной целью расширить горизонты и познакомиться с чужой культурой, а еще – погрузиться в принципиально иную систему охраны психического здоровья, чтобы в полной мере объективно оценить неповторимость нашей. Но на самом деле не могу отрицать, что еще я уклонялся от неизбежных бесконечных экзаменов, без которых невозможно взбираться по иерархической лестнице профессии психиатра, и в том числе – от приемных экзаменов в Королевскую коллегию психиатров, профессиональную организацию, которая занимается обучением и повышением квалификации, а также задает и повышает стандарты в Великобритании. Я умудрялся обойти эти обязательные для всех ступени, в течение нескольких лет занимаясь всевозможной независимой практикой, не требующей дополнительного обучения. За годы, предшествовавшие работе с правонарушителями, я решил самые важные личные вопросы и миновал кое-какие вехи. Возможно, это убедило меня, что торопиться с профессиональным ростом не стоит. Мне перевалило за 30, я купил квартиру в Ислингтоне (благодаря существенной помощи родителей и сестры), влюбился и женился. И даже обзавелся золотым зубом и первой татуировкой.
В 2010 году я вступил в мир судебной психиатрии, и мне уже удалось с грехом пополам сдать все экзамены, которых я раньше избегал. Я проходил базовое обучение на старшего штатного врача – это низшая позиция для дипломированных врачей, отбывших обязательный срок в качестве мальчиков для битья в хирургии и других направлениях медицины. Программа предполагала цикл полугодовых интернатур по разным специализациям в рамках охраны психического здоровья в разных больницах и клиниках. Это было до того, как я с головой погрузился в последипломное образование и стал специализироваться по работе с психически больными правонарушителями в качестве врача без квалификационной категории (что дало мне возможность пройти дополнительное обучение и стать консультантом). Если прибегнуть к аналогии с хлопьями для завтрака, обучение на старшего штатного врача – это как хлопья-ассорти, где всего понемножку, а обучение на врача без квалификационной категории – это как огромная коробка вкусных, хрустящих, но совершенно однородных хлопьев.
Когда я приступил к первой полугодовой интернатуре по судебной психиатрии, друзья и родные постоянно спрашивали меня, в чем состоят мои непосредственные обязанности. Должен признать, я не вполне понимал, что требуется в этой области, даже когда уже начал работать. И по-прежнему предавался кое-каким фантазиям в духе всего, чего насмотрелся по телевизору.
Глава вторая. Чем я занимаюсь (и чем не занимаюсь)
Психиатры осматривают больных, ставят диагнозы и лечат психические болезни. У психиатров много разных специализаций – подобно тому как хирурги специализируются на разных частях тела. Так много, что сколько ни ломай голову, всех не упомнишь, и у каждой свои приемы лечения особых категорий душевных расстройств. Самая распространенная порода – взрослые психиатры общей практики. Есть также и психиатры-геронтологи, специализирующиеся по пожилым пациентам, и специалисты по зависимостям. Судебные психиатры – словно соседний биологический вид: мы осматриваем, лечим и реабилитируем правонарушителей, как правило, совершивших насильственные или сексуальные преступления. Сюда и влечет того, кто страдает нездоровым пристрастием к гангста-рэпу и боевикам. Кроме того, иногда мы выступаем в качестве свидетелей-экспертов и консультируем судей и присяжных во время уголовных процессов, если те или иные обвиняемые страдают психическими отклонениями (или есть основания предполагать, что страдают).
В противоположность расхожим представлениям, в том числе своим собственным, я быстро узнал, что судебные психиатры никогда не суются на место преступления. Усталые детективы из отдела убийств в телесериале, отхлебнув кофе, просят верного помощника отправить «на криминалистическую экспертизу» пули, а обаяшка Дик ван Дайк заглядывает в местный морг и велит проделать «криминалистическую экспертизу» трупа, но на самом деле это разные экспертизы – баллистическая и патологоанатомическая соответственно. Слово «криминалистика» часто связывают именно с раскрытием преступлений. Английское слово forensics – криминалистика – происходит от латинского forēnsis, «перед форумом»: в Древнем Риме обвинения в уголовных преступлениях обсуждались публично, перед народным собранием, – нечто вроде предшественника современного уголовного процесса. Этот термин очень широк и охватывает и само преступление, и правоохранительную систему, и суды как таковые. Задача судебной психиатрии – сопоставить психическую болезнь и виновность в правонарушении. Для этого обычно нужно оценить психическое состояние правонарушителя во время преступления, изучив улики после него. Необходимо расшифровать факторы риска, которые могут подтолкнуть человека к насилию в дальнейшем, и снизить их в процессе интенсивной долгосрочной реабилитации и лечения. Так что речь идет практически о чем угодно – но только не о раскрытии преступлений.
Мы не можем вычислить, убил ли полковник Кетчуп профессора Хайнца канделябром в кухне. Но после того как полковнику выдвинут обвинение, мы можем понять, какие личностные черты и психотические симптомы заставили его поступить настолько жестоко и импульсивно, оценить, можно ли признать его виновным, и реабилитировать, чтобы он перестал представлять опасность для общества и мог в него вернуться.
Не входит в обязанности судебного психиатра и составление психологического профиля преступника. Эта практика позволяет помогать полиции выявлять вероятных подозреваемых или связывать преступления, совершенные одним и тем же преступником. Кроме того, она предсказывает будущие действия преступника в целом (иногда, судя по программам, которые я видел, при помощи телепатии).
«Судя по тому, как этот человек дразнит следователей, он нарцисс и, вероятно, работает в рекламе».
«Он совершает преступления все чаще, они становятся все более жестокими. Он осмелел; думаю, суперинтендант, следующее нападение будет совершено средь бела дня».
Вот примеры фраз, которых я никогда не произносил.
С моей точки зрения, составление профиля преступника – это в лучшем случае псевдонаука, а в худшем – мошенничество, хотя некоторые люди (но не квалифицированные судебные психиатры) сделали в нем карьеру. Его польза, надежность и обоснованность не подтверждаются ни научными данными, ни исследованиями. Оно исходит из предположения, что преступники ведут себя предсказуемо. А еще – что их образ действий и мотивация последовательны, как у каждого конкретного правонарушителя, так и у преступников вообще. Я читал сотни разборов случаев, где перечислены все подробности преступлений, в том числе совершенных одним и тем же человеком, и обсуждал мыслительные процессы обвиняемых с ними самими – и должен с уверенностью сказать, что закономерности и правда могут быть. Но их может и не быть с тем же успехом. Многие тяжкие преступления – это хаос, случайность и оппортунизм. По моему скромному мнению, в них нет ни последовательности, ни даже данных, позволяющих предсказать профиль преступника.
Среди самых нашумевших преступлений, в расследовании которых эта черная магия помешала полиции, было убийство Рейчел Никкелл. Июльским утром 1992 года мисс Никкелл, бывшая модель 23 лет, подверглась нападению, когда выгуливала собаку вместе со своим двухлетним сыном в Уимблдон-коммон. Ее изнасиловали и нанесли 49 ножевых ранений. Главным подозреваемым был некий Колин Стагг, однако у полиции было мало улик, которые связывали бы его с местом преступления. Поэтому детективы обратились к знаменитому психологу-криминалисту, чтобы составить профиль убийцы, и Стагг ему соответствовал. Тогда психолога попросили помочь организовать ловушку для Стагга: привлекательная женщина-коп должна была подружиться со Стаггом, кокетничать с ним, чтобы заставить его проболтаться и рассказать о своих жестоких фантазиях, а может быть, и признаться в убийстве. Задачей приманки было все это записать. Стагг в некоторой степени попался на эту удочку, но в убийстве мисс Никкелл не признался. Однако его все равно осудили. Как говорит нынешняя молодежь, «Л – Логика». В ходе процесса судья в Олд-Бейли не оставил от обвинения камня на камне и заявил, что полиция попыталась обвинить подозреваемого при помощи «обмана самого возмутительного и отвратительного свойства». Критике подверглись и полиция, и психолог-криминалист (которого впоследствии Британское психологическое общество призвало к ответственности за нарушение профессиональной этики, впрочем, дело заглохло). В июле 2006 года, пересмотрев улики, полиция допросила Роберта Нэппера, осужденного за убийство, у которого был синдром Аспергера и параноидная шизофрения, в Бродмурской больнице, где он лечился уже 10 лет. Его уже обвинили в очень похожем убийстве другой молодой женщины, Саманты Биссет, и ее четырехлетней дочери в ноябре 1993 года. На суде он признал себя виновным в непредумышленном убийстве мисс Никкелл, сославшись на ограниченную вменяемость. Судья постановил, что Нэппер останется в Бродмурской больнице пожизненно.
Во всем этом криминалистическом фиаско меня особенно огорчает, что гибель Саманты Биссет и ее четырехлетней дочки можно было бы предотвратить, если бы эта жульническая операция с ловушкой на преступника, которую возглавлял якобы специалист по профилям, не направила полицейских на ложный путь.
Еще одна область, в которой мы не задействованы, вопреки моим представлениям в те времена, когда я только вступал в океан судебной психиатрии, – это допросы подозреваемых. Эта картина – вот ты сидишь за столом напротив подозреваемого в убийстве, а полицейские за односторонним зеркалом смотрят и не верят своим глазам, как ты играешь в интеллектуальные шахматы, чтобы заставить этого скользкого типа, преступного гения, оговорить себя, – и правда соблазнительна. Я уверен, что опытные детективы отточили свои навыки и натренировались в психических играх настолько, что им это по силам. Но если я и обладаю какими-то способностями в этой области (что крайне сомнительно), то исключительно благодаря тому, чего нахватался из детективных сериалов на «Нетфликсе». Если кладешь перед обвиняемым ручку, а он не берет ее, не играет с ней, слишком спокоен, ведет себя бесстрастно и расчетливо – он определенно, на сто процентов виновен. Или, наоборот, невиновен? Короче говоря, подобные приемы в моей профессии не применяются – никогда, ни при каких обстоятельствах.
При всем при том я и в самом деле во время осмотра пациентов высматриваю закономерности и признаки последовательности действий. Безусловно, не редкость, чтобы обвиняемые симулировали психическое расстройство. Но я делаю это для выявления симптомов, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, а не для того, чтобы вытянуть признание в убийстве.
Меня и сегодня часто просят углубиться в дебри психики серийных убийц и террористов и объяснить их поведение. В частности, меня пригласили на подкаст о Теде Банди, американском серийном убийце и насильнике, который, как полагают, в 70-е годы прошлого века убил 28 женщин, а может быть, и больше. Я предположил, что ему были свойственны поверхностное обаяние, грубое пренебрежение правами окружающих и скользкая манипулятивная натура психопата. Ведущей этого было явно недостаточно, и она прозрачно намекала, что я должен объяснить, почему Банди совершил десятки изнасилований и убийств, как будто это я был на скамье подсудимых. Как я ей и сказал, сомневаюсь, что есть какой-то ответ, который имеет смысл для кого бы то ни было, кроме самого Теда Банди. За свою профессиональную жизнь я обследовал нескольких преступников, совершивших по нескольку преступлений и терактов. Почти всегда это были первичные обследования с целью исключить острые тяжелые психические болезни, чтобы установить, что обвиняемый подлежит обычной процедуре уголовного следствия и суда. Если никаких психических болезней не обнаруживается, значит, лечить тут нечего, поэтому мои услуги и экспертные знания не нужны. К счастью, подобные злодеяния случаются редко. Но чтобы они были вызваны симптомами психического заболевания, а не просто ненавистью, – нет, скорее уж рак на горе свистнет. Несколько раз, в том числе в прямом эфире на радио, меня спрашивали, что движет серийными убийцами и террористами. Истина заключается в том, что ответ на эти вопросы лежит вне компетенции психиатрии, а скорее в области криминологии.
Казалось бы, резонно предположить, будто сами действия серийных убийц и террористов доказывают, что они душевнобольные. Тут все сводится к тому, как определить психическую болезнь. Если считать, что фантазии об убийстве или ненависть к иноверцам у крайних фундаменталистов, а также решимость претворить их в действие, – это автоматически психическая болезнь, тогда да, очевидно, все эти люди больны. Однако для психиатра ненависть, злоба, фашизм и даже религиозный фанатизм сами по себе не психиатрические симптомы. О болезни можно говорить лишь в исключительных случаях, когда эти чувства и идеи порождаются или служат внешним выражением какого-то психического расстройства. И только те, кто принадлежит к этой крошечной категории, в принципе могут стать нашими пациентами.
Один из первых случаев, которыми я занимался в составе своей группы во время первой интернатуры, и был примером такого редчайшего стечения обстоятельств.
Глава третья. Зачем террористу психиатр?
Мистер Стиви Макгрю был угрюмый склочный шотландец лет 55, он вел жизнь уединенную и даже замкнутую. «Индексными правонарушениями» (то есть теми, которые вынудили направить его в психиатрические службы) были телефонное хулиганство, рассылка электронных писем с угрозами и попытка изготовления взрывного устройства. Когда я познакомился со Стиви – это было во время моей первой интернатуры по судебной психиатрии в 2010 году на севере Лондона, – ему уже были предъявлены обвинения, после чего он был направлен в специализированную психиатрическую клинику.
Мне иногда приходилось обследовать потенциальных террористов, и Стиви был из них единственным, кто действительно страдал психозом. Тогда я по наивности таскал с собой кучу учебников, ошибочно предполагая, что у меня будет минутка позаниматься между обследованиями. В тот день по пути в общее психиатрическое отделение для взрослых у меня вышел трагический инцидент с участием плохо подогнанной крышки от пластикового контейнера и большой порции салата. Мало того что я погубил книги на сотню фунтов, еще и ланч был безвозвратно утрачен.
До сих пор Стиви сталкивался со службами охраны психического здоровья года за три до нашей встречи, когда проникся убеждением, что проезжающие по улице машины, в номерах которых есть буквы из его фамилии, издеваются над ним. Это «бредовое восприятие» – совершенно нормальное восприятие, которому человек приписывает ошибочное значение. Стиви набросился на одну из машин с бейсбольной битой (а это, между прочим, был «Порше», не что-нибудь!) и попал в участок. Затем прямо из зала суда его отправили на принудительное психиатрическое лечение, и он попал в то самое общее психиатрическое отделение, где мне через несколько лет предстояло его обследовать. У Стиви диагностировали шизофрению, прописали антипсихотические препараты, через месяц-другой ему стало лучше, и его выписали. Дело в шляпе. На какое-то время.
Дома Стиви должен был в обозримом будущем принимать таблетки каждый день. Он сказал мне, что от лекарств у него «словно муравьи в штанах» – то есть его мучает непреодолимое желание постоянно ерзать на месте, которое можно преодолеть, только если походить туда-сюда или «покрутить бедрами, как Элвис». Это широко известный побочный эффект некоторых антипсихотических препаратов, хотя наши психиатрические описания несколько менее образны, чем жалобы Стиви. Акатизия. Она связана с блокировкой допамина – химического вещества в мозге, которое контролирует движения, а кроме того, связано с развитием шизофрении. Стиви принимал таблетки неаккуратно. Пациенты поступают так сплошь и рядом, и для психиатров это сущее проклятие. Но ведь больных можно понять. Я и сам не стал бы принимать таблетки с побочными эффектами от болезни, которой сам у себя не замечаю, выражающейся в симптомах, в которые я не верю, и диагностированной врачом, которому я не доверяю. Стиви признавал, что насмешки транспортных средств только у него в голове, и делал вывод, что, коль скоро он не обращает внимания на глумливые номера, принимать эти неудобоваримые снадобья ему ни к чему.
Прошло года два после того, как Стиви перестал принимать антипсихотические средства, и ему ни с того ни с сего позвонили из маркетинговой компании с просьбой дать отзыв на семинар по возобновляемым источникам энергии, который он якобы недавно посетил. Стиви в жизни не бывал на подобных мероприятиях и испугался, когда звонивший назвал его персональные данные, в том числе адрес и номер национального страхования. Это напугало бы до полусмерти кого угодно, в том числе и нас с вами, но мы, скорее всего, выругались бы, вероятно, повесили бы трубку, взяли бы себе на заметку, что нас пытались обмануть, и занялись бы своими делами. Однако Стиви был убежден, что правительство нарочно слило его персональные данные, поэтому он позвонил с жалобой в Бюро консультации населения (это британская организация, которая специализируется на информировании по юридическим вопросам, долгам, правам потребителей, жилищным спорам и другим проблемам). Несколько дней он по несколько часов проводил у телефона, пытаясь получить удовлетворительный ответ, однако, по его словам, ему либо вообще не отвечали, либо заставляли ждать ответа, либо не перезванивали, хотя обещали. Стиви все сильнее распалялся и был уверен, что в бюро его дурачат, а значит, наверняка тоже участвуют в заговоре. И его паранойя только усугубилась, когда наконец он получил электронное письмо из бюро, в котором его фамилию написали с ошибкой. Стиви обратился в полицию, где ему, естественно, отказали, и тогда он начал бомбардировать бюро все более агрессивными электронными письмами. В конце концов он перешел к прямым угрозам убийства сотрудников. В материалах дела, которые мне передали, были распечатки примерно трехсот его имейлов, хотя, пожалуй, мне и одного было достаточно, чтобы составить представление. В темах писем значилось: «Ваша жизнь в опасности. Сегодня я взорву бомбу в вашем кабинете!» и «Даю слово, что весь ваш отдел погибнет жуткой смертью!»
Тут уж полиция обратила на него внимание. При обыске в его квартирке обнаружили бытовую химию, из которой, как известно, можно изготовить взрывчатку. При мысли о том, к чему все это могло привести, я только ежусь.
Навещать Стиви в обычной палате было как-то странно. Я провел в специальной психиатрической клинике в своей новой роли всего две-три недели, но уже привык к избыточным мерам безопасности. А у этой палаты была всего лишь одна тоненькая голубая дверь с хлипким замком, который, похоже, можно было взломать пинком, а больше, собственно, ничего не мешало больным сбежать в большой мир. Посетителей не обыскивали, более того, в отделении содержались и мужчины, и женщины. Парадоксальным образом обстановка здесь казалась почему-то опаснее, чем на моей обычной работе. К моему изумлению, Стиви, мужчина деликатного сложения («хиляк», если пользоваться его лексиконом), горбатым носом и редеющей шевелюрой, мог даже самостоятельно принести в комнату для бесед чашку с очень горячим кофе. Очевидно, о моем визите его не предупредили. Оказалось, что он человек довольно колючий, а особенно его разозлило, что я помешал ему спокойно выпить капучино. Он был в паранойе и изучал мое удостоверение битых три минуты с гаком – на 2 минуты 49 секунд дольше, чем вахтер на входе.
Похоже, его встревожило, что мне заранее прислали все материалы, касающиеся его предполагаемых преступлений, и он постоянно спрашивал, как именно их прислали и были ли они защищены паролем. Он ершился, постоянно перебивал меня и нарочно не давал мне договорить ни одной фразы. Именно такой тактики сознательно придерживались барристеры, подвергавшие меня перекрестному допросу много лет спустя, когда я уже стал свидетелем-экспертом.
Стиви бросил мое удостоверение мне на колени.
– Психиатриня у меня уже есть. Да и без этой балаболки обойдусь. Вы-то мне зачем?
– Законный вопрос, мистер Макгрю.
Чтобы не показаться бесцеремонным, я обычно обращаюсь по фамилии к клиентам, с которыми беседую только один раз, но если подолгу лечу их в своем собственном отделении, то по имени.
– Юристы направили вас к нам, чтобы получить заключение судебных психиатров. Вас, конечно, должны были предупредить…
– Так что, у моей психиатрини даже мозгов не хватит выдать заключение? Вы это хотите сказать?
– Нет. Просто мы – специалисты по тому, как психические болезни связаны с преступлениями.
– А, выходит, я псих, да? И вдобавок еще и преступник? Похоже, доктор, вы уже выдали свое заключение. – Он поставил кофе на стол и медленно, саркастически похлопал мне. – Выдающаяся работа, должен сказать. У вас есть визитка? Я бы порекомендовал вас этим козлам из Бюро консультации населения.
Пока я обследовал Стиви, мне пришли в голову две мысли. Первая – что его убеждения, по-видимому, бредовые, а следовательно, их можно лечить. Бред – это твердая непоколебимая убежденность, строящаяся на непонятных основаниях, не поддающаяся логической аргументации и противоречащая объективным данным. Кроме того, она никак не связана с особенностями происхождения человека – ни с местом его рождения, ни с его культурой и образованием: эта оговорка призвана исключить все те экзотические представления, которые «прививают» в тех или иных сообществах, поскольку они не имеют отношения к психическим расстройствам. Таковы, например, принятая среди сайентологов несколько парадоксальная вера в то, что психиатрия как таковая – мошенничество, или убеждение некоторых сектантов, будто все иноверцы заслуживают казни, а также укоренившееся в некоторых слоях общества представление, будто ярко-оранжевый искусственный загар – это красиво. Бред характерен для определенных болезней («патогномоничен», как выражаются психиатры), а именно для психотических расстройств. Вторая моя мысль была обо всех тех случаях, когда всевозможные организации заставляли меня бесконечно висеть на телефоне и не перезванивали, хотя обещали (и обо всех фантазиях, которые у меня, вероятно, возникали по поводу того, как можно привлечь их внимание).
Я сделал вывод, что хотя Стиви находится в пограничном состоянии, он не способен участвовать в судебном процессе. Он был настолько погружен в свои представления о том, что он мишень и потерпевший, что оказался не в состоянии усваивать и перерабатывать любую другую информацию, в том числе и все, что относится к его делу. Я не участвовал в лечении Стиви после первого обследования, однако его случай заинтересовал меня, и я переписывался с его психиатром из больницы по электронной почте, чтобы отслеживать шаги Стиви по пути к выздоровлению. Его врач была достаточно благоразумной, чтобы попробовать другие антипсихотические препараты с более мягкими побочными эффектами, а это, естественно, снижало риск, что в дальнейшем Стиви прекратит лечиться (из-за муравьев в штанах или чего-то еще). После нескольких месяцев лечения он по-прежнему считал себя жертвой. По-прежнему считал, что с ним плохо обошлись и должны были перезвонить. Однако – и это важно – его больше не одолевали навязчивые мысли о заговоре против него. Теперь он считал, что поведение служащих Бюро консультации населения было просто непрофессиональным. Бредовые идеи о предательстве и стараниях навредить были искоренены. А значит, Стиви мог продолжать жить как прежде, не мучаясь постоянным страхом преследования, а главное – избавившись от неутолимой жажды мести.
Должен отметить, что в случае Стиви меня особенно восхищала его способность оправдывать свои действия. «Я пошел на такие крайние меры и писал эти письма только для того, чтобы эти козлы перестали меня игнорировать». Он напирал на то, что все химикаты, которые он скопил у себя дома, не предназначались для взрывчатки, не были незаконными, а покупал он их просто для применения в хозяйстве. Его барристер успешно отстоял эту точку зрения в суде, и обвинения в изготовлении взрывчатых веществ были сняты. (Серьезно?! Антисептик для бассейна, хотя никакого бассейна у Стиви не было?!) Это называется «внешний локус контроля» и сводится к отказу брать на себя ответственность. Такое часто встречается у правонарушителей – так они находят своим поступкам внутреннее обоснование, даже если не страдают психическими расстройствами. За время работы я скопил целую коллекцию утверждений обвиняемых, которые иллюстрируют эту любопытную психологическую аномалию:
«Если бы государство не перестало выплачивать мне пособие, мне бы не пришлось идти грабить дома».
«Вообще-то приятелю не стоило просить меня подержать его нож».
«Доктор, это все виски. От него я становлюсь раздражительным, а она начинает мне возражать. На самом деле это было неизбежно».
Случай Стиви и его мотивы совсем не такие, как у подавляющего большинства террористов. Наглядным примером может послужить Дилан Руф, американский расист, который устроил стрельбу в церкви в Чарльстоне в штате Южная Каролина 17 июня 2015 года. В прошлом у него были и алкоголизм, и наркомания, и мелкое хулиганство, но у него не нашли никаких психических отклонений, которые заставили бы его утратить связь с реальностью, а главное – избавили бы его от уголовной ответственности. Да, он предположительно говорил, что «черные захватывают мир», а его действия, очевидно, были вызваны глубоко укоренившимися расизмом и ненавистью. Но, строго говоря, его убеждения, даже самые омерзительные, не были бредовыми. Их породила не болезнь, поэтому их не изменили бы никакие лекарства и никакая психотерапия.
У многих преступников, от мелких хулиганов до серийных убийц, есть тяжелые пороки характера, от сниженной эмпатии до нарциссизма. Вернемся к милахе Теду Банди: отменный пример подобного рода. Его поверхностная харизма, неискренность, бестрепетность, патологическая эгоцентричность и отсутствие совести сделали его эталоном человека, способного вести двойную жизнь. У него были длительные отношения с женщинами, он учился в колледже и строил политическую карьеру – и все это время совершал зверские убийства. Внешняя привлекательность и общительность помогали ему завоевать доверие жертв и в некоторой степени очаровывать даже профессиональных юристов и правоохранителей – черты хрестоматийного психопата. Некоторые преступники могут перейти за грань расстройств личности – это глубокие стойкие пороки природного темперамента и натуры человека. Расстройства личности, в том числе психопатия, это не измененные состояния сознания и с медицинской точки зрения представляют собой именно расстройства в противоположность психическим болезням. Иногда их можно лечить, но нужны годы интенсивной терапии, а лекарства при них бесполезны.
Вопреки общему размытому ореолу личностных пороков, подавляющее большинство тех, кто совершает жестокие преступления, в том числе серийные убийства и террористические акты, делают это вне контекста подлежащей диагностике, понятной с биологической точки зрения, химически обратимой и исцелимой психической болезни. Точно так же как большинство озлобленных человеконенавистников – религиозные фанатики, фашисты крайне правого толка или тот старикашка по соседству, который отказался возвращать мне футбольный мяч, когда я был маленький, – не страдают психическими расстройствами. Быть экстремистом, как и провокатором, и чудаком, – этого недостаточно.
Судебные психиатры не помогают людям вроде Дилана Руфа и не снижают риск преступлений в будущем, с этой задачей лучше справляются органы уголовного правосудия и надзора за условно осужденными. Мы играем в обследовании таких людей лишь скромную роль – а после этого толку от нас не больше, чем от антисептика для бассейнов человеку, у которого никакого бассейна нет.
Глава четвертая. Побит при исполнении
Одним унылым сырым августовским утром, в понедельник, я приближался к концу основной части своего профессионального обучения. Я только что начал стажировку в качестве старшего врача в полузакрытом отделении специализированной клиники. Экзамены, которых я так боялся, остались позади. Следующей вехой было решить, какой специализации я посвящу ближайший год в качестве врача без квалификационной категории. После недельного вводного курса мне предстоял первый день на передовой. Мне очень хотелось произвести впечатление на коллег, поэтому я отправился в свое отделение, чтобы опросить некоторых больных перед врачебным обходом, который должен был состояться позднее. Я разговаривал с пациентом в уединенной комнате для бесед в углу отделения. Это был грузный молодой человек по имени Деннис, чье преступление – он впал в неистовство и несколько раз ударил брата ножом, поскольку слышал голоса, – не вязалось с его флегматичным видом. К счастью, брат-бодибилдер сумел скрутить Денниса прежде, чем тот успел по-настоящему тяжело его ранить, и ему потребовалось наложить всего десяток-другой швов на руки ниже локтя (воображаю, как неловко ему теперь будет каждое Рождество, если придется изображать Санта-Клауса для детишек). В целях безопасности все комнаты для бесед в отделении были снабжены прочными армированными окнами, чтобы нас было видно. Я заметил, что в окно заглядывает другой больной – высокий юноша, которого я явно заинтересовал. Он все стучал в окно, махал рукой и улыбался. И раз-другой даже дерзко мешал нашей беседе – врывался в дверь и выпаливал какие-то фразы на случайные темы, в основном касающиеся религии.
– Каждый может стать богом, но кто-то должен быть царем всех богов!
Я вежливо выпроваживал его вон.
Миг спустя он сунул голову обратно:
– Я говорю не про всех. Только про праведников.
Он, видимо, был убежден, что мы с ним друзья детства, и расспрашивал меня про крикетный матч, в котором мы якобы играли вместе. Я обращался с ним примерно как с теми, кто собирает деньги «на благотворительность» на улице, вырядившись в желтый жилет. Отворачивался, опускал голову, не обращал внимания.
Моя беседа с Деннисом позволила лишь пройтись по верхам. У меня была масса вопросов, особенно – откуда у Денниса убеждение, что брат телепатически внушал ему сделать татуировку пениса на щеке (психиатрический феномен, известный как «вкладывание мыслей»). Но все это должно было подождать до следующей диагностической беседы, когда у меня будет больше времени. А эта встреча была предназначена только для того, чтобы я представился и составил самое общее представление о психиатрических жалобах Денниса (и, положа руку на сердце, произвел впечатление на нового руководителя практики). Я вышел из комнаты для бесед с самодовольной улыбкой на лице и блокнотом в руках, совершенно не подозревая, что сейчас произойдет. Юноша, который мне мешал, подбежал сзади, сильно ударил меня в висок и удрал. Все произошло так быстро, что я даже не сразу понял, что меня ударили. Просто очутился на полу оглушенный, и в виске у меня пульсировало. Медсестры помогли мне подняться, а нападавший тем временем скрылся в своей палате.
Я был не то чтобы потрясен. Вероятно, потому, что нападение было таким внезапным, у меня не было времени осознать опасность. Но я знал о нескольких своих коллегах, которые серьезно пострадали на работе. Более того, и месяца не прошло с тех пор, как какой-то психотик запер другого старшего врача, женщину, в комнате для бесед, поскольку у него был бред, что она на самом деле сотрудница социальных служб под прикрытием. Он не выпускал ее и требовал рассказать, где сейчас его маленький сын, которого забрали на усыновление. Физического вреда нападавший не причинил, но сотрудникам отделения пришлось больше получаса вести с ним переговоры через окно, прежде чем он все-таки выпустил мою коллегу. С ее головы не упало ни волоска, но последствия травмы не замедлили сказаться. Теперь она каждую неделю брала отгулы из-за стресса, все больше и больше, и восстановление в конечном итоге заняло больше двух месяцев. Было любопытно наблюдать, как коллеги, в том числе и я, мало-помалу утрачивают сочувствие к ней. Нас, старших врачей, кроме нее, было пятеро, и нам приходилось распределить между собой и ее больных, и дежурства – вечерние, ночные и по выходным.
Когда на человека совершают физическое нападение, это может сильно сказаться на всей его жизни, уверенности в себе и профессиональной деятельности – и обычно сказывается. Лично я просто почувствовал себя посмешищем. И для больных, и для сотрудников я перестал быть одним из новых врачей и превратился в нового врача, которого стукнули по голове. Впоследствии оказалось, что ударивший меня юноша страдал шизоаффективным расстройством, и у него был особый бредовый синдром ложного узнавания – так называемый синдром Фреголи, бредовое убеждение, при котором чужие люди кажутся знакомыми. Это и толкнуло пациента на преступление, из-за которого он оказался в больнице: он вошел в первое попавшееся кафе, схватил стул и швырнул его в ничего не подозревающую компанию незнакомых людей, решив, что они – полицейские под прикрытием, те самые, которые арестовали его несколько лет назад. Утром он пришел к убеждению, что я на самом деле его переодетый одноклассник, который когда-то травил его. Я не держу на него зла. С его точки зрения он действовал оправданно. А поскольку через несколько минут после нападения на меня он в целом успокоился, его не пришлось отправлять в изолятор, однако дозу медикаментов ему повысили. Хотя лечил его не я, мне приходилось то и дело сталкиваться с ним в отделении. К чести его надо сказать, что один раз он даже попытался извиниться, но у него было еще и формальное расстройство мышления – это такой симптом психоза, когда мысли текут путано и обрывочно.
– Да-да, доктор. Вы тот с крикета, а не этот, другой. Такого не должно было произойти, но как разобраться, кто играет в крикет, а кто на самом деле бог или нет. Если все мы боги, вам не стоит сердиться на меня.
Думаю, это соображение было главным.
Теперь я, конечно, знаю, что на самом деле мне нужно было, как только я вошел в отделение, сообщить остальным сотрудникам, что я здесь, и спросить, нет ли среди больных возбужденных и непредсказуемых. После того как юноша вторгся в комнату для бесед один-два раза, я должен был прервать беседу с Деннисом и сообщить медсестрам, которые каждый день работали с пациентами. А они гораздо лучше меня знали, нужно ли беспокоиться, если нападавший так сосредоточился на мне.
Хорошо, что опыт позволил мне как следует затвердить эти уроки и со временем выработать инстинкт, который просыпается каждый раз, когда я вхожу в охраняемое отделение. Честно говоря, я мог бы еще тогда догадаться. Я только что прошел вводный курс для новых сотрудников специализированных отделений, где нас целую неделю учили всему, включая стратегии безопасности. Сплошная череда докладов и слайдовых презентаций. А я отвлекался на бесплатные пончики и кофе у дальней стены класса. Между тем мое внимание должно было направляться туда, куда требует врожденное чувство самосохранения, а не забота об уровне сахара, углеводов и кофеина в организме.
Если бы я внимательно слушал, я бы узнал, что в специализированных отделениях меры безопасности распределяются на три категории: безопасность среды/физическая безопасность, социальная безопасность и процедурная безопасность.
Меры физической безопасности – это, в частности, ограда вокруг территории больницы, которая должна быть минимум 5,2 метра высотой и делается из очень частой проволочной сетки, чтобы по ней было невозможно взобраться, а также передать сквозь нее предметы вроде оружия и наркотиков. Все двери в отделении снабжены замками, у главных входов устроены шлюзы – две запертые двери, контролируемые электроникой, так что открываться они могут только по одной, – а в коридоре за ударопрочными пластиковыми или армированными окнами дежурят вахтеры или охранники. Они проверяют сотрудников между дверями, чтобы предотвратить побег каких-нибудь хитрых пациентов. Кроме того, сотрудники носят ключи на цепочке, всегда прикрепленной к ремню. Сплошь и рядом слышишь, как кого-нибудь из обычных сотрудников, которых все знают, отстраняли от дежурства за то, что они пришли на работу без ремня. Это делается для того, чтобы больные не могли схватить ключи и удрать (по крайней мере, без прицепленного к другому концу цепочки человека, который сильно снизит их мобильность и тем самым несколько затруднит весь процесс побега).
Социальная безопасность – это процесс установления доверительных отношений с больными. Чувство товарищества укрепляют не только вежливость, сочувствие и налаженная коммуникация, но и развлечения, устраиваемые прямо в отделении, – от бильярда и общих трапез до дискуссионных групп, где обсуждают свежие газеты. Над подобными встречами надзирают медсестры, поэтому они незаменимы в создании общей атмосферы в отделении.
Процедурная безопасность – это всевозможные протоколы, призванные минимизировать риск. Сюда входит обыск больных при поступлении и после возвращения, если их отпускали домой, регулярные анализы мочи на наркотики и иногда – неожиданные визиты полиции с собаками.
Разумеется, психиатрические отделения для правонарушителей – не то чтобы места, где нападения нужно ждать ежесекундно, но вероятность сохраняется. Частота вспышек насилия и других нежелательных инцидентов (сюда входят угрозы расправы, попытки захватить заложников, нанесение самим себе тяжелых увечий или поджоги) невелика, но сильно колеблется. Кроме того, она зависит от состава больных. Иногда среди пациентов царят относительная гармония и чувство товарищества. А иногда все совсем как в тюрьме – начинаются раздоры от плохо скрытого взаимного раздражения между двумя пациентами или больше, чьи пути когда-то, много лет назад, уже пересекались (до обидного великанская доля тех, кто регулярно попадает в нашу систему), до скандалов из-за состояния, в котором кто-то оставил общую уборную. Я был свидетелем кулачной драки из-за того, кто вчера вечером взял больше положенного, когда все скинулись на доставку еды. Никто не пострадал, но обоим участникам на две недели отложили очередной отпуск домой. Никакая тикка-масала с курицей, даже самая сочная и ароматная, безусловно, такого не стоила.
За время работы я видел, как в отделениях судебной психиатрии создаются клики пациентов, конкурирующих за вожделенное место альфа-самца. Я видел, как этот престол завоевывали и теряли соперники, распространявшие друг о друге сплетни, грозившие друг другу, устраивавшие физические поединки или просто соревнования за популярность. Однако я видел не только агрессию по отношению к сотрудникам, травлю других пациентов и контрабанду наркотиков, но и примеры невероятного сострадания и крепкой дружбы между больными. Видел, как пациенты покупали вкусненькое тем, у кого нет денег. Как пациенты, которые уже идут на поправку, не жалеют времени, чтобы объяснить что-то не таким осведомленным и зачастую нездоровым соседям – например, каковы побочные эффекты тех или иных лекарств или на что можно претендовать по закону о психическом здоровье. Я видел, как создавались многолетние союзы между людьми, оттиснутыми на обочину, людьми, которых сторонились и о которых забыли даже родственники, а уж общество тем более. Денниса, молодого человека, которого я обследовал в то первое утро в отделении судебной психиатрии, перестали отпускать домой после того, как у него был положительный анализ на марихуану. Из-за наркотика к нему вернулись приставучие голоса, которые велели ему нападать на всех подряд. До сих пор он им сопротивлялся, но теперь, очевидно, стал опасным для общества. Один из его соседей, тихий седобородый старичок по имени Шеймас, пошел по просьбе Денниса купить кое-каких мелочей и на свои деньги приобрел ему туалетные принадлежности, огромную шоколадку «Тоблерон» и журнал для бодибилдеров. Я не стал обращать внимания на то, какое это противоречие – покупать одновременно шоколадку промышленных размеров и журнал на такую тему, – и только спросил Шеймаса, почему он пошел на такие траты ради человека, с которым почти не разговаривал и который всего недели две назад угрожал ему.
– Деннис сам не знал, что говорит. Голоса сказали ему, что я нарочно израсходовал всю туалетную бумагу.
– Что ж, очень славно с вашей стороны заботиться о нем.
– Психическая болезнь – жуткая гадость. Я не слышал голосов много лет, но прекрасно все помню. Как привяжутся, так уж не отстанут. Прямо с ума сводят, док.
– Могу лишь представить себе.
– Да и чего на таких обижаться? Вы же не обиделись, когда вас стукнули по башке. – Он подмигнул.
– Ага, спасибо, что напомнили, Шеймас.
– Вы же сестричкам не расскажете?
Вообще-то мы не приветствуем, когда больные покупают что-то друг другу или берут взаймы. Это лишний повод эксплуатировать и травить слабых. Для такого нужно письменное разрешение врача, и все должно происходить под строгим надзором медсестер, а для этого требуется много бумажной работы и очередь. Впрочем, похоже, обойти это оказалось нетрудно.
– Вы не расскажете – и я не расскажу. – Я подмигнул в ответ.
Если бы в 12 лет, когда я был одержим восточными единоборствами после фильма «Малыш-каратист», мне сказали, что пройдет еще 20 лет и единоборства войдут в программу моего обучения, я был бы в полном восторге. Ежегодно судебные психиатры, как и все другие сотрудники подобных отделений, должны проходить «тренинг по контролю и удержанию». В каждой больнице это по-своему, но в одном отделении, где я работал, тренинг занимал каждый год целую неделю. Мы скакали в тренировочных костюмах и кроссовках, а инструкторы учили нас всему от приемов деэскалации до методов самозащиты. Мы учились силой удерживать и перемещать больных, причиняя им минимальный ущерб, при помощи серии захватов и блоков. Этот курс вызывал у меня смешанные чувства. Поскольку я циник от природы, я сразу сообразил, что тренинг оплачивает больница, а значит, если попытаться подать на нее в суд за травму на рабочем месте, руководство скажет: «А мы, между прочим, сделали что могли». Вдобавок в ту долю секунды, когда пышущий гневом больной с историей насильственных преступлений слышит голоса и подается к тебе со сжатыми кулаками и надо решить, что делать, бить или бежать, все приемы забудутся, как бы прекрасно ты их ни натренировал.
Меня часто спрашивают, чувствую ли я себя в безопасности при моей специальности. Да – практически все время. Обвиняемые, которых я веду в тюрьме или в суде, как правило, ведут себя хорошо, как только могут, они знают, что я пишу заключение, которое будет приобщено к материалам суда, поэтому в их интересах произвести хорошее впечатление. Исключение – те, кого система уголовного правосудия приводит в такое бешенство, что они обливают презрением любого ее представителя. Либо психически больные настолько, что уже не контролируют свои действия.
А вот больные, которые уже содержатся в психиатрических отделениях, – это тихий омут совсем с другими чертями. И в тюрьмах, и на суде обвиняемым нужно держать себя в руках всего час-другой во время обследования, но если они угодили в больницу, их поведение годами рассматривают под микроскопом. Они еще могут уступить требованиям судебного психиатра, поскольку именно он решает, можно ли отпустить их домой, а в конце концов и выписать. Те, у кого часто случаются вспышки, обычно недовольны установленными ограничениями (например, тем, что их отказались отпускать домой или запретили посещать групповые занятия из-за недавних эпизодов насилия), а также в случаях, когда анализ на наркотики оказывается положительным или после ссоры с другими больными. И не будем забывать, что яркие симптомы психических болезней, которые невозможно скрыть, тоже провоцируют насилие.
Опасность моей работы на самом деле сводится к статистическим играм. Даже если 95 процентов тех, кого я обследую, содержатся под стражей, я могу за одну рабочую смену побеседовать с двумя-тремя обвиняемыми в суде и опросить до десятка в тюремной больнице, а в отделении у меня 18 пациентов. Если я работаю с группой больных, которая была признана группой особо высокого риска, с историей насильственных нападений, рано или поздно произойдет взрыв. Словесные оскорбления и угрозы распространены гораздо больше, чем физическое насилие. Некоторые мои пациенты выросли в районах, где решать конфликты принято именно так. Я стараюсь не принимать это на свой счет. Рабочий день окончится, и я выйду за порог лечебного заведения, где произошла стычка, и вернусь домой к родным (и к своему драгоценному автомату для игры в «Street Fighter II»). А они – нет.
Помимо достопамятного удара по голове, были и другие крайне неприятные моменты, в том числе когда меня удерживали в заложниках во время обхода. Я был не из тех заложников, за которых требуют выкуп и которых освобождают с участием вертолета и полицейского переговорщика с рупором. Нет. Это произошло в 2012 году, через целых два года после того, как меня ударили по голове, примерно на полдороге к должности врача без квалификационной категории. Я работал в судебно-психиатрическом отделении на востоке Лондона, и среди моих больных был Джонни Бенсон, мускулистый от природы детина под два метра ростом, страдавший психотическим расстройством, который когда-то был полупрофессиональным борцом – так себе зрелище. Он попал к нам, когда его обвинили в изнасиловании одной женщины в наркопритоне, хотя потом обвинения сняли. Ему совсем недавно повысили дозы лекарств, и во время обхода он был особенно склонен к паранойе и дезориентирован. Ему сообщили дурную новость, его брат умер от рака, и его состояние мгновенно ухудшилось, что естественно при такой хрупкой психике. Из-за помутнения рассудка Джонни сочинил бредовую историю о том, что сотрудники больницы, должно быть, отравили его брата канцерогенами. Он стоял перед дверью в боевой стойке, перегородив выход, и допрашивал каждого сотрудника по очереди, осыпая его угрозами и оскорблениями. Нам уже несколько раз удавалось ненадолго успокоить его. Тогда он начинал извиняться, сам себе поражаясь. Но я видел, как в считанные секунды в его дезориентированной психике нагнетаются напряжение и ярость и просачиваются наружу в виде гримас – и вот он снова принимается бушевать. А поскольку я только что пришел на работу в это отделение, это была наша с Джонни первая встреча. Помню, как сильно я сомневался, стоит ли мне вообще пытаться его успокаивать. Может быть, если к нему обратится незнакомый человек, он еще сильнее заведется. Может быть, это только усугубит паранойю и дезориентацию. В конце концов я не стал обращаться к нему прямо, а встал, небрежно перешел через комнату, плеснул себе лимонада в пластиковый стаканчик и предложил и Джонни. Он взял стаканчик и поблагодарил меня, ненадолго отвлекшись от бушевавшей внутри бури. Весь этот кошмар длился целый час. Социальный работник из нашей группы, решив, что другого выхода нет, нажал тревожную кнопку и вызвал бригаду быстрого реагирования – а она прибыла, скрутила Джонни и уговорила уйти в изолятор. Он согласился, хотя и был растерян и распален. К счастью, в тот день нам не пришлось выяснять, чего стоят наши ежегодные недельные тренинги по приемам контроля и удержания по сравнению с десятилетиями опыта ежедневных тренировок по смешанным единоборствам у Джонни. Я-то знаю, на кого поставил бы свои денежки.
Я начал понимать, что избранная профессия пробуждает самые неистовые эмоции. Пожалуй, сильнее, чем любая другая область медицины. Сострадание к Фриде Милликен, потерявшей сына, восхищение великодушием Шеймаса к Деннису и, мягко говоря, волнение, вызванное леденящими душу выходками Джонни, оставили в моей душе глубокий след. Однако один из самых трагических случаев в моей карьере, от которого у меня до сих пор ноет сердце, был еще впереди.
Глава пятая. В тихом омуте
Я постоянно вспоминаю свой первый день в Олд-Бейли. И от этих воспоминаний – о ветре, о том, как я нервно расхаживал перед зданием суда, от сигарет, от пышности, от мраморных колонн, от латинских надписей – у меня кружится голова. Для мисс Ясмин Хан это был суд по делу об убийстве; для меня – испытание огнем.
Мне было едва за 30, я был скромным врачом без квалификационной категории, средней руки психиатром, выпустившимся из медицинской школы восемь лет назад, но еще в самом начале трехлетнего последипломного образования, после которого мне предстояло превратиться из куколки в бабочку – в полностью сформировавшегося консультанта по судебной психиатрии.
Кроме того, я совсем недавно женился на Ризме, очень красивой, смешной и хитрой учительнице психологии в старших классах, которая к тому же прекрасно знает кинематограф (на чем я нагло паразитировал несколько раз за эти годы, чтобы выигрывать во всяких викторинах). Через несколько месяцев она призналась мне, что во время нашей первой встречи на вечеринке в Центральном Лондоне не поверила, что я врач – сигарета, золотой зуб и неряшливая мешковатая толстовка в черно-белую клетку сбили ее с толку. Когда она все же убедилась, что я не вру (должен отметить, не с моих слов, а наведя справки у кое-каких общих знакомых), то согласилась снова увидеться со мной по одной-единственной причине: она хотела уговорить меня выступить перед ее учениками и рассказать о профессии психиатра, что я и сделал – и с тех пор выступаю в ее школе каждый год. Роман наш развивался относительно быстро, и не прошло и двух лет, как мы поженились, обогнав в очереди многих моих особо стойких университетских друзей, которые состояли в прочных парах больше 10 лет (уверен, кое-кого из них мы подтолкнули к тому, чтобы поскорее сделать предложение). Наша свадьба стала одной из множества в 2011 году – этот год был один из моих любимых, поскольку тогда было заключено множество союзов, скрепленных священными узами, а главное – отгремело множество мальчишников. Наша свадьба выделялась из общего ряда музыкальным сюрпризом – у нас выступал «Индийский Элвис», двойник Короля рок-н-ролла, который вполне мог потягаться эксцентричностью и со мной, и с Ризмой. Помнится, чтобы нанять его, мне пришлось наврать с три короба про нашу любовь к Элвису.
Хотя в самом Олд-Бейли я еще не бывал, мне несколько раз довелось наблюдать, как мои прежние начальники дают показания в других уголовных судах, не таких грандиозных, где явно недоставало латыни. Кроме того, я практиковался с другими младшими врачами несколько раз, когда у нас были назначены обучающие сессии и была моя очередь. Но во время суда над Ясмин я оказался за кафедрой свидетеля всего примерно в четвертый раз.
Ясмин была начитанная 18-летняя школьница с незапятнанным прошлым. Никакой истории правонарушений, антиобщественных поступков, даже в детстве она не доставляла никаких хлопот. Насколько я мог судить по всевозможным отчетам, она была, по-видимому, куда менее трудным подростком, чем я сам. Робкая, стеснительная, всего одна-две близкие подруги. На арену школьной жизни ее допускали, но она пряталась за спинами других. По словам учителей, учить ее, тихую и прилежную, было одно удовольствие. По-видимому, Ясмин никогда не употребляла ни алкоголь, ни наркотики. Она была одна из четырех детей в семье, ее родители-иммигранты работали до седьмого пота в семейной сети газетных киосков, а детей изо всех сил толкали в сторону высшего образования. Сплоченный, но изолированный от внешнего мира семейный круг. Ясмин работала волонтером в местной больнице, чтобы легче было поступить в медицинскую школу, куда она недавно подала документы. Все это отличало ее от моей обычной клиентуры. Прошлое многих моих пациентов – гремучая смесь из нищеты, педагогической запущенности, насыщенного криминального прошлого и наркомании. Очень даже запятнанное прошлое.
Согласно свидетельским показаниям соседей и допросам членов семьи, в последнее время перед убийством, совершенным весной 2012 года, Ясмин вела себя нехарактерно. Скажем, она упрекала родных за то, что те смотрят по телевизору «срамоту» (хотя они заверили меня, что это был тот же комедийный сериал, который они смотрели вместе уже много лет), слушала странную инструментальную музыку для флейты (вместо любимой Майли Сайрус), распевала какие-то мантры и делала странные замечания (что она видит собственную душу, а небо нарисовано на очень высоком потолке). Явно необычно, но едва ли предвещает убийство.
Теперь, задним числом, я уверен, что это поведение было продромальным периодом психоза – обычно он длится один-два месяца, и у некоторых при этом меняются чувства, мысли, восприятие и поведение и лишь потом появляются яркие психотические симптомы вроде галлюцинаций или бреда. Продром я считал закуской перед основным блюдом безумия.
В одном доме с большой семьей жил старший брат Ясмин, инженер-программист, с женой и сыном Сонни. До того рокового дня Ясмин оставалась с двухлетним Сонни много раз. В то утро свидетели видели, как она хлопает в ладоши, поет и в полный голос читает мантры перед окном своей комнаты на шестом этаже, выходившим в общий двор их жилого комплекса. Она шепнула на ухо младшей сестре, что видит ангелов в облаках, а та в ответ только скривилась. Остальные члены семьи ушли в школу и на работу, а у Ясмин не было двух первых уроков, и она осталась посидеть с маленьким Сонни.
Через несколько часов мать вернулась из газетного киоска и сначала решила, что Сонни спит. Лишь через полчаса она обнаружила, что его не разбудить. Когда приехала полиция, Ясмин словно бы удивилась, что все подняли такой шум, и потребовала, чтобы все «прошли маршем в Парламент, чтобы арестовать коррупционеров, и наполнили улицы любовью и благочестием вместо наркотиков». Она заверила полицию, что душила Сонни подушкой, только чтобы изгнать демонов, и твердила, что он «проснется небывало полным сил, едва снова взойдет полная луна». Когда ей возражали, она небрежно отвечала: «Сами увидите – и тогда почувствуете себя очень глупо».
Примчались родители Сонни, и разразилась буря. Их крики эхом отдавалось во дворе, отчего пульсирующая толпа только разбухла. Внешне Ясмин оставалась спокойной. «Жутко-безмятежная», как сказал мне ее брат несколько месяцев спустя. Она все уверяла толпу, которая все больше ярилась, что все будет прекрасно, надо только всем «набраться смелости и поверить в ангелов».
Под стражей Ясмин начала вести себя странно – ела бумажные салфетки, вызывала у себя рвоту, мочилась в белье. Полицейские встревожились, и начались разговоры о том, чтобы вызвать психиатра, хотя это вызывало возражения. Многие полицейские не хотели, чтобы Ясмин «получила билет на волю». Поэтому решено было отправить ее в тюрьму Холлоуэй.
Некоторое время Ясмин гнила за решеткой. Она почти не разговаривала с полицейскими и игнорировала других заключенных. Отказывалась видеться с родными и днями напролет складывала оригами и вырывала из журналов страницы с фотографиями маленьких детей. Да, это странное поведение, но оно, по крайней мере на сторонний взгляд, не указывало ни на цветущий психоз, ни на сильнейшую паранойю, которую Ясмин проявила в дальнейшем. Она прошла под радарами надзирателей, которые, похоже, приняли нежелание сотрудничать и замкнутость за угрызения совести и стремление юной девушки изолироваться от всех, терзаясь чувством вины за свое ужасное преступление.
Тюрьма – место, где всегда все вверх дном, поэтому сильнейшие вспышки тревожного возбуждения встречаются сплошь и рядом, и вызывает их что угодно – ссоры, взаимная неприязнь, борьба группировок, травля, контрабандные наркотики, не говоря уже о психических расстройствах. Помимо длинной очереди из душевнобольных заключенных, которых необходимо перевести в специализированные судебно-психиатрические клиники на принудительное лечение, есть и такие, которые решили попытать удачу и симулировать или преувеличить психические отклонения в надежде, что их отправят в больницу или пропишут лекарства, от которых можно словить кайф. Добавьте сюда скудный бюджет и трудности с набором персонала – и станет ясно, что большинство сотрудников внутренней психиатрической службы (в которую входят обычно судебные психиатры, медсестры и психологи) тащат на себе вечный неподъемный груз из множества пациентов. А замкнутые незаметные психотики вроде Ясмин – слабое звено, тот самый лежачий камень, под который, как говорится, вода не течет. Это отчасти объясняет, почему ушло так много времени, прежде чем ее все-таки направили в женское полузакрытое психиатрическое отделение, где я тогда работал.
Когда я вошел в тюремные ворота, чтобы познакомиться с Ясмин, моя уверенность в себе поколебалась. Я хотел доказать начальнику, что могу выдержать давление, но тяжесть этого преступления пробудила во мне мелочные тревоги. Ведь в деле об убийстве нет места разгильдяйству. Вдруг я что-то просмотрел? Постояв в очереди и пройдя досмотр, как в аэропорту, с участием собак-ищеек, я очутился в зале для свиданий, где сидел и глядел в потолок. Я вообще плохо умею ждать, особенно когда совсем нечем заняться. Все, что надзиратели сочли ненужным – книги, даже стакан кофе, не говоря уже о телефоне, – пришлось оставить за воротами тюрьмы, чтобы снизить вероятность контрабанды. Единственным моим развлечением были нравоучительные плакаты для заключенных, к которым я с тех пор успел привыкнуть («Спайсы – нелегально, нездорово, недостойно!») Зал был неожиданно просторным, с люминесцентно-голубыми пластиковыми стульями и серыми пластиковыми столами. Вся мебель была привинчена к полу на случай, если беседы во время свиданий примут излишне драматический оборот. В углу лежал никому не нужный ярко-зеленый коврик и пластмассовые кубики флуоресцентных цветов, почему-то нагнетавшие особенное уныние. Огромный зал, полный заключенных, их родственников и адвокатов, и кто есть кто, сразу понятно по одежде, позе и степени нахмуренности. Время шло. Где же она? Когда после назначенного времени свидания прошло полчаса, надзирательница сжалилась надо мной. Навела какие-то справки по рации, а потом провела меня по длинным извилистым коридорам главного здания тюрьмы сквозь череду массивных ворот и дверей, мимо множества таращившихся на меня заключенных – одни с любопытством, другие с подозрением, третьи в попытках пометить территорию при помощи зрительного контакта. Надзирательница провела меня к камере Ясмин, открыла дверь и осталась ждать снаружи. Мне уже приходилось обследовать тех, кто совершал преступные нападения, но встреча с Ясмин стала для меня первой личной беседой с настоящей убийцей. У меня расшалилось воображение – и это было несправедливо по отношению к Ясмин и говорило о предвзятости. Я ждал увидеть что-то вроде сцены из фильма ужасов. Думал, что увижу растрепанную замарашку и что она, наверное, жмется в углу, прикрывая голову руками. А у Ясмин были длинные темные волосы, заплетенные в аккуратные косы, которые обрамляли ничем не примечательное лицо. Брови были беспощадно выщипаны. Ясмин пересела на край постели. Выпрямилась. Как будто это она должна была меня допрашивать. Самым странным в ней была улыбка. Как нарисованная. Фарфоровая.
Ясмин сказала, что забыла, что у нас была назначена встреча, хотя я отнесся к этому скептически, предположив, что у нее не слишком плотное расписание. На протяжении всей беседы она поддерживала полную видимость нормальности. Наотрез отрицала странности в своем поведении в последнее время перед смертью племянника, о которых говорили свидетели (мой гипотетический продром), и утверждала, что сам эпизод начисто выпал из ее памяти.
Ответы казались такими же фальшивыми, как и улыбка. Ясмин отрицала даже свои странные занятия в тюрьме, хотя под раковиной виднелась целая гора оригами. Пациентка держалась настороженно, отвечала уклончиво, но старалась произвести приятное впечатление. Я попытался наладить с ней раппорт при помощи безобидных отвлекающих вопросов о ее происхождении и школьной жизни, прежде чем затрагивать те или иные аспекты психических болезней. Ответы были пассивно-агрессивными: «Я же уже говорила, я ничего не помню» и «Доктор, честное слово, я не понимаю, какое это имеет отношение к делу».
Мне так и не удалось откопать в ней хоть какую-то психопатологию, чтобы составить картину психиатрического диагноза. Кровь. Скала. «Жутко-безмятежная» – идеально подмечено.
Я вышел из тюрьмы – снова запертые двери, очереди и подозрительные взгляды. По пути домой в тот день мне было нехорошо, и дело не в тряске и волнах телесных ароматов в лондонской подземке. Задача не сходилась. Заявление в полиции, что ее племянник проснется в следующее полнолуние. Демоны и ангелы. Прочие ненормальные поступки дома, в полиции, в тюрьме. Само убийство – кошмарное и случайное. Обиженное безразличие во время обследования. Во мне вскипали сомнения. Неужели я не мог вытащить из нее больше информации? Может быть, в моем подходе было что-то такое, отчего она оттолкнула меня? Может быть, стоило пойти на конфронтацию? Или не вести таких задушевных разговоров? Во мне выли тревожные сирены. Одна юная жизнь уже потеряна, другая лежит на плахе. Если Ясмин признают виновной в убийстве, это автоматически влечет за собой пожизненный приговор. Несмотря на сопротивление Ясмин, если есть хоть какой-то шанс, что ее действия, даже самые неудобоваримые, были вызваны психической болезнью и она не виновна, она заслуживает всестороннего психиатрического обследования. А главное, если есть хоть какой-то шанс, что ее можно вылечить и минимизировать риск, что она еще когда-нибудь прибегнет к насилию, значит, она достойна этого шанса.
Я запросил ордер в министерстве юстиции и добился, чтобы Ясмин перевели к нам в отделение на основании раздела о преступлениях в законе об охране психического здоровья. Слушание дела было отложено, чтобы дать нашим сотрудникам время поработать с ней. Полтора месяца. Потом мне предстояло давать показания в Олд-Бейли. Сущий миг в мире безжалостной психической болезни.
И сам я, и все мои коллеги из психиатрического отделения тщательно обследовали Ясмин. Уже недели через две мы пришли к убеждению, что за маской здравого ума таится что-то нехорошее. Обычно лицо у нее было каменное, а движения механические, но на вопросы о настроении она неизменно отвечала, что «счастлива, очень счастлива. У меня в душе полный покой». Все это было неконгруэнтно – не все знают, что это термин не только из математики, но и из психиатрии. Кроме того, иногда Ясмин проговаривалась – спрашивала медсестер, как очиститься от злого духа, а у меня просила всю доступную научную литературу по реинкарнации. Потом она все отрицала или утверждала, что это неважно.
Сначала Ясмин отказалась принимать оральные антипсихотики. С ее точки зрения в этом был смысл – она не считала, что психически нездорова. Такая неспособность признать положение вещей при психозе очень распространена и объясняет, почему многие больные, в том числе Стиви Макгрю, тот самый шотландец, который грозил расправой Бюро консультации населения, в дальнейшем перестают принимать лекарства. Но по мере того как приближались следующие слушания, отказ Ясмин от медикаментов становился проблемой. Сможем ли мы постепенно убедить ее попробовать таблетки, если не спеша выстроим терапевтические отношения? Или придется закусить удила и воспользоваться своим правом по закону об охране душевного здоровья делать ей уколы против ее воли? Несмотря на все мои старания, она так и не поняла, что больна. Но у всего есть обратная сторона: зато я понял, что дар убеждения у меня так себе.
В конце концов мы обездвижили Ясмин и сделали ей инъекцию антипсихотика в депонированной форме – так называемое «депо». Это, можно сказать, авторское «мы»: лекарство прописывает врач-психиатр, но вся грязная работа возлагается на медсестер. Ясмин нуждалась в уколе каждые две недели. В первый раз не обошлось без визга и дрыганья ногами. И сегодня необходимость смотреть, как моих пациентов насильно укладывают и колют иголками – одна из самых тягостных сторон моей работы. Но это во многом необходимое зло. После второй дозы Ясмин стала более послушной. К величайшему облегчению всех заинтересованных лиц, она даже согласилась принимать таблетки – ежедневно. Мы были вынуждены следить, как Ясмин глотает таблетки, запивая водой, и после этого проверять, что у нее во рту, попросив ее высунуть язык. Так бывает с большинством больных, когда мы приступаем к новому режиму медикаментозного лечения.
Через две-три недели приема медикаментов Ясмин начала немного раскрываться. Те редкие моменты, когда мы могли заглянуть в ее психику, давали представление, каковы были мыслительные процессы и психиатрические симптомы, когда она совершала свое кошмарное злодеяние. Разговоры с родственниками подтвердили, что у нее бывали странные убеждения. Я несколько раз беседовал с ее братом, который очень сочувствовал нам и стремился помочь, при том что сам был совершенно раздавлен и не мог поверить в случившееся. Помню, как во время разговоров с ним я не знал, как вести себя, и боялся, что мой тон покажется покровительственным. Невольно анализировал свои слова, интонации, даже выражение лица. Пытался внушить надежду на будущее для его сестры и выразить глубочайшее соболезнования в связи со смертью сына – но при этом пытался быть или притвориться непоколебимым профессионалом, который должен знать, что теперь будет. А на самом деле мне в основном было безумно жаль этого парня.
Перед судом над Ясмин я составил самый подробный отчет, который должен был использоваться в качестве официальных показаний. Он потянул аж на 60 листов формата А4 – до этого я не писал настолько длинных заключений. Я сделал упор на диагноз шизоаффективного расстройства. При этой психической болезни наблюдается сочетание симптомов шизофрении – галлюцинаций и бреда – и симптомов расстройств настроения – депрессии и мании. Худшее от обоих.
Я рекомендовал суду вынести оправдательный приговор в силу невменяемости – то есть опереться на заявление пациентки о собственной невменяемости и вынести «специальный вердикт». Эта процедура определяется правилом Макнотена, названного в честь Дэниела Макнотена, который страдал параноидным бредом и 20 января 1843 года попытался убить премьер-министра Роберта Пиля, но случайно застрелил его личного секретаря, стоявшего позади. Согласно этому правилу, можно строить защиту на невменяемости, если во время совершения деяния у обвиняемого наличествовали:
(а) «нарушение суждений», вызванное психической болезнью,
(б) психическое расстройство достигало такой степени, что обвиняемый не может нести ответственность за вменяемое ему деяние по причине того, что
– ответчик не осознавал фактический характер и значение своих действий либо
– не понимал их общественной опасности.
Несмотря на скрытность Ясмин, все объективные данные, которые я смог собрать, говорили, что в момент события на основе принципа большей вероятности (то есть скорее да, чем нет) у Ясмин было помутнение рассудка, вызванное психической болезнью; поскольку у нее было шизоаффективное расстройство, она действовала на основании бредового убеждения, что в ее племянника вселились демоны и она должна изгнать их, чтобы спасти его. Кроме того, она верила, что сможет в дальнейшем воскресить его, задействовав силу полной луны. Вдобавок расстройство приводило к подъему настроения, что растормаживало ее мышление и поведение, а значит, снижало способность предвидеть последствия своих действий. Я высказал мнение, что хотя она, вероятно, осознавала природу и качество своего деяния (то есть понимала, что она душит племянника), на основе принципа большей вероятности она не понимала, что это деяние незаконно (и, более того, аморально).
На случай, если суд отвергнет эту линию защиты, у меня был припасен план Б. Ограниченная вменяемость – это частичная защита на психиатрических основаниях, которая не снимает обвинение полностью, но позволяет снизить тяжесть преступления, переквалифицировав убийство в непредумышленное убийство: по первому обвинению полагается пожизненное заключение, а решение по второму полностью зависит от судьи. Медико-юридические критерии этой защиты не такие, как у правила Макнотена, но и требуемые улики и свидетельские показания, и возможная аргументация во многом совпадают.
Кто-нибудь, вероятно, примется укоризненно грозить мне пальцем. И недаром. Все-таки Ясмин убила невинного двухлетнего мальчика. И грозить мне пальцем будут, безусловно, не в первый раз. Я обсуждал и это, и другие подобные дела с другими (сделав всех причастных полностью анонимными, на случай, если Генеральный медицинский совет заинтересуется). Близкие друзья, один родственник и даже один коллега-врач сказали мне, что преступнице «сошло с рук убийство» (а я, следовательно, сообщник). В сторону замечу, что не так давно один парикмахер, который спросил, кто я по профессии, в полном ужасе заявил, что преступники не заслуживают реабилитации – а особенно сумасшедшие преступники. Он сказал – цитирую буквально: «Их нужно запереть под замок, а ключ выбросить». Я мог бы соврать, что стал возражать и доказывать, что иногда психическая болезнь смягчает наказание. Уверять, что шанс на реабилитацию и искупление должен быть у всех. Но этот человек стриг меня и сделал только полдела, поэтому я просто пожал плечами.
Чтобы успокоить сомневающихся, поясню, что «оправдательный приговор в силу невменяемости», строго говоря, избавляет подсудимого от ответственности перед законом, но не означает, что для него все обойдется без последствий. Иногда, если преступление незначительно, суд может оправдать его полностью. Особенно если правонарушение едва ли повторится, а подсудимый в дальнейшем вернется в стабильную обстановку, где ему будут помогать, например, в учреждение проживания с уходом. Но чаще, особенно если преступление относится к серьезным или сохраняется риск рецидива, ссылка на невменяемость приводит к тому, что подсудимый оказывается в психиатрической больнице на неопределенное время. В случае Ясмин это означало, что она вернется в то же самое женское полузакрытое психиатрическое отделение, чтобы продолжить лечение и реабилитацию. Третий вариант – если тяжесть преступления по модели Златовласки не слишком велика и не слишком мала, тогда обвиняемого возвращают в общество под надзор и за ним постоянно наблюдает профессионал, например сотрудник службы пробации.
Я скрупулезно составил отчет, понимая, что мои слова сильно повлияют на решение суда, как поступить с Ясмин – проведет она всю жизнь в заключении или много лет в больнице. Я рекомендовал суду отдать «распоряжение о принудительном лечении в психиатрическом стационаре» – еще одна уголовная статья в законе об охране психического здоровья (статья 37), – а также дополнительное «распоряжение об особых ограничениях» (статья 41). Это для высших эшелонов задержанных из группы особого риска. В таких случаях министерство юстиции разделяет ответственность по принятию решений с судебным психиатром-консультантом, который отвечает за лечение пациента в больнице. Обычно психиатр принимает независимое решение, когда можно ненадолго отпустить пациента домой и когда можно считать, что лечения и реабилитации было уже достаточно и его можно наконец выписать. Но пока действует распоряжение об особых ограничениях, министерство юстиции должно дать одобрение на все подобные вехи. Кроме того, министерство отслеживает дальнейшую судьбу всех пациентов после выписки из больницы.
В противоположность расхожим представлениям, принудительное лечение в специализированной психиатрической клинике – отнюдь не увеселительная прогулка. Срок тюремного заключения в большинстве случаев конечен и предопределен. А пребывание в любой из наших клиник длится столько, сколько сочтет нужным судебный психиатр-консультант (а в вышеуказанных случаях – министерство юстиции), чтобы снизить риск для больного и общества. Это может занять годы и даже десятилетия, если болезнь плохо поддается лечению, пациент отказывается от медикаментов, нарушает правила, ведет себя в клинике агрессивно, не участвует в терапии или плохо чистит зубы (шучу), поэтому пребывание в больнице может оказаться даже более длительным, чем тюремный срок, полагающийся за изначальное преступление.
Безусловно, между принудительным лечением в специализированной клинике и тюрьмой есть много общего: стигматизация, ограниченный рацион, несвобода, запертые двери, строгий режим, контрабанда наркотиков и временами – насилие. Но больница – это среда для исцеления и реабилитации. Когда-нибудь больного выпишут, а когда именно – зависит от его послушания, и это очень мощный стимул, хотя угроза пожизненной госпитализации, не сомневаюсь, работает скорее по-кнутовому, а не по-пряничному. Кроме того, пациенты должны получить общее или профессиональное образование, чтобы подготовиться к жизни после выписки. В какой-то степени это делается и в тюрьмах. Но там это не обязательно и не влияет непосредственно на срок пребывания человека под стражей (кроме самых длительных сроков, когда заключенный должен подавать прошение об УДО).
Пока я в тот ветреный день потел и запинался, излагая свои показания в Олд-Бейли, несмотря на подлую тактику барристера со стороны обвинения и старания подорвать доверие ко мне, судья согласился с моей рекомендацией оправдать Ясмин на основании невменяемости и госпитализировать ее, отдав распоряжения о принудительном лечении в психиатрическом стационаре и об особых ограничениях. Я был уверен, что длительное тюремное заключение никогда не позволит Ясмин вернуться к норме. Возможно, мое поведение за кафедрой свидетеля произвело должное впечатление, но я совершенно уверен, что еще более важную роль сыграли обстоятельства – вежливая воспитанная девушка с незапятнанной репутацией, сплоченная семья, готовая простить ее, психоз, который настиг ее, словно цунами, и совершенно необъяснимое преступление.
В больнице Ясмин и в самом деле сумела вылечиться, но, увы, наблюдать это преображение полностью мне не довелось. К великой моей досаде, через два-три месяца после суда я окончил практику в женском полузакрытом психиатрическом отделении и был вынужден вернуться к конвейеру повышения квалификации. Однако я сохранял контакт с лечащими врачами Ясмин и узнал, что после года медикаментозного лечения и психотерапии психотическая маска стала еще заметнее. У Ясмин проявилась целая батарея параноидных бредовых идей, свидетельствующих о мании величия, которые она скрывала, опасаясь (не без оснований), что ее сочтут сумасшедшей. Она рассказывала, что дома видела тайные послания Бога в узоре на занавесках, в тюрьме – в пятнах на стене камеры, а затем – в рисунке ковра в отделении. Она была совершенно убеждена, что она ангел, способный очищать души и переселять их в новые тела. Однако лекарства помогли ослабить эти убеждения. Ясмин начала замечать в них логические недочеты, потом у нее возникли сомнения – и в конце концов она от них отказалась.
Исчезновение симптомов стало для Ясмин лишь началом реабилитации. Понимание всей кошмарности совершенного злодеяния постепенно просачивалось в ее сознание, а с ним накатывала неизбежная глубокая, мрачная, коварная депрессия. Это потребовало как медикаментозного лечения, так и когнитивно-поведенческой терапии со штатным психологом. Кроме того, на первый план вышла семейная терапия – постепенное восстановление связей с родственниками в контролируемом наблюдаемом пространстве. Брат Ясмин, отец Сонни, не только простил ее, но и очень поддерживал и всеми силами участвовал в лечении.
Опыт Олд-Бейли многому научил меня: я узнал обо всех хитростях судебной медицины, столкнулся с жестокими стратегиями барристеров, научился им противодействовать. Дело Ясмин стало бесценной возможностью усовершенствоваться в профессии на том этапе моей карьеры. Мне дали поработать независимо, позволили составить собственное мнение относительно психиатрической линии защиты и распоряжения об особых ограничениях, разрешили лично давать показания в Олд-Бейли.
Но главное – я узнал, как дорого обходится людям насилие, вызванное психической болезнью. Раньше я много читал об этом в учебниках и журналах, слушал на лекциях и конференциях, но не чувствовал, пока не поговорил с замкнутой параноидной 18-летней девушкой, которая отказывалась признавать, что совершила. Пока не посидел рядом с ее братом, когда мы оба пытались найти смысл в ее бессмысленном поступке. С тех пор я как судебный психиатр много раз сталкивался с трагедиями. Но в поступке Ясмин было что-то очень нутряное. Что может быть катастрофичнее гибели беззащитного ребенка? К тому же от рук родственницы, которая должна была заботиться о нем. Кроме того, это заставило меня задуматься о невероятном запасе великодушия у брата Ясмин и остальных ее родственников. Сумел бы я простить такое? Тогда я этого не знал. С тех пор у меня родилось двое детей – и я по-прежнему не знаю.
Психоз очень редко бывает настолько внезапным. И еще реже приводит к таким тяжким последствиям. Но все же бывает и все же приводит. Я уже представлял себе устройство системы, которая находит подобные иголки психической болезни в перепутанном стоге сена, состоящего из убийц и прочих преступников. Но дело Ясмин показало мне, почему нам не обойтись без этой системы. Оно заставило меня мучительно осознать, каким тонким должно быть равновесие между лечением и правосудием и как невероятно сложны связанные с этим этические вопросы. Нужно привести необходимость защитить и вылечить психически больного правонарушителя в соответствие с потребностью добиться правосудия ради жертвы.
Глава шестая. Злодей или безумец?
Мистер Реджи Уоллес лечился в мужском полузакрытом отделении той же специализированной клиники на севере Лондона, что и Ясмин, примерно тогда же – с конца 2012 года приблизительно до 2014 года. За ним числился длинный список правонарушений. До того длинный, что секретарю суда пришлось пересылать мне материалы дела по электронной почте, разбив их на три файла. Ничего хорошего это не предвещало. Больше сотни преступлений по 72 обвинениям. Не то чтобы рекорд, я видел списки и подлиннее, но все же внушает уважение.
Это была пестрая смесь разного рода грехов перед законом: Реджи нарушал правила дорожного движения, был виновен во множестве нападений, более 10 раз привлекался за хранение наркотиков (марихуана, кокаин, героин). В число более зрелищных преступлений Реджи входило похищение человека, которого он держал в плену четыре дня и пытал – прижигал сигаретами, резал ножом и мочился на его раны. Подозреваю, что жертвой был конкурент Реджи, наркодилер, но он, конечно, не стал признаваться в этом на допросе в полиции.
Когда я рассказываю о Ясмин Хан, большинство проникается к ней сочувствием – кроме разве что моего парикмахера. Мы понимаем, что убить племянника ее непосредственно побудили симптомы психической болезни. В прошлом она не совершала никакого насилия, никаких преступлений. Она не была склонна к антиобщественным поступкам и агрессии ни до, ни после того случая. Она была безумной, но не злодейкой. Все просто.
А Реджи был полной противоположностью. Наркодилер родом из Ганы, проживавший на юге Лондона, лет 45. Двухметрового роста, с татуировкой на лице (роза – в чем есть некоторый парадокс), сложенный будто кирпичный общественный туалет, Реджи был не из тех, с кем хочется встретиться в темном переулке. У него была давняя история правонарушений – в 11 лет его арестовывали за магазинное воровство, а в 16, по слухам, он сломал учительнице нос деревянной щеткой для стирания с меловой доски. Кстати, сын моего друга, которому тогда было семь, как-то раз услышал, как я рассказываю об этом деле за барбекю, и спросил, что такое мел. Я ответил: «До изобретения интерактивных досок учителя писали на черных плитках сланца палочками из прессованной белой или цветной пыли, которые изобрели еще первобытные люди».
Первая встреча со службами охраны психического здоровья состоялась у Реджи, когда он сидел в тюрьме Пентонвилл за попытку изнасилования сводной сестры. По отчетам органов надзора, он заманивал в свой притон наркоманок, вынуждал их покупать крэк и героин в долг, а потом заставлял отрабатывать в качестве секс-рабынь для него и его банды. Сводная сестра отказалась. Были подозрения, что многие другие женщины, более беззащитные, соглашались на такой уговор, хотя и не спешили заявлять в полицию.
В тюрьме решили, что у Реджи паранойя. Он был убежден, что другие заключенные из конкурирующих банд с юга Лондона сговорились зарезать его. Это как раз было вполне правдоподобно. Но клиническая картина изменилась, когда он пришел к убеждению, что заключенные, охрана и даже директор тюрьмы по ночам читают заклинания, чтобы заставить духов вуду уменьшить его гениталии. Тюремные психиатры прописали ему антипсихотические лекарства, и через две недели наметилось улучшение. Отсидев четыре года, он снова «пошел барыжить» (видите, я знаком со сленгом). Поскольку Реджи был очень занят раскладыванием закладок (да-да, я знаю сленг), отмыванием денег и пытками конкурентов, у него не нашлось времени посетить психиатра, хотя ему было назначено. Он не был прикреплен к поликлинике, а следовательно, не имел возможности получать прописанные медикаменты, которые ему посоветовали принимать в течение длительного срока.
Преступлением, которое привлекло к Реджи внимание наших служб (то есть индексным правонарушением), стало нападение на незнакомца в автобусе: Реджи утверждал, что это был переодетый главарь конкурирующей банды, который его преследовал. Происшествие списали на «ошибочное установление личности», но я не мог не задаться вопросом, не было ли это возвращением психотических симптомов, на которое никто не обратил внимания. Расследования не проводилось. Никто не стал обращаться к судебному психиатру за экспертным мнением о психическом состоянии Реджи на момент совершения правонарушения.
Стоило Реджи вернуться в тюрьму, и паранойя вернулась, а с ней и прежние бредовые идеи о черной магии. На сей раз Реджи отказался лечиться, убежденный, что директор тюрьмы подмешивает в лекарства синтетические гормоны, чтобы превратить его в миссис Реджи Уоллес. Он начал бросаться на других заключенных. Разбил заварочный чайник о голову соседа по камере, в результате чего пришлось наведаться в штрафной изолятор (на тюремном жаргоне так называется, в сущности, одиночное заключение). Его сочли настолько опасным, что поместили в особую камеру, дверь которой невозможно было открыть в одиночку – для этого требовалось одновременно два охранника. Они должны были сопровождать Реджи повсюду, чтобы защищать от него окружающих – этакие телохранители наоборот.
Когда психоз был диагностирован, Реджи перевели в полузакрытое отделение на севере Лондона. Здесь его асоциальное поведение даже усугубилось. То ли это было естественное обострение болезни, то ли он осмелел, оказавшись далеко от запертой клетки и постоянно маячивших рядом плечистых охранников. Он сыпал угрозами, кидался на больных и сотрудников. Пытался застолбить место альфа-самца в отделении – задачка не из легких, если учесть состав больных на тот момент. Его действия часто следовали из параноидных убеждений, порожденных психической болезнью: он считал, что другие больные сговорились с соперниками-наркодилерами и их подсадили сюда, чтобы шпионить за ним, а судебный психиатр, который занимается его делом, очевидно, в этом замешан. Однако опасения, что его преследуют, по-видимому, были связаны и с его природным складом личности и мировоззрением. Ясно, что Реджи не любил, чтобы им командовали, и его вспышки нередко происходили именно тогда, когда в отделении устанавливали различные ограничения. Даже основные правила – не включать музыку слишком громко, сдавать деньги после визитов в местный магазин (стандартная практика: это делается, чтобы у некоторых больных не пропадали наличные) – приводили к тому, что Реджи на удивление громко втягивал воздух сквозь сжатые зубы, ворчал, ругался, а иногда кричал, нередко пересыпая свои слова сленгом, с которым, к моему стыду, я был не знаком. Кажется, я даже гуглил бранное значение слова wasteman (никчемушник; по-видимому, я знаю сленг не так уж хорошо). Кроме того, Реджи, прирожденный предприниматель, умудрялся протаскивать в отделение свои товары, чтобы продавать другим пациентам. В первые два месяца его не отпускали домой и у него не было посетителей, так что это было тем более поразительно.
Когда удалось подобрать медикаменты, психотический бред у Реджи отступил. Однако лежащая в его основе довольно слабая паранойя сохранялась. По-видимому, она, как и его вышеупомянутый склад характера, была связана с жизненным опытом и воспитанием. Скорее всего, свой вклад внес и род деятельности – думаю, при его профессии не редкость, что за тобой следят конкуренты и полиция. Да и татуировка на лице наверняка привлекала лишние взгляды. Не самый подходящий аксессуар для человека, от природы сверхподозрительного, но я, разумеется, не собирался ему на это указывать.
Даже когда бред смягчался медикаментами, резкие антиавторитарные протесты Реджи не стихали, как и попытки запугать и затравить других больных, как явные, так и тайные. Откровенно говоря, от всего этого лечить Реджи было сущим кошмаром, да и находиться рядом с ним временами тоже. Хотя лечащие врачи устанавливали границы, напоминали о правилах и грозили пальцем, все это оказывало минимальное воздействие. Мы – врачи и медсестры. У нас нет физических данных, позволяющих контролировать и запугивать, не то что у тюремной охраны. В глазах у всей нашей команды, включая меня, застыло выражение крайней усталости и отчаяния от необходимости постоянно устраивать Реджи выговоры и по несколько раз в неделю зачитывать ему правила больничного распорядка – а в ответ слышать только оскорбление и свист воздуха, втягиваемого сквозь зубы.
Параллельно я оценивал психическое состояние Ясмин в женском отделении, которое находилось через двор. Это нередко бывало в те же дни. Мое взаимодействие с ней, тоже по-своему сложное, было гораздо приятнее и совсем не такое воинственное. Подобно школьнику, который борется с греховными мыслями, я невольно задавался в глубине души кощунственными вопросами. Действительно ли Ясмин нуждается в нашем лечении больше, чем Реджи? Не надо ли просто лечить безумцев и просто наказывать злодеев? По этому поводу наличествует весь диапазон мнений, судя по моим беседам с психиатрами, другими работниками сферы охраны психического здоровья, друзьями, соседями и парикмахерами.
Примерно тогда же я вживался в роль врача без квалификационной категории. Я знакомился с десятками случаев и в больнице, и во время обследований заключенных в тюрьмах, и еще несколько раз давал показания в уголовном суде. Замечать закономерности в совокупности симптомов и выявлять значимые факторы риска получалось у меня уже инстинктивно. Когда я посылал на проверку руководителю черновики судебных отчетов, в них потом оказывалось все меньше и меньше пометок красными чернилами. Снова и снова я сталкивался с одной и той же головоломкой – с задачей определить, «злодей» или «безумец» тот или иной пациент. Это грубое упрощение неизбежного основного понятия судебной психиатрии. Но справедливо ли такое разделение? И важно ли это? Вроде бы да – и да.
Когда общество узнает о злодейском преступлении, оно жаждет крови. Мать, убившая собственных детей. Подросток, зарезавший случайного прохожего. Реджи, напавший на попутчика в автобусе и пытавшийся изнасиловать сводную сестру. Если у преступника психическая болезнь, разделение на злодеев и безумцев определяет, в какой степени его можно обвинить. Оправдано ли наше презрение? Какую долю ответственности мы должны возложить на сомнительного типа из газеты, а какую на психическую болезнь?
Когда судья выслушивает дело в суде, эта граница кристаллизуется благодаря показаниям судебного психиатра. Именно они говорят уважаемому суду, виновен ли подсудимый, следует ли отправить его не в тюрьму, а в больницу. Даже если правонарушитель не отвечает всем критериям (то есть требованиям, позволяющим содержать его под стражей в соответствии с уголовными статьями закона об охране психического здоровья), любые свидетельства, что он был психически болен, когда совершал преступление, могут смягчить условия тюремного заключения и сократить его срок.
Когда мы, судебные психиатры, стоим за кафедрой свидетелей, мы проводим эту грань, чтобы повлиять на решение суда. Когда мы, судебные психиатры, работаем в больнице, эта грань необходима, чтобы оценить риск и продумать реабилитацию человека, который теперь, строго говоря, уже не обвиняемый, а наш пациент, раз уж он вошел в двери нашей специализированной клиники – прочные, как на секретных предприятиях, вандалоустойчивые, с замками и засовами. Проще говоря, те, кто больше «злодеи», чем «безумцы», опаснее, и лечить их труднее. Чтобы избежать риска в будущем, требуется больше ресурсов, внимания и поддержки. Для нас дилемма «безумец или злодей» – решение не моральное, а сугубо клиническое, хотя в некоторых случаях границы размыты. Нужно очерстветь сердцем, чтобы не видеть, как возмутительны некоторые преступления. Кроме того, нужно быть готовыми работать с антисоциальными личностями в своем отделении. Некоторые наши пациенты бывают особенно… несносными, мягко выражаясь. «Безумец» означает, как правило, психоз. «Злодей» – как правило, расстройство личности. Антисоциальное расстройство личности – самое распространенное и самое значимое в среде преступников, хотя доступны и другие бренды.
Личность – это характерные закономерности мышления, эмоций и поведения, которые составляют нашу суть и определяют отношение к себе и к окружающему миру. Это то, что делает нас нами. Ворчливая тетушка. Невероятно дружелюбный и излишне разговорчивый сосед с лицом, вызывающим необъяснимое желание врезать. Шестилетний сын, который клянется нормально поесть, но выплевывает первый же кусок, после того как вы битых два часа провозились в кухне над пирогом с курицей и грибами, постаравшись сделать его настолько пресным и безвкусным, чтобы ребенок мог это вытерпеть – и это только несколько примеров. А когда личность у человека нарушена, ему может быть трудно понять, что он думает и как относится к себе и к другим. Причем эти трудности стойкие и приводят к дальнейшим осложнениям – плохо влияют на самочувствие, психическое здоровье и отношения с окружающими. Главное различие между аномальными чертами личности и настоящим расстройством, укладывающимся в диагноз, – исключительно функционирование. Если вам трудно общаться с людьми – настолько, что это влияет на повседневную жизнь и мешает строить отношения (дружеские, семейные или романтические), – значит, вы перешагнули за этот порог.
Расстройства личности есть у значительной доли моих пациентов. Это неудивительно, если учесть, какое трудное, страшное и беспорядочное детство выпало на их долю. Антисоциальное расстройство личности, которое иногда называют диссоциальным, младший брат психопатии, – это психическое состояние, при котором человек последовательно игнорирует добро и зло и пренебрегает правами и чувствами окружающих. Люди с таким расстройством склонны противостоять другим, манипулировать людьми и обращаться с ними бесцеремонно либо бессердечно и безразлично. Они не испытывают по поводу своего поведения ни малейших угрызений совести и не считают себя виноватыми. Такие люди часто нарушают закон. Они лгут, ведут себя жестоко и импульсивно, злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Из-за этих особенностей люди с таким расстройством обычно не в состоянии исполнять рабочие, семейные или школьные обязанности. Неудивительно, что в подавляющем большинстве случаев этот диагноз ставят мужчинам. Именно к этой категории мы отнесли Реджи Уоллеса после тщательного обследования в нашей клинике.
В очень широком смысле опыт научил меня, что при асоциальном расстройстве личности человек становится профессиональным преступником. Ему нравится роскошная жизнь и имидж гангстера. Многих силой вовлекают в преступную среду еще с детства. Они водятся с такими же неуправляемыми бунтарями. Многие продолжают совершать преступления, даже пройдя стирку с отжимом в виде психотерапии и медикаментов – а именно таков наш процесс реабилитации. В эти рамки прекрасно вписываются и печально знаменитые близнецы Крэй – знаменитые лондонские гангстеры, которые заправляли в британской столице в свингующие шестидесятые, пока в 1969 году оба не попали за решетку по обвинению в самых разных преступлениях, в том числе в убийстве. Братья Крэй были преступники широкого профиля, их извилистый след ведет к самым разным противозаконным деяниям – от вымогательства, поджога и грабежей до запугивания свидетелей и убийств. Кстати, у одного из них, Ронни, была обнаружена параниодная шизофрения, и он провел почти 20 лет в Бродмурской больнице, а значит, был одновременно и злодеем, и безумцем.
Кроме того, мы постоянно наблюдаем пограничное расстройство личности (так называемую эмоционально неустойчивую личность), которое чаще встречается у женщин. Это тяжелая психическая аномалия, которая вызывает перепады настроения, влияющие на поведение и подрывающие отношения с окружающими. Для нее характерны мимолетные отношения, импульсивные или саморазрушительные поступки (избыточные траты, незащищенный секс, наркомания, алкоголизм, рискованное вождение, переедание, самоповреждение) и неукротимый гнев – постоянные вспышки ярости и даже физические драки. Я, конечно, не имел удовольствия лично обследовать одного из самых талантливых и оригинальных поэтов-песенников всех времен, Эминема, но давно подозреваю, что ему следует поставить этот диагноз. Его отношения с близкими – прямо-таки хрестоматийный пример подобного взрывного непостоянства: его собственная мать подавала на него в суд, он был дважды женат на одной и той же женщине – Ким – и написал весьма живые и образные тексты о том, как хотел изнасиловать первую и убить другую. Он «выбесил» множество других рэперов и прочих знаменитостей и боролся с депрессией и зависимостями. Эти личностные черты, по-видимому, никак не повлияли на его песенный дар и творческие способности и, пожалуй, даже придали неповторимости и очарования содержанию его текстов.
И снова позволю себе вольное обобщение: по моему опыту, люди с пограничным расстройством личности никого не хотят обидеть, просто не могут сдержать эмоций, особенно в момент кризиса или конфронтации. Они вспыльчивы и склонны к импульсивности, агрессии и излишествам. В отличие от своих товарищей по несчастью, страдающих антисоциальным расстройством личности, они потом часто сожалеют о своих поступках, но сдержаться не могут. По результатам обследования в нашем отделении было решено, что у Реджи есть «черты» этого расстройства, но за грань полноценного диагноза он не переступил.
Менее распространено параноидное расстройство личности – хотя и оно, безусловно, заслуживает особого места в зале славы судебной психиатрии. Как ясно из названия, при таком расстройстве человек становится крайне подозрительным. Он не доверяет чужим мотивам и считает, что все хотят ему навредить. Кроме того, к числу характерных признаков этого расстройства относится нежелание ни с кем откровенничать, склонность таить обиду и видеть нападки и оскорбления в самых невинных замечаниях и событиях.
При этом расстройстве у человека легко пробуждаются гнев и враждебность к окружающим. Случаи из моего профессионального опыта оставляют у меня впечатление, что если человека с параноидным расстройством личности не трогать, он не будет нарушать закон, а вот если им покажется, что их оскорбляют или обходятся с ними несправедливо, они не станут этого терпеть и отомстят, причем нередко жестоко. Такие черты у Реджи тоже имелись.
Когда я внимательно изучил происхождение и биографию Реджи, мои представления о нем и о грани между злодеем и безумцем несколько размылись. В работе с правонарушителями в специализированной психиатрической клинике есть один аспект, который меня в свое время и привлек: мы знаем своих пациентов очень близко и глубоко. Они находятся у нас в отделении годами, и за это время мы досконально исследуем их семейные отношения, прошлую жизнь, детство и исторические травмы, чтобы выявить эмоциональные и поведенческие триггеры и возникшие в результате пороки характера. Здесь бесценный вклад вносят психологи: они не только исполняют всю работу по добыче материала, но и пытаются изменить глубоко укорененные отрицательные установки, эмоции и представления. Психологи – специалисты по сведению татуировок с психики. Наш штатный психолог сумел постепенно вытащить из Реджи все трагические подробности его детства и юности. Невозможно даже представить себе, насколько жестока была к нему жизнь. Он жил то в приютах, то у матери, которая была к нему безразлична. В тех редких случаях, когда в жизни Реджи проявлялся отец, он жестоко обращался и с Реджи, и тремя его братьями и сестрами, и с его матерью. Он даже сломал руку годовалому Реджи, потому что тот все плакал и не желал умолкать. И каким бы отталкивающим ни казался мне сидевший передо мной его 46-летний татуированный вариант, какими бы отвратительными ни были его предыдущие преступления – похищение, пытки, сексуальные нападения, – к тому младенцу я не чувствовал ничего, кроме глубокого сочувствия, и мне было страшно за него. Он совершенно ничего не понимал, и ему было ужасно больно. Моя работа – понимать, почему люди иногда причиняют вред маленьким детям в контексте цветущего психоза, как у Ясмин. Но несмотря на все насилие, которого я насмотрелся за эти годы, и всех правонарушителей, которых я лечил, я не могу понять, как человек может сознательно причинить боль настолько невинному существу.
После некоторых обучающих занятий с эрготерапевтом стало очевидно, что у Реджи тяжелая дизлексия, он с трудом читает и пишет. По-видимому, школьные учителя этим не занимались. Да это было бы и непросто, когда параллельно уворачиваешься от летящих в тебя предметов. А вдруг дурное поведение Реджи было вызвано просто обидой на то, что его особые потребности в школе игнорировались? Вдруг его увлечение наркодилерством было по крайней мере отчасти вызвано тем, что у него был ограниченный выбор возможных профессий?
Кроме того, Реджи рассказал психологу, что его старший брат Бобби погиб, не дожив и до 20 лет, – его зарезали в пабе во время игры в бильярд. «Когда я был маленький, он был единственный в нашей чертовой семейке, кто хоть как-то мной интересовался», – так он описывал Бобби. Реджи хотел вступить в банду, чтобы ощутить себя своим, но при этом понимал, что это ему необходимо, чтобы его защищали. По его словам, сначала ему было совестно за свои хулиганские выходки – например, когда он ездил на автобусе в шикарные районы на западе Лондона, чтобы отбирать у школьников деньги на завтрак и карманные игровые консоли Game Boys, хотя и другими марками не брезговал. Реджи вспоминал, как однажды они с приятелями повалили мальчика помладше на пол в «Макдоналдсе» и раздавили его очки. Реджи рассказывал, как все гоготали, когда уходили. Он тоже смеялся – но, обернувшись, с ужасом смотрел, как мальчик, у которого из носа шла кровь, подбирает сломанную оправу. Эта картина стояла у него перед глазами целый месяц. Но с годами Реджи свыкся с повседневной жестокостью, которую он видел и которую сам же творил. Он перестал чувствовать себя виноватым. Когда постоянно сталкиваешься с насилием, рано или поздно оно перестает производить такое сильное впечатление. Как мне прекрасно известно.
История детства Реджи мне хорошо знакома. Подобные трагедии всплывают почти каждый раз, когда я исследую прошлое пациентов в рамках судебно-психиатрической системы. Такие невзгоды часто вызывают предрасположенность и к правонарушениям, и к психическим болезням (так называемые «отягощающие факторы»), поэтому практически всегда наличествуют на пересечении этих множеств. В их число входят подверженность физической агрессии, особенно в раннем возрасте, а также другие формы запущенности и эмоционального и сексуального насилия. За каждым «злодеем» всегда стоит «несчастный». Неудобная, но неизбежная истина состоит в том, что большинство тех, кто совершает физическое насилие, когда-то и сами были жертвами. Кроме того, для тех, у кого есть психиатрическая и криминальная история, характерны периоды безработицы, нищета и бездомность. А самый, пожалуй, существенный отягощающий фактор – это наркомания и алкоголизм. Одни вещества, особенно алкоголь и кокаин, как известно, повышают агрессивность у всех, кто к ней склонен, а другие, например, амфетамин и марихуана («сканк») знамениты тем, что служат триггерами психозов.
Когда я читал данные психологического отчета, мне было интересно, каких ресурсов Реджи был лишен и насколько, так сказать, была наклонена его сторона игрового поля. Ему недоставало не только самой простой родительской заботы, но и самой простой поддержки учителей. Вероятно, свою лепту внесла и та система, которую представляю я. Если во время своего последнего преступления Реджи был психически болен, почему этого не заметили ни полицейские, которые его арестовывали, ни солиситоры, которые обсуждали с ним дело, ни барристеры и судья, которые его судили? Куда смотрела тюремная охрана (включая судебного психиатра, спешу добавить), пока он был в заключении, ожидая суда? Его можно было вытащить из зыбучих песков параноидного бреда гораздо раньше. Сплошные упущенные возможности.
Кроме того, было огорчительно понимать, с какой легкостью Реджи утек сквозь пальцы системы охраны психического здоровья после того, как его в прошлый раз выпустили из тюрьмы. Не принимал лекарства, даже не прикрепился к поликлинике – все это явно не пошло ему на пользу. Но ведь едва ли такое поведение уникально, а я много раз видел, как других больных, которым трудно соблюдать схему лечения, общество поддерживает куда настойчивее. Других больных – больше похожих на средний класс, более близких по духу и не таких черных. Интересно, отмахнулись бы с той же пассивностью от Ясмин – хрупкой, тихой, вежливой, безупречной, беззащитной девушки в окружении любящей крепкой семьи, – если бы она расхотела лечиться?
По моему мнению, делить на злодеев и безумцев необходимо, но делать это можно лишь с клинической, а не с этической точки зрения. Мы как судебные психиатры оцениваем риск у наших пациентов, чтобы решить, когда их можно выписывать и возвращать в общество и как после этого сдерживать заключенную в них угрозу. Для этого нам нужно анализировать факторы, которые могут привести к рецидиву насилия и психической болезни. А еще нам следует разумно распределять свои ограниченные ресурсы. Скажу прямо: если мой пациент явно безумен, как Ясмин, мне остается лишь убрать безумие из уравнения. Главный упор следует делать на то, чтобы Ясмин после выписки продолжала аккуратно принимать лекарства. Это относительно несложно. При всей невероятной трагичности ее преступления вероятность, что оно повторится, крайне низка, а если это и произойдет, то для этого, скорее всего, потребуются похожие обстоятельства. Кроме того, затем – уже в больнице – она показала, что готова слушаться врачей и идти навстречу. Все это сулило хороший прогноз.
Что же касается Реджи, в его случае минимизировать риск было гораздо сложнее. После того как мы убрали из уравнения безумие, вывести пятно злодейства (антисоциальное личностное расстройство, антиавторитарную позицию, общее нежелание сотрудничать) оказалось непросто. Можно ли вылечить зло? Это сложный многосторонний вопрос, который вносит раскол между судебными психиатрами точно так же, как и во всем остальном обществе. Мы могли бы вместе рухнуть в эту черную дыру, подчас философическую, но я лучше уберегу нас обоих от головной боли, дав краткий ответ: иногда – да. Но только когда у пациента есть внутренняя мотивация. Как гласит старинная пословица, мы, судебные психиатры, можем подвести лошадь к воде, но не в силах изменить ее личность. И даже если такое преображение происходит – до отчаяния редко, – по моему опыту, все следует по замкнутому кругу: тюрьма – больница – наручники – полиция – рыдающие родственники – скамья подсудимых. Только тогда до пациента наконец доходит. Все их антисоциальные ровесники уже давно построили карьеру и завели семью, а они остались на вечеринке последними и только теперь сообразили, что пора в постельку.
Юному наивному доктору, которым был я когда-то, потребовалось несколько лет смотреть, как самые многообещающие больные, твердо вставшие на путь к выздоровлению, рано или поздно начинают чувствовать себя хуже, снова нарушают закон и снова перемалываются системой, и лишь затем я пришел к довольно-таки мрачному заключению: навязанные моральные ограничения и ценности едва ли изменят отношение пациента к жизни, если не произойдет личного внутреннего озарения.
Реджи не собирался ничего менять и даже не притворялся, что собирается. Это означало, что даже если после выписки он сможет держать психическое состояние под контролем, существует множество других факторов риска, которые подтолкнут его к новым правонарушениям: склад личности, убеждения, образ жизни, занятия, круг знакомых, пристрастие к легким наркотикам и скудный выбор альтернативных профессий – и это лишь начало списка. Вероятность рецидива у Реджи была гораздо выше, чем у Ясмин, и он потребовал бы значительно больше внимания и ресурсов, даже если бы его последнее правонарушение (нападение на незнакомца в автобусе) было значительно менее тяжелым. Вполне можно было предсказать, что он способен на самые разные виды насилия и прочих преступлений. В его случае мы знали, что не можем управлять всеми факторами риска, но по крайней мере мы осознавали границы своих возможностей. Самой надежной страховкой служил пристальный надзор Межведомственной организации общественной защиты (это коммуникационная сеть, состоящая из сотрудников полиции, системы надзора, системы исполнения наказаний и других учреждений, цель которой – контролировать совершивших насильственные и сексуальные преступления).
Кстати, по сравнению с другими врачами в моей области есть и еще одна аномалия – почти полное отсутствие благодарных клиентов: их у меня примерно столько же, сколько у футбольных судей, налоговиков и инспекторов дорожного движения. Мы работаем с людьми, у которых есть история насилия, мы вмешиваемся (а они считают, что встреваем), когда дела у них совсем плохи, засаживаем их под замок на существенный срок и заставляем принимать лекарства, которые они не хотят принимать, от симптомов, которых они не замечают. Кроме того, мы высокомерно отчитываем взрослых мужчин вроде Реджи, у которого и так были трудности с подчинением властным фигурам, за нарушение правил отделения, которые сами же и установили. Я могу пересчитать по пальцам одной руки (и еще два останется), сколько рождественских открыток получил от больных за все эти годы. Мне придется довольствоваться тем, что я в меру своих слабых сил спасаю общество (от опасности), некоторых больных (от тюрьмы) и некоторые деревья (от переработки на открытки). Понятно, что Реджи не питал к нашим службам особой любви. Единственным легким намеком на душевную теплоту (или по крайней мере на снижение враждебности) ко мне стал один наш с ним разговор в отделении об олдскульном британском хип-хоповом мотивчике, который Реджи врубил у себя в палате на полную мощность, а я знал и любил (Riddim Killa Родни Пи). Но в тот день, когда Реджи предстояло покинуть отделение, на последнюю общую встречу перед выпиской пришла его сестра. И в конце она подчеркнуто поблагодарила всех сотрудников, принимавших участие в лечении Реджи. Она сказала, что это был первый раз, когда хоть кто-то пытался помочь ему. Эти слова тронули меня неожиданно сильно. Не столько потому, что мы так редко слышим «спасибо» за свою работу, сколько потому, что Реджи вел настолько маргинализованное существование и на него никто не обращал внимания. По пути домой в тот день я заметил дорожного инспектора, который проверял припаркованные машины, и ощутил своего рода профессиональное родство с ним в нашем общем неблагодарном труде. Вспомнил, что инспектор помогает бороться с пробками на наших дорогах. Хотя с тех пор мне выписали, наверное, десятка полтора штрафов за неправильную парковку. А пошли они к черту!
Ясмин и Реджи находятся на разных концах спектра. Большинство моих пациентов где-то между ними. И эти этические воды стали лишь мутнее, а философский огонь запылал ярче от подлитого масла, когда мне встретился другой случай, где злодейство и безумие были разграничены куда как хуже.
Глава седьмая. Мутные воды
Мистеру Чарли Уэджеру было 30 лет, и у него стоял диагноз «аутизм». Расстройство аутистического спектра покрывает целый диапазон расстройств от тяжелого аутизма до легкой ограниченности возможностей. Симптомы затрагивают в основном три области, а именно социальные взаимодействия, вербальную и невербальную коммуникацию и повторяющиеся либо ритуальные действия. Симптомы аутизма у взрослых – это чаще всего неспособность понять, что думают и чувствуют окружающие, и неумение читать выражение лица, язык тела и социальные сигналы. Хотя подавляющее большинство людей с аутизмом категорически не склонны к насилию, недавно произошло два-три трагических случая, которые привлекли внимание общества и заставили задуматься об этой крайне редкой корреляции.
Самый страшный пример – это 25-летний Алек Минасян. Раньше он никогда не нарушал закон, но 23 апреля 2018 года арендовал фургон с явным намерением въехать в толпу и задавить десятки незнакомых ему людей, потому что хотел прославиться. Юристы пытались выстроить линию защиты на его аутизме и даже ошибочно сравнили его с психозом. Минасян был признан виновным в 10 убийствах первой степени и 16 покушениях на убийство.
Во время процесса оказалось, что Минасян изучал серийных убийц и открыто признавался, что у него бывают фантазии о стрельбе в школе. Кроме того, он изучал биографию Эллиота Роджера, который в 2014 году зарезал, застрелил и переехал шесть человек, после чего покончил с собой, оставив манифест, который связали с сообществом инцелов. Слово «инцел» – сокращение от involuntary celibate, «невольное сексуальное воздержание», – обозначает недавно возникшее интернет-движение молодых мужчин, которые не познали плотских радостей, но убеждены, что имеют на них право, а в результате придерживаются опасного женоненавистничества и изливают свою ненависть на женщин как таковых, а особенно на привлекательных, которые, как они считают, пренебрегают ими. Лично я не понаслышке знаю, что такое быть прыщавым девственником, которому в отрочестве «перепадало» крайне мало, и никак не могу взять в толк, почему эти люди не додумались до других… гм… одиночных занятий, которые помогают избавиться от сексуальных обид и скоротать время до тех пор, пока не удастся выстроить серьезные романтические отношения. Подавляющее большинство инцелов только подначивают друг друга ребяческими сексистскими комментариями и теориями, но очень небольшая их доля оправдывает крайнее насилие в рамках своей общей повестки дня. По нашу сторону океана от Минасяна произошла похожая трагедия – Джейк Дэвисон, 22-летний молодой человек, застрелил пятерых человек (в том числе собственную мать и трехлетнюю девочку) и ранил двоих, прежде чем направить ствол на себя. Это было в августе 2021 года в Плимуте – первое массовое убийство на британской почве за 10 лет. Дэвисон тоже не скрывал, что придерживается философии инцелов.
Если изучить прошлое Минасяна, становится понятно, что в нем, несомненно, наличествовали определенные факторы, которые могли внести свой вклад в его вспышки гнева и чувство одиночества. В школе его травили, он был изгоем общества. Он ненавидел, когда его отталкивали, особенно женщины, – как, собственно, и все инцелы. Более того, во время судебных слушаний всплыл один случай, когда он попытался заигрывать с девушкой в университетской библиотеке и был отвергнут – и это особенно сильно ранило его. Вероятно, некоторые черты его аутизма поспособствовали пренебрежительному отношению сверстников, сделали его подходящей мишенью для школьной травли и навлекли на него презрение женщин. Скорее всего, Минасян плохо понимал, что такое взаимность в отношениях, не улавливал социальные сигналы, и это, вероятно, не позволяло ему научиться флиртовать. Можно предположить, что поскольку у него были ограниченные интересы, увлечение серийными убийцами могло вызвать более сильную одержимость, чем у среднего человека. Другая особенность тех, кто страдает этой болезнью, – неспособность выражать эмоции вроде гнева и досады здоровыми, социально приемлемыми способами.
Хотя Минасян пытался добиться вердикта «не несет ответственности перед законом» – это канадский эквивалент вышеупомянутого «оправдания на основании невменяемости» – суд это отклонил (на мой взгляд, правильно). Оказалось, что действия Минасяна были преднамеренными и заранее спланированными. Он нанял грузовик в тот день с четким намерением убить случайных прохожих и даже заявил психиатру, что хотел бы переехать еще больше привлекательных молодых женщин и очень рад, что добился такого внимания. Можно было бы заявить, что из-за аутизма и неспособности понять точку зрения других Минасян не понимал в полной мере, сколько боли и страданий причинил. Но это не имело бы прямого отношения к составу его преступления.
Прошло чуть больше года, и в Лондоне произошел кошмарный случай, отголоски которого раскатились по всей Великобритании и за ее пределами. Четвертого августа 2019 года в Современной галерее Тейт 17-летний Джонти Брейвери схватил шестилетнего мальчика-француза и перебросил его через перила. Изначально Брейвери приехал на метро на станцию «Лондонский мост» и направился в небоскреб «Шард». Спросил служащего у входа, сколько стоит билет, но цена оказалась слишком высокой, и он решил пойти в Тейт. Поднялся на лифте на смотровую площадку на 11-м этаже, небрежно подошел к краю и заглянул вниз. Свидетели говорили, что вид у него был непринужденный и он улыбался детям, но дети почувствовали неладное и двинулись прочь. Семья жертвы приехала на лифте, и когда дверь открылась, мальчик побежал на балкон. Брейвери подхватил его и бросил за перила, где мальчик пролетел 30 метров и едва не разбился насмерть. Когда посетители задержали Брейвери, он улыбался и, как рассказывают, держался спокойно, не проявляя особых эмоций. «Я не виноват, – твердил он. – Это все социальные службы». А потом спросил, покажут ли его в новостях. У бедного мальчика произошло кровоизлияние в мозг, был сломан позвоночник, руки и ноги. Несколько месяцев он не мог двигаться и перемещался в инвалидном кресле, хотя сейчас очень медленно поправляется.
Почти год спустя Брейвери участвовал в судебном заседании по видео из Бродмурской больницы, и ему вынесли приговор по обвинению в покушении на убийство. Было совершенно ясно, что Брейвери виновен.
В его преступлении звучало жуткое эхо дела Минасяна. Нападение было предумышленным. Мало того что сначала он попытался проникнуть в «Шард», но потом скорректировал свои планы, он еще в то самое утро искал в интернете ответы на вопросы, подтверждающие его виновность («точно ли при аутизме не сажают в тюрьму?»). По-видимому, утверждение, что он хотел попасть в новости, указывает на то, что он понимал, что его поступок противозаконен. На заседании судья постановил, что расстройство аутистического спектра у Брейвери не объясняет его нападения и что он представляет «большую непосредственную угрозу для общества». Брейвери был осужден на 15 лет тюремного заключения за покушение на убийство.
В 2013 году я перешел на третий, последний курс постдипломного образования, когда мой руководитель попросил меня обследовать Чарли Уэджера. Это была однократная встреча, чтобы составить судебный отчет с оценкой готовности Уэджера участвовать в процессе. Я навестил его в специализированном психиатрическом отделении для правонарушителей с расстройствами обучения, в том числе с аутизмом, которое расположено в другом крыле больнице на востоке Лондона, где я тогда работал. Почти всю свою 30-летнюю с небольшим жизнь Чарли провел в разных специализированных заведениях – от интернатов для детей с особыми потребностями до всевозможных учреждений для проживания с уходом. На нем были яркая гавайка и темные очки, хотя погода стояла пасмурная и в отделении было не слишком светло. Поскольку утренний обход был в разгаре, главная комната для бесед была занята, а в единственном свободном кабинете проводили какую-то проверку документов, поэтому меня попросили провести обследование в комнате отдыха для пациентов. Наше общение и без того получилось довольно-таки диковинным, а тут еще и пришлось писать заметки на биллиардном столе.
Чарли попал к нам после того, как совершил сексуальное нападение на незнакомую женщину с ребенком в коляске, которая ждала автобус на остановке. Чарли подошел к ней, задал несколько вопросов о расписании автобусов, а потом вдруг схватил ее за грудь и попытался поцеловать. Женщина оттолкнула его и завизжала. Чарли удрал – но, что примечательно, вскоре вернулся попросить у нее телефончик. Женщина накричала на него, и он снова убежал. Учреждение для проживания с уходом, где он жил, было прямо по соседству, и жертва видела, в какую дверь он вошел. Она вызвала полицию, и Чарли тут же арестовали.
Расследование показало, что это был не первый подобный инцидент – Чарли уже много раз приближался к одиноким женщинам и приставал к ним. Хотя его нападения были не особенно страшными и он не совершал насилия, жертвам наверняка было крайне неприятно. Чарли уже три раза попадал под арест, но каждый раз полиция прекращала дело, прибегнув к неофициальной линии защиты «он же малость ку-ку», которой, по-видимому, придерживаются некоторые полицейские (своего рода извращенная положительная дискриминация). Каждый раз Чарли строго отчитывали и грозили ему пальцем. Каждый раз сотрудники учреждения, где он жил, клялись проявлять бдительность и выпускать его одного, только когда он стабилен. Однако двери не запирались, задерживать Чарли по закону об охране психического здоровья было нельзя, поэтому они не имели законных оснований мешать ему уходить. Кроме того, на каждого сотрудника приходилось четыре клиента, у каждого из них были свои существенные потребности. Словно современный Мердок из «Команды А», Чарли постоянно умудрялся улизнуть. С моей точки зрения что-то здесь смутно напоминало случай Джонти Брейвери: его тоже постоянно отпускали одного из учреждения, где он жил, до того рокового дня, когда он сбросил ни в чем неповинного ребенка с балкона Современной галереи Тейт, хотя и раньше были некоторые опасения, что он может быть опасен, поскольку он был склонен к насилию по отношению к сотрудникам. Похоже, никто и не думал, что следует содержать Брейвери под стражей на законных основаниях.
Я видел, что действия Чарли во время нападения были сумбурными и нелепыми и едва ли могут считаться характерными для опасного сексуального хищника. Но мне нужно было ответить на вопрос, почему он убежал. Из искреннего раскаяния? Из страха наказания? От стыда, что его отвергли? Потом он вернулся попросить у женщины телефон, что говорило о том, что он плохо понимает неуместность своих действий и не чувствует, что причинил вред.
Во время обследования, собрав положенную информацию о прошлом пациента (детство, отношение к предыдущим правонарушениям), я попытался найти ответы на свои вопросы. Чарли очень открыто говорил об этом случае и обо всех остальных. Слишком открыто, прямо по-детски, – похоже, он не подозревал, какое впечатление может у меня сложиться: само по себе это было очередным доказательством, что он не способен в полной мере осознавать последствия своих действий. Понимал ли он, что так делать нельзя? После подробных расспросов он объяснил, что у него возникли сексуальные желания и ему хотелось утолить их. Я попытался оценить, каково его представление о согласии.
– Пытаешься их обнять и поцеловать, и если они тоже обнимают и целуют тебя в ответ, это и есть согласие, – ответил он.
– А если они говорят «нет»? – спросил я.
Чарли пожал плечами.
– Значит, нет.
– А что нужно делать в такой ситуации?
– Попытаться еще, и тогда они, может быть, скажут «да».
Это мне напомнило представления о согласии у одного экс-президента. Я спросил Чарли, почему он спрятался, когда женщина оттолкнула его.
– Потому что она разозлилась. Со мной могло случиться что-то плохое, – ответил он.
Мы подбирались к сути.
– Почему она разозлилась?
– Потому что я был для нее слишком некрасивый.
Я спросил Чарли, что он чувствовал, когда его жертвы сердились. Он некоторое время подумал, потом поправил очки.
– У меня же должна быть возможность попытаться найти девушку. Это мои права человека.
Туповато-упрощенная версия основной идеи движения инцелов.
Сложность понятия согласия совершенно обескуражила Чарли, несмотря на то, что он обладал кое-каким поверхностным пониманием. Свою роль в этом сыграли и недостаток взаимности, и несформированные представления о социальных нормах. Но одновременно он считал, что имеет право на секс и что это важнее, чем эмоции его жертв. Очевидно, что это ход мысли насильника.
Реабилитация Чарли предполагала, что ему привьют основные понятия согласия, уважения, а может быть, даже секса в целом. Ему потребуется интенсивный режим психотерапии с учетом его уровня интеллекта и когнитивных особенностей. Быстро ничего не получится. И уж точно я не собирался начинать распутывать этот клубок во время одноразовой беседы. Несмотря на попытки поправить Чарли и чему-то научить, я понимал, что к его дальнейшему лечению я не имею никакого отношения. Это было бы неуважением к его лечащим врачам, которые наверняка сочтут нужным подойти к делу взвешенно и структурированно.
В этом случае я счел, что Чарли не может участвовать в судебном процессе. Несмотря на то, что у него были самые общие представления о суде, он был не в состоянии понять ничего сложного (что опять же заставляет вспомнить одного экс-президента). Это отражалось и в том, что Чарли много раз просил меня передать судье, что он просит прощения и обещает больше никогда-никогда не заговаривать с женщинами, только бы его отпустили. А когда он обругал меня за то, что я попытался объяснить, что не облечен властью это сделать, я лишь укрепился в подозрениях, что он не понимает юридических тонкостей положения. Судья отдал распоряжение о принудительной госпитализации, и Чарли вернулся в отделение для страдающих расстройством обучения на долгосрочную реабилитацию. Поэтому суда не было, и его виновность никто тщательно не изучал. И хотя, когда я представлял свой судебный отчет, никто не задавал мне таких вопросов, я невольно задумался, где находится Чарли со своими убеждениями по шкале «злодей-безумец». Поскольку суд удовлетворился моим мнением о том, может ли Чарли участвовать в процессе, а его лечение лежало вне моей юрисдикции, больше я с Чарли не встречался. Учитывая, сколько прошло времени, вполне возможно, что его уже выписали. Аутизм – не та болезнь, которую можно «вылечить», однако когнитивную картину мира и особенности поведения Чарли можно адаптировать к жизни в обществе. Надеюсь, он научился иначе относиться к женщинам и иначе с ними взаимодействовать.
Примерно год спустя я занимался похожим случаем. Моим пациентом был 19-летний юноша с синдромом Аспергера (форма аутизма с менее тяжелыми симптомами и без задержки речевого развития) по имени Талаль, который, как считалось, изнасиловал свою младшую родственницу и пытался уговорить ее никому об этом не рассказывать. Цель моего обследования была такая же, как и в случае Чарли: составить судебный отчет относительно способности обвиняемого участвовать в процессе. Талаль был тихий, скромный, склонный к одиночеству – все вполне типично для его болезни. На момент преступления ему было 17, а жертве 13. Он утверждал, что у него не сохранилось совершенно никаких воспоминаний об изнасилованиях, которых было три, и все они произошли полтора года назад во время летнего отпуска, когда вся семья пошла в поход на месяц. Как я отметил в судебном отчете, это не согласовывалось с остальными его показаниями. Он вполне мог внятно и подробно описать большинство остальных аспектов своей жизни безо всяких провалов в памяти. Более того, если обвиняемый утверждает, что не помнит, как совершал преступление, это никак не влияет ни на решение о его способности участвовать в процессе, ни на решение о его виновности или невиновности. Кто угодно может сказать, что ничего не помнит, и это трудно опровергнуть.