Читать онлайн Династия Птолемеев. История Египта в эпоху эллинизма бесплатно
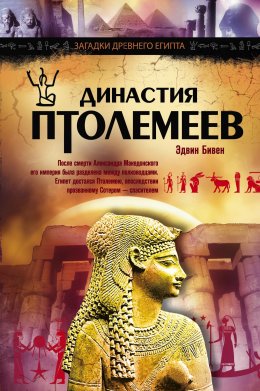
Edwyn Bevan
THE HOUSE OF PTOLEMY
a history of egypt under the ptolemaic dynasty
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2011
Предисловие
С тех пор как вышли книги Магаффи «История Египта при династии Птолемеев», исследования и наука не стояли на месте, был обнаружен ряд новых источников (папирусы и надписи). Труда Магаффи уже недостаточно для того, чтобы дать читателю представление об известных фактах истории эллинистического Египта и точках зрения различных авторитетных исследователей на различные ее аспекты. Поэтому господа из издательства «Метуэн» сочли целесообразным исправить или переписать том IV «Истории Египта», написанной сэром Флиндерсом Питри, таким образом, чтобы он больше соответствовал теперешнему уровню знаний. Так как доктора Магаффи больше нет с нами и он не может переделать свою работу, они вручили его книгу мне с просьбой либо внести в нее изменения и дополнения, либо написать другую книгу, которая заменила бы ее в этой исторической серии. Почти сразу же стало понятно, что и речи быть не может о том, чтобы вставлять написанные мной фрагменты в текст Магаффи. Стиль Магаффи настолько свеж и своеобразен, что внесение в него дополнений будет подобно вживлению в тело инородных тканей, которые будут им отторжены. Я не видел иной возможности, как только заново написать всю историю по-своему, время от времени приводя фразы и абзацы из книги Магаффи там, где они представляются уместными; эти цитаты стоят в кавычках и подписаны литерой М в скобках. Одним из преимуществ этого варианта было то, что таким образом мой новый том не будет выглядеть так, будто с его помощью я старался отодвинуть Магаффи на второй план. Труд Магаффи по-прежнему сохраняет самостоятельную ценность для изучающих историю державы Птолемеев. Если в свете недавних открытий его утверждения и предположения часто можно отвергнуть, то замечания его энергичного и здравого ума, живая манера представления, пожалуй, и еще через двенадцать лет, когда и мой труд будет таким же устаревшим, как труд Магаффи сейчас, побудят интересующихся обратиться к его «Истории», и не напрасно. При написании своей книги я посчитал нужным отметить те пункты, в которых Магаффи явно ошибался. Из-за этого у некоторых читателей может сложиться впечатление, что автор настоящего труда стремится поймать своего предшественника на слове, чего у меня и в мыслях не было. Если я чаще ссылаюсь на работу Магаффи для ее исправления, чем для выражения признательности, то только потому, что верю в способность читателя самостоятельно определить, где Магаффи прав, и предупреждаю его лишь в тех случаях, где, как показали новейшие исследования, Магаффи ошибался. Ни один человек, занимающийся этой темой, не может не понимать, насколько весь ученый мир сегодня должен быть обязан тому стимулу, который поколение назад придали изучению эллинистической эпохи яркий ум Магаффи и его обширная эрудиция в разнообразных областях.
Те, кого в наши дни привлекает история эллинистического Египта, могут взять за основу своих изысканий великолепный труд Буше-Леклерка «История Лагидов» (Histoire des Lagides) в четырех томах (1903–1906), который по некоторым пунктам дополняет его же изданная позднее «История Селевкидов» (Histoire des Séleucides) (1913–1914). В незаменимой работе Буше-Леклерка собраны данные о результатах исследований двух великих эллинистических держав, которые проводились вплоть до времени написания его книги. Автор сопровождает их прекрасными критическими рассуждениями, а кроме того, будучи литератором, унаследовавшим традиции французской исторической прозы, он рассказывает историю так, что читать его труд – не тяжкая обязанность, а истинное наслаждение. Что же касается такой отдельной области, как папирусы и те сведения, которые они дают нам о жизни и государственном строе Египта при Птолемеях, то основным руководством для знатоков данной темы являются «Основы и хрестоматия» (Grundzüge und Chrestomathie) Вилькена и Миттейса – в первом томе, написанном Вилькеном, содержится общий обзор папирологии и рассказ о государственном управлении при Птолемеях, во втором томе Миттейс рассматривает законодательство и судопроизводство. Ульрих Вилькен, один из великих ученых, подаренных миру Германией в наше время, рассуждает обо всем, что касается папирологических исследований, обладая при этом авторитетом, которого удостоены лишь немногие. В настоящее время он публикует многотомное издание египетских папирусов, датированных периодом эллинизма и сгруппированных в хронологическом порядке (Urkunde der Ptolemäerzeit), представляющее собой труд всей его жизни, посвященной изучению этой темы. В книге Макса Л. Штрака «Династия Птолемеев» (Die Dynastie der Ptolemäer, 1897) собраны данные по хронологии этого периода, насколько они были исследованы двадцать девять лет назад. Подробное рассмотрение хронологии эпохи эллинизма по-прежнему не обходится без ссылок на эту книгу. Штрак является одним из европейских ученых, погибших в Первой мировой войне. Все важнейшие греческие надписи эллинистического Египта, известные двадцать один год назад, собраны Диттенбергером в «Восточных греческих надписях» (Orientis Graecae Inscriptiones). Один из самых заметных вкладов, внесенных в папирологические исследования в последние годы, – это «Введение в папирологию» (Einführung in die Papyruskunde) Шубарта (1918); его же «История Египта от Александра до Мухаммеда» (Geschichte Ägyptens von Alexander bis Mohammed, 1922) представляет собой хорошо написанный и красочный рассказ для широкой публики, лишенный ссылок и примечаний. Бессмысленно пытаться перечислить здесь всех остальных ученых, живущих в наше время, которые занимались изданием найденных недавно папирусов и изучали различные аспекты истории эллинистического Египта; читатели, желающие получить полный обзор папирологической литературы, могут посмотреть библиографию в «Основах» или «Введении» Шубарта, а также пополнить список более поздними публикациями из обзоров мистера Х.И. Белла в «Журнале египетской археологии». В дополнение можно отметить, что активная работа ведется в рамках итальянской школы папирологических исследований, с которой связаны имена многих известных молодых ученых, притом что Италия лишь недавно потеряла маститого автора Джакомо Лумброзо, чья книга «Исследования политической экономии Египта при Лагидах» (Recherches sur l’économie politique de l’Egypte sous les Lagides) опубликована еще в 1870 году; что Россия представлена выдающимся ученым Михаилом Ростовцевым, изгнанником, живущим вдали от родины, поскольку страна, где всем заправляют большевики, не может быть домом для людей такого рода; что Америка достойно представлена издателем папирусов Зенона К.К. Эдгаром и что, наконец, никем не превзойден вклад Англии в папирологию в виде подробных изданий папирусов, выполненных сэром Фредериком Кеньоном, Б.П. Гренфеллом, С. Хантом, Дж. Г. Смайли и Х.И. Беллом.
Следует также обратить внимание на нумерацию поздних Птолемеев. В древности царей одной династии с одинаковыми именами обычно не называли по номерам, как это делаем мы: Эдуард VII и т. п. Приписанные разным Птолемеям римские цифры являются изобретением ученых Новейшего времени, и вы увидите, что моя нумерация отличается от принятой Магаффи. Предполагаемого старшего брата Птолемея Филометора Магаффи называет Птолемеем VI, а сына Птолемея Филометора – Птолемеем VIII. Однако место в династии двух неправивших мальчиков-царей – Птолемея Евпатора и Филопатора Неоса – очень спорно; и я согласен с Буше-Леклерком в том, что целесообразно не включать их в нумерацию и вернуться к прежнему порядку, где Филометор был Птолемеем VI, а Эвер-гет II – Птолемеем VII. Между прочим, это согласуется и с древней нумерацией; ибо, хотя греки обычно и не называли Эвергета II «седьмым», греческие авторы иногда действительно упоминают о нем как о седьмом из Птолемеев (Страбон. XVII. С. 795; Афиней, IV.184B; V.252E; XII.549D).
Мне остается только выразить признательность всем, кто мне помогал, и в первую очередь главному редактору «Истории Египта» сэру Флиндерсу Питри за те исчерпывающие ответы, которые он давал мне, когда я обращался к нему за консультацией, и внимание, с которым он прочел мою довольно беспорядочную рукопись. Сделанные им предложения и критические замечания можно проследить во множестве сносок. В своих трудах, на которые я буду ссылаться, сэр Флиндерс Питри привел ценные сведения об организации общества и управления в фараоновском Египте. Детальное рассмотрение вопроса о том, насколько птолемеевская система соответствовала древней фараоновской, а там, где сходство очевидно, насколько оно обусловлено заимствованием, а насколько потребностями жизни Египта либо деспотическим режимом, в рамках которого независимо друг от друга формируются одинаковые институты, лежит за пределами этого небольшого труда. Будет достаточно отослать тех, кто желает разобраться в этой теме, к работе сэра Флиндерса Питри, который авторитетно изложил обычаи и установления Египта во времена фараонов. Историю Египта на протяжении тысячелетий, в течение которых он сохранял самобытную культуру под властью фараонов туземных династий, и его последующей борьбы за независимость с Персией, тщетной в конечном итоге, сэр Флиндерс Питри изложил в трех предыдущих томах этой серии. Мой том является продолжением написанных им и начинается с рассказа о том, как персы отступили перед македонцами. Повествование в нем доводится до момента, когда македонцы потерпели поражение от римлян. По некоторым вопросам, связанным с иероглифическими надписями, неоценимую помощь мне оказал мистер С.Р.К. Глэнвилл, с которым я советовался во время отсутствия сэра Флиндерса Питри. Мистеру Х.И. Беллу я признателен за предоставленные мне разнообразные новейшие публикации, которые еще недоступны в читальном зале Британского музея. Я особенно благодарен мистеру Г.Ф. Хиллу не только за советы касательно монет, но и за то, что специально для меня были изготовлены новые гипсовые отливки некоторых из них, чтобы улучшить качество фотографий. И наконец, я не могу не поблагодарить мою дочь за ее помощь в подготовке алфавитного указателя.
Э. Б.
Глава 1
Александр Великий
Осенью 332 года до н. э. армия македонян и греков числом около 40 тысяч воинов вторглась в Египет. Ее вел молодой царь Македонии Александр, который за два года до того выступил в поход на громадную Персидскую империю в качестве главнокомандующего войсками эллинских государств. Прежде чем достигнуть Египта, он разбил собранную персидскими сатрапами армию у реки Граник в Малой Азии и войско самого великого царя Дария при Иссе на сирийском побережье. К осени 332 года до н. э. персидская держава исчезла с приморских земель Восточного Средиземноморья, за исключением Египта. Там еще правил сатрап Мазак от имени великого царя (вероятно, в качестве заместителя сатрапа Савака, оставившего Египет, чтобы соединиться с царем Дарием на Иссе). Александр должен был овладеть Египтом и, возможно, расположенной западнее Киреной, прежде чем отправиться в страны Востока, так как его враги были еще сильны на море, а у Александра не было флота, чтобы противостоять им. Единственный способ для него обеспечить себе базу состоял в том, чтобы овладеть всеми портами Восточного Средиземноморья и оставить вражеские флоты без возможности где-либо встать на ремонт или запастись провизией. Так и вышло, что армия ионийцев, как египтяне называли греков (на древнегреческом iaones, на персидском yavana, на иврите yavan), вступила на древнюю землю фараонов.
Греческие воины не были совершенно незнакомы египтянам. Во времена Геродота, за век до вторжения Александра, египтяне смотрели на греков сверху вниз как на нечистых чужеземцев, но тем временем они начали освободительную борьбу против персов, в которой египетские цари получили в помощь войска, присланные греческими государствами; египтяне и греки сражались плечом к плечу с общим врагом. Всего за десять лет до прихода Александра последний фараон, чье египетское имя греки восприняли как Нектанеб, был свергнут, и персидское правление было восстановлено. Поэтому египтяне увидели в войске Александра, слава об удивительных победах которого опережала его, могущественных друзей и освободителей[1]. Борьба с Персией продолжалась; египтяне с греками по-прежнему оставались союзниками. В то время едва ли египтяне могли понимать, что на этот раз ионийцы пришли в Египет не союзниками, а хозяевами. Они прибыли в Египет, чтобы утвердиться там более прочно и править им дольше, чем персы. После предыдущих иноземных вторжений гиксосов и прочих Египет раз за разом в конце концов возвращал себе свободу и устанавливал новые династии фараонов из своего народа, сохранив с незапамятных времен древние народные традиции в государственном строе, культуре и языке; но теперь уже никогда, до скончания времен, на берегах Нила не будет править фараон египетской крови. С приходом Александра Египет на тысячу лет покорится чужеземным правителям эллинистической цивилизации, македонянам и римлянам, а в конце тысячелетия Египет, ставший частью исламского мира, будет совсем другой страной, с другим языком, другим общественным строем, другой религией. Боги, которым тысячелетиями поклонялись жившие на египетской земле, будут навсегда забыты и занесены пылью.
Египтяне, приветствовавшие в 332 году до н. э. Александра как освободителя, не предполагали, что такой исход возможен. Персидская власть в стране рухнула без сопротивления. Персидский гарнизон был достаточно силен, чтобы сокрушить греческого авантюриста Аминту, который сражался на стороне персов при Иссе и после битвы вторгся в Египет с 8 тысячами человек; возможно, египтяне в конечном счете обернулись против него из-за грабежей[2]. Но и речи не могло быть о том, чтобы сопротивляться армии Александра. Тогдашний сатрап Мазак приказал городам Египта, начиная с Пелусия, открыть ворота перед завоевателем. Оставив в Пелусии гарнизон, Александр двинулся по восточному рукаву Нила сначала в Гелиополь, потом в Мемфис. Согласно Курцию Руфу, Мазак доставил Александру в Мемфис 800 талантов и ценности из царского дома. Македонец вошел во дворец фараонов как царь. Согласно «Истории Александра Великого», написанной в Египте, вероятно, в III веке н. э., Александр даже был коронован в мемфисском храме Птаха по примеру древних фараонов. Магаффи полагал, что это утверждение – та из немногочисленных составляющих легенды, в которых отразился исторический факт. Возможно, оно и верно, но нужно помнить, что целью «Истории» отчасти было польстить национальным чувствам египтян и представить Александра истинным наследником исконных царей страны. Автор придумал или пересказал историю о том, что на самом деле Александр приходился сыном Нектанебу, который, будучи магом, принял форму змеи, чтобы вступить в связь с женой царя Филиппа Македонского. Похоже что его рассказ о ритуале восшествия на трон в Мемфисе придуман с той же целью.
Однако есть серьезные основания полагать, что Александр действительно оказывал явные почести местным богам. Его поведение коренным образом отличалось от характерного для персидских завоевателей, вызвавших всенародное негодование убийством священного быка Аписа. По прибытии в Мемфис Александр приказал принести жертвы священному быку и другим местным божествам. Религия персов, как и религия евреев, заставляла их с презрением смотреть на идолопоклонство иных народов; но греки, как бы высоко они ни ставили свою культуру в сравнении с варварской, испытывали странное благоговение перед лицом такой древней традиции, как египетская. Греки всегда считали Египет страной чудес. Поэмы Гомера, знакомые с детства, связывали Египет с давно прошедшей эпохой героев. Немыслимая древность, грандиозные памятники и храмы исполинских размеров, исстари сохраняемый уклад жизни, загадочный и диковинный во многих своих чертах, необычность и очарование страны, питаемой таинственным Нилом, – все это формировало в сознании греков уникальный образ Египта. И вот они оказались в этой чудесной стране, среди колонн и пальмовых рощ, в земле, которая для их отцов всегда была чем-то странным и далеким, как и сами ее обитатели. Александр принес жертвы египетским богам, но не забыл, что является поборником эллинской культуры. Он также устроил в Мемфисе гимнастическое и музыкальное празднество по греческому обычаю. В соревнованиях приняли участие некоторые прославленные музыканты и актеры греческого мира. Как они оказались в нужный момент в этом месте, во многих милях вверх по течению Нила? Низе, защищавший точку зрения, согласно которой их наверняка пригласили заранее, предположил: их присутствие в Египте служило доказательством того, что Александр договорился с Мазаком о капитуляции Египта еще до начала вторжения. Магаффи же полагал: греческие актеры приехали в Египет на всякий случай и, может быть, устроили «небольшой артистический сезон в Навкратисе среди греческих друзей», чтобы быть готовыми к тому, что они могут понадобиться Александру. Можно строить какие угодно предположения, но наверняка мы этого никогда не узнаем.
Одно из важнейших свершений Александра в Египте – основание Александрии. Летом 332 года до н. э. Александр занял и разрушил Тир, крупный портовый город Восточного Средиземноморья. Возможно, он хотел заложить в Египте новый город-порт – «македонский Тир», – который занял бы место захваченного Тира[3]. Он выбрал место примерно в сорока милях от старого греческого города Навкратиса, сообщавшегося с внутренними землями через канопский рукав Нила.
«Что касается местонахождения города, то внимание часто обращалось на то, почему на роль мировой столицы был выбран никудышный египетский городишко Ракотис. Канопское устье Нила давно обслуживало сравнительно небольшой объем морской торговли с чужестранным Левантом, которую до той поры вел Египет. Из других устий только Пелусийское могло пропустить судно крупнее рыбачьей лодки. Даже Канопское устье преграждала опасная отмель. Если торговые корабли могли войти в него, тем не менее оно не было удобной гаванью для македонских военных эскадр, которым предстояло отныне удерживать Левант. Вход, выход, условия на берегу, не способствовавшие ни здоровью, ни безопасности, – все говорило против этого устья. Но в Ракотисе, на несколько миль западнее, Александр нашел сухой известковый участок, возвышающийся над уровнем дельты, недалеко от ответвлявшегося от Нила судоходного канала, являвшегося в то же время источником питьевой воды, куда лишь в незначительных количествах попадал канопский ил, который от мыса Абукир вода несет в море. Кроме того, он прикрыт островом, который, если соединить его с материком при помощи дамбы, создал бы дублирующие гавани на случай морских ветров, откуда бы они ни подули. Это было одно из мест в Египте, подходящих для безопасного открытого порта, куда могли бы входить македонские морские суда и особенно боевые корабли, у которых в ту эпоху уже начали увеличиваться грузоподъемность и осадка»[4].
Страбон дает нам понять, что на месте основания города, когда туда прибыл Александр, находился только рыбацкий поселок. «Впрочем, прежние цари египтян, довольствуясь тем, что они имели, и совершенно не нуждаясь во ввозных товарах, были враждебно настроены против всех мореплавателей, в особенности же против греков (потому что те в силу скудости своей земли были грабителями, алчными на чужое добро); они установили охрану на этом месте, приказав ей задерживать всех, кто приближался к острову. Местопребыванием этой стражи цари назначили так называемую Ракотиду, которая в настоящее время представляет часть города Александрии, расположенную над верфями, но в те времена это было селение; окрестности этого селения они отдали пастухам, которые также могли воспрепятствовать нападению чужеземцев»[5]. «Пастухи» (βούκολοι) – дикое и грозное племя, сами разбойники в своем роде, если верить сочинению Гелиодора.
Примерно в миле перед участком, на котором остановил выбор Александр, лежал остров, называемый греками Фаросом, длиной около трех миль, составленный из остатков былой гряды отдельных островов. Гомер говорил, что в это место приплывают тюлени полежать на берегу, и утверждал, что это хорошая гавань. Высказывалось предположение, что в то время, когда Александр осматривал побережье, Фарос был всего лишь обиталищем местных рыбаков, и именно Александр и его преемники из династии Птолемеев первыми создали там крупный порт мировой торговли. Однако недавние изыскания Гастона Жонде, главного инженера управления портов и маяков Египта, поставили перед исторической наукой новую задачу. Он обнаружил под водой остатки крупных и массивных портовых построек, молов и причалов, в отдельных местах выступающих на четверть мили за пределы того, что в древности было островом Фа-рос; и вопрос о том, были ли они частью греческой Александрии или сооружениями более древней эпохи, заброшенными и обратившимися в руины задолго до того, как этим путем прошел Александр, до сих пор не снят. Сам господин Жонде склонен думать, что затонувшую гавань построил великий Рамсес для обороны от морских пиратов. «Использована колоссальная масса материала, как и во всех сооружениях фараонов; наверняка его транспортировка и сами работы представляли бульшую трудность, чем доставка камней для строительства великих пирамид»[6]. Французский ученый Реймон Вайль выдвинул теорию о том, что упомянутые сооружения – это остатки сооружений, построенных по приказу правителя критской морской державы второго тысячелетия до н. э., которая в то или иное время, как он полагает, владела этим участком египетского побережья[7]. Мне представляется, что разумнее всего не торопиться с выводами до тех пор, пока они не будут изучены подробнее. Как бы то ни было, затопление этих построек произошло из-за внезапного затопления почвы в этом районе, причиной которого стала либо сейсмическая активность, либо простое оседание аллювиальной почвы[8].
За время, истекшее с греко-римской эпохи, уровень александрийской почвы понизился в среднем как минимум на 7 1/2 фута, и, видимо, остатки города Александра и Птолемеев теперь в основном похоронены под слоем воды[9]. Из-за этого археологам труднее, чем когда-либо, реконструировать картину древней Александрии. Мы знаем, что Александр спроектировал город по регулярному прямоугольному плану, который за столетие до того вошел в моду при строительстве городов с подачи Гипподама Милетского. Александр пригласил архитектора Динократа, который, согласно «Истории Александра Великого», был родосцем[10]. Город в том виде, как он его спланировал, тянулся вдоль перешейка между озером Мареотида (Марьют) и морем. Праздник основания города отмечался в 25-й день месяца тиби, то есть настоящая церемония основания должна была состояться примерно 20 января 331 года до н. э. Впоследствии сложилось предание о том, что архитекторы разметили на земле план города белой мукой, взятой из довольствия воинов, и в том, что случилось потом, увидели предзнаменование будущего величия города; правда, до нас дошли две противоречащие друг другу версии этой истории[11].
Первоначально население Александрии, видимо, состояло из македонцев и греков; нам неизвестно, каким образом Александр собрал семьи, образовавшие первое ядро. Позднее большую часть городских жителей составили коренные египтяне, хотя они и не принадлежали к привилегированным гражданам. История, о которой мы поговорим чуть ниже, рассказывает, что множеству египтян из соседнего Канопа пришлось переселиться в новый город. Несколько поколений спустя значительную долю населения Александрии составил еврейский элемент, однако утверждение Иосифа Флавия, будто бы Александр особенно поощрял переселение евреев в Александрию и давал им права граждан, весьма сомнительно. У Александра не было причин интересоваться евреями больше других. В те дни они не были тем, чем стали впоследствии, – народом, который теснейшим образом связан с торговлей и финансами. «Мы не народ торговцев», – мог еще написать Иосиф Флавий в I веке н. э. (Против Апиона. I. § 60).
Еще одно примечательное событие, помимо основания Александрии, связанное с зимним пребыванием Александра в Египте, – это его поездка в храм Аммона – так греки называли Амона – в оазисе, который теперь носит название Сива. Во-первых, с этим связана одна проблема: почему Александр решил предпринять дальнее путешествие через пустыню «к одинокому и далекому храму в пальмовых рощах Сивы» на расстоянии пятнадцати–двадцати дней пути от долины Нила, когда в самом Египте были великолепные древние храмы Амона? То, что оракул Амона в оазисе в течение многих поколений пользовался особым престижем в греческом мире, представляется достаточной причиной. К этому оракулу обращался Крез, как и к другим главнейшим греческим оракулам VI века до н. э. Пиндар сочинил гимн Аммону. Мы слышим о том, как греки – элейцы, спартанцы, афиняне – отправляли посольства в святилище, чтобы испросить совета оракула, еще до Александра. Еврипид говорит о «безводном обиталище Аммона» как о знакомом для греков месте, куда естественно было отправиться тому, кто нуждался в божественном наставлении.
Греческая легенда гласит, что Персей и Геракл приходили советоваться с Аммоном перед своими великими подвигами. Каллисфен, входивший в окружение Александра позднее (или в то же время), подтверждает, что именно мысль об этих двух героях была одним из главных мотивов, подтолкнувших Александра к путешествию[12]. Быть может, для современного практичного человека такой мотив звучит наивно, но он полностью согласуется с характером Александра. Перед нами определенно загадка, но она состоит не в том, почему Александр хотел посоветоваться с бараньеголовым богом, а в том, почему греки вообще стали обращаться к этому святилищу, столь отдаленному от внешнего мира и такому труднодоступному.
Картуши Александра Великого
Очевидно, что престиж Амона у греков был связан с усилением влияния Кирены, греческой колонии на африканском побережье. Поскольку Кирена поддерживала постоянные торговые отношения с остальными греческими государствами Средиземноморья, оттуда корабли легко добирались вдоль берега до Паре-тония, расположенного примерно в 345 милях восточнее, а из Паретония шел сравнительно легкий караванный путь от побережья через пустыню до Сивы, который верблюды проходили примерно за семь дней. Киренцы, таким образом, были промежуточным звеном между святилищем Аммона и греческим миром, а дорога из Паретония – обычным путем, которым греки добирались до святилища. Надо отметить, что Геродот получил свои сведения о Сиве от киренцев, которые там бывали[13]. И это может разрешить еще одну проблему, связанную с путешествием Александра, а именно почему он отправился в Сиву через Паретоний, а не через Нитрийскую пустыню – более прямым путем из Египта, как указывает Магаффи. Хогарт предполагает, что Александр оказался в Паретонии, так как шел из Египта, чтобы овладеть Киреной, но, когда его встретили киренские послы, доставившие Александру несколько сотен великолепных лошадей в знак покорности их города, он решил не продолжать путь и вместо этого отправился в глубь страны в святилище Аммона. Однако ни один античный автор не упоминает о походе на Кирену. Даже рассказа о киренских послах нельзя найти у Арриана, и возможно, он восходит к Клитарху, у которого Диодор и Курций Руф в основном черпали информацию, а это недостоверный источник. Магаффи до такой степени поверил в это утверждение, что предположил, будто киренские послы действительно встретили Александра; однако он полагал, что они предложили ему не лошадей, а проводников до Сивы[14].
Как повествуют все античные авторы, поход в Сиву через пустынные пески сопровождался различными чудесными событиями. Прошел необычный в тех местах ливень, облегчив жажду, мучившую спутников Александра. Два ворона летели перед караваном, показывая им дорогу, скрытую сыпучими песками. Две змеи проползли перед ними и «издали возглас». Доподлинно известно, что об этих происшествиях рассказывали люди, действительно бывшие с Александром на Востоке. Самое поразительное – с двумя змеями – было описано Птолемеем, сыном Лага, который, если сам и не участвовал в походе (нам неизвестно, сопровождал он Александра или нет), то, во всяком случае, на протяжении многих лет должен был находиться в ежедневном контакте с людьми, которые там были; и мы знаем, что рассказы Птолемея об Александре, как правило, отличаются здравомыслием и достоверностью. У этих историй на самом деле есть очень простое разумное объяснение. Дожди еще случаются в этом районе, хотя и редко. Воронов и змей не так уж сложно встретить в пустыне; а группа всадников, бредущих по безлюдным местам, испугает любое встречное животное – естественно, что те бежали перед наступающим караваном[15].
Более-менее верную картину того, что представлял собой оазис оракула Аммона в те дни, можно составить из сопоставления рассказов древних авторов (самый полный отчет можно найти у Диодора, XVII.50) с данными о современной Сиве[16]. В двух милях друг от друга две главные деревни – Сива и Агхурми, – жмутся на двух одиноких каменистых холмах, которые возвышаются над окружающей гладью пальмовых рощ и оливковых садов. Остатки храма Амона находятся в Агхурми. Под холмом, в нескольких сотнях метров южнее, расположены развалины другого храма, поменьше (местные жители в наши дни называют это место Умм-Убейда). Как говорят, развалины свидетельствуют о том, что оба храма были перестроены в правление персов в Египте. Что касается храма Амона, то «рядом с древним Источником Солнца еще можно различить линию стены из квадратных камней, образующую прямоугольный двор примерно 50 на 48 ярдов. Сам храм состоял из нескольких дворов и залов с колоннами и без них, теперь полностью разрушенных; дальше, в конце главного четырехугольного двора, находилось святилище. Два помещения, прилегавшие когда-то к нему, исчезли, и едва-едва можно разглядеть место, где находились врата, которые вели в него; но от входа в само святилище и от передней его части остались значительные фрагменты. Это был зал длиной примерно 30 футов, шириной от 10 до 13 футов, выложенный огромными блоками, из которых несколько до сих пор стоят на своих местах, украшенные не меньше чем тремя рядами надписей и рисунков… Там, во тьме, обитал Амон, и его священная барка покоилась на алтаре или, скорее, на кубе из камня или дерева в центре зала. Античные историки рассказывают, что барка была сделана из «золота»; это значит, что она была из дерева, обшитого золотыми листами. По-видимому, в длину она была короче святилища примерно на 7–8 футов. Можно представить ее себе, глядя на рельефы Луксора и Карнака, где изображены барки фиванского Амона с тонким и высоким силуэтом, носом и кормой, украшенными бараньей головой, экипажем из богов, грузами из фигур, их наосами под белыми вуалями, хранящими изображение бога в своих непрочных стенах. Как сообщает Каллисфен, изображение украшала масса изумрудов и других драгоценных камней. Надо представить его себе в виде такого составного идола, какие упоминаются, например, в Дендере, тело которого изготавливалось из разных материалов и обычно скреплялось воедино на каркасе из дерева или бронзы. Вышеупомянутые изумруды конечно же не то, что мы называем изумрудами, а те или иные из многочисленных камней, которые египтяне называли общим термином мафкат, – в основном зеленый полевой шпат, предок изумруда, активно использовавшийся в Саисский период[17]. Как и все статуи оракулов, эта тоже была сконструирована таким образом, чтобы иметь возможность совершать ограниченное количество жестов, двигать головой, взмахивать руками. Жрец тянул за веревку, заставляя изваяние двигаться, и изрекал пророчество. Все знали об этом, но никто не обвинял его в мошенничестве. Жрец был орудием в руках бога – бессознательным орудием. В какой-то миг дух охватывал его; он шевелил статуей и собственными губами; он отдавал свои руки и голос, но именно бог повелевал его действиями и вдохновлял его речи»[18].
Что же касается пребывания Александра в святилище Амона, то Каллисфен рассказывает следующее: «Жрецы разрешили только одному царю войти в храм в обычной одежде; остальные же должны были переодеться (кроме Александра) и слушать изречения оракула, находясь вне храма, и только он – из храма. Ответы оракула давались не словами, как в Дельфах и у Бранхидов, но большей частью кивками и знаками… причем прорицатель принимал на себя роль Зевса (то есть Амона. – Авт.). Однако прорицатель в точных выражениях сказал царю, что он – сын Зевса»[19].
В более поздних вариантах рассказа, дошедших до нас через Клитарха, он был расширен и приукрашен. В них Александр спрашивает, дарует ли ему бог, его отец, всю землю во владение, и получает ответ, что бог непременно так и сделает. Затем он спрашивает, понесли ли наказание замешанные в убийстве его отца Филиппа, и оракул восклицает, что вопрос этот нечестив, потому что его отцу, богу, невозможно навредить. Эти новые подробности могут быть следствием развития мифа об Александре, возникшего еще до его смерти. С другой стороны, когда Александр объяснял полученными от Амона указаниями причину того, что в Индии он принес жертвы отдельной группе богов[20], кажется вполне определенным, что такое повеление ему действительно дал оракул. По-прежнему остается неразрешенным вопрос, когда были получены указания: во время того исторического визита Александра в святилище или позднее через посланцев, так как мы знаем в связи с обожествлением Гефестиона, что Александр и впоследствии продолжал советоваться с богом через посланцев.
У нас нет причин сомневаться, что жрецы Амона действительно приветствовали Александра как сына верховного божества. Однако теперь считается, что это было общепринятым обычаем для всех царей Египта[21]. Каждый фараон со второго тысячелетия до н. э. официально был сыном Амона-Ра. Согласно установленной формуле, Амон даровал своим царственным сыновьям «головы всех живущих», «все страны, все народы», «все земли до самого круговращения солнца». Возможно, Тарн прав, считая, что Александр не проходил «ритуала», если под этим понимать конкретную церемонию коронации, обычную для фараонов, но он, очевидно, не мог советоваться с оракулом, не пройдя через тот или иной обряд; и такой ритуал, во время которого жрецы Амона приветствовали того, кто приходил к ним в качестве царя Египта, почти наверняка должен был включать в себя объявление царствующего фараона происходящим от божественного отца и обладающим всемирным господством.
Примечательно не то, что египетские жрецы назвали Александра сыном Амона, а то, что именно за это высказывание ухватились греки и, вероятно, сам Александр, который со всей серьезностью утверждал это перед всем миром. Александр «продолжал», как пишет Хогарт[22], быть сыном Амона «в странах, к которым Амон не имел никакого отношения… Неясно, имелись ли в обычной практике центральноазиатских религий какие-либо средства или прецеденты, почти такие же буквальные и убедительные, как в практике египетской религии, установления сыновне-отцовской связи между смертным правителем и верховным божеством[23]. Но достоверно известно одно: все время, пока приверженцам Александра его божественное происхождение служило для оказания ему почестей во время похода, а его критикам из греков и других народов – для осмеяния, его отцом неизменно выступал Амон. После смерти Александра его обожествление, поддерживаемое его преемниками в собственных же целях, и в Малой Азии, и в Сирии, и в Вавилоне от начала до конца было связано с египетским, а не каким-либо иным азиатским пантеоном. В интересах греков и проэллинских правителей он иногда появлялся на монетах с атрибутами героя, например Геракла; но если его изображали в виде полноценного бога, то бараньи рога Амона обязательно выглядывали среди его прекрасных волос… Именно в роли Зуль Карнейна, Двурогого, он попал из доисламского фольклора в Коран и оттуда снова в псевдоисторию половины Азии и большей части Африки. Эти-то факты, более чем какие-либо иные свидетельства, склоняют меня к мысли, что Александр сам настаивал на своем происхождении от Амона после отъезда из Египта и с большим или меньшим успехом устанавливал свой культ везде, куда бы ни шел».
По словам Птолемея, из Сивы Александр со спутниками вернулся в Египет, направившись прямым путем через Нитрийскую пустыню в Мемфис. Аристобул утверждает, что он вернулся, как и шел, через Паретоний, но Птолемей в этом вопросе обладает бульшим авторитетом. В Мемфисе Александр принял посольства от греческих государств и подкрепления из Македонии. Дети египетской земли снова увидели проявление культуры ее новых господ в великом музыкально-гимнастическом празднестве. Приносились жертвы Зевсу-царю, конечно же по эллинскому обычаю. Однако мы знаем, что этот бог с греческим именем и греческими ритуалами в некотором роде отождествлялся греками с египетским Амоном, сыном которого Александр только что был объявлен.
Весной 331 года до н. э. – с возвращения Александра из Сивы не могло пройти больше месяца или двух – он покинул Египет, отправившись в поход против персидского царя, находившегося в Месопотамии. Мертвому телу Александра суждено было однажды вернуться в Египет, но сам он уже туда не возвратился. По всей вероятности, он почти не видел нильской долины выше Мемфиса, хотя македонцам удалось занять территорию по крайней мере до первого порога, ибо мы читаем о том, как Александр приказывает доставить Аполлонида Хиосского (грека, перешедшего на сторону персов и захваченного войском Александра) в Элефантину для содержания под стражей[24].
Александр оставил Египет четко организованной провинцией новой македонской империи. «Египет он устроил таким образом: назначил в Египте двух номархов[25] египтян, Долоаспа и Петисия[26], и между ними и поделил египетскую землю. Когда Петисий отказался от своей должности, Долоасп принял всю власть. Фрурархами он назначил «друзей» (phrūrarchoi tōn hetairōn): в Мемфисе Панталеонта из Пидны, в Пелусии Полемона, Мегаклова сына, из Пеллы. Командовать чужеземцами он поставил этолийца Ликида, «писцом» (grammateus) у них Эвгноста, Ксенофантова сына, одного из «друзей» (hetairoi), а «наблюдателями» (episkopoi) Эсхила и Ефиппа, сына Халкидея. Правление соседней Ливией он поручил Аполлонию, сыну Харина, а управление Аравией, прилегающей к Героополю, Клеомену из Навкратиса. Ему было приказано оставить (местных) номархов управлять их номами по их собственным обычаям, как установлено исстари; ему же собирать с них подати, которые им велено было вносить. Стратегами в войске, которое оставалось в Египте, он назначил Певкеста, сына Макартата, и Балакра, сына Аминты (двух своих самых знатных македонян), навархом же Полемона, сына Ферамена… Говорят, что Александр разделил власть над Египтом между многими людьми, восхищаясь природой этой страны, которая представляла собой естественную крепость: поэтому он и счел небезопасным вручить управление всем Египтом одному человеку»[27].
Перед нами краткий очерк организации, описать которую подробно у нас нет возможности. Ей суждено было просуществовать очень недолго. Еще в дни Александра эффективное управление страной, видимо, вскоре было сосредоточено в руках одного человека, грека Клеомена из Навкратиса, ставшего гражданином новой Александрии, и, по всей вероятности, введенная Александром система перестала действовать, если даже не была полностью отменена. Когда преемники Александра из династии Птолемеев изобрели новую систему, она была основана на других принципах. Насколько можно видеть по короткому изложению у Арриана, установленный Александром принцип устройства подразумевал тщательный контроль. Даже верховное военное командование разделено между Певкестом и Балакром. Клеомен принимает налоги, но их сбором занимаются местные номархи. Высокое положение, отведенное в Александровой системе двум коренным египтянам, – деталь, которая вновь появилась в правление последних Птолемеев. Видимо, Клеомену не хватило ума использовать свои возможности управления финансами, чтобы добиться для себя реальной власти. Такое впечатление, что в греческом мире он вскоре приобрел репутацию человека бесчестного и лихоимца. В Афинах он стал непопулярен из-за того, что вследствие принятых им мер взлетели цены на зерно[28]. Примеры его крутых мер при сборе налогов можно найти в труде по экономике, который (ошибочно) приписывают Аристотелю.
«Александриец Клеомен, будучи сатрапом Египта, когда возник голод, в других местах сильный, в Египте умеренный, запретил вывоз хлеба. Так как номархи заявляли, что нельзя будет внести платежей из-за запрета вывозить хлеб, вывоз он разрешил, но обложил хлеб большой пошлиной, таким образом и ему удалось получать – если не те же платежи от номархов, то от хлеба, вывозимого в небольшом количестве, – большую пошлину, и у них [номархов] не было уже оснований для отговорок. Когда он переплывал тот ном, божеством которого является крокодил, был похищен один из его рабов. Тогда он, созвав жрецов, заявил, что, подвергшись нападению первым, он намерен покарать крокодилов, и дал предписание охотиться на них. Жрецы, чтобы божество их не подвергалось оскорблению, собрав сколько смогли золота, отдали ему, и тогда он отступился. Когда царь Александр поручил ему заселить город около Фароса (Александрию. – Авт.), а торговый порт, находившийся прежде в Канобе, сделать там, он, прибыв в Каноб, заявил жрецам и тем, кто владел там имуществом, что явился с тем, чтобы переселить их. Жрецы и жители, внеся деньги, отдали ему, чтобы он оставил торговый порт у них на месте. Получив их, он тогда уехал, но потом, вернувшись, когда у него уже было готово все, что касалось устроения, стал требовать у них денег в чрезмерном размере: эта сумма, по его словам, составляет для него разницу в том, чтобы торговый порт был здесь, а не там. Так как они сказали, что едва ли смогут дать, он переселил их… Когда хлеб в стране продавался по десяти драхм, он созвал поставщиков (τοὺς ἐργαζομένους) и спросил их, как они желают поставлять ему; они ответили, что за меньшую цену, чем продавали купцам. Тогда он велел купцам передать ему за столько, за сколько они продавали другим, а сам, установив цену на хлеб в тридцать две драхмы, так и продавал. (Видимо, это означает, что он избавился от посредников, и таким образом всю прибыль государству принес сам. – M.) Созвав жрецов, он заявил, что в стране делаются большие расходы на храмы, поэтому необходимо закрыть некоторые храмы и распустить большую часть жрецов. Тогда жрецы, каждый лично и все сообща, отдали храмовые деньги, так как думали, что он действительно собирается сделать это, а каждый хотел, чтобы и храм его оставался у них, и сам он оставался жрецом»[29]. (Если этот довод означал, что они либо должны были пожертвовать частью своих владений, либо отдать большую сумму правительству, тогда едва ли кто из тех, кому было известно громадное богатство египетских жрецов, стал бы спорить с Клеоменом. – M.)
Насколько Клеомен заслужил дурную репутацию, сказать невозможно. Очень просто путем незначительного искажения фактов представить любые решительные действия фискальной власти как несправедливые и деспотичные, к тому же очевидно, что позднее очернение памяти Клеомена было в интересах Птолемеев. Александр, как мы знаем, не хотел его смещать. Арриан приводит цитату из предполагаемого письма Александра Клеомену, в котором первый сообщает: «Если я найду, что и храмы Гефестиону выстроены хорошо, и жертвы в них совершаются как следует, то я прощу тебе все прежние проступки и в дальнейшем, чтобы ты ни натворил, тебе от меня худого не будет». Но Магаффи указывает, что письмо не может быть подлинным, так как в нем упоминается Фаросский маяк, построенный лишь через много лет после смерти Александра. Конечно, возможно, что Клеомен действительно ухитрился сохранить милость Александра, выказывая рвение в делах, особо заботивших Александра, как, например, развитие Александрии и отправление культа Гефестиона. Стоит заметить, что три-четыре века спустя считалось, что Клеомен тесно связан с основанием Александрии, о чем сказано в «Истории Александра Великого», то есть в местной александрийской традиции.
Глава 2
Птолемей I Сотер
(сатрап Египта, 323–305 годы до н. э., царь Египта, 305–283/82 годы до н. э.)
В июне 323 года до н. э. Александр, создав Македонскую империю на всей территории прежней Персидской державы и за ее границами, внезапно скончался в Вавилоне. Примерно через пять месяцев Птолемей, сын Лага, один из его стратегов, прибыл в Египет в качестве сатрапа, назначенный новым македонским царем Филиппом Арридеем. Новый царь, единокровный брат Александра, был слабоумен, и реальную власть осуществляли великие македонские полководцы, служившие Александру, и главным образом Пердикка, конкретные функции которого, до сих пор неясные современным ученым, вероятно, уже были предметом споров среди самих вождей в запутанной борьбе, начавшейся после внезапной кончины великого завоевателя. Ясно, что Пердикка твердо вознамерился занять место верховного регента империи и что, когда военачальники Александра Македонского собрались в Вавилоне, чтобы распределить между собой сатрапии, он был там самым влиятельным человеком. В тот миг сомнения и смятения Птолемей быстро и уверенно понял, что хочет получить для себя – Египет. Пердикка или совет вождей, выступающий от имени слабоумного царя, дал ему желанное назначение, и Птолемей как можно быстрее постарался убраться на безопасное расстояние от будущей схватки, которую он предвидел. «Должно быть, там не обошлось без сделки между Пердиккой и Птолемеем; ценой Птолемея за признание Пердикки был Египет и наделение Арридея (македонского вождя, а не царя. – Авт.) правом организовать похороны»[30].
Как утверждает Диодор[31], среди прочего македонские вожди в Вавилоне договорились о том, что тело Александра должно быть погребено в храме его божественного отца в оазисе Сива. Во всяком случае, Арридею, одному из их числа, было поручено соорудить погребальную повозку и организовать кортеж с беспрецедентным великолепием, и, видимо, Птолемей тут же осознал, что престиж его государства, которое он уже мысленно создал себе в Египте, возрастет безгранично, если оно будет владеть телом великого македонского героя, которое как предмет культа обладало необычайным влиянием на умы людей. Самым естественным местом для погребения Александра были Эги, исконный город македонских царей на родине его династии, и возможно, что сначала возник именно этот вариант, а не погребение в оазисе. Во всяком случае, рано или поздно это стало намерением Пердикки. Но Птолемей его опередил. Когда Пердикка находился в Малой Азии, Арридей, действуя в сговоре с Птолемеем, отправился с погребальным кортежем из Вавилона в Египет. Если перевозить тело в Сиву, то в любом случае пришлось бы (если только не доставлять его в Паретоний по морю) сначала отправиться в Мемфис; видимо, Арридей объявил о том, что направляется в оазис, уже выехав из Вавилона. Птолемей в сопровождении внушительного военного эскорта встретил кортеж в Сирии и завладел телом Александра. Достигнув Мемфиса, он не продолжил путь в оазис. Нам неизвестно, решил ли к тому времени Птолемей, что последним приютом Александра должна стать Александрия. Павсаний сообщает, что тело оставалось в Мемфисе, пока сын Птолемея не переправил его в Александрию примерно сорок лет спустя[32].
Диодор[33], Страбон[34] и другие античные авторы говорят, что именно первый Птолемей положил тело Александра в Семе (Соме) в Александрии, где оно еще находилось и в римские времена. Возможно, это правда, и утверждение Павсания в таком случае объяснялось бы просто тем, что тело несколько лет находилось в Мемфисе, пока гробница в Александрии не была готова его принять. Обычная дорога из Сирии в Александрию, как указывал Магаффи, идет не через дельту, а через Мемфис. Но Павсаний настолько уверенно называет перевозку тела из места его упокоения в Александрию одним из злодеяний Птолемея II, что у него должны были иметься для этого веские основания. Как бы то ни было, в нашем распоряжении имеются источники, свидетельствующие о существовании государственного культа, а имена отправлявших его жрецов служили для датировки документов во всему царству при Птолемее I. В двух документах жрецом называется брат царя Менелай, а так как впоследствии эпонимный жрец государственного культа являлся жрецом Александра, то есть вероятность (хотя это и не утверждается), что Мене-лай был жрецом Александра. Если так, то центром культа первоначально мог быть храм-усыпальница Александра в Мемфисе, а затем он был перенесен Птолемеем II в александрийскую Сему[35].
Македонский вождь с греческим именем Ptolemaios[36], прибывший в Египет в 323 году до н. э. в качестве его нового правителя, был сыном Лага (Лага или Лаага: удлиненная форма имени содержится в папирусе того времени из Элефантины, и, вероятно, это всего лишь греческое La-agos, «вождь народа»)[37]. Когда династия Птолемея приобрела значительный авторитет во всем мире, его происхождение от непонятного Лаага стало считаться довольно постыдным[38]. Есть одна злая история о том, как Птолемей спросил у грамматика, кто был отцом Пелопса, – туманное, как всем было известно, место в мифологии, – грамматик ответил так: «Я скажу, если ты сначала скажешь мне, кто был отцом Лага». Юстин в своей живописной манере преувеличивает контраст между сравнительно скромным происхождением Птолемея и его дальнейшим величием, говоря, что Александр возвысил его из рядовых. Это чепуха. Мы, во всяком случае, знаем, что мальчиком Птолемей принадлежал к своего рода пажам (basilikoi paides) при дворе Филиппа и был близким другом Александра до его восшествия на престол. Лаг, должно быть, принадлежал к мелкой аристократии Македонии. Мать Птолемея звали Арсиноей: официальная генеалогия позднее представляла ее связанной с царским родом, и возможно, не без оснований. В кампаниях Александра Птолемей отличился в качестве командира. Он стал одним из семи телохранителей царя. В Индии он играл особо выдающуюся роль. Насколько нам видна личность Птолемея сквозь туман времени, это был крепкий, чистокровный македонянин с практическим умом, который часто отличает предводителей земледельцев, трезвой осмотрительностью. Он предпочитал заглядывать далеко вперед и действовать наверняка, обеспечив себе надежные преимущества. Для него были характерны нечеловеческая сила, которая заставила его искать наслаждений со многими женщинами, сердечное добродушие, привлекавшее наемников под его знамена со всех греческих земель, – то есть он был человеком скорее крепкой, чем тонкой, телесной и умственной конституции. Однако он не без интереса относился к греческой литературе; молодые македонцы, принадлежавшие к высшему сословию, уже в течение одного или двух поколений учились говорить и читать по-гречески, и Птолемей не только активно старался привлечь к своему двору греческих литераторов, философов и художников, но и сам в качестве автора внес весьма похвальный вклад в греческую историческую литературу. Его перу принадлежит повествование о кампаниях Александра, которое характеризует безыскусная приверженность к фактам и отсутствие риторического краснобайства. Таков был этот человек, который прибыл в Египет в качестве сатрапа при царе Филиппе Арридее и его соправителе Александре, младенце, сыне Александра Великого, родившемся уже после его смерти. Птолемею в то время было около сорока четырех лет.
Согласно вавилонским договоренностям, Клеомен должен был остаться у власти в Египте как помощник Птолемея (гипарх)[39]. Клеомен был предан интересам Пердикки, и потому была надежда, что он будет действовать в качестве сдерживающей силы при новом сатрапе. Но как только Птолемей в неподчинение Пердикке завладел телом Александра, между сатрапом и будущим регентом началась открытая война. Клеомен мог сдерживать Птолемея только до тех пор, пока тот боялся открыто порвать с Пердиккой. Теперь разрыв произошел; и Птолемей добился того, чтобы Клеомена обвинили в чем-то, осудили на смерть и казнили. Конечно, теперь ему следовало ожидать полномасштабного нападения Пердикки, как только у того будут развязаны руки. Тем временем Птолемей расширил свои владения вдоль африканского побережья, овладев древней греческой колонией Киреной и ее дочерними городами. В дни смуты после смерти Александра в тех местах разразилась гражданская война; одну сторону возглавлял спартанский наемник Фиброн, другую – критянин Мнасикл. Беженцы, принадлежавшие к побежденной стороне, отправились в Египет, чтобы упросить сатрапа вмешаться. Птолемей отправил сухопутные и морские силы под началом олинфянина Офелла, состоявшего у него на службе, которые должны были занять страну, и оба наемника объединили силы для борьбы против него. Офелл разбил их, захватил Фиброна и распял его. Затем, в конце 322 года до н. э., Птолемей лично явился в Кирену, чтобы овладеть ею. Покорение государства столь выдающегося, имевшего более чем вековую традицию республиканской свободы, начиная с падения былой греческой династии ее правителей, македонским вождем произвело громадное впечатление на греческий мир. Киренцы так и не согласились на роль зависимой провинции. В будущем они часто будут не подспорьем македонских царей Египта, а колючкой у них в боку. И все-таки Кирена подарила эллинистическому Египту, как Ирландия Англии, целый перечень блестящих личностей, таких как поэт Каллимах, географ Эратосфен, а также множество воинов. Судя по папирусам, среди воинов-колонистов Фаюма и Верхнего Египта была значительная доля киренцев. А тем временем Птолемей оставил Офелла в Кирене в качестве правителя.
Пердикка напал весной 321 года до н. э. Тогда ясно стала видна вся дальновидность Птолемея, обеспечившего для своей власти хорошо защищенный территориальный базис. Пердикке не удалось перебраться через восточный рукав Нила, и он был убит в собственном же лагере. Птолемей мог бы заступить на его место. Но он знал, что безопаснее быть правителем Египта, чем регентом империи. Осенью 321 года до н. э. победившие вожди, принадлежавшие к партии противников Пердикки, встретились в Трипарадисе, городе где-то на севере Сирии, чтобы снова договориться о разделении власти в империи. Право Птолемея владеть Египтом и Киренаикой было подтверждено.
На протяжении сорока лет последовавшей борьбы между великими македонскими вождями – людьми, научившимися воевать под началом Александра, Птолемей, сын Лага, оставался у себя в африканской провинции в безопасности, как черепаха в панцире, пока армии отправлялись в походы во все концы Азии и флоты соперников бились в Эгейском море. Однако в какой-то степени он все же высовывался из панциря и вмешивался в схватку, ибо правившая Египтом власть теперь была эллинской по характеру и имела разнообразные политические, экономические и культурные связи с другими государствами греческого мира. Из Александрии она смотрела на север, в сторону моря, с интересом, которого не мог испытывать ни один прежний египетский фараон. И Птолемей, желая сохранить безопасное место и средоточие власти в стране у Нила, одновременно стремился завладеть некоторыми другими соседними странами, которые словно придатки прилегали к его сатрапии, а также заполучить базу для своих морских сил на островах и левантийском побережье. Эллинистический Египет был державой более средиземноморской и менее африканской, чем старый Египет фараонов, которые иногда расширяли свои владения до Судана и дальше. Птолемеев никогда не заботили завоевания в верховьях Нила дальше первого порога. Но Птолемей стремился удержать Южную Сирию, как и фараоны-завоеватели до него, – дополнение к подвластным ему землям на востоке, как Киренаика на западе. Он также хотел овладеть Кипром, как Амасис II в VI веке до н. э., а кроме этого, расширить сферу влияния на греческие Эгейские острова, города на побережье Малой Азии и некоторые области даже в самуй Греции. Для этого он должен был вылезти из панциря и рискнуть. Чтобы Египет в новые дни мировой политики и мировой торговли стал сильным и процветающим государством, он не мог оставаться изолированным и самодостаточным. Например, на нильской земле не произрастал высокий корабельный лес, но его доставляли из Ливана и с кипрских холмов. Торговый путь, который шел по Нилу в Александрию и обратно, имел соперника – путь из Персидского залива через Аравию в Газу, и правителю Египта необходимо было контролировать оба.
Поскольку эта книга посвящена больше истории Египта, чем династии Птолемеев, то в ней не будут рассматриваться действия Птолемея и его наследников в войнах и дипломатии как одной из сил греческого мира. Однако следует отметить, насколько превратности мировой политики повлияли на внутреннюю историю Египта. За два года[40], последовавшие за заключением в Трипарадисе договора, Птолемей овладел Сирией южнее Ливана, страной, которую мы теперь зовем Палестиной, а греки в те дни обычно звали Келесирией («Полой Сирией» – из-за впадины Иорданской долины). Правителем в этой области, согласно договоренностям Трипарадиса, был грек из Амфиполя по имени Лаомедонт. Птолемей попытался сначала выкупить у него страну, а после отказа Лаомедонта занял ее силой. Именно в тот раз, согласно общепринятому мнению, Птолемей захватил Иерусалим в день субботний, когда религия запрещала иудеям оказывать сопротивление[41]. Буше-Леклерк считает более вероятным, что это произошло в 312 году до н. э. Однако едва ли возможно, что Птолемей не захватил города этого странного народа (каким они казались грекам), когда расширял владения в Палестине в 320–318 годах до н. э. Когда сатрап Фригии Антигон вернулся из восточных провинций в 316 году до н. э., одержав победу над оставшимися сторонниками Пердикки, он, в свою очередь, стал представлять для своих старых союзников ту же опасность, которую представлял Пердикка. Селевк, сатрап Вавилона, бежал в Египет, и против Антигона был создан новый союз вождей. Тем, что Птолемей занял Келесирию, он, очевидно, дал основание для недовольства любому, кто желал быть хозяином всей империи. В 315 году до н. э. Антигон вторгся в Келесирию, и Птолемей благоразумно отступил – черепаха заползла в панцирь. Антигон захватил города сирийского побережья до самой Газы. Но морской флот Птолемея под командованием Селевка тем временем продолжил войну с Антигоном на море. Птолемей бросил войско на Кипр. Этот остров с его смешанным греко-финикийским населением не был единым. Несколькими областями Кипра управляли независимые царьки. Некоторые из них стояли на стороне Антигона; династы же Сол, Саламина, Пафоса и Китр поддерживали Птолемея. С прибытием войска Птолемея начала устанавливаться его власть на всем острове[42]. Кипр мог пригодиться Птолемею в качестве военно-морской базы в борьбе против Антигона, который теперь владел финикийскими портами на сирийском побережье. В 313 году до н. э. Птолемей, потеряв Келесирию, временно утратил и Кирену. Через девять лет подчинения чужеземному македонскому правителю город взбунтовался и осадил цитадель с египетским гарнизоном. Однако Птолемей сумел послать новое экспедиционное войско, которое подавило восстание в Кирене и снова установило в городе власть египетского наместника Офелла. В тот же год Птолемей лично отправился на Кипр и довершил завоевание острова. Финикийский царевич Кития Пумаййятон (Pûmayyaton, Пигмалион), поддерживавший Антигона, был казнен. В 312 году до н. э. Птолемей снова отправился из Египта в Палестину, чтобы нанести удар и вернуть ее под свою власть. Антигон оставил командовать там своего сына Деметрия, в то время юношу двадцати лет. Деметрию суждено было пройти блестящий и полный приключений жизненный путь и прославиться в истории под прозвищем Полиоркет (Poliorkētēs, Осаждающий), но при встрече весной 312 года до н. э. у границ Палестины с бывалым воином, который сражался под началом Александра, Деметрий потерпел сокрушительное поражение. Битва при Газе отмечает целую эпоху в истории, ибо именно после этого разгрома Деметрия Селевк увидел, что перед ним открылась дорога для возвращения в Вавилон, и зарождение империи Селевкидов в Азии датируется этим годом (312 до н. э.). Во второй раз Птолемей оккупировал Палестину и овладел финикийскими городами[43].
Затем судьба совершила неожиданный поворот, как часто бывало в те бурные дни. В 311 году до н. э. Деметрий разбил войско Птолемея в Северной Сирии, и Антигон с севера отправился походом в Палестину. Во второй раз Птолемею пришлось убраться из Палестины в свой черепаший панцирь. Одновременно снова взбунтовалась Кирена, на этот раз не против Офелла, а под его предводительством. Для Птолемея настали нелегкие времена. В 311 году до н. э. он и остальные македонские вожди, его союзники, – правитель Македонии Кассандр и правитель Фракии Лисимах – заключили мир с Антигоном, по условиям которого Птолемей оставлял Келесирию. Это была лишь краткая передышка в длительной борьбе, и вскоре война продолжилась, как прежде. Теперь усилия Птолемея были в основном направлены на установление господства на море. Он потерял Палестину и Финикию, но все еще владел Кипром. Все македонские вожди признавали свою приверженность принципам, выраженным фразой «автономия эллинов», и под этим предлогом каждый из них мог выгнать гарнизон своего противника из любого греческого города, который удерживал противник, и поставить вместо него собственный гарнизон в качестве хранителя свободы этого города. Морской флот Птолемея активно действовал после 311 года до н. э. на побережье Малой Азии, вырывая, где мог, города из-под власти Антигона. Агенты Антигона, с другой стороны, пытались переманить на его сторону династов Кипра. С одним из них им это удалось – или, во всяком случае, Птолемей считал, что удалось, – но неясно[44], то ли это был Никокл, царь Пафоса (как пишет Диодор), то ли Никокреонт, династ Саламина, выполнявший роль губернатора провинции при Птолемее, – и правитель был принужден Птолемеем к самоубийству. Несмотря на вражеские происки, Птолемею пока удалось сохранить власть над Кипром. В 308 году до н. э.[45] он даже высадился с войском в самой Греции и поставил свои гарнизоны в Мегаре, Коринфе и Сикионе. В том же году, изгнав из Андроса гарнизон противника, он сделал первый шаг к установлению своего протектората над Кикладскими островами в Эгейском море, который в последующие годы должен был стать важным фактором в Средиземноморском регионе. Делос, являвшийся политическим центром Кикладского архипелага, очевидно по причине его религиозного значения, Птолемей также вырвал примерно в то же время из-под власти Афин, которым Делос подчинялся почти два века. В найденной на Делосе описи храмового имущества упоминается ваза с посвящением: «От Птолемея, сына Лага, Афродите». Также вероятно, что в 308 году до н. э. армия под командованием пасынка Птолемея Мага вернула Киренаику: Маг был водворен там в качестве наместника[46].
В 306 году до н. э. самая основа морской силы Птолемея рухнула под новым ударом. Деметрий со своим флотом напал на Кипр и в морском бою у киприотского Саламина нанес Птолемею столь же суровое поражение, какое Птолемей нанес ему в Газе шестью годами раньше. Брат Птолемея Мене-лай, бывший его наместником на острове, и сын Птолемея Леонтиск – от одной из его многочисленных любовниц – вместе со многими главнокомандующими попали в руки победителя. Деметрий с показным благородством, которое подобало македонским аристократам во время их распрей друг с другом, отправил всех своих знатных пленников к Птолемею без выкупа. Но власти Птолемея на Кипре и его господству на море пришел конец. Шестнадцать лет стремился Птолемей заполучить земли за пределами Африки – Палестину и Кипр – и теперь утратил все. Но у него остались Египет и Кирена. Птолемей по-прежнему оставался полновластным владыкой богатой и густонаселенной страны на Ниле, отрезанной от остального мира пустынными приграничными областями и побережьем, на котором почти не было гаваней. Здесь, несмотря на все невзгоды, он мог ждать, пока судьба повернется снова, надежно укрытый от внешних бурь. Прозорливость Птолемея, с которой он впервые сделал выбор, стала как никогда очевидной.
Теперь его положение в Египте отличалось от того, в котором он находился сразу после прибытия туда в 323 году до н. э. Официально он был сатрапом царей Филиппа Арридея и Александра. Филипп Арридей был убит в 317 году до н. э. по приказу матери Александра Великого, а маленького Александра в 311 году до н. э. убил Кассандр. После этого уже нельзя было делать вид, что существует единая македонская империя. Но соперничающие македонские вожди не стали сразу же после смерти мальчика-царя называть себя царями. Впервые это сделал Антигон в 306 году до н. э. после победы при Саламине. Известные нам письменные источники говорят о том, что Птолемей тут же последовал его примеру, чтобы показать, что поражение не заставило его склонить голову. Однако согласно Александрийскому царскому списку, правление Птолемея как царя началось не раньше ноября 305 года до н. э., и это подтверждается множеством демотических папирусов[47]. До того времени официальные документы в Египте все еще датировались годами правления юного Александра даже после его смерти[48]. Вымысел послужил для того, чтобы заполнить период междуцарствия, пока Птолемей ожидал развития событий, прежде чем определиться, в какой форме он будет править Египтом в этом беспрецедентном международном положении.
Греко-египетский колосс Александра IV (Карнак), изображение в виде взрослого мужчины, хотя на момент убийства Александру было не больше 11 лет!
Когда сатрапа стали называть царем, возможно, это считалось формальным изменением, не имеющим особой важности. Однако, если верховная власть мальчика в далекой Македонии была вымыслом даже при его жизни, этот вымысел вполне мог оказывать воздействие на умы множества людей, населявших берега Нила. Где-то за правительственным механизмом, который был у них перед глазами, стоял божественный человек, которого по-прежнему наделяли старинными титулами, издавна применявшимися в отношении фараонов: «молодой Хор», «Господин венцов», «Господин всего мира», «Царь Верхнего и Нижнего Египта», «Восторг Амонова сердца», «Избранный Солнцем». А непосредственный правитель, – вероятно, египтяне произносили его имя как Птлумис – был в их глазах могущественным наместником, правившим от имени фараона, как Уна в старину.
Стела с иероглифами, открытая в 1871 году в Каире и датированная летом 311 года до н. э., проливает свет на отношения Птолемея с местным жречеством, в то время когда он еще номинально числился сатрапом при малолетнем царе Александре[49].
«В год 7-й (то есть в седьмой год мальчика-царя Александра IV, чье царствование формально началось после смерти Филиппа Арридея), в начале разлива, при святости Хора, молодого, богатого силой, Господина Венцов, любящего богов, давших ему достоинство его отца, Хора золотого, Господина всего мира, царя Верхнего и Нижнего Египта, Господина обеих земель, Восторга Амонова сердца, избранного Солнцем, Александра вечно живущего, дружественного богам городов Пе и Теп, пока его Величество, бывший также царем в мире чужеземцев, находился в пределах Азии, в Египте правил великий наместник, и Птолемей было его имя.
Он был человеком с пылом юноши, крепкими руками, мудрым духом, сильным среди людей, крепким смелостью, твердо стоявшим на ногах, отражающим яростных, не обращающим спину, нападающим на противника в лицо посреди битвы. Когда он хватал лук, то не для того, чтобы стрелять (издалека) в нападающего, он сражался мечом; среди битвы никто не мог устоять против него, рука его была столь крепка, что никто не мог отразить ее; слова, вышедшие из его уст, не возвращались назад, не было подобного ему в мире чужеземцев. Он вернул образы богов, найденные в Азии; всю утварь и книги из всех храмов Северного и Южного Египта он вернул на свои места. Он поселился в крепости царя Александра, избранного Солнцем, сына Солнца: Александрией зовется она и стоит на берегу Великого моря ионийцев, Ракоти звалась она прежде. Он собрал многих ионийцев, и конницу, и множество кораблей с их гребцами, и пошел со своим войском на землю сирийцев, которые воевали с ним. Он проник в их землю с великой храбростью, подобный ястребу среди мелких птиц. Захватив их всех вместе, он привез тамошних князей, коней, корабли, предметы искусства в Египет. Потом, вторгшись в область Мермерти (Кирены), он завладел ими всеми сразу и увел в плен мужчин, женщин, лошадей, в отместку за то, что они причинили Египту.
По возвращении в Египет с радостью в сердце от того, что он сделал, он отметил великий день, и этот великий наместник искал наилучшего для богов Верхнего и Нижнего Египта. Затем заговорил с ним тот, кто был на его стороне, и старейшины земли Нижнего Египта сказали так: «Морская земля, земля Патанут ее зовут, была дарована царем, сыном Солнца, Хабабашем[50], вечно живущим, богам Пе и Тепа после того, как Его Величество отбыл в Пе и Теп, чтобы проверить все тамошние морские земли, чтобы отправиться во внутреннюю часть болот и проверить все рукава Нила, который течет в великое море, чтобы отразить флот Азии от Египта. Затем обратился Его Величество (Хабабаш) к тому, который был рядом с ним: «Эта морская земля, дай мне ее узнать». Они сказали пред Его Величеством: «Эта морская земля (зовется она земля Патанут) принадлежала богам Пе и Тепа с незапамятных времен. Враг Ксеркс опрокинул ее и ничего от нее не оставил богам Пе и Тепа». Его Величество велел привести перед ним жрецов и начальников Пе и Тепа. Их поспешно привели к нему. Тогда сказал Его Величество: «Сообщите мне о достоинствах богов Пе и Тепа, что они причинили злодею из-за его злодеяний, видя, что подлый Ксеркс причинил зло Пе и Тепу и забрал их имущество».
Они сказали пред Его Величеством: «Царь наш, владыка Хор, сын Исиды, сын Осириса, царь царей Нижнего Египта, мститель за отца, господин Пе, начало и конец богов, после которого нет царя, изгнал злодея Ксеркса вместе с его старшим сыном, явив себя в городе Нейт, в самом Саисе, в тот день рядом со святой Матерью». Сказал Его Величество: «Этот могущественный бог среди богов, после которого нет царя, он будет путем и законом Моего Величества; в этом я клянусь». Тогда сказали жрецы и начальники Пе и Тепа: «Тогда пусть Твое Величество прикажет даровать морскую землю (зовущуюся землей Патанут) богам Пе и Тепа вместе с хлебом, питьем, быками, птицами и всем добром. Пусть же возобновление дара будет запечатлено во имя тебя из-за твоей щедрости к богам Пе и Тепа в награду за совершенство твоих деяний».
«Этот великий Наместник сказал: «Пусть будет издан следующий декрет, писанный в канцелярии царского писца по финансам:
«Я, Птолемей, сатрап, возвращаю Хору, мстителю за отца, господину Пе и Буто, госпоже Пе и Тепа, землю Патанут, отныне и навсегда, со всеми ее деревнями, городами и жителями, полями, водами, быками, птицами, стадами, и всем, что в ней производится, как было прежде, вместе со всем, что прибавилось с тех пор, как был сделан дар господином обеих земель, Хабабашем, вечно живущим. Да пройдет ее южная граница по земле города Буто и северному Гермополю до самого места, называемого Наунебу. Да пройдет его северная граница по дюнам на берегу Великого моря. Да пройдет его западная граница по извилинам судоходной реки до самых дюн. Да пройдет его восточная граница по ному Себенниту. Ее телята будут <запасом> для великих Ястребов, быки для спокойствия богини Небтауи, волы для живущих Ястребов, молоко для августейшего Дитяти, птица для Того, кто в Ша-т, чья жизнь в нем самом. Все, производящееся на ее земле, отдается для алтаря самого Хора, господина Пе и Буто, главы Ра-Хармахиса, навеки».
Земля до края ее, данная царем, господином обеих земель, воплощением Татенена, избранным Птахом, сыном Солнца, Хабабашем вечно живущим, пожалование это было возобновлено великим наместником Египта Птолемеем богам Пе и Тепа навечно. В награду за то, что он сделал, пусть будет дана ему победа и сила, как ему пожелается, чтобы в страхе пред ним и впредь пребывали все чужеземные народы, которые живут на сей день. Относительно же земли Патанут, кто бы ни отважился захватить ее, пусть падет на него опала Тех, которые в Пе, и проклятие Тех, которые в Тепе, пусть его коснется огненное дыхание богини Аптауи в день ее ужасов и пусть никогда его сын или дочь не подадут ему воды».
Начиная с 305 года до н. э. сам Птолемей стал царем, верховным божественным властителем египетской земли. Именно его египетские жрецы и писцы теперь наделили титулами древних фараонов. И людей стали постепенно приучать к мысли о том, что именно он был истинным царем с самой смерти Александра Великого. В официальной датировке документов годы его правления после 305 года до н. э. начали отсчитываться не с того момента, когда он впервые принял имя и титул царя, а с 324–323 годов до н. э.[51] Можно представить себе, как греки, жившие в то необычайное время, впервые увидели в Судьбе непредсказуемое божество, способное сыграть самую странную роль в делах людских и сделать так, чтобы человек, в детстве, вероятно, не предвидевший никакой иной жизни, кроме самой естественной для македонского сельского аристократа среди родных ему полей и холмов, в возрасте шестидесяти четырех лет стал египетским фараоном!
После того как в 306 году до н. э. Птолемей утратил все свои владения за пределами Египта, удача снова отвернулась от Антигона. В течение последовавших двух лет его армии натолкнулись на два серьезных препятствия. Во-первых, отобрав у Птолемея Палестину и Кипр, Антигон оказался настолько неблагоразумен, что повторил попытку Пердикки и сам напал на Египет. Для этого он не забыл собрать большое войско из сухопутных и морских сил, которое, как он надеялся, должно было дать ему возможность преодолеть хорошо известные преграды – пустыню между Палестиной и Египтом и Нил, «бессмертную стену» Египта[52]. Сначала армия сосредоточилась в Антигонее в Северной Сирии (после этого Антигонею вытеснила Антиохия) и затем двинулась на Газу (в ноябре 306 года до н. э.) на границе пустыни. По Диодору, она насчитывала более 80 тысяч пехоты, 8 тысяч всадников и 83 индийских слона, и сопровождал ее флот в 150 военных кораблей и 100 грузовых судов под началом Деметрия. (Как показал Магаффи, не стоит слишком доверять цифрам, которые приводят в такой связи древние историки.) В Газе, перед тем как пересечь пустыню, армия взяла запасов на десять дней, кроме того, для сопровождения армии был обеспечен отряд бедуинов на верблюдах со 130 тысячами медимнов хлеба и фуража для лошадей. С точки зрения физических условий Антигону было бы лучше отложить наступление до лета. Зимой Нил разливается, и навигация вдоль берега становится трудной и опасной из-за сильных северо-западных ветров[53]. Но наличие борьбы за мировое господство, сознание необходимости нанести удар по Птолемею, пока он еще слаб из-за потерь на Кипре, безусловно, не позволили Антигону тянуть с его предприятием. Лучше всего, если Антигон не мог его отложить, было бы вообще отказаться от попытки. В тех обстоятельствах все пошло не так, как было задумано. Флот Деметрия не смог двигаться против ветра; несколько кораблей выбросило на берег у Рафии; сухопутное войско и флот оказались не способны осуществлять взаимодействие, как планировалось.
«Когда объединенные силы прибыли в Пелусий[54], они увидели, что он защищен со всех сторон; вход с реки блокирован лодками, выше по течению стояли небольшие вооруженные суда, которые должны были помешать любым попыткам переправиться, более того, город был готов посулить захватчикам крупные взятки и хорошие условия службы, если они дезертируют и примкнут к Птолемею. Так как эти обещания свелись к двум минам на рядового и таланту на офицера, то Антигону с трудом и лишь за счет устрашения, когда захваченных дезертиров карали мучительной смертью, удалось избежать конца, подобного тому, который постиг Пердикку. Деметрий, увидев, что войти в Пелусий с любой стороны невозможно, попытался высадиться западнее: сначала в так называемом pseudostomos, или ложном устье, где, вероятно, теперь находится озеро Манзала, а затем в Дамьеттском (Фатнитском) устье. В обоих местах он был отбит, после чего его настигла новая буря, разрушившая еще три его самых крупных корабля; с трудом он добрался в лагерь отца, расположенный восточнее входа в Пелусий». (M.)
Антигону не осталось ничего иного, как только отступить от границ Египта как можно скорее. Миру явилась истинная сила Птолемея даже после всех его поражений и потерь. Антигона ожидало второе препятствие. Деметрий напал на Родос в начале 305 года до н. э. Родос, великое морское и торговое государство, где дух республиканской свободы жил еще несколько веков после Александра, несомненно, имел множество связей с новым крупным торговым центром – Александрией. Родосцы были союзниками Птолемея.
Деметрий осаждал Родос около пятнадцати месяцев в 305–304 годах до н. э., но потерпел неудачу и вынужден был согласиться на компромиссный мир. Своей успешной обороной Родос в большой степени был обязан снабжению и подкреплениям, которые Птолемею время от времени удавалось доставлять в осажденный город.
В 303–302 годах до н. э. Кассандр, Лисимах, Птолемей и Селевк заключили новый союз против Антигона. Селевк ушел в глубь Востока и покорял дальние провинции империи вплоть до самой Индии. Зимой 302/01 года до н. э. он двинулся на запад, чтобы привести на помощь союзникам большой отряд индийских слонов. Птолемей вел осторожную и не отличающуюся блистательностью игру. Единственное, что он сделал, – это снова, в третий раз, оккупировал Келесирию, пока три других царя сосредоточивали силы против Антигона в Малой Азии. Затем пришло известие, что Антигон одержал решающую победу и идет на Сирию. Птолемей тут же, в третий раз, удалился из Келесирии. Но известие оказалось ложным. Победа осталась за тремя царями, именно они нанесли противнику сокрушительное поражение в битве при Ипсе летом 301 года до н. э. Мертвое тело старого Антигона рухнуло на землю.
Победа союзников при Ипсе поставила новый спорный вопрос на политическом поле – палестинский, который не будет снят на протяжении всей последующей истории эллинистического Египта. Согласно договору, заключенному союзниками перед последним боем с Антигоном, Палестина (Келесирия), по-видимому, предназначалась Птолемею в случае победы. Но вполне естественно, что цари, фактически принявшие на себя основную тяжесть битвы при Ипсе, решили, что египетский царь, не явившийся на решающее сражение и поспешно бежавший из Келесирии из-за ложного слуха, лишился права претендовать на что-либо. По новому договору, заключенному царями-победителями после Ипса, Келесирия присоединялась к азиатской империи Селевка. Птолемей отказался признать новый договор; Селевк отказался соблюдать первоначальный договор, считая, что он утратил силу. Так возникла причина для спора между династиями Птолемеев и Селевкидов, который останется нерешенным в течение многих последующих поколений. Как во времена древних фараонов Палестина была спорной областью между владыками, правившими в Месопотамии, и владыками, правившими на Ниле, так будет и дальше, когда место прежних египетских царей займут две македонские династии.
После битвы при Ипсе Птолемей снова занял Келесирию, уже в четвертый раз. «Когда Селевк после раздела Антигонова царства прибыл со своим войском в Финикию и попытался, согласно заключенной договоренности, занять Келесирию, оказалось, что Птолемей уже овладел ее городами. Птолемей жаловался, что Селевк в нарушение старой дружбы согласился на договор, по которому область, находившаяся под властью Птолемея, отходила под его начало. Хотя он [Птолемей] принимал участие в войне против Антигона, цари, возражал он, не дали ему ни единой доли завоеванной земли. На эти упреки Селевк ответил, что вполне справедливо, что землю распределили между собой те, кто бился в бою. Что же до Келесирии, то пока он ради их дружбы не будет предпринимать никаких действий; а позднее он подумает, как лучше всего поступить с друзьями, которые попытались ухватить больше, чем имели на то право»[55].
В годы относительного мира, последовавшего за битвой при Ипсе, три старика, три еще остававшихся в живых спутника Александра – Птолемей, Селевк и Лисимах – вместе с царями второго поколения – Кассандром в Македонии, Пирром в Эпире и Деметрием, пока что скитавшимся, лишенным трона, – вели между собой сложную игру дипломатических интриг, которую теперь невозможно проследить и в которой напряжение между сторонами, дружба и вражда то и дело сменялись друг другом в зависимости от сиюминутных обстоятельств. Напряжение всегда выливалось в новую войну, как, например, когда Деметрий захватил македонский трон в 294 году до н. э. после смерти Кассандра, когда он напал на царство Лисимаха (287 год до н. э.), или во время последнего великого сражения между Селевком и Лисимахом, которое разразилось уже после смерти Птолемея. Сам Птолемей после Ипса уже не вел войн ни с одним из царей-соперников. Он лишь принимал участие в дипломатической игре и поддерживал то одного, то другого, согласно изменчивым обстоятельствам. Династические браки время от времени дают нам указание на положение дел. Сразу же после битвы на Ипсе отношения между Птолемеем и Селевком, как мы видели, становятся натянутыми из-за возникшего спора о Келесирии, и затем происходит сближение Селевка и Деметрия, Птолемея и Лисимаха; Селевк женится на Стратонике, дочери Деметрия, а Лисимах (примерно между 300 и 298 годами до н. э.) – на Арсиное, дочери Птолемея. Затем Александр, сын Кассандра, женится на другой дочери Птолемея, Лисандре, Деметрий женится на третьей дочери, Птолемаиде (обручение около 300 года до н. э.; свадьба в 286 году до н. э.); Антигона, дочь жены Птолемея Береники в первом браке, обручается с Пирром (298–295 годы до н. э.); другая дочь Береники, Феоксена, выходит за Агафокла, правителя Сиракуз (около 300 года до н. э.); и, наконец, другой Агафокл, сын Лисимаха, берет в жены дочь Птолемея[56].
Когда Деметрий осадил Афины (296–294 годы до н. э.), Птолемей не оказал действенной помощи своим друзьям-афинянам; его флот стоял у Эгины, но не предпринял ничего, чтобы предотвратить падение города. В 287 году до н. э., когда Афины восстали против Деметрия, Птолемей прислал им 50 талантов и некоторое количество монет; но его флот снова ничего не сделал, чтобы помешать Деметрию.
Те владения за пределами Египта, которые Птолемея действительно интересовали, он возвратил себе после Ипса. Как мы видели выше, Селевк снова узнал, что Птолемей овладел Келесирией, когда явился за сирийской частью царства Антигона. Видимо, к тому времени оккупация Птолемеем Палестины была далеко не закончена. Гарнизоны Деметрия[57] еще удерживали города финикийского побережья, и, согласно одному косвенному источнику, Деметрий захватил Самарию в 296–295 годах до н. э.[58] Буше-Леклерк считает (или считал в 1903 году, когда писал том I), что владения Деметрия в Финикии и Палестине перешли в руки Селевка, а не Птолемея. Династия Птолемеев в таком случае смогла бы овладеть Палестиной окончательно (вернее, на восемьдесят лет) раньше смерти Селевка в 281 году до н. э. Буше-Леклерк основывается на заявлениях селевкидских дипломатов, сделанных в 219 году до н. э., которые заявляли о том, что на «эти области» распространяется господство (δυνάστεια) Селевка. Мне, как и большинству ученых, представляется более вероятным, что Птолемей владел Палестиной начиная со времени после битвы на Ипсе, за исключением тех мест, которые временно оставались во власти Деметрия, и что они тоже отошли к Птолемею, когда Деметрий не мог уже больше их удерживать. «Династия» Селевка в Палестине, к которой апеллировали дипломаты Селевкидов, вполне могла быть господством, которое он фактически не осуществлял, но на которое по праву претендовал в силу раздела территорий, совершенного царями-победителями.
В 295–294 годах до н. э. Птолемей вернул себе Кипр. Кипр тоже оставался под властью Деметрия в течение шести лет после битвы на Ипсе. Оборону острова от Птолемея возглавляла отважная жена Деметрия Фила, дочь Антипатра, но в конце концов на Саламине ей пришлось сдаться. Птолемей ответил с тем же благородством, которое выказал Деметрий в 306 году до н. э., и отослал Филу и ее детей к Деметрию в Македонию «с подарками и почестями».
Примерно к 287 году до н. э. египетский флот снова стал господствовать в Эгейском море и вернул Птолемею протекторат над лигой Кикладских островов[59]. Какое-то время (между 294 и 287 годами до н. э.?) Птолемей поддерживал близкие дружественные отношения с Милетом, который перешел под власть Лисимаха; видимо, Птолемей использовал свое влияние на союзника, чтобы обеспечить городу освобождение от уплаты налогов[60].
Античные авторы рассказывают нам кое-что о том, какую роль играл Птолемей в борьбе между мировыми державами в течение сорока лет после смерти Александра. Но когда мы задаемся вопросом, что же все это время происходило в самом Египте, наши документы не дают материала для связного повествования. Можно только делать выводы о происходивших событиях по условиям, которые впоследствии складываются в стране.
Обращаясь к этому периоду истории Египта в целом, мы видим, что главным образом его характеризует то, что теперь в Египте, вместо сравнительно однородного коренного населения, существовавшего при прежних фараонах, образуются два слоя, которые вместе населяют его землю, – верхний, состоящий из правящей европейской расы, и нижний, к которому относилась огромная масса подчиненных египтян. Таково было положение дел, встречающееся и в наши дни, ибо правивший в эллинистическом Египте народ принадлежал к греческой цивилизации, которая породила современную цивилизацию Европы, и чувство превосходства над местными жителями страны, испытываемое греками, не отличалось от того, которое «белые люди» наших дней питают к «туземцам». Между прочим, говоря о египтянах, греки обычно и употребляли слово «туземцы» (ἐγχώριοι).
Этот греко-македонский слой в Египте сложился не просто потому, что греки и македонцы спонтанно переселялись туда, влекомые природными условиями страны, как относительно недавно произошло с европейскими переселенцами, иммигрировавшими в Америку и Австралию. В Египте сознательно создавалась македонская правящая династия. Когда Птолемей после смерти Александра Великого выбрал Египет в качестве своей базы, эта страна дала ему очень многое. Он получил легко защищаемую территорию; огромные материальные богатства, как продукты местного производства, так и ввозимые по Нилу товары; Египет придал его правлению долю блеска, присущего полной чудес традиции древней страны. Но он не снабдил Птолемея всем, что ему было нужно. Он не дал Птолемею одну крайне необходимую вещь – человеческий ресурс. Да, население Египта было многочисленным, но все это были люди не той породы, люди, из которых нельзя было сделать армию, способную выстоять против войск македонских и греческих воинов, таких, какие могли выставить на поле боя Антигон и Селевк. Также Птолемею был нужен постоянный приток македонцев. Он помнил, что ядро армии, завоевавшей полмира под началом Александра, набиралось из жителей старой Македонии, всаднической аристократии, крепких копейщиков, которые в мирное время были фермерами или батраками в балканских деревнях. Теперь Птолемей был отрезан от Македонии, своей былой родины. Он задумал искусственно создать новую Македонию в этой странной и ни на что не похожей египетской земле – слой из тысяч македонских и греческих крестьян, распределенных по всему Египту, людей, которые в мирное время будут выращивать хлеб и разводить скот на земельных участках, орошаемых Нилом, но, когда придет нужда, смогут взять в руки сариссу или сесть на боевого коня, составить илу или фалангу и отправиться с Птолемеем или одним из его стратегов в Палестину или Кирену. Эта система европейских военных колонистов, характерная черта эллинистического Египта, безусловно, была сформирована в правление первого Птолемея.
И для новых греческих городов Александрии и Птолемаиды, и для того, чтобы военные колонисты обосновались в его стране, Птолемей должен был привлечь тысячи греков и македонцев в Египет. Он не мог переселить их гуртом из Македонии и Греции, как прежние ассирийские цари, переселявшие жителей из одной части царства в другую, так как эти страны лежали вне сферы его влияния. План Птолемея мог бы оказаться невыполнимым, если бы население Македонии и Греции на тот момент уже не было в большой степени разбросано по всему Ближнему Востоку в результате завоеваний Александра, рассеянное по лагерям и гарнизонам под началом того или иного великого македонского вождя. Когда Птолемей прибыл в Египет в 323 году до н. э., он наверняка нашел там некоторое количество македонцев и греков, уже находившихся там в качестве местного гарнизона. Других он мог привезти с собой из Вавилона. Когда один македонский вождь в те дни побеждал другого в битве, воины разгромленной стороны часто были готовы в массовом порядке перейти на службу к победителю. В конечном итоге для македонцев победитель тоже был национальным вождем. Часть побежденной армии Пердикки в 321 году до н. э., возможно, нашла новый дом в эллинистическом Египте. Диодор сообщает, что после битвы при Газе в 312 году до н. э. Птолемей отправил в Египет больше 8 тысяч воинов разгромленной армии и распределил их по определенным областям страны[61]. По всей вероятности, обещанный участок египетской земли вскоре привлек в Египет множество македонских воинов, связав их с этой страной такими узами, разорвать которые не могло даже поражение в бою. Мы читаем, что когда в 306 году до н. э. Деметрий захватил армию Птолемея на Кипре, то множество воинов, вместо того чтобы перейти на службу к Деметрию, старалось вернуться в Египет, где у них остались семьи и имущество[62].
Помимо массово свозившихся в Египет воинов, многие представители греческого мира могли индивидуально поступить на службу к Птолемею в качестве наемников и затем принять предложение и поселиться в стране постоянно. Таких армий, которые можно было создать из обосновавшихся в Египте македонцев, самих по себе было недостаточно. В дополнение к ним необходимы были греческие и балканские наемники. В те дни существенным отличием наемных войск было то, что их нанимали отдельно, обычно на каком-либо из солдатских рынков – в Тенароне на Пелопоннесе или Аспенде в Малой Азии, – где встречались и перемешивались солдаты удачи со всех сторон греческого мира и поступали на службу к тому начальнику, который предлагал самую заманчивую перспективу с точки зрения платы, азарта и славы. Затем начальник с набранным отрядом продавал свои услуги какому-либо царю или государству по своему усмотрению. Отдельные рода войск в армиях того времени почти всегда состояли не из воинов македонской регулярной армии, а из наемников из той или иной местности, обладавшей своей специализацией, – лучников с Крита, метателей дротиков из Фракии. Вероятно, многие из критян, фракийцев, афинян, спартанцев, беотийцев, сицилийцев, попавших таким образом в Египет, там и осели. Птолемей, по всей видимости, старался прослыть во всем греческом мире своего рода добродушным, щедрым, доблестным и благородным человеком, на службу к которому мог поступить любой юноша, согласный пересечь море и склонный к воинскому поприщу. Огромные ресурсы Египта дали Птолемею возможность проявлять щедрость с таким размахом, с которым не могли тягаться многие его соперники.
Правление в Египте Птолемея, сына Лага, ознаменовалось также одним нововведением, которому суждено было иметь продолжение в греческом мире, – созданием нового культа. Серапис, божество, чье имя до сих пор было неизвестно грекам, жившим за пределами Египта, стал одним из великих богов позднего язычества. Происхождение культа Сераписа является предметом многих научных споров, однако великолепное издание папируса, датированного периодом эллинизма, под редакцией Вилькена, которое в настоящее время находится в процессе опубликования, смогло представить его в более ясном свете. Для начала взглянем на древний египетский храм в окрестностях Мемфиса, с той поры известный грекам как Серапеум, храм Сераписа. Он находился примерно в четырех милях от Мемфиса западнее Нила, неподалеку от бесплодных холмов, ограждающих долину Нила с этой стороны. Вилькен показывает, что некоторые предположения о Серапеуме, сделанные Мариеттом и впоследствии кочевавшие из одной работы в другую, являются ошибочными. Не было «греческого Серапеума», стоявшего отдельно от «египетского Серапеума». Был единственный Серапеум, крупный комплекс зданий на возвышенности позади возделанных угодий. В непосредственной близости от реки проходила и проходит полоса возделанной земли, затем чуть выше узкая полоска пустыни и за ней холмы. На границе пустыни, неподалеку от возделанной земли, стоял храм Анубиса, окруженный храмовым участком. (На храмовой территории впоследствии располагался своего рода государственный полицейский участок с прилегавшей к нему тюрьмой, правительственное бюро (grapheion) и казармы для уполномоченного представителя стратега мемфисского нома. Сам стратег посещал тамошний Серапеум, а однажды, при Птолемее VI, стратег, как сказано в источниках, провел два дня в храме Анубиса и «пил».) Из храма Анубиса через пустыню в Серапеум вела мощеная дорога, обрамленная сфинксами.
Серапеум – храм, возведенный при усыпальнице мертвых быков Аписа, чьи мумии помещались там в подземных коридорах. Живые быки содержались в Мемфисе в храме Аписа, примыкавшем к великому храму Птаха, на возделанной земле в четырех милях оттуда. При жизни бык считался воплощением божества Нила, а иногда его идентифицировали с Птахом[63]. Однако, как человек при смерти становился Осирисом, так и мертвый бык становился Осирисом-Аписом (Osir-Hapi). Согласно бытовавшему в римские времена, а может быть, и раньше мнению, божественность священного животного возникала после его смерти. Погребение быка было всеегипетским событием. Повсюду царил траур в течение семидесяти дней, пока продолжался процесс мумификации. Каждый храм присылал виссон для обертывания мумии. Две женщины-жрицы оплакивали его в Мемфисе, находясь рядом с телом. После окончания мумификации мумию торжественной процессией во главе с писцом в маске, который изображал бога Тота, приносили в храм Анубиса на краю пустыни. Здесь мумию принимал другой жрец в маске шакала Анубиса, проводника мертвых, и сопровождал по мощеной дороге в Серапеум. Там быка водружали покоиться в подготовленном для него зале в одном из подземных коридоров. По завершении подготовительных работ, возможно за много лет до погребения, зал закрывался, коридоры запирались, и ни один жрец не имел права туда входить. Сразу же после того, как божественная мумия отправлялась на покой, коридоры снова запирались до погребения нового быка, за исключением того времени, которое требовалось для подготовки зала к принятию очередной мумии[64].
Теория Вилькена состоит в том, что, в то время как рабочие вытесывали залы под Серапеумом, предназначенные для принятия быка, который пока был жив и находился в Мемфисе, культ этого живого быка начинал отправляться в подземных коридорах, где он отождествлялся с Осирисом, богом мертвых, но не таким же образом, каким любой мертвый человек становился «Осирисом», но отличным, более персонализированным. В качестве такового живого быка называли Апис-Осирис, тогда как мертвый он был Осирис-Апис. Поклонение в храме над землей, считает Вилькен, было обращено к Осирису-Апису, однако не какому-либо одному из множества умерших и погребенных ниже быков; оно было обращено к одному божеству, Осирису, воплощенному во всех них. В уме тех, кто ему поклонялся, этот Осирис-Апис был не столько мертвым быком, сколько самим богом загробного мира, принявшим определенное обличье, а в облике человека его, вероятно, представляли сидящим на троне, хотя, быть может, с бычьей головой.
Самый древний сохранившийся до нашего времени греческий папирус содержит проклятие, написанное гречанкой из Египта по имени Артемисия, в котором она призывает месть «Господа (despotes) Осераписа» на человека, от которого она родила дочь[65]. Возможно, что Артемисия положила этот кусок папируса, которому много веков спустя суждено было привлечь заинтересованные взгляды чужеземцев в Венской императорской библиотеке, у ног бога в правление Александра Великого, еще до восшествия на египетский трон царя Птолемея. Он доказывает, что еще до того, как Птолемей I ввел культ Сераписа в Александрии, Осир-Хапи из мемфисского Серапеума уже был почитаемым божеством для живших в Египте греков.
Согласно общепринятому взгляду, птолемеевский двор сознательно ввел поклонение Серапису; Шубарт ставит эту точку зрения под сомнение и полагает, что этот культ самостоятельно возник в качестве новой религии среди египетских греков, однако, как мне кажется, выдвигаемые Вилькеном аргументы доказывают, что при первых Птолемеях культ Сераписа продвигался под царским патронажем. Следующий вопрос заключается в том, был ли Серапис египетским богом Осир-Хапи. Леманн-Гаупт попытался доказать, что это вавилонский бог Шар-апси, но эта теория, по всей видимости, не нашла одобрения у остальных ассириологов. Вилькен одно время был склонен отрицать какую-либо связь между именем Серапис и египетским именем Осир-Хапи, которое в транскрипции Артемисии приобрело вид Осерапис. Однако теперь он утверждает, что имя Серапис первоначально было неточной народной передачей египетского Осир-Хапи в речи египетских греков. Серапис, которому поклонялись в Александрии, считает он, отождествлялся с богом загробного мира, которому поклонялись в расположенном рядом с Мемфисом храме над гробницами мумифицированных быков: в этом смысле Серапис действительно был египетским богом. Однако не может быть никаких сомнений в том, что иконография александрийского Сераписа была греческой, а не египетской, – бородатый бог, напоминающий Зевса, Аида или Асклепия, восседающий на троне с трехголовым Цербером, псом из загробного мира, в ногах и в высоком головном уборе, который из-за своего внешнего вида назывался kalathos, «корзина». В зафиксированной Тацитом[66] легенде говорится о том, как Птолемей по указанию из вещего сна добыл изваяние Сераписа из храма греческого города Синопа на Черном море. В самой истории нет ничего невероятного, но тень сомнения бросает на нее тот факт, что храм мумифицированных быков возле Мемфиса или район пустынных холмов, где стоял храм, назывался Синопионом – так греки транскрибировали какое-то египетское название, установить которое теперь уже нельзя. Если культ Сераписа в Александрии с самого начала был культом божества мемфисского Синопиона, тогда можно считать ошибочной легенду о том, что изображение Сераписа было доставлено из черноморского Синопа. То, что бог Серапис случайно мог оказаться связан с двумя одноименными местами, столь далеко отстоящими друг от друга, как мне кажется, выходит за рамки вероятности. Однако возможно, что эта связь не случайна. Предположим, это правда, что статуя Сераписа была доставлена из Синопа по указанию из вещего сна – а примеров из папирусов и надписей достаточно, чтобы засвидетельствовать факт, что в древности люди действительно руководствовались в таких вопросах снами, – и вполне могло быть так, что сновидец, обдумывая, как вернее представить божество из Синопиона грекам, мысленно унесся в Синоп из-за простого сходства звучания. То ли изваяние было первоначально изготовлено для храма в Синопе, то ли уже для Александрии, так или иначе представляется вероятным, что предание, которое называет его создателем известного скульптора IV века до н. э. Бриаксиса, правдиво.
Насколько нам сегодня известен ход событий, Птолемей, еще будучи сатрапом Египта, уже видел его своим вечным владением и решил, что было бы неплохо ввести в стране религию, которая объединила бы греков и египтян. Рядом с ним в качестве советников были афинянин Тимофей из жреческого рода Эвмолпидов, прекрасно разбиравшийся в греческой религиозной практике, и египетский жрец Мане-фон, который со знанием мог говорить о египетской религии. И вдруг оказалось, что существует египетский бог, мемфисский Осирис-Апис, которому греки уже поклонялись в Египте под именем Сераписа. Его-то Птолемей и положил в основание своей новой религии.
Возможно, египтянам она вряд ли показалась новой. Говоря о Сераписе на своем языке, они звали его Осир-Хапи, как в старину. Макробий рассказывает, что египтяне соглашались служить Серапису только по принуждению: можно заметить, пишет он, что храмы Сераписа, хотя и не в Александрии, а в туземных египетских городах, всегда находились вне городских стен. Как утверждает Вилькен, вероятно, мысль о том, что египтяне противились культу Сераписа, – всего лишь ложный вывод из отмеченного Макробием или каким-то более древним греческим автором факта, что Серапеумы в Египте обычно располагались вне городов, на краю пустыни. На самом деле этот факт объясняется тем, что эти храмы, имея отношение к богу мертвых, возводились рядом с местами погребения.
Когда Птолемей установил в Александрии культ Сераписа в качестве главного бога египетских греков, приказал изобразить его как любого другого греческого бога, Серапис стал приобретать атрибуты, схожие с характерными для того или иного древнегреческого бога. Особенно тесно он отождествлялся с Асклепием как бог врачевания. Больные проводили ночь в его храме и во сне получали указания относительно своей болезни. Насколько нам известно, мемфисскому Осир-Хапи не было свойственно ничего подобного. Но греки, видимо, очень рано стали приписывать эти свойства Серапису. В развалинах небольшого греческого храма у мощеной дороги, соединяющей мемфисский Серапеум с Анубеумом, была найдена надпись, которая, судя по эпиграфическим особенностям, едва ли может относиться ко времени позднее 300 года до н. э. В ней некий грек благодарит Сераписа за исцеление.
Но хотя греки сделали Сераписа внешне похожим на греческого бога и ввели в его культ эллинистические элементы, его египетская половина всегда оставалась заметной, даже когда его культ переносился через греческие земли за море, в частности его тесные связи с несомненно египетскими божествами: Исидой, Анубисом, Хором и быком Аписом. Первоначально будучи сам ипостасью Осириса, в греческом мире он совершенно вытесняет Осириса рядом с Исидой, но время от времени появляется и сам Осирис. Вилькен указывает, что связанные с Сераписом египетские божества – это те, которые, по всей видимости, почитались вместе с Осир-Хапи в мемфисском Серапеуме. Кроме того, в жертву Серапису приносили гусей, в отличие от всех остальных истинно греческих богов[67].
Начало культу Сераписа было положено в новом храме, еще одном и более грандиозном Серапеуме, построенном в Ракотисе, туземном районе Александрии, где он сменил храм Исиды, воздвигнутый на этом месте Александром. Обелиски того старого храма так и оставались стоять за пределами новой храмовой территории. Его архитектором был грек Пар-мениск, а его стиль (насколько можно судить по описаниям и монетам) – греческим, и его внушительный фасад с колоннадой возвышался на вершине длинной лестницы. Он считался одним из самых величественных храмов Средиземноморья; лишь Капитолий в Риме, как говорит Аммиан Марцеллин, можно поставить выше его. Серапис стал великим богом для Александрии и для Египта в целом. При Птолемее III мы находим «царскую клятву» – клятву, которую официально приносили в судах и при заключении юридических сделок. Произносящий ее клялся царями, «Сераписом и Исидой и всеми другими богами и богинями», то есть Серапис и Исида единственные из богов названы по имени. Однако о том, что александрийский двор выказывал особый интерес к культу нового бога с самого начала, еще с того времени, когда Птолемей был всего лишь сатрапом Египта, может свидетельствовать надпись, оставленная Арсиноей в Галикарнасе: «На добрую удачу Птолемею Богу-Спасителю Арсиноя возвела святилище Серапису и Исиде»[68]. Надпись, по-видимому, относится ко времени до того, как Птолемей принял титул царя. Также и папирусы из архива Зенона свидетельствуют о том, что культ Сераписа отправлялся в окружении царя при Птолемее II[69].
А затем из Александрии культ распространился и по другим городам греческого мира. В последующие века храмы Сераписа или Сераписа и Исиды строились то в одном, то в другом месте по всему Средиземноморью[70]. В I веке до н. э. культ получил новый толчок, когда римские императоры, начиная с императоров династии Флавиев, стали использовать свое влияние, чтобы способствовать культу Сераписа и Исиды в Риме и Римской империи[71].
Серапис был не единственным новым богом, которому поклонялись македонцы и греки, жившие в эллинистическом Египте, помимо богов своих предков. Обожествление недавно умерших или еще живых людей стало отличительной чертой греческого мира после кончины Александра. Это было эллинское изобретение, не заимствованное (как иногда полагают) из восточной традиции. Даже в Афинах V века до н. э. мысль об оказании божественных почестей людям как выражении восторженного преклонения или благодарности уже встречается в качестве фигуры речи[72], а в век, когда рационализм начал подрывать былое религиозное благоговение, когда повсюду распространились теории, объяснявшие, что традиционные боги – это лишь древние люди, обожествленные человеческой фантазией, было легко перейти от мысли к практике и начать использовать формы религиозного поклонения в качестве лести, обращенной к выдающимся людям эпохи. Религиозные люди консервативных взглядов протестовали против нововведения, считая его нечестивым, но вскоре оно стало общепринятым. Так оно возникло в греческом мире еще до Александра.
Сам Александр, как мы видели, был обожествлен, и, вероятно, по собственному желанию. И когда его полководцы после смерти Александра стали владыками мировых держав, чьим благоволением стремились заручиться греческие города или к кому они испытывали искреннюю благодарность за какую-либо оказанную им милость, они спешили приписать им божественность, принести жертвы и воскурять благовония, назначить жрецов. Следующим шагом для новых эллинских правительств было введение государственного культа умерших и живых членов царского рода, чтобы их подданные со всего царства могли таким образом выказать свою верность.
Для египетских греков Александр Великий с самого начала был богом. Цари и царицы династии Птолемеев вскоре тоже стали богами и богинями. Образованные греки, несомненно, считали официальный культ не более чем символической формой. В ту эпоху было очень просто назвать человека богом, не вкладывая в эти слова никакого особого смысла.
Поклонение мертвым гораздо больше согласовывалось с греческим культом предков, чем новообретенный культ еще живых. Душа мертвого человека все равно уже перешла в потусторонний мир, а еще с очень древних времен греки считали, что душа великого человека могла действовать во благо или во зло живущим, совсем как это делали боги. Поклонение такого рода, несколько отличавшееся от почитания богов, оказывалось множеству могущественных духов умерших людей, которых называли героями. Особенно часто в греческих городах совершалось ритуальное поклонение или «прислуживание» основателю города как герою. Следовательно, поклонение жителей Александрии Александру в определенной степени согласовывалось с греческими обычаями[73], и от поклонения умершему человеку как герою до поклонения ему же как богу нужно было сделать лишь небольшой шаг. Однако в те дни греки поклонялись не только покойному Александру, но и живому Птолемею.
Важно различать четыре разных типа культа, объектами которых были цари и царицы дома Птолемеев. Это, во-первых, поклонение им по египетскому обряду, в египетских храмах, ничем не отличавшееся от отправления культа египетских фараонов. Такого рода религиозные обряды часто проводились египетскими жрецами в честь Александра, как, несомненно, и в честь Птолемея с того момента, когда он стал царем. Греки не имели никакого отношения к этому египетскому культу: все происходившее в египетских храмах, записанное иероглифами, находилось вне их ведения, хотя царский двор наверняка время от времени удостоверялся с помощью агентов из туземного населения в том, что египетские жрецы по-прежнему верно выражают свою преданность. Во-вторых, существовали греческие культы, отправлявшиеся греками частным образом – либо отдельными людьми, которые возводили святилище или алтарь царю и царице, либо добровольными ассоциациями, выбиравшими царя или царицу в качестве божества или одного из божеств, которым члены этого объединения особо поклонялись. Такое личное поклонение, разумеется, могло принимать любые формы по усмотрению верующего, и он был волен награждать царя или царицу любыми эпитетами: «спаситель», «благодетель» и тому подобными, – выражавшими его почтение, независимо от того, было ли это официальное именование или нет. В-третьих, существовали установленные городские культы – культы номинально свободных греческих городов-государств в Египте – Александрии и Птолемаиды, либо греческих городов за пределами Египта, находившихся в сфере влияния Птолемеев, либо тех, которые, подобно Афинам и Родосу, желали оказать честь греческим правителям Египта. И наконец, поклонение Александру, введенное птолемеевским правительством в качестве государственного всеегипетского культа с ежегодно назначавшимся жрецом, по имени которого датировались годы в официальных документах, о чем мы подробнее скажем ниже. В правление Птолемея I культ правящего царя еще не был официально учрежден – то есть не был установлен для греков, хотя отдельные греки и греческие города поклонялись Птолемею как богу. Родосцы, как мы читаем у Диодора, после провалившейся попытки Де-метрия овладеть городом на Родосе в 304 году до н. э., выказали благодарность Птолемею следующим образом. Они отправили посольство в оазис Сива, «чтобы вопросить оракула Аммона, советует ли он родосцам оказывать Птолемею честь как богу. Оракул ответил утвердительно, и они освятили у себя в городе прямоугольный участок и построили по всему периметру колоннаду длиной в стадию; этот участок они назвали Птолемейон»[74].
Павсаний сообщает, что именно тогда родосцы и дали обожествленному Птолемею прозвище, под которым он прославился в истории, – Сотер, «Спаситель»[75]. Однако в надписи на звание первых, кто стал поклоняться Птолемею как богу, претендует лига Кикладских островов[76], где Птолемей, как мы видели, в 308 году до н. э. установил своего рода протекторат. И если посвятительная надпись, составленная от имени Арсинои, о которой говорилось на с. 65, действительно относится к промежутку между 308 и 306 годами до н. э., то Птолемей уже должен был называться «Спасителем» и «Богом», до того как он потерял контроль над Эгейским морем из-за поражения при Саламине и принял титул царя. Если божественные почести оказывал ему член его же семьи, то александрийские придворные, несомненно, поступали так же. В недавно опубликованной надписи три грека, спасшиеся от какой-то опасности, исполняя обет, выражают благодарность царю Птолемею и царице Беренике как «Богам-Спасителям»[77].
В 285 году до н. э. Птолемей почувствовал, что пришла пора назвать своего преемника на троне. В то время он был восьмидесятидвухлетним стариком, чья жизнь с тех самых пор, как он юношей покинул свой балканский дом, была полна невероятных приключений. Он водил войска на битвы в Центральной Азии среди холмов Афганистана и у рек Индии, он женился на персидской принцессе в Сузах, а в конце концов стал фараоном для египтян и богом для греков. У него было много детей от разных жен и наложниц. Его первая известная нам из источников супруга – персидская принцесса Артакама, на которой он женился во время того странного свадебного празднества в Сузах в 324 году до н. э., когда по желанию Александра множество его македонских и греческих офицеров взяли себе персидских жен. Больше мы ни разу не слышим об Артакаме. Вероятно, Птолемей тихо избавился от нее после смерти Александра, когда уехал из Вавилона в Египет. Если так, то его поступок был противоположен поступку его друга Селевка, чья жена-персиянка Апама, брак с которой он заключил тогда же, осталась с ним до конца жизни и стала родоначальницей царской династии Селевкидов, а также через будущий династический брак прародительницей последних Птолемеев и Клеопатр. Вскоре после смерти Александра (возможно, не раньше договора в Трипарадисе в 321 году до н. э.) Птолемей заключил политический брак с Эвридикой, дочерью старого Антипатра, владевшего тогда Македонией. Эвридика родила ему двух сыновей, один из которых (вероятно, старший) звался Птолемеем, и по меньшей мере двух дочерей – Птолемаиду и Лисандру[78]. Если Птолемей женился на ней не раньше 321 года до н. э., как предполагает Магаффи, то едва ли она могла родить ему больше четырех детей, так как Птолемей, скорее всего, женился на Беренике до 316 года до н. э. – если только Эвридика не продолжала рожать Птолемею детей уже после его женитьбы на Беренике. Не позже 316 года до н. э. он женился на Беренике – на этот раз по любви. Это была македонская аристократка, которая приехала в Египет в свите Эвридики и уже имела трех детей от прежнего мужа[79]. Мы знаем о двух детях, рожденных Птолемею Береникой, – Арсиное, родившейся, самое позднее, в 315 году до н. э., так как ее отдали в жены Лисимаху около 300 года до н. э., и сыне, тезке его старшего сводного брата, Птолемея, рожденном в 308 году до н. э. на Косе, когда флот его отца господствовал в Эгейском море. Судя по тому положению, которое позже занимала Филотера, представляется вероятным, что она тоже была дочерью Птолемея и Береники. У Птолемея не было законных жен в Египте, кроме Эвридики и Береники. Развелся ли он с Эвридикой до того, как жениться на Беренике, или после 315 года до н. э. у него было одновременно две жены, наши источники умалчивают. Впоследствии цари этой династии никогда не имели больше одной законной жены в одно и то же время, как это было принято в греческом мире. Но, по-видимому, македонские цари до Александра были полигамны, и среди его преемников Деметрий и Пирр имели больше одной жены; поэтому можно предположить, что первый Птолемей в этом отношении был больше македонцем, чем греком.
Вероятно, у Птолемея было множество наложниц, не считая законных жен. В одно время он состоял в связи со знаменитой Таис Афинской, звездой греческого полусвета, которая, согласно одной весьма сомнительной легенде, присутствовала на знаменитом пиру в Персеполе в 330 году до н. э., когда по ее наущению был подожжен дворец[80]. Таис родила Птолемею детей: Леонтиска[81], Лага и Ирину. Возможно, текст нужно читать как «Леонтиск, также называемый Лагом». Ирина вышла за Эвноста, династа (или наследного властителя) кипрских Сол. Кроме упомянутых детей, было еще два сына, которых звали Мелеагр и Аргей, чьих матерей мы не знаем. Так как Мелеагр позднее присоединяется к Птолемею Керавну в Македонии, можно предположить, что он был сыном Эвридики. В таком случае либо он был близнецом одного из четверых детей Эвридики, либо Эвридика вышла замуж за Птолемея до 321 года до н. э., либо рожала ему детей после 316 года до н. э.
Если бы Птолемей последовал примеру Александра и древнеегипетских царей, основывавших новые династии, то он женился бы на египтянке царских кровей, чтобы узаконить свое правление в глазах туземных подданных. Он этого не сделал. Мы лишь однажды слышим о том, что среди любовниц Птолемея была египтянка[82].
В возрасте восьмидесяти двух лет Птолемей решил передать власть преемнику, скорее всего, не столько из-за того, что желал уйти на отдых, сколько потому, что хотел увидеть, как его любимый сын успешно займет трон, прежде чем он умрет. Птолемей любил Беренику больше Эвридики, и, хотя сын Эвридики Птолемей был старшим из двух, именно сына Береники Птолемея отец твердо решил сделать царем[83]. Возможно, Эвридика подала повод для ненависти к себе, когда женщина из ее свиты Береника возвысилась и заняла ее место. Мы читаем, что в 286 году до н. э. Эвридика уезжает из Египта и поселяется в Милете вместе с дочерью Птолемаидой. Именно туда Деметрий, изгнанный с македонского трона, явился на этот раз со своим флотом и женился на Птолемаиде, которую Птолемей обещал ему примерно за тринадцать лет до того.
Сын Эвридики Птолемей остался в Египте, все еще надеясь стать преемником отца. Прославленный беглец из Афин Де-метрий Фалерский использовал влияние, которое он имел на старого царя, чтобы склонить его в пользу старшего сына. Нет сомнений, что влиятельная македонская партия предпочитала внука старого Антипатра сыну Береники. Но царь был привязан к Беренике и ее детям, даже если сама Береника, вероятно, в то время уже умерла[84], и не поддавался ни на какие уговоры. В начале 284 года до н. э. молодой Птолемей, сын Береники, был провозглашен царем в Александрии. Кажется более вероятным, что старый Птолемей скорее сделал сына соправителем, чем добровольно отказался от власти[85]. Сын Эвридики Птолемей, позже получивший прозвище Керавн («Удар грома»), отныне считал Египет небезопасным местом для себя и укрылся при дворе Лисимаха, ставшего царем Македонии. Царицей, женой Лисимаха, была Арсиноя, дочь старого Птолемея и Береники, полнокровная сестра молодого царя Египта. Но родная сестра Птолемея Керавна Лисандра, дочь Птолемея и Эвридики, была супругой Агафокла, старшего сына Лисимаха от предыдущей жены и прямого наследника македонского трона. Чтобы заполучить трон для своего сына, Арсиноя, тогда молодая женщина примерно двадцати одного года, одна из македонских царевен, для которых были свойственны властность и отважный дух, не чуравшихся насилия, если оно могло послужить их целям, принадлежавших к тому типу, последним образцом которого была Клеопатра, подстроила так, чтобы Агафокл был казнен по ложному обвинению вскоре после прибытия Птолемея Керавна в Македонию. Овдовевшая Лисандра бежала ко двору Селевка, и ее брат Керавн поехал вместе с ней или присоединился к ней уже там. Стремление старого Селевка сделаться владыкой всей империи Александра на этот раз свело вместе македонский и египетский двор. Возможно, именно в то время родная или единокровная сестра Агафокла, во всяком случае, дочь Лисимаха, тезка ее мачехи Арсинои, прибыла из Македонии в Египет, чтобы выйти замуж за молодого царя[86].
В мире собиралась новая буря. Но старый Птолемей не дожил до того момента, когда она разразилась. Он скончался в возрасте восьмидесяти четырех лет в 283 или 282 году до н. э.[87] – единственный из всех великих македонских вождей, боровшихся за империю Александра, который умер своей смертью в постели. Так он доказал, что за сорок лет до этого в Вавилоне он был прав, когда просил себе Египет.
Глава 3
Птолемей II Филадельф
(283–245 годы до н. э.)
Молодой человек двадцати пяти лет, который стал единоличным правителем Египта в 283 или 282 году до н. э., известен в истории под именем Птолемея Филадельфа. Это прозвище он никогда не носил при жизни. Он был известен современникам как просто Птолемей, сын Птолемея. Имя Птолемей еще не звучало для них как династическое, которое будет носить множество царей. Им случайно оказался назван македонский полководец, которому выпала необычайная удача сделаться царем Египта, и затем оно стало именем его сына. Возможно, в то время никто не думал, что все цари этой династии, если она продолжит править Египтом, должны обязательно зваться Птолемеями. В династии Антигона использовалось несколько царских имен – Антигон, Деметрий, Филипп; Селевка – сначала два имени: Селевк и Антиох, потом прибавились Деметрий и Филипп, чтобы показать, что в жилах селевкидских царей тоже течет кровь Антигона. Вполне может быть, что все первые цари династии Птолемеев назывались по имени основателя по чистой случайности, и лишь потом это превратилось в неизменное правило[88].
Птолемей-сын по характеру весьма отличался от Птолемея-отца. Смягчение нрава, которое заметнее проявилось в некоторых царях более позднего времени, уже обнаружилось в сыне старого македонского полководца, для которого был характерен крутой нрав. Это напоминало контраст между Давидом и Соломоном, между блистательным сластолюбцем с интеллектуальными интересами и художественным вкусом и воином, которому он пришел на смену. Образованием Птолемея руководил Стратон, один из главных представителей школы Аристотеля, и, несомненно, внимание, которое уделяли Аристотель и его ученики научным занятиям, способствовало живому интересу Птолемея II к географии и зоологии. Однако египетский климат, видимо, еще не успел испортить крепкую македонскую породу во втором Птолемее, как это случилось с последующими царями. Он был светловолос[89], явно европейской внешности, скорее всего, полный и румяный; у царей этой династии определенно наблюдалась наследственная тенденция толстеть во второй половине жизни. Некоторая телесная слабость или, быть может, слишком внимательная забота о своем здоровье внушила ему отвращение к физическим нагрузкам[90].
В его правление Египет часто вел войны, но воевали полководцы и флотоводцы Птолемея. Лишь во время экспедиции вверх по Нилу, как нам известно, Птолемей II сам отправляется на войну, подобно своему отцу и современникам Антиоху I и Антигону Гонату. Вскоре Птолемей в роли главы государства столкнулся с новыми потрясениями в странах Восточного Средиземноморья. В 281 году до н. э. два последних оставшихся в живых вождя из поколения Александра, оба старики за восемьдесят, Селевк и Лисимах, вступили в свою главную схватку. Лисимах пал, а между Селевком и верховной властью, которой обладал Александр, не осталось явных противников. Ситуация сложилась угрожающая для молодого Птолемея, находившегося в Египте. Его сводный брат Птолемей Керавн был на стороне Селевка, и, разумеется, Селевк мог поддержать его претензии на египетский трон. Затем, когда Птолемей Керавн убил Селевка у Дарданелл, все вдруг погрузилось в неразбериху. Это облегчило положение египетского царя. Главной опасностью был Селевк, а теперь честолюбие Птолемея отвернулось от Египта и обратилось к Македонии. Арсиноя, вдова Лисимаха, сестра Птолемея II и неполнородная сестра Птолемея Керавна, все еще находилась в Македонии и решила обеспечить пустующий трон для своего малолетнего сына. Арсиноя еще недавно вышла из детского возраста, но и она тоже, как мы видели, была македонской царевной, обладавшей многими качествами тигрицы. Однако Керавн сумел превзойти ее в коварстве и свирепости. Сначала он женился на ней, потом убил ее ребенка, сына Лисимаха. Арсиноя укрылась в самофракийском святилище. И тогда возникло новое и пугающее затруднение – вторжение толп диких галлов из-за Балкан в Македонию, Грецию и Малую Азию. Птолемей Керавн погиб во время этого варварского нашествия (280 до н. э.). В Македонии наступил период смуты, во время которого еще один сын старого Птолемея Мелеагр два месяца сидел на царском троне, но затем снова сгинул во тьме. Антипатр, другой претендент на трон Македонии, занимавший его в течение нескольких месяцев в тот же период, после свержения нашел убежище в Александрии; там он был известен под прозвищем Этесий (ветер, который дует сорок пять дней), и из одного папируса, косвенного источника, стало известно, что он был покровителем какого-то изготовителя костяшек[91]. В Малой Азии и Северной Сирии Антиох I, сын Селевка и персидской царевны Апамы, сумел занять царский трон отца, хотя свою власть в Малой Азии он мог утвердить только в конфликте с другими новыми державами – местными княжествами, персидскими династиями, греческим государством с центром Пергаме и кочевыми ордами галлов. В конце концов, после полувека сумятицы, последовавшей за смертью Александра, в Восточном Средиземноморье создалась относительно устойчивая группа держав – в Македонии правила династия Антигона; в Северной Сирии, большой части Малой Азии, Месопотамии, Вавилонии и Персии – династия Селевка; в других частях Малой Азии – новые местные династии; в Египте, Палестине, Кирене и на Кипре – династия Птолемея. В самой Греции, на островах и побережье Эгейского моря, Босфора и Черного моря старые греческие полисы по-прежнему сохраняли ту или иную степень свободы в зависимости от обстоятельств, которые давали им возможность отсрочить необходимость подчиниться какой-либо монархической державе.
Между всеми этими государствами велись активные политические и военные действия на протяжении всего правления Птолемея II. Македонский Египет находился в расцвете силы и славы. Однако исторические источники, которые могли бы поведать нам о том, что сделали этот древний король-солнце, его генералы и послы, не сохранились. Лишь по отрывочным упоминаниям в сочинениях более поздних авторов, случайным ссылкам и нескольким единичным надписям мы можем попытаться описать происходившие в то время события.
Из-за честолюбивого стремления Птолемеев расширить свои владения за пределы Египта до некоторых районов Азии, обладать господством на море и успешно вмешиваться в политику греческого мира они не могли остаться не втянутыми в иностранные дела. Некоторое время между 279 и 274 годами до н. э. политикой александрийского двора управляла более сильная воля, чем та, которой обладал Птолемей. Его сестра Арсиноя, лишившаяся малейших перспектив стать царицей Македонии, прибыла в Египет, возможно с четким намерением стать царицей в доме отца. В Египте уже была царица, другая Арсиноя, дочь Лисимаха и жена Птолемея. Однако это не было препятствием для такой женщины, как Арсиноя, дочь Птолемея I. Она еще в Македонии, за несколько лет до того, смела со своего пути Агафокла, вынудив отца убить его по ложному обвинению. Другая Арсиноя успела родить мужу трех детей – двух сыновей, Птолемея и Лисимаха, и дочь Беренику. Теперь ее обвинили в заговоре и покушении на жизнь супруга. Двое из ее предполагаемых соучастников – некий Аминта и родосец по имени Хрисипп, ее врач, – были преданы смерти, а сама царица – изгнана в верхнеегипетский Коптос.
Магаффи первым указал на египетскую стелу, найденную в Коптосе, где говорится об Арсиное I. «Это поминальная стела египтянина Сеннухруда, который рассказывает о своей жизни и говорит, что был ее слугой и для нее перестроил и украсил святилище… Хотя он именует госпожу «супругой царя, великой, наполнявшей дворец своей красотой, дающей отдых сердцу Птолемея», он не называет ее любящей брата и, что, быть может, еще показательнее, ее имя не вписано в царский картуш, хотя имя царицы должно быть заключено в него»[92].
Избавившись таким образом от Арсинои, дочери Лиси-маха, Арсиноя, дочь Птолемея I, взяла в мужья своего брата и стала египетской царицей. Брак единокровных брата и сестры раньше был чем-то неслыханным в греческом мире, хотя и довольно обычным среди египтян и согласным с фараоновской традицией. Многие были шокированы. Арсиное в то время было около сорока; в любом случае она была на несколько лет старше своего брата-мужа. Но греки не должны были забывать, что Птолемей и Арсиноя – боги; как свидетельствует брак Зевса и Геры, то, что для людей считалось кровосмешением, было разрешено богам.
Грек Сотад, знаменитый в то время автор неприличных стихов (едва ли, как Магаффи называет его, «похожий на Иоанна Предтечу»), в грубых выражениях отозвался об этом браке как об инцесте. Согласно одному из фрагментов сочинения Афинея, поэт бежал из Александрии сразу же после того, как прочитал свои стихи, но был схвачен адмиралом царя Патроклом у карийского побережья и брошен в море в свинцовом гробу[93].
Арсиноя приняла, или ей было дано прозвище Филадельфия («любящая брата»)[94]. Вероятно, она уже не надеялась родить еще детей и, скорее всего, усыновила детей мужа от другой Арсинои[95]. По-видимому, греческий мир понимал, что курс, которого отныне придерживался египетский двор в международной политике, направляла твердая рука Арсинои Филадельфии. Что думал обо всем этом сам Птолемей, никто никогда не узнает. После смерти Арсинои он всячески выражал ей свою преданность, но это мало что доказывает. Даже если он не испытывал любовных чувств к сестре, он мог искренне оплакивать потерю ее мощного руководящего ума. В остальном у него хватало любовниц для развлечения.
Если руководствоваться кратким изложением событий, содержащимся в труде Павсания, то именно при крутом режиме Арсинои Филадельфии неудобные члены царской семьи стали устраняться. Брат Птолемея Аргей был предан смерти по обвинению в заговоре против царя. Когда всем распоряжалась Арсиноя, никто не знал, соответствовали обвинения истине или были сфабрикованы. Потом другой сводный брат, сын Эвридики (имени его нам не сообщают), был обвинен в разжигании беспорядков на Кипре и казнен.
Проблема Келесирии теперь стала предметом практически непрекращающейся вражды между династиями Селевка и Птолемея. Вероятно, весной 276 года до н. э. дело дошло до настоящей войны, когда Птолемей, согласно вавилонской клинописной надписи, вторгся в Сирию[96]. Современные историки назвали ее «Первой сирийской войной». Ее историю составить невозможно. Неясный луч света лишь выхватывает отдельные фрагменты тут и там. Павсаний коротко сообщает, что египетские силы, ударив в разных пунктах широко раскинувшегося Селевкидского царства, помешали Антиоху атаковать Египет. В Египте явно опасались нападения. На Пифомской стеле упоминается визит Птолемея в Героонполь (Телль-эль-Масхута) на Суэцком перешейке в январе 273 года до н. э. для проверки оборонительных мероприятий. Арсиноя, как можно было ожидать, поехала вместе с ним; вероятно, она и была настоящим инспектором. В нашем распоряжении, к сожалению, есть только два упоминания о действиях, предпринятых Птолемеем: одна иероглифическая надпись, которая сейчас находится в Лувре, в основном она состоит из традиционных фраз, унаследованных еще со времен фараоновских вторжений в Азию, а другое – отрывок из поэмы Феокрита, сочиненной ради того, чтобы заслужить благосклонность в Александрии.
В стеле, установленной жрецами в Саисе, сказано, что Птолемей «взял дань с городов Азии», что он наказал кочевников Азии, отрезал множество голов и пролил потоки крови, что его враги напрасно выстраивали против него неисчислимые боевые корабли, конницу и колесницы, «многочисленнее тех, которыми владеют князья Аравии и Финикии», что он отметил свой триумф празднествами и что венец Египта крепко возлежал на его голове. Чем бы ни обернулись военные действия за границами Египта, жрецы все равно описывали бы их примерно в таких же выражениях. А Феокрит, превознеся величие Египта, главного владения Птолемея, пишет следующее: «Да, и он отрезает себе части Финикии, Аравии, Сирии, Ливии и черной Эфиопии. Он отдает приказы всем памфилянам, киликийским копейщикам, ликийцам и воинственным карийцам и Кикладским островам, ведь его корабли – лучшие из тех, что плавают по водам, – да, Птолемей царствует над всеми морями и землей и шумными реками» (XVII.86–92).
Вавилонская надпись утверждает, что в 276 году до н. э. селевкидская армия разгромила египетскую в Сирии. Может быть, именно тогда Антиох снова отбил Дамаск у птолемеевского генерала Диона[97]. Кажется, что Птолемею удалось прочно овладеть Финикией. В Сидоне после смерти царя Эшмуназара II (280 до н. э.?) Птолемей посадил на царский трон своего главного флотоводца Филокла, эллинизированного финикийца, по мнению Клермон-Ганно; но возможно, что Филокл умер еще до начала войны[98].
Тир, который из-за павших на него в последние шестьдесят лет бедствий дошел до того, что попал в зависимость к Сидону, в 274–273 годах до н. э. начинает новую эпоху в качестве независимого города, что свидетельствует о некоторых переменах, произошедших вследствие финикийской политики Птолемея во время Первой сирийской войны[99]. Птолемей захватил Триполи в 258–257 годах до н. э.[100]
Из панегирика греческого поэта можно получить чуть больше информации, чем из стелы египетских жрецов. Когда Феокрит упоминает народы побережья Малой Азии и Эгейских островов как подчиненные Птолемею, это действительно должно означать, что военные действия египетского флота оказались успешными и многие приморские города в Киликии, Памфилии, Ликии и Карии были вынуждены признать власть Птолемея. Это были завоевания Птолемея II в регионе, где действующие с моря египетские силы могли встретиться с войсками Селевкидов, наступающими из внутренних районов. С другой стороны, верховенство Птолемея над конфедерацией Киклад не было чем-то новым; второй Птолемей унаследовал его от отца; только вступление Самоса в лигу около 280 года до н. э. означало расширение господства Птолемея на море. Милет, тогда еще значительный порт на побережье Малой Азии, видимо, перешел под власть Птолемея еще до Первой сирийской войны, в 279–278 годах до н. э.[101] В святилище Дидимы, расположенной по соседству, стояла статуя сестры Птолемея Филотеры, воздвигнутая милетским демосом[102]. Представляется, что Галикарнас в 258–257 годах до н. э.[103] принадлежал Птолемею.
Птолемей прочно удерживал власть над Критом, где особенно тесные связи у него были, видимо, с городом Итаном. Патрокл упоминается в надписи как стратег острова[104], возможно, в более позднее время в связи с его командованием в Хремонидовой войне или еще позже.
Неприятности, в которые ввязался Египет из-за сирийской войны, усугубились из-за нового восстания в Киренаике. На этот раз неполнородный брат Птолемея Маг, наместник Кирены с 308 года до н. э., объявил себя независимым и отправился в наступление на Египет (летом 274 года до н. э.). Ему пришлось повернуть назад, потому что ливийские кочевники мармариды восстали у него за спиной. Египетское войско не смогло воспользоваться этим обстоятельством из-за мятежа четырех тысяч диких галлов в Египте, взятых наемниками. Должно быть, в тот момент Александрию объял ужас, и ее жители, вероятно, праздновали великую победу, когда галлов удалось загнать на остров посреди Нила, отрезать там от внешнего мира и бросить умирать голодной смертью. Какую роль сыграл во всем этом невоинственный царь, нам неизвестно, но позднее придворный поэт смог только это единственное предприятие приписать второму Птолемею в качестве блестящего военного подвига. Киренаика пока оставалась отделенной от Египта. Маг женился на дочери Антиоха I, названной Апамой в честь ее персидской бабушки, и поменял титул наместника на титул царя. Это означало заключение союза между Магом и Селевкидами против Птолемея.
В 272–271 годах до н. э. Антиох заключил мир, по которому весы победы склонились на египетскую сторону; помимо военной неудачи на его решение могла повлиять эпидемия чумы, которая, видимо, в то время поразила Вавилонию.
Арсиноя Филадельфия была той силой, искать расположения которой многие в то время считали благоразумным. «Никакой другой царице не воздвигалось такого количества памятников в разных частях греческого мира. В честь ее стояли статуи в Афинах и Олимпии… Почести, оказанные ей в Самофракии и Беотии, где есть город Арсиноя, могли быть оказаны ей еще при жизни, когда она была царицей Фракии. Но кроме этого, у нас есть сделанные в исполнение обета надписи в ее честь из Делоса, Аморгоса, Феры, Лесбоса, Кирены, Кипра, Оропа, и, несомненно, будут найдены и другие. В Египте найдены многочисленные посвящения Арсиное, и это лишь официальная часть множества исключительных почестей, которые супруг нагромождал вокруг нее. По-видимому, в греческих Феспиях была ее статуя в виде фигуры, сидящей на страусе. Хотя Арсиноя и не была соправительницей в том смысле, в каком были позднейшие царицы (как мы увидим в свое время), во всех титулах она была связана с царем. Вилькен (в «Паули-Виссова»), на основании сделанного Навиллем перевода Пифомской стелы отмечает, что египетские жрецы даже приписывали ей тронное имя вдобавок к обычному картушу, оказывая царице довольно редкую честь. Сохранилось много монет только с ее изображением, так же как и монет с изображением Арсинои вместе с братом-царем как Богов Адельфов. Она была обожествлена вместе с ним и со временем объявлена «почитаемой в том же храме» (synnaos), что и боги великих святилищ всего Египта» (M.)[105].
В июле 269 года до н. э. Арсиноя умерла. В иероглифической надписи типичным языком жрецов сказано, что в месяц пахон пятнадцатого года царя Птолемея «богиня отправилась на небеса; она воссоединилась с членами Ра»[106]. Правление Птолемея II входит в новую эпоху. Примерно через два с половиной года[107] в источниках появляется молодой Птолемей, «сын» Птолемея II, который становится соправителем отца. Можно было бы уверенно сказать, что это его сын от другой Арсинои будущий Птолемей Эвергет, который позже сменил его, если бы не случилось так, что имя этого молодого соправителя пропало из документов примерно между маем и ноябрем 258 года до н. э. Отсюда возникает проблема, которая до сих пор вызывает разногласия среди историков. Высказывались три гипотезы: 1) значащийся в папирусах соправитель – неизвестный сын Птолемея II и Арсинои Филадельфии, умерший в 258 году до н. э. Это прямо противоречит комментариям к идиллиям Феокрита, где говорится, что Арсиноя Филадельфия умерла бездетной и усыновила детей другой Арсинои, и это подтверждается письменными источниками, составленными в период правления Птолемея III, который, хотя, безусловно, был сыном другой Арсинои, всегда назывался сыном «Богов Адельфов» (θεοὶ ἀδελφοί, «брата и сестры»)[108]; 2) соправитель был сыном Арсинои Филадельфии от ее первого мужа Лиси-маха. Он бежал, когда ее другой сын был убит Птолемеем Керавном, приехал вместе с ней в Египет и был усыновлен Птолемеем II как наследник. А исчез он в 259–258 годах до н. э., так как умер. Эту гипотезу Белох предпочитает всем другим, но она тоже совершенно несовместима с утверждением схолиаста, и даже при всей фрагментарности наших источников едва ли можно помыслить, что столь поразительное событие, как назначение сына Лисимаха наследником египетского трона, никак не было упомянуто ни у одного античного автора; 3) соправитель был будущим Птолемеем III, и его исчезновение в 259–258 годах до н. э. из источников произошло по какой-то неизвестной причине. Магаффи полагал, что в тот год он оставил Египет и поселился в Кирене в качестве наместника. (Этого мнения придерживается не только Магаффи, но и Буше-Леклерк, а также Гренфелл.) Однако на это можно возразить, что годы царствования Птолемея III впоследствии отсчитываются с ноября 247 года до н. э., когда он, согласно этой версии, во второй раз занимал трон вместе с отцом, хотя на примере самого Птолемея II можно было бы ожидать, что годы его царствования стали бы отсчитываться со времени его первого вступления на трон.
Можно выдвинуть и четвертую гипотезу, которая вызывает меньше всего возражений и является наиболее простым объяснением: соправитель 266–258 годов до н. э. был старшим братом Птолемея III Эвергета, сыном Птолемея II от Арсинои I, но он умер в 258 году до н. э. и соответственно не оставил следа в истории. Из любой теории, согласно которой соправитель царя – сын Арсинои II (хоть от Лисимаха, хоть от Птолемея), вытекают абсурдные следствия, о которых, видимо, ни Белох, ни остальные не подумали. Мы вынуждены предположить, что, хотя Арсиноя II до самой смерти пыталась изгнать сына Птолемея II и Арсинои I с трона в пользу своего сына и хотя в течение одиннадцати лет после ее смерти Эвергет оставался отлученным от трона из-за махинаций мачехи, он тем не менее, взойдя на престол, всегда официально называл себя сыном этой мачехи, а не своей настоящей матери! Ибо то, что он действительно всегда официально называл себя сыном Птолемея II и Арсинои II («Богов Брата и Сестры»), – это единственный установленный факт среди всех этих неопределенностей. Даже если бы Арсиноя II усыновила детей Арсинои I до того, как та умерла, вдобавок к собственному сыну от Лисимаха, Эвергет едва ли стал бы испытывать благодарность к своей мачехе. Вряд ли Арсиноя II усыновила бы детей Арсинои I и поддерживала бы их положение при дворе, в то время как она постоянно пыталась отодвинуть их (истинных наследников) от трона ради собственного сына (который, если его отцом был Лисимах, не имел оснований претендовать на египетское наследство), – это совершенно не похоже на Арсиною Филадельфию! Единственная гипотеза, разумно объясняющая действия Эвергета, называвшего себя сыном Theoi Adelphoi, состоит в том, что он действительно был усыновлен (как, по словам схолиаста, и все дети Арсинои I) Арсиноей II и что Арсиноя II не делала никаких попыток обманом отстранить его от наследства. Однако никакие хронологические затруднения не мешают предположить, что у Арсинои I был еще один сын старше Эвергета, усыновленный, как и остальные ее дети, Арсиноей II, который и стал соправителем своего отца с 266 по 258 год до н. э., что он затем преждевременно умер и оставил своего брата Птолемея Эвергета следующим наследником, чтобы тот, в свою очередь, стал соправителем отца в 247 году до н. э.
Следующая война, в которой участвовал Египет, называется Хремонидовой войной по имени афинянина Хремонида, который возглавил бунт Греции против Македонии. На этот раз противником Птолемея была династия Антигона в лице царя Македонии Антигона Гоната, сына Деметрия Полиоркета. Многие древние прославленные города Греции вступили в антимакедонский союз, во главе которого встали Афины и Спарта, увидевшие возможность вернуть утраченную век назад свободу. К этому союзу присоединился Птолемей, «проводя политику, – как утверждает автор аттической надписи, – своей сестры»[109]. Даже после ее смерти разум Арсинои продолжал управлять Александрией. Войну начали Афины, сбросившие македонское иго (в конце 266 года до н. э.)[110]. Безусловно, греки питали большие надежды, рассчитывая на поддержку Египта, чей флот господствовал в Эгейском море. Никогда в истории Египет не соответствовал настолько верно определению, которое однажды дал ему еврейский пророк: «сломанный тростник». Антигон окружил Афины и сдерживал спартанцев на Истме. И все это время египетский флот под началом египетского адмирала Патрокла плавал у островка, позднее названного островом Патрокла, неподалеку от побережья Аттики и не делал ничего полезного. Патрокл, сам по происхождению македонец, оправдывал себя, говоря, что его морские войска были набраны из одних урожденных египтян. Возможно, вторжение в Македонию Александра Эпирского (сына и наследника Пирра) в тот момент было успехом дипломатии Птолемеев; но если и так, то этот успех не принес никакой пользы, поскольку египетские силы оказались не способны им воспользоваться. Антигону удалось вернуть Македонию и разгромить Эпир, не снимая осады с Афин. Царь Спарты, пытавшийся прорваться на помощь Афинам, пал на поле боя. В конце концов Афинам пришлось сдаться (261 до н. э.). Хремонид и его брат Главкон укрылись в Египте, где Главкон был эпонимным жрецом Александра и Богов Адельфов в 255–254 годах до н. э., как стало недавно известно из папируса[111]. Хремонидова война самым жалким образом продемонстрировала несостоятельность, нерешительность или некомпетентность Птолемея. Будь Арсиноя жива, она проследила бы за тем, как брат проводит ее политику!..
Годы, прошедшие между Хремонидовой войной и восшествием Антиоха III на селевкидский трон в 223 году до н. э., – один из самых неясных периодов греческой истории, так как не сохранилось ни одного исторического сочинения, которое бы говорило о них, и мы можем лишь по кусочкам составить некоторую общую картину происходившего из случайных упоминаний у более поздних авторов и нескольких неофициальных надписей и папирусов. В регионе Эгейского моря самым выдающимся событием лет, последовавших сразу же после Хремонидовой войны, стала борьба между Египтом и Македонией за превосходство на море. Хотя бы это известно точно. Мы также знаем, что имели место два крупных морских сражения – битвы у Коса и Андроса – и что в первой из них Антигон Гонат разгромил египетский флот. Кроме того, произошла морская битва у Эфеса, в которой египетский флот под началом Хремонида был разгромлен родосским флотом; предположительно, Родос состоял в союзе с Македонией. Но кто бился у Андроса, Антигон Гонат или его племянник и наследник Антигон Досон, и кто был царем Египта, когда произошли обе битвы, Птолемей II или Птолемей III, чем была битва при Андросе для Египта: поражением (как считал Магаффи) или победой – и когда произошла битва при Эфесе – все это вопросы, по которым нет общего мнения. В одной важной надписи, опубликованной Ремом[112], мы видим, что Милет в какой-то момент царствования Птолемея II стойко держался на стороне Птолемея, хотя его жители испытывали лишения из-за войны и на море, и на суше; а так как надпись, по-видимому, относится к 262 году до н. э. или какому-то из двух последующих лет, трудно понять, как противник мог теснить Милет на море, если только египетские морские силы уже не были ослаблены. Рем утверждает, что битва при Косе должна была состояться либо непосредственно перед капитуляцией Афин, либо сразу же после нее. Из надписи ясно следует, что в течение определенного времени птолемеевский протекторат над федерацией Кикладских островов сменился македонским (примерно с 260 по 247 год до н. э., по мнению Кольбе)[113], но это произошло до того, как Птолемей II умер. Вероятно, Египет восстановил свои позиции, так как в надписи, найденной в Адулисе, Киклады причислены к колониям, которые Птолемей III унаследовал от отца, а не к завоеванным им.
В только что упомянутой милетской надписи Птолемей II в письме к жителям Милета сообщает о том, что «сын, и Калликрат (командующий флотом в Эгейском море примерно с 274 по 266 год до н. э. – Авт.), и другие друзья (то есть люди, приближенные ко двору Птолемея), которые с вами» представили ему благоприятный отчет о верности милетян. Кто такой этот «сын»? Те, кто верит в придуманного сына Лисимаха и Арсинои Филадельфии, усыновленного Птолемеем II и идентичного «Птолемею Незаконнорожденному», который в некий момент после 261 года до н. э. был командующим войсками Птолемеев в Эфесе, естественно, склонны утверждать, что «сын» из милетской надписи – очередное появление этого же самого человека. Они заявляют, будто он был комендантом в Милете. (Можно заметить, что в надписи ни слова не сказано о том, что «сын» занимал какое-либо командное положение в Милете; исходя из употребленных в ней выражений, можно предположить, что молодой царевич просто ездил с инспекцией по зависимым от Птолемея странам и по пути посетил Милет.) Если, с другой стороны, принять выдвинутую мной гипотезу, согласно которой соправитель 266–258 годов до н. э. был старшим сыном Птолемея II и Арсинои I, то, естественно, он и будет «сыном» из милетской надписи. Хотя, конечно, возможно, что «сын» из надписи идентичен Птолемею Незаконнорожденному.
После окончания Первой сирийской войны внутренние проблемы селевкидского царства помешали ему предпринять какие-либо решительные действия в Средиземноморье. В 261 году до н. э. Антиох I Сотер пал в битве с Эвменом I Пергамским и был сменен на троне сыном Антиохом II Тео-сом. Новый селевкидский царь спустя некоторое время после восшествия на престол счел себя достаточно сильным, чтобы попытаться забрать у Птолемея то, что потеряла его династия в Первой сирийской войне. Видимо, разразилась война между Египтом и Сирией, которую современные ученые решили назвать Второй сирийской войной. О датах, ходе и длительности этой войны мы знаем еще меньше, чем о датах, ходе и длительности первой. Иероним Стридонский неопределенно говорит, что Антиох «сражался со всей военной силой Вавилона и Востока»[114]. Но ему, безусловно, не удалось отторгнуть Келесирию от Египта; возможно, он даже не проник в вожделенную провинцию. Наверняка на побережье Малой Азии, у которого египетский флот не мог уже действовать с прежним успехом, утратив превосходство на море, велась запутанная борьба, состоявшая из военных действий и дипломатических интриг. Антигон Македонский, по всей видимости, заключил союз с Антиохом II, с которым был связан двумя династическими браками. Милет в то время оказывается в руках авантюриста по имени Тимарх, который сделался тираном города и, возможно, также захватил Самос. Очевидно, что он не был другом Антиоха, так как именно избавление города от Тимарха принесло Антиоху II прозвище «Бог» от благодарных милетян. Тимарх едва ли дружил и с Египтом, поскольку вступил в союз против Птолемея с его незаконным сыном, молодым человеком, также носившим имя Птолемей. В ходе этой войны Египет, как видно, овладел Эфесом, и царь Египта поставил тамошним командующим своего законного сына. Птолемей Незаконнорожденный выступил против отца в союзе с Тимархом, но вскоре был убит своими же наемниками из Фракии[115].
В 253 году до н. э., вероятно после этих событий, Эфес, как следует из надписи, находился в руках Селевкидов[116]. Очевидно, что это была одна из резиденций селевкидского двора в конце правления Антиоха II. На основании того, что Киликия и Памфилия, которые, по словам Феокрита, подчинялись Птолемею II, не упоминаются в надписи из Адулиса среди владений, унаследованных Птолемеем III от отца, был сделан вывод, что земли, завоеванные в этом регионе во время Первой сирийской войны, были потеряны во Второй.
В конечном счете Птолемей II и Антиох II заключили мир (в конце 252 года до н. э.). Вероятно, в Александрии это сочли триумфом дипломатии Птолемеев. Антиох согласился вступить в брак с дочерью Птолемея Береникой и сделать ее своей царицей. У него уже была жена Лаодика, родившая ему двоих сыновей, но он согласился дать ей развод или держать ее в малоазиатских Сардах или Эфесе, пока Береника будет царицей в Антиохии. Пожилой царь с пышностью проводил дочь до самого Пелусия[117]. Может показаться, что этот факт, взятый сам по себе, свидетельствует о том, что Келесирия была включена в приданое Береники, поэтому Пелусий стал ее приграничным городом. Однако сейчас мы знаем, что это не так. В архиве Зенона есть письмо, отправленное дворецким диойкета Аполлония из Финикии весной 251 года до н. э., где говорится, что Аполлоний приближается к Сидону со свитой, «сопровождающей царицу до границы»[118], которая, следовательно, находилась севернее Келесирии. Если в приданое и входила какая-то уступленная территория, нам это неизвестно. Во всяком случае, из-за величины этого приданого Береника получила прозвище Фернофора («приносящая приданое»). Птолемей, как нам известно, после свадьбы регулярно снабжал дочь нильской водой, что, как полагали, способствовало плодовитости. Когда Береника в должное время принесла Антиоху сына, Птолемей мог считать, что династия Селевкидов прочно связана с Египтом. Будущий царь Азии будет его внуком. Сейчас представляется вероятным, что он дожил до того дня, когда трагедия сорвала его планы.
В источниках содержатся сведения и о других направлениях внешней политики в царствование Птолемея II. В 273 году до н. э., когда Рим вел войну с Пирром Эпирским, в Италию прибыло посольство из Александрии, чтобы предложить Риму дружбу с Птолемеем. Тогда впервые на египетском горизонте появляется новая сила, поднимавшаяся на Западе. Несомненно, что Александрия из-за своей обширной торговли к тому времени уже сформировала связи по всему Средиземноморью. В 273 году до н. э. у власти еще стояла Арсиноя Филадельфия. В 264 году до н. э., когда началась Первая Пуническая война между Римом и Карфагеном, Карфаген обратился к своему африканскому соседу за займом. В то время, после смерти Арсинои, на александрийский двор можно было положиться в том, что он примет верное решение, если оно заключалось в том, чтобы сидеть тихо. Возможно, в данном случае самым разумным было сохранять нейтралитет. Птолемей отказался дать карфагенянам просимый заем. Оба противника, сказал он, его друзья. Он будет счастлив предложить свои услуги в качестве посредника, если они потребуются.
Весьма примечательно, что в папирусе 252–251 годов до н. э. (если ученым удалось его правильно прочитать) упоминается «римлянин Динн (или Динний)», названный наемником, служившим в армии Птолемея[119]. Этот римлянин отправился в заморские приключения, привлеченный перспективами службы под началом великого египетского царя.
Палестина, как мы видели, была весьма важной колонией египетского царя. Папирусы из архива Зенона свидетельствуют о широких торговых связях между греками в Египте и страной южнее Ливана, поставлявшей оливковое масло, скот и рабов. Птолемеевское правление отразилось в новых названиях, которые получили расположенные в ней города. У западного края Галилейского моря стояла Филотера; в Ливанской долине выше Дамаска находилась Арсиноя. Стефан Византийский сообщает, что где-то в Сирии также располагались еще одна Арсиноя и Береника. Но главным городом власти Птолемеев в Палестине было старое поселение на побережье, называемое в Библии и в наше время Акко, но тогда переименованное в Птолемаиду, это же наименование город носил и в римские времена. Небольшому еврейскому государству на холмах – Иерусалиму и местности вокруг него – было дозволено жить своей жизнью, выплачивая дань Птолемею.
Папирусы из архива Зенона дают нам возможность мельком взглянуть на египетское владычество в Трансиордании, или, как ее тогда звали, стране аммонитов, по-гречески Амманитида, при Птолемее II. Мы уже знаем, что ее столица – ветхозаветный Рабат-Аммон, сегодняшний Амман – была переименована в Филадельфию в честь великой царицы. Из папирусов нам известен местный шейх Тувия – то бишь Товия на иврите, – командир конницы на службе у Птолемея. Всадники конницы наделены участками земли (клерами), предположительно в Амманитиде, как воины египетской регулярной армии. Из трех всадников, участвующих в сделке купли-продажи, два называются «персами», один «македонянином». Сделка заключается в Бирте Амманитиды: Bîrtâ – «крепость» по-арамейски.
Товия пишет царю Птолемею таким языком, который предполагает, что один властелин обращается к другому. Его сопроводительное письмо к партии животных, отправленных в Александрию, – возможно, для царского зверинца, – написано просто, без всяких фразеологических изысков:
«Царю Птолемею Товия, приветствия. Я посылаю тебе двух лошадей, шесть собак, одного помесного осла (дикого, скрещенного с домашним), двух белых аравийских вьючных животных, двух ослят от приплода полудикого осла, одного дикого осленка. Прощай»[120].
Если сложить вместе упоминания в Ветхом Завете и у Иосифа Флавия, где встречается имя Товия, то кажется вероятным, что командир конницы Птолемея был главой местного влиятельного рода, происходившего из Амманитиды, и, будучи связанным со жреческой аристократией в Иерусалиме, ставшего наполовину еврейским. Товия Аммонитянин из Книги Неемии, который выдал дочь за еврейского первосвященника и которого Неемия грубо гнал из Иерусалима, вероятно, был предком Товии. Имя Товия («Яхве благ») явно еврейское, так же и имя Анания, которое, что любопытно, носил отец одного из служивших в коннице «персов». Позднее, в дни Антиоха Епифана, «сыны Товии» играют роль в междоусобной борьбе в Иерусалиме. Один из них по имени Гиркан в 183 году до н. э. удаляется в собственную каменную крепость в стране аммонитов. В наши дни в Трансиордании еще можно увидеть высеченные в скалах галереи, которые могут служить крепостью – в них есть конюшни более чем на сотню лошадей. Над входом в одну из них можно различить имя Товии (еврейскими буквами)[121].
Рабы, которые требовались греческим хозяйствам Египта, доставлялись из Сирии и Палестины. Один из наших папирусов – контракт, по которому Товия продает Зенону девушку-рабыню по имени Сфрагис[122]. Другой рассказывает о том, что Товия посылает диойкету Аполлонию молодого евнуха и четверых «черноглазых» юношей-рабов[123].
В последние годы правления второго Птолемея ситуация в Кирене изменилась[124]. Нет сомнений, что изменения были связаны со всем, что происходило в других местах – в Македонии и Греции, в Эгеиде, в царстве Селевкидов. Но ответом на вопрос о том, какой была эта связь, могут быть только смелые предположения, так как сама хронология, на которой они должны основываться, весьма условна. Когда в возрасте пятидесяти лет[125] умер Маг, старый, необыкновенно ожиревший правитель Кирены, правивший там сначала в качестве наместника, потом царя, он оставил после себя вдову, селевкидскую принцессу Апаму, и дочь, тезку бабушки и кузины, Беренику (примерно 259–258 год до н. э.). Перед смертью он договорился со своим единокровным братом царем Египта, что его дочь и наследница Береника выйдет замуж за сына Птолемея, престолонаследника Египта. Это мог быть удачный способ воссоединить Кирену и Египет. Однако после его смерти Апама, которая, естественно, склонялась больше в сторону сиро-македонского союза, чем Египта, отправила посланников в Македонию, чтобы найти мужа для дочери из тех мест. Супругом Береники стал Деметрий Красивый, неполнородный брат царя Антигона Гоната и сын неполнородной сестры Птолемея Птолемаиды. Он действительно был так красив, что после его приезда Апама не смогла отдать его дочери. Хотя официально он был мужем Береники, на самом деле он был любовником Апамы. В том, как смело и уверенно она следовала своим страстям и амбициям, Апама не отличалась от тех ужасных македонских царевен, которых мы встречаем на протяжении всей этой истории. Но Береника, хотя и почти ребенок, тоже была македонской царевной. Она отказалась примириться с таким унизительным положением, вступила в заговор с воинами царской гвардии и убила Де-метрия в спальне матери. Она сама руководила предприятием и позаботилась о том, чтобы с Деметрием как следует расправились, но ее мать пощадили. Поэт Каллимах, знавший Беренику позднее, когда она стала царицей Египта, свидетельствует, что еще в детстве в ней действительно проявлялся этот дух ее народа[126]. Теперь ничто не могло помешать Беренике выйти замуж за двоюродного брата, молодого Птолемея, согласно договоренности отца, и в конце концов стать египетской царицей, как она того, несомненно, желала. Однако брак Береники с Птолемеем Эвергетом состоялся лишь накануне того, как Эвергет отправился на войну в Сирию (245 до н. э.). Магаффи, как мы видели, высказал предположение, что он жил в Кирене в качестве наместника с 259–258 годов до н. э. до смерти отца. Исходя из этой гипотезы очень трудно сказать, почему брак откладывался тринадцать или четырнадцать лет! Если без нее никак нельзя сделать Эвергета загадочным соправителем с 266 по 258 год до н. э., то это аргумент против такого отождествления.
Если соправитель, исчезнувший в 258 году до н. э., был, как предполагаю я, старшим братом Эвергета, который в том году умер, то именно с ним, а не с Эвергетом была помолвлена Береника с самого начала, и смерть молодого царевича объяснила бы, почему не состоялся их брак, когда Береника заняла трон. Как бы то ни было, восшествие на престол девочки-царицы означало бы, что Киренаика отвернулась от Сирии и повернулась к Египту. Монеты с изображением Береники без покрова – то есть в виде девственницы, – видимо, относятся к этому периоду. На них значатся имена царя Птолемея и царицы Береники. Это могло бы указывать на то, что Береника признала Египет своим «сюзереном». Однако через несколько лет города Киренаики изображены на монетах как республиканский союз. По-видимому, он был образован под руководством двух приверженцев платоновской школы – Экдема (или Экдела) и Демофана, – прибывших в Кирену в 251 или 250 году до н. э., чтобы показать ей путь к свободе. Сколько продержался союз и что тем временем происходило с юной царицей – все это покрыто туманом. Буше-Леклерк предполагает, что Птолемей II снова подчинил Киренаику перед самой своей смертью, потому что в надписи из Адулиса «Ливия» названа одной из унаследованных, а не завоеванных Птолемеем III стран. Тарн считает, что союз существовал и в царствование Птолемея III, потому что первый доказанный случай, когда использовалось прозвище Эвергет, относится к пятому году правления царя, и его прозвище, вероятно, подразумевает блага, которые он добыл, вернув Киренаику. Но это всего лишь необоснованная догадка Буше-Леклерка, утверждавшего, что имя имело какое-то отношение к повторному завоеванию Киренаики, и мне кажется гораздо более вероятным мнение Иеремии, что оно имеет отношение к возвращению в Египет изображений богов. Возвращение кусочка отцовской земли было выгодно ему самому, более чем кому бы то ни было другому. Во всяком случае, брак Птолемея III с Береникой состоялся в начале его правления – возможно, даже до смерти отца. Может быть, именно после покорения Киренаики три киренских города получили новые имена: Евгеспериды стали Береникой, Тавхира – Арсиноей, а Барка – Птолемаидой.
В дни величия старого Египта фараоны приходили с оружием далеко на юг, дальше первого порога, в местность, которую греки называли Эфиопией (Страной людей с обожженными лицами) и которую теперь мы знаем как Судан. В большинстве своем жители Нубии и Верхнего Египта были родственными египтянам, не чернокожими, хотя, как кажется, и с некоторой долей негритянской крови, поскольку негры из внутренних районов страны теснили жителей верховий Нила[127]. Египетская культура стала и культурой Эфиопии, или, во всяком случае, ее правящих династий: храмы «совершенно в египетском стиле» встречаются в южных районах вплоть до Хартума. В одном из предыдущих томов этой серии сэр У. Флиндерс Питри описывал, как цари Эфиопии в VIII и VII веках до н. э. временно объединили под своим скипетром всю нильскую страну до самой Дельты, и позднее, когда сам Египет пал под натиском чужеземцев, ассирийцев и персов, эфиопские фараоны и жрецы Амона по-прежнему продолжали править в верховьях Нила.
Когда власть персов сменилась властью греков, внешние признаки фараоновского величия исчезли из дворцов Александрии и Мемфиса, в Напате, эфиопской столице (рядом с современным Джебель-Баркалом), при дворе царя Настасена все еще жили традиции фараонов. Птолемеи не стремились, в отличие от прежних фараонов, присоединить Эфиопию к своим владениям. Будучи греками, они скорее интересовались средиземноморским миром на севере и вполне довольствовались тем, что южная граница Египта проходила в районе первого порога или чуть дальше. Мы видели, что при Александре Македонском его войско удерживает Элефантину, а греки и македонцы, бывшие в тамошнем гарнизоне в правление Птолемея I, оставили нам некоторые древнейшие из имеющихся у нас греческих папирусов. Возможно, в это время Элефантина была пограничным пунктом. Но Птолемей II, как пишет Диодор, отправился в поход в Эфиопию с греческим войском и так открыл для греков страну, до тех пор им неизвестную. Создается впечатление, что среди мотивов Птолемея II[128] скорее были географическое любопытство и желание добыть необычных зверей, во всяком случае, мы ничего не слышим о попытках присоединить Эфиопию. Видимо, после смерти Настасена в 308 году до н. э. (по расчетам Райснера) Эфиопия была разделена на два царства. Новая династия стала править в Мероэ дальше на юге (современная Бегаравия примерно в 130 милях от Хартума с этой стороны). Она была более могущественной, чем династия в Напате[129], хотя напатская династия еще продержалась какое-то время. Греки начали путешествовать далеко на юг. Первым за пределы Мероэ, как говорят, проник человек по имени Далион. Вероятно, это произошло в начале царствования Птолемея II. Он оставил книгу об Эфиопии[130].
Фрагмент папируса на греческом языке, найденный на Элефантине, вполне вероятно, является отчетом коменданта тамошнего египетского гарнизона (судя по имени, египтянина), составленным во время войны между Египтом и Эфиопией. «Царю Птолемею, Пертей, сын Арнуфиса, приветствия… Эфиопы пришли и осадили… построили частокол, я и два моих брата… как подкрепления, и мы взяли…»[131] Судя по стилю письма, фрагмент относится к первой половине III века до н. э., и, возможно, он связан с эфиопской кампанией Птолемея II.
12 или 13 ноября 247 года до н. э. молодой Птолемей (Птолемей III) стал соправителем отца на египетском троне[132]. Возможно, фактически он сам правил страной.
В 245 году до н. э. (25-го числа македонского месяца диос, то есть 27 января) Птолемей II скончался в возрасте шестидесяти трех лет. Он мог сравниться с Соломоном своим богатством, превосходившим состояния всех остальных царей того времени, своими интеллектуальными интересами, склонностью поддаваться женским чарам. Поздние греческие авторы сообщают нам имена многих его любовниц. Одна была урожденной египтянкой, хотя называется греческим именем Дидима («близнец»). Другая, которую звали Миртион, была актрисой, игравшей в пошлых комедиях; ее дом, после того как она завладела благосклонностью царя, прославился как один из самых изысканных в Александрии. Мнесида и Пофина были флейтистками и тоже были известны великолепием своих домов. Еще одной была Клино, и статуи и статуэтки, безусловно пользовавшиеся спросом в Александрии, изображали ее одетой в один хитон с рогом изобилия в руках, подобно богине Арсиное. В делосской надписи упоминаются «две серебряные свинки», которые Клино посвятила божеству[133]. Стратоника, еще одна любовница, известна по внушительной гробнице в египетском Элевсине рядом с Александрией, где упокоилось ее тело. Самой знаменитой была Билистиха, чье имя звучит не по-гречески, хотя, по всей вероятности, оно все же греческое[134]. Плутарх[135] сообщает, что она была из варваров, «рыночная проститутка»; Павсаний[136] – что она происходила с македонского побережья; по словам Афинея[137], она происходила из благородной аргосской семьи, ведущей род от Атрея. В настоящее время невозможно сказать, какая из этих версий правдива: сплетню о низком происхождении могли сочинить из злобы, а историю о высокородстве царской любовницы – из лести. В 268 году до н. э. Билистиха управляла колесницей в Олимпии во время гонок двухлошадных колесниц и получила приз. Вероятно, это та самая «Билистиха, дочь Филона», которая была канефорой Арсинои в 260–259 годах до н. э.[138] Птолемей постарался, чтобы ее объявили богиней. Ей возводились святилища и приносились жертвы как Афродите Билистихе.
Возможно, Птолемей мог сравниться не столько с историческим, сколько с идеальным Соломоном, изображенным в Книге Екклесиаста – книге, написанной каким-то утратившим вкус к жизни евреем в эпоху, не очень отдаленную от времени правления Птолемея. Птолемей тоже был царем, который «собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей», который «завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия», который «испытал себя весельем и насладился добром», который «предпринял большие дела: построил себе домы», который «предал сердце тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом»; и Птолемей тоже, согласно исторической традиции, в конце почувствовал, что все это суета сует. Мы читаем, что однажды после сильного приступа подагры он посмотрел в окно своего дворца и увидел у одного из каналов группу египтян самого бедного сословия, которые ели собранные ими объедки и беззаботно нежились на горячем песке, и заплакал в огорчении, что он не рожден одним из них[139]. Или, быть может, эта история так же недостоверна, как и слова, которые автор Книги Екклесиаста вкладывает в уста Соломона, и в обоих случаях одаренный воображением моралист выбрал знаменитого царя, имевшего все, чего только могли желать ум или сердце, чтобы через него поведать миру о собственном опыте разочарования в жизни.
Глава 4
Люди, города, двор
Египтяне и греки
Когда Птолемей II умер, прошло уже восемьдесят шесть лет после того, как Александр пришел в Египет. Эллинистический Египет к тому времени обрел облик, который с небольшими изменениями сохранял вплоть до прихода Юлия Цезаря. Он уже не был «Египтом для египтян». В конце эпохи эллинизма население, по всей видимости, насчитывало около семи или восьми миллионов человек; пожалуй, при Птолемее II оно было по меньшей мере столь же многочисленным. Коренные жители страны, разумеется, составляли ее основную массу, но находились в подчиненном положении и продолжали возделывать богатые поля нильской долины по своим древним обычаям для своих новых господ. Толпы чужеземцев, переселенцев и купцов со всех стран Восточного Средиземноморья наполнили страну. Крестьяне в большинстве своем были коренными египтянами, но теперь вместо сельских домов египетской знати, стоявших там в старину, возникли принадлежащие грекам большие имения. Возможно, еще оставались египетские семьи, хранившие память о своем царском происхождении, но если и так, теперь они мало что значили в мире. Каждый египтянин, который хотел возвыситься, учил греческий, надевал греческое платье и поступал на службу при греческом дворе или к какому-нибудь греку из числа правительственных чиновников. Иногда они оставляли свои египетские имена, порой брали греческие, иногда носили одновременно и египетское, и греческое имя. Мы ни разу не слышим ни об одном светском аристократе[140] из коренных египтян при Птолемеях. Египтяне победнее по-прежнему говорили на своем языке в его поздней форме, который через 600 лет превратился в коптский язык христианского Египта. Старая военная каста египтян, которых греки звали на своем языке махимами («воинами»), продолжала существовать, как мы увидим, отдельно от обычных крестьян и использовалась для выполнения некоторых задач – хотя в тот момент, по-видимому, в основном не в качестве воинов – в египетском войске. У старого Египта оставался лишь один путь сохранить прежнее величие – в религиозной сфере. Многие величественные храмы, построенные фараонами древности, все так же возвышались среди пальм, в них группы бритоголовых жрецов в белых льняных балахонах, как они изображены на памятниках фараоновских времен, все так же совершали традиционные обряды на древнем языке, в честь древних богов. Они все так же содержали божественных животных – быков, баранов и крокодилов – и поклонялись им. Именно священство, ограничивавшееся главным образом отдельными жреческими родами, теперь составляло единственную туземную аристократию Египта. Именно к ним, пользовавшимся авторитетом своего положения, богатством и священным знанием, обычные люди обращались как к национальным вождям и руководителям. Египтяне, владевшие греческим языком, вероятно, использовались в основном на нижних постах государственной администрации, но не на высших, и так было вплоть до последних Птолемеев. Возможно, высшие должности (как, например, пост диойкета) специально оставлялись для греков, но в I веке до н. э. египтянин мог стать своего рода генерал-губернатором (эпистратегом) Фиваиды. При первых Птолемеях египтяне столь высокие посты не занимали. Если Рем прав, предполагая, что Тахос, сын Гонгила, который появляется в милетской надписи в роли стефанефора в 262–261 годах до н. э., был египтянином и представлял власть Птолемеев в Милете[141], то перед нами еще один пример того, что автохтонный житель Египта в принципе мог занять относительно высокий пост при Птолемее II.
Неподалеку от Гермополя находится искусно украшенная гробница египетского жреца Петосириса, который, видимо, занимал должность главного жреца в гермопольском храме Хмуну (Гермеса) в последние дни персидского правления и прожил много лет уже при Птолемее I. Отделка гробницы интересна тем, что по ней видно, каким сильным в то время уже было греческое влияние в кругах, к которым принадлежал Петосирис. Художник попытался изобразить греческую сцену – родных, собравшихся вокруг гробницы, – в стиле греческого барельефа. Многие фигуры участников процессий, изображенные на стенах гробницы, одеты в греческое платье[142]. На стенах этой же усыпальницы можно увидеть картины из жизни тогдашних египтян. Обычные египетские крестьяне эллинистической эпохи уже не ходили голыми, в одних набедренных повязках, как они изображены на фараоновских памятниках, но одевались в свободные, подпоясанные и доходящие до колен туники, как сегодняшние феллахи[143].
Из чужеземцев, явившихся поселиться в Египте, самым значительным элементом были греки и македонцы. Отчасти они расселялись по Египту, вступая во владение своими участками земли, образуя социальные группы в городах и деревнях и проживая бок о бок с местным населением, отчасти сконцентрировались в трех крупных греческих городах – старом Навкратисе, основанном до 600 года до н. э. (в период независимости Египта после изгнания ассирийцев и до прихода персов) и двух новых городах: в Александрии на берегу моря и Птолемаиде в Верхнем Египте. Александр и его преемники-Селевкиды были великими основателями греческих городов во всех покоренных землях; греческая культура была так тесно связана с жизнью греческого полиса, что любой царь, желавший представляться в глазах мира истинным поборником эллинизма, обязан был что-то сделать в этом направлении, но для царя Египта, хотя он, как и все, стремился прославиться в Элладе, греческие города с их республиканскими традициями и тягой к независимости оказались бы неудобными элементами в этой стране, где как ни в одной другой царила бюрократическая централизация. Поэтому Птолемеи ограничили количество греческих городов-государств в Египте тремя упомянутыми – Александрией, Птолемаидой и Навкратисом. За пределами Египта, как мы видели, они имели подвластные греческие города – старые города в Киренаике, на Кипре, на побережье и островах Эгейского моря, – но в Египте не больше трех. Да, там были сельские города с такими названиями, как Птолемаида, Арсиноя и Береника, где существовали и вели общественную жизнь греческие общины; похожие группы греков жили во многих старых египетских городах, но они не были политически организованы по примеру города-государства. Однако, если там и не было площади для политических собраний, они все же могли ходить в гимнасии, которые были одним из основных признаков эллинизма и в некотором роде выполняли функции университета для молодых людей. Далеко в верховьях Нила в Ком-Омбо в 136–135 годах до н. э. действовал гимнасий местных греков, который принимал резолюции и вел переписку с царем. А в 123 году до н. э., во время разразившегося в Верхнем Египте противодействия между городами Крокодилополем и Гермонтисом, из Крокодилополя посылаются переговорщики, молодые люди, прикрепленные к гимнасию, которые, по греческой традиции, отведали хлеба и соли с переговорщиками из другого города[144].
Различия между греками и македонцами, которые вместе образовывали привилегированный класс, как сейчас представляется, не имели практического значения. Люди македонского происхождения на протяжении всей эпохи Птолемея официально называли себя македонцами, но, судя по всему, они были греками[145]. Еще до Александра, если у македонца было какое-то образование, то это было греческое образование; в основном они носили греческие имена, представители их царской династии утверждали, что происходят от греков. И македонцы, после Александра разбросанные по всему Ближнему Востоку, имеющие тесные связи с греческими колонистами, вероятно, вскоре забыли македонский язык и стали говорить на обычном греческом койне. Большое количество найденных в Египте папирусов написаны людьми, которые называли себя македонцами, но никто никогда не находил папируса, написанного на македонском языке.
В противоположность коренным египтянам, греки чувствовали себя представителями более высокой цивилизации. И тем не менее, как уже говорилось, они находились под впечатлением от древности и таинственности неизменных египетских традиций. Им интересно было узнать что-нибудь об этом. Но их любопытство было легко удовлетворить. Ни один греческий знаток, насколько нам известно, не потрудился научиться читать иероглифы или самостоятельно изучить тексты, выгравированные на камне и написанные на папирусе. Греки, жившие в Египте, иногда все же учили египетский, как следует из папируса II века до н. э. – составленного на греческом письма матери к сыну (оба они предположительно происходили из эллинской семьи), в котором она поздравляет его с тем, что он учит «египетские буквы» (Αἰγύπτια γράμματα); но его цель, как мы узнаем дальше, не историческое исследование, он надеется получить пост учителя в школе для египетских детей и таким образом обеспечить себе старость[146]. Все, что греки знали о египетской древности, – это то, что решили рассказать им египтяне. Греческий историк Гекатей Абдерский посетил Египет при первом Птолемее и добрался вверх по Нилу до самых Фив, чтобы собрать материал для истории Египта (Αἰγυπτιακά). Его особенно интересовала египетская религия, поставлять ему информацию могли египетские жрецы или двуязычные местные проводники, которые обслуживали приезжих греков. То, что рассказывает нам Диодор о Египте в своей первой книге, в основном взято из сочинения Гекатея. Несомненно, от своих информаторов Гекатей узнал множество правдивых сведений, а также и множество выдумок, сочиненных с целью изобразить перед греком Древний Египет в идеализированном виде. Гекатей дал греческим читателям то, чего они хотели, – правдоподобное литературное сочинение, которое распаляло их воображение и внушало им чувство, что они понимают Египет; и их не заботили требования современных исследователей, предъявляемые к анализу исторических источников. Иногда сами египтяне брались за перо, чтобы написать о своей стране и народе для греков. Египтянин из жреческого рода Манефон написал историю Египта на греческом языке, вероятно, по просьбе первого Птолемея. Манефон действительно имел представление о древних текстах, и написанное им главным образом основывалось на них, хотя он и привнес некоторую долю народных египетских легенд. Однако к его чести надо сказать то, что, как мы видим, по крайней мере в одном случае он особо подчеркивает, что рассказанное им является легендой, а не фактом, взятым из источников[147]. История Манефона была самой полной и самой достоверной историей Древнего Египта, когда-либо имевшейся у греков и римлян. Сейчас его труд утрачен, но значительные его фрагменты, сохранившиеся в сочинениях Иосифа Флавия и других авторов, дали европейцам почти все существенные сведения о Древнем Египте, которые они использовали вплоть до XIX века, когда ученые открыли ключ к расшифровке древнеегипетских надписей. «Если мы правильно оцениваем дух Александрии тех дней, мы без колебаний скажем, что данное Манефоном сухое перечисление первых династий богов и царей не имеет шансов сравниться по популярности с занимательным сочинением Гекатея. Возможно, верховный жрец, которого называют одним из религиозных советников Птолемея, честно попытался противодействовать той принимавшейся на веру чепухе, которую рассказывали в музее о ранней истории его страны. При жизни Манефона его труд не имел успеха, хотя века спустя иудеи и христиане в своих спорах возвратили его из забвения» (M.).
Ни одна современная страна, где европейская раса управляет более многочисленным туземным народом, не похожа на эллинистический Египет. Южная Африка напоминает его только в том смысле, что и там европейцы сделали страну своим постоянным домом, будучи меньшинством по сравнению с туземным населением, но отличие состоит в том, что коренные жители Южной Африки принадлежат к первобытным племенам, они не являются представителями древней цивилизации, как египтяне, перед которыми европейские переселенцы испытывали определенное благоговение. В этом отношении Индия представляется более схожей с эллинистическим Египтом, но и Индия не похожа на него в другом отношении – в том, что европейцы не обосновались в стране как у себя дома, но являются лишь временным сообществом чиновников, солдат и торговцев. Есть и еще два важных отличия отношений между европейцами и туземцами в эллинистическом Египте от сложившихся между европейцами и туземцами сегодня. Во-первых, хотя сами греки и македонцы считали себя людьми высшей расы, обычный греческий или македонский поселенец (возможно, в больших семьях это было по-другому) не отшатывался в ужасе от брака с египетской женщиной[148]. Поскольку греки и македонцы в основном прибывали в страну в качестве воинов, мужчин среди них должно было быть гораздо больше, чем женщин. Многие из них, как мы знаем из папирусов, имели жен в Европе, но перевозка европейских жен едва ли могла иметь место. Множество греков и македонцев женились на египтянках. Из-за этого колониального смешивания кровей этнические различия в эллинистическом Египте становились все менее и менее заметными. Впоследствии многие из тех, кто звал себя греками, по крови в основном были египтянами. Правда, в трех греческих городах, вероятно, существовал закон, запрещавший гражданам заключать браки с туземцами, и можно считать, что их граждане сохраняли чистоту эллинской породы на протяжении эпохи эллинизма. Но большинство греческих жителей Египта, как населявших города, так и имевших дома в египетских деревнях, которые не принадлежали к числу граждан трех полисов, оказалось в совершенно иной ситуации.
Примерно с 150 года до н. э. в папирусах начинают часто появляться люди, имеющие одновременно и греческое, и египетское имя. Например, в конце II века до н. э. мы находим грека по имени Дритон, чьи дочери (несомненно, от египетской матери) в одном папирусе называются греческими именами, в другом и египетскими, и греческими, а в третьем только египетскими[149]. У Гермокла было три сына, из которых старшего звали Гераклидом, а двух других по-египетски – Нехутес и Псехонс. В списке греческих земледельцев (примерно 112 год до н. э.) мы находим Гармиисиса, сына Гармиисиса, Гарфаэсиса, сына Петосириса, и т. д.[150] Вероятно, немногие чистокровные греки брали египетские имена. С другой стороны, многие египтяне могли принимать греческие имена. Так или иначе, после середины II века до н. э. уже невозможно по одному только имени делать вывод о том, кем: греком или египтянином – является тот или иной человек.
Различия между высшим слоем греков и низшим слоем туземцев не исчезли, но стали больше вопросом культуры и традиции, чем расовым. Семья с греческими именами (даже если в ней встречались и египетские), писавшая и говорившая по-гречески и знавшая хоть немного греческую литературу, следовавшая греческим традициям в поведении, считалась принадлежащей к привилегированной национальности; а та, которая говорила по-египетски и жила по туземным обычаям, приписывалась к низшему народу. Если бы правлению Птолемеев в Египте не пришел конец, то разница между греками и египтянами постепенно могла бы стереться совсем. Как мы увидим ниже, местный элемент занял более прочное положение при поздних царях, чем при первых Птолемеях. Но в римский период этот процесс прекратился, и массы туземцев, говоривших на египетском языке, снова оказались в положении слуг при греках и римлянах.
Другое существенное различие между отношением греков к египтянам в эллинистическом Египте и отношением «белого человека» к «аборигенам» сегодня лежит в сфере религии. Современная европейская цивилизация сформирована не одной только эллинской традицией; значительное влияние на нее оказало христианство, через которое в нее попал элемент, совершенно отсутствовавший в менталитете древних греков. В греческой религии нет понятия исключительности, характерного для христианства, а также его «прародителя» иудаизма, хорошо знакомого грекам, жившим в эллинистическом Египте. В греческой религии не было ничего, что заставило бы греков относиться к египетским культам как к языческим, идолопоклонническим или существенно более низким по сравнению с эллинскими. Напротив, греки пребывали под большим впечатлением от таинственности и бесконечной древности египетской религии, хотя римлянам и, возможно, некоторым грекам поклонение божествам в виде животных или полуживотных казалось нелепым. В представлении древних греков божественная сила была чем-то столь туманным и неопределенным, что какой-нибудь варварский религиозный ритуал, даже если его основания непонятны, мог принести удачу. Считалось таким же благоразумным умилостивлять любого бога, в которого верили твои соседи, особенно если это происходило в местности, где ему поклонялись уже на протяжении жизни бесчисленных поколений. Смешанный греко-египетский народ, возникший из межэтнических браков, впитал большую долю народной египетской религии с молоком египетских матерей. Благоговение, которое греки испытывали по отношению к местным культам, было вполне совместимо с мнением о превосходстве греческой культуры во всех мирских делах и правильности эллинских жизненных ценностей. В папирусе из Фаюма середины III века до н. э. говорится о дочерях грека из Кирены Де-метрия и египтянки Тасис, которые посвятили алтарь египетской богине-бегемотихе Тоэрис (Тауэрт)[151]. Девушки носили и греческие, и египетские имена. Еще раньше (285–284 до н. э.), в царствование первого Птолемея, на Элефантине жила гречанка Каллиста из Темноса, которая использовала в качестве своей печати скарабея с вырезанным на ней изображением египетского бога Тота в облике обезьяны[152].
Египетский праздник 20-го числа месяца атира, в который после дней траура провозглашается радость богини Исиды при обретении тела Осириса, отмечался греками еще в правление Птолемея II, и даже в таких высоких кругах, как приближенные диойкета Аполлония, чья приемная закрывалась по такому случаю[153].
Смешению религий способствовал тот факт, что греки нередко отождествляли египетских богов со своими – Амона с Зевсом, Птаха с Гефестом, Хора с Аполлоном и так далее – и часто, называя бога греческим именем, они имели в виду египетское божество. Иногда рядом приводили и египетское (в эллинизированной форме) и греческое имена[154]. Поэтому, когда мы находим посвящение Асклепию по-гречески, на самом деле оно может быть адресовано древнему египтянину, который был архитектором царя Джосера (примерно 4940 до н. э.) и которого египтяне звали Имхотепом[155]. Поклонение людям древности как богам – Имхотепу, Аменхотепу (древнему мудрецу времен царя Аменхотепа III, 1414 до н. э.), царю Аменемхету III (3427–3381 до н. э.) – представляется нововведением, возникшим в египетской религии при Птолемеях, и, возможно, обязано своим появлением греческому влиянию на египтян.
То, что наиболее образованные греки узнавали о египетской религии от эллинизированных египтян, зачастую, разумеется, специально приукрашивалось так, чтобы эллины нашли в этом глубокую мудрость. Грубая древняя мифология и примитивные ритуалы толковались так, что они начинали воплощать в себе философские идеи греков[156]; греческие и египетские представления сливались в странный сплав, очень похожий на современную теософию, которая впитала в себя некоторые элементы индуизма, адаптированные для европейцев, соединяя их с понятиями, заимствованными из христианства или современной науки. И если мы хотим разобраться, каким образом греки могли одновременно и чувствовать превосходство над египтянами, и питать уважение к египетской религии, мы можем попробовать представить себе, что изменилось бы в сегодняшней Индии, если бы англичане, вместо того чтобы в большинстве своем исповедовать христианство, стали бы сторонниками теософии, начали бы приносить жертвы индуистским богам и ставить у себя в домах лингамы и изображения Ганеша для поклонения[157].
Но если жившие в Египте греки были готовы при случае поклониться египетскому богу, они не прекращали почитать собственных богов даже за стенами Александрии, Птолемаиды и Навкратиса. Там, где проживала греческая община, независимо от количества жителей ее члены имели полное право поставить в любом месте Египта маленький храм Зевса, Аполлона, Деметры или Афродиты либо любого иного божества своего народа и совершать в нем греческие ритуалы[158]. Помимо этого, отдельные греки тоже могли свободно возводить на занимаемой ими земле святилища какого угодно божества по своему усмотрению.
Одним из нововведений для Египта, пришедшим вместе с греческими переселенцами, были добровольные сообщества, которые, по-видимому, создавались для поклонения какому-либо божеству, хотя на самом деле выполняли функции питейного клуба или торговой гильдии. Они возникли во всех частях греческого мира после смерти Александра и назывались фиасами или синодами. Можно считать признаком эллинистического влияния на местных жителей, что среди них тоже начали появляться такие общества, возникавшие вокруг культа египетских богов – Осириса, Исиды, Анубиса, Хнубиса-Амона или какого-то местного божества. Иногда члены ассоциации поклонялись обожествленному царю, как, например, общество басилистов у Сиены (II век до н. э.) или филобасилистов (конец II века до н. э.), которые упоминаются в некоторых папирусах[159]. Рубензон предполагает, что все наши наблюдения относятся к единственному учрежденному в царстве обществу басилистов. Мне кажется более вероятным, что название «басилисты» брало себе любое общество, которое желало выказать свою верность тем, что объектом поклонения делало царя или царя с царицей, может быть, вместе с другими избранными богами. После этого его члены могли уверенно надеяться на милость недоверчивого правительства.
Греческие города
Навкратис
Из трех греческих городов Навкратис продолжал вести размеренную жизнь греческого полиса, хотя его коммерческая важность уменьшилась после основания Александрии. В период между смертью Александра и вступлением Птолемея на египетский трон в качестве царя в Навкратисе даже чеканились собственные монеты. А число греческих авторов эллинистической и римской эпохи, которые были гражданами Навкратиса, доказывает, что в сфере эллинской культуры город не отступал от своих традиций. Птолемей II удостоил Навкратис своей заботой. «Он построил большое здание из известняка длиной около 330 футов и 60 футов шириной, чтобы возместить разрушенный вход в великий Теменос; он укрепил большую группу залов в Теменосе и восстановил их»[160]. Когда сэр Флиндерс Питри написал только что процитированные строки, великий Теменос отождествлялся с Элленионом. Но Эдгар недавно указал, что соединенное с ним здание было не греческим, а египетским храмом. Следовательно, в Навкратисе, несмотря на его общий эллинистический характер, имелся и египетский элемент. То, что город расцвел в эллинистическую эпоху, «мы можем видеть по количеству ввезенных амфор, ручки которых, изготовленные на Родосе и в других местах, мы находим в таком изобилии» (Питри). «Папирусы из архива Зенона свидетельствуют о том, что это был главный порт на пути от Мемфиса до Александрии, а также место остановки на сухопутной дороге из Пелусия в столицу»[161]. В административной системе он относился к Саисскому ному.
Александрия
Строительство Александрии к концу правления Птолемея II, через восемьдесят шесть лет после основания, вероятно, уже было завершено, и в основных чертах она стала тем великим городом, который знали последующие поколения греков и римлян.
Считалось, что Александрия с относящейся к ней территорией находится не в Египте. Она считалась присоединенной к Египту – Alexandria ad Aegyptum. В папирусах люди иногда пишут о поездках из Александрии «в Египет». Как мы видели, она образовывала прямоугольник примерно 4 мили в длину на три четверти мили в ширину, с морем на севере и широким пресноводным озером Мареотида на юге. Ее главная улица – Канопская – шла от Канопских ворот на востоке к соответствующим воротам на западе; в центре города под прямым углом ее пересекала другая улица, проходившая от моря к озеру. Обе эти главные магистрали имели в ширину более 30 ярдов. Даже многие улицы поменьше, параллельные двум главным, пропускали колесные повозки, в отличие от обычных узких улочек старых греческих городов. Названия нескольких улиц Александрии содержатся в недавно опубликованном папирусе[162]. Они названы в честь Арсинои Филадельфии, причем характерные эпитеты разных греческих богинь присоединялись к имени царицы вследствие отождествления, о котором мы уже говорили выше, когда обожествляемого человека связывали с каким-либо конкретным богом традиционной религии. Так, мы находим эпитеты Басилея (Гера), Телея (Гера), Элеемон (Афродита на Кипре), Халкиойкос (Афина в Спарте), добавленные к имени Арсинои и использованные в названиях соответствующих улиц.
По городским законам никто не имел права строить дом на расстоянии меньше одного фута от следующего, кроме как по взаимному согласию между соседями, которые, если хотят, могут иметь общую разделительную стену[163]. Канал, более-менее соответствующий современному каналу Махмудие, доставлял пресную воду из канопского рукава Нила; он ответвлялся у Схедии (Ком-эль-Гиза) примерно в 17 милях. Согласно «Истории Александра Великого», этот канал существовал еще до Александра, и тогда участок земли, где потом была построена Александрия, занимали шестнадцать египетских деревень, в том числе Ракотис, которые снабжались водой из двенадцати вспомогательных каналов, соединенных с главным каналом. Все они, как говорится в тексте источника, кроме двух, были закопаны, и по ним прошли параллельные улицы города. «История» – малодостоверный исторический источник, но в том, что касается местной истории и топографии, как склонны полагать современные ученые, могли сохраниться предания, основанные на фактах. Несомненно, под городом проходила сложная система водоснабжения и канализации, по которой пресная вода подводилась к частным домам[164], – вероятно, это удобство не имело прецедента в древних городах – и данная система, вероятно, являлась частью первоначального плана, составленного для Александра. Местонахождение различных храмов, согласно Арриану[165], было определено самим Александром, причем посвящены они были не только греческим богам – в туземном квартале был возведен храм Исиды, на месте которого, как мы видели, при первом Птолемее построили Серапеум. Этот египетский квартал, сменивший старый египетский город Ракотис и расположенный южнее западного конца большой центральной дороги, конечно же разительно отличался от величавого и величественного греческого города с его регулярной планировкой, так же как сегодня старый Каир отличается от европейского квартала или Стамбул от Галаты.
В целом Александрия была разделена на пять кварталов, называвшихся пятью первыми буквами греческого алфавита – квартал Альфа, квартал Бета и т. д. Античные авторы перечисляют наиболее известные здания и памятники Александрии, хотя по причине, указанной на с. 19, совершенно неясно, в каких именно частях современного города они находились. К их числу относились Гимнасий, «необычайно великолепное здание с колоннадами длиной более стадия», протянувшийся вдоль Канопской улицы[166] – центр средоточия александрийского гражданского населения, – Суд (дикастерион) рядом с центром города; Паней, посвященный Пану искусственный холм с прекрасным видом на весь город, открывавшимся с вершины, и парком вокруг[167]. Там была знаменитая Сема, гробница-храм, в которой покоилось тело Александра Великого в золотом гробу, ее территория была закрыта от города стеной. Постепенно вокруг первоначальной Семы выросли другие храмы-гробницы обожествленных царей и цариц из династии Птолемеев. Птолемей II начал этот процесс строительством храма в честь своих родителей и, возможно, также храма-гробницы Арсинои Филадельфии, которому суждено было принять и его тело. Стадион и Ипподром, которые когда-то наполнялись возбужденными толпами александрийцев, любителей спортивных состязаний и гонок колесниц, находились ближе к окраинам города: Стадион, видимо, за Серапеумом на юго-западе, а Ипподром на юго-востоке, недалеко от пригорода Элевсина. Театр стоял на дворцовой площади, где для зрителей, сидевших на высоких ярусах, за сценой открывался вид на море.
Настенная живопись из Помпей. Сельская вилла в александрийском стиле
«Четверть или почти треть площади города занимали царские здания, колоссальное скопление дворцов и садов»[168]. Вероятно, в эту четверть включены Сема и казармы царской гвардии, которая должна была находиться рядом с царем. Дворцовая площадь, занимающая большую часть того, что называлось Неаполисом (Новым городом), располагалась на северо-востоке между Канопской улицей и морем. Дворец стоял фасадом к морю и был обращен к великой гавани. Музей и Библиотека близко прилегали к нему с западной стороны. На востоке от него, тоже недалеко от набережной, находился еврейский квартал Дельта.
Остров Фарос связывала с землей дамба, называвшаяся Гептастадионом. Из-за наносов по обе стороны от этого искусственного мола в течение веков теперь он превратился в перешеек шириной около трети мили, и на нем расположен один из густонаселенных кварталов современной Александрии. Когда Гептастадион был впервые построен, он разделил море между Фаросом и землей на две гавани. На востоке от него расположилась Большая гавань, а на западе гавань Эвност, названная, вероятно, в честь Эвноста, «царя» Кипра, зятя Птолемея I, но, конечно, именно это имя было выбрано еще и потому, что Hormos Eunostos по-гречески означало «Гавань счастливого возвращения». Сегодня старая «Большая гавань» может принимать только мелкие рыбачьи лодки; а Эвност превратился в порт для крупных кораблей. Часть Большой гавани у дворцового фасада была отделена для личного пользования царей.
Верфи гавани с их большими складами (apostaseis), видимо, образовывали район, отделенный от города стеной. В этот район, называвшийся эксересис, товары можно было привозить беспошлинно. Если же, однако, их проносили в город, то нужно было платить у ворот, ведущих из эксересиса, предписанные пошлины[169].
На острове Фарос архитектор Сострат Книдский построил знаменитый маяк, считавшийся одним из чудес света. Строительство началось, несомненно, при Птолемее I и было закончено в начале правления Птолемея II. «В основном при его сооружении использовался нуммулитовый известняк. Скульптурные украшения, как и другая дополнительная отделка, частью изготовлялись из мрамора, частью из бронзы. Бесчисленные колонны в большинстве своем вытесывались из асуанского гранита. Фонарь маяка образовывали восемь колонн, увенчанные куполом, над которым возвышалась бронзовая статуя (вероятно, Посейдона) примерно семи метров высотой. Для получения пламени жгли смолистую древесину. Считается, что для увеличения дальности освещения использовались вогнутые металлические зеркала»[170]. Это грандиозное сооружение теперь настолько разрушено, что можно только догадываться о том, как оно выглядело, по отдельным упоминаниям в сочинениях античных авторов, по монетам и по аналогиям с древними развалинами в других местах. Сопоставив все доступные материалы, профессор Тирш создал предположительную реконструкцию маяка, которая изображена на вклейке. Надпись с посвящением гласила: «Со-страт, сын Дексифана Киндского, Богам Спасителям от имени мореходов». Точно неизвестно, кто имеется в виду под «Богами Спасителями» (Sotēres Theoi). Так официально назывались Птолемей I и Береника после их обожествления, и вполне естественно предположить, что в посвятительной надписи, сопровождавшей сооружение подобного рода, возведенное по приказанию царя в Александрии, имелись в виду именно Птолемей I и Береника. С другой стороны, «Богами Спасителями» также назывались Кастор и Полидевк, покровители мореплавателей, и это были их обычные эпитеты, так что, возможно, посвящение было написано на маяке еще до официального обожествления Птолемея I и Береники. Также может быть, что эта двусмысленность была намеренной. Это, конечно, выдающийся факт, что царь позволил архитектору упомянуть в посвящении подобной постройки собственное имя. Позднее была придумана история, объяснявшая, как возникло это посвящение. Говорили, что Сострат покрыл свое имя (написанное, как и остальные слова, огромными буквами, вырезанными в камне и заполненными свинцом) тонким слоем штукатурки, с виду похожей на камень, и написал на этой штукатурке имя Птолемея. Он рассчитывал на то, что после его смерти штукатурка отвалится.
Участки земли, расположенные за стенами Александрии, с востока и запада, были отведены под некрополи, и со временем эти два «города мертвых» сильно разрослись в близком соседстве с городом живых. На востоке, рядом с главным каналом, находился пригород Элевсин неподалеку от озера Хадра, и здесь Птолемей II ввел культ Деметры с некоторыми особенностями, заимствованными из настоящего Элевсина в Аттике[171]. Вдоль того же канала между Александрией и Ка-нопом стояли виллы и сады богатых александрийцев. Старый египетский город Каноп стал любимым местом развлечений для александрийцев, и Страбон описывает сцены разгульных излишеств с музыкой и кутежами на лодках, днем и ночью скользивших по каналу между Александрией и Канопом.
На набережных и улицах этого великого левантийского города мы оказались бы в толпе, где собрались представители народностей из всех частей известного мира – греки из всех частей Средиземноморья, местные египтяне, италийцы, римляне, евреи, сирийцы, персы, индийцы, негры. Общая численность населения Александрии в последние годы правления династии Птолемеев чуть не достигала миллиона человек. Но кроме того, население Александрии, не считая приезжих чужеземцев, включало огромное множество людей, не принадлежавших к числу тех, кто гордо именовал себя александрийцами. Диодор сообщает, что в последние годы правления династии в городе жило 300 тысяч человек. Конечно, весь туземный египетский элемент в Александрии не входил в число граждан города – как, возможно, и жившие там евреи, хотя еще ведутся споры по вопросу, были евреи включены в число граждан или нет. Граждане считались сообществом истинных греков, с интересами и общественной организацией, свойственной свободным гражданам греческих городов как таковым. Александрийцы называли себя греками и македонцами. В общем-то представляется маловероятным, что в александрийцах была сколько-нибудь значительная часть туземной египетской крови. В Навкратисе брак между гражданином города и египтянкой был незаконным; видимо, так же дело обстояло в Александрии и Птолемаиде. И Полибий, и Филон говорят об александрийцах как о «людях смешанной крови» (migades), но, скорее всего, это значило, что граждане города были представителями различных греческих полисов – ионийцами, дорийцами, эолийцами, греками из Эллады и всех отдаленных городов Востока и Запада, а не то, что они имели примесь египетской крови[172].
Но даже не все греческое население Александрии входило в число граждан города. Более того, Шубарт считает, что граждане составляли лишь меньшинство греков, живших в Александрии. Множество людей, которые называли себя эллинами, говорили по-гречески и жили по греческим обычаям, но не имели привилегий гражданства – как метеки, жившие в Афинах и любом другом греческом городе, возможно, были не греками по крови, а отпрысками, например, браков между греками и египтянками, родившимися в Египте за пределами Александрии и затем поселившимися в городе. Вероятно, все греки как таковые обладали определенными привилегиями, в отличие от туземцев. Египтян, к примеру, можно было наказывать дубинками, но «александрийцев», по словам Филона[173], можно было бить только плоскими палками (spathai). В этом отношении евреи причислялись к той же категории, что и «александрийцы», и, по всей видимости, здесь под «александрийцами» мы должны понимать всех живших там греков, а не только граждан.
В каждом городе греческого типа граждане были организованы в небольшие общественные группы. В Афинах они делились на 10 фил и на 100–190 демов. Похожая организация по филам и демам существовала и у граждан Александрии, хотя, что любопытно, она, видимо, затрагивала не всех граждан. Существовало некое число людей, которые были «александрийцами», но не входили в демы. Члены демов составляли общественную аристократию Александрии; возможно, это в основном были потомки первых граждан начала III века до н. э. Однако браки между членами демов и греками или даже «персами», не являвшимися членами дема, по-видимому, были в порядке вещей.
Папирус из Эль-Хибы начала III века до н. э. свидетельствует, что в некоем городе, наверняка либо Александрии, либо Птолемаиде, было 5 фил, по 12 демов в каждой филе и по 12 фратрий в каждом деме[174]. Член дема в официальных документах называется по наименованию своего дема (например, Антей, теменец, то есть принадлежащий к дему, названному в честь Темена), так же как другой человек мог называться «афинянином» или «фракийцем». В документе было не обязательно указывать «александриец», так как это подразумевалось в наличии названия дема, и вплоть до римского периода не было принято помимо дема указывать еще и филу. Названия александрийских фил эллинистической эпохи, которые нам известны, это: 1) у Сатира[175] – фила Дионисия – названная в честь бога, от которого, по преданию, произошла династия Птолемеев, и 2) фила Птолемаида[176]. (Известно еще несколько названий фил римского периода, происходящих от почетного обращения к императору и титулов.) Список названий демов эллинистического периода выглядит более внушительно. Обычно они образовывались от имени или эпитета бога или героя греческой мифологии или от имени кого-либо из генеалогического древа Александра, которое также по большей части было и генеалогическим древом Птолемея[177]. В филе Дионисия названия происходили от имен персонажей мифологии, связанных с Дионисом: Алфеи, которая родила от Диониса дочь Деяниру, Фестия, отца Алфеи, самой Деяниры, Ариадны, Фоанта, Стафила, Эванфея, Марона. Нам известен александрийский дем, названный в честь Геракла, другой в честь Акака и еще один в честь Темена, праправнука Геракла. Некоторые демы позднее получили названия, происходящие от прозвищ царей: «филометорий» принадлежал к дему, названному по имени Птолемея Филометора, «епифаней» – к дему, названному по имени Епифана[178]. Интересно отметить, что есть один дем («леоннатий», самый старший), названный по имени Леонната, старого македонского соратника Птолемея I в войнах Александра.
Некоторые жители Александрии называют себя в известных нам источниках (при Августе) «македонцами», а не «александрийцами», не упоминая дема. Это привело Шубарта и Вилькена к мысли, что на протяжении всей эллинистической эпохи в Александрии существовал многочисленный слой «македонцев», которые главным образом служили в войске и при дворе и первоначально считали себя выше граждан-«александрийцев». В связи с этим у нас есть странное утверждение Иосифа Флавия, что евреи в Александрии считались «македонцами». (Это один из доводов современных ученых, стремящихся доказать неправильность утверждения Иосифа о том, что евреи относились к гражданам.) Мы знаем, что многие евреи служили в войске и что иногда они занимали высокие посты. Может быть, утверждение Иосифа Флавия основано на некоторой ассимиляции между еврейскими и македонскими воинами[179].
В известном фрагменте у Полибия население Александрии в поздние годы династии состояло из трех элементов: 1) туземного египетского элемента, «сообразительных и послушных гражданской жизни»[180], 2) войск наемников, непокорных и готовых навязать свою волю правительству, и 3) «александрийцев», которые сами были в некоторой степени склонны нарушать общественный порядок, хотя и менее буйные, чем воины, – «ибо, даже будучи смешанной крови, они были греками по происхождению и не забыли общего греческого уклада жизни». Классификация явно неточна, но дает приблизительную картину того, какое впечатление производила толпа на улицах Александрии на приезжего примерно в 100 году до н. э. Полибий ничего не сообщает о регулярной армии; можно сделать вывод, что в то время наемные войска, доставленные правительством из-за границы, составляли значительную часть армии. А под словом «александрийцы» Полибий, видимо, подразумевает все свободное греческое население, как принадлежащее к числу граждан, так и нет. Он не упоминает евреев; возможно, из-за того, что те эллинизировались и в речи, и в платье, и их было нелегко отличить от греков.
Александрийцы в своей общественной жизни, интеллектуальной и художественной культуре были греками. На основании имеющихся сведений невозможно сказать с какой-либо долей уверенности, насколько политическое устройство Александрии соответствовало характерному для греческого города-государства. В греческом городе, где также находился двор правителя, даже в тех случаях, когда в нем существовали институты, необходимые для самоуправления, им, насколько мы знаем, ничего не оставалось, кроме как находиться полностью под контролем двора, как обстояло дело в Пергаме. Но, что касается Александрии, мы не знаем, существовало ли там вообще самоуправление. В начале римского периода, как известно, в Александрии не было ни сената, ни народного собрания, но это не исключает возможности, что при Птолемеях или в какой-то период эллинистической эпохи граждане сходились на собрания, чтобы принимать законы и псефизмы. Найдена одна фрагментарная надпись на камне, которая, как посчитал Плауманн, содержит часть псефизмы, принятой александрийским народом[181]