Читать онлайн Сандро из Чегема бесплатно
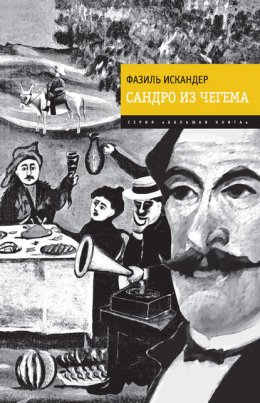
© Искандер Ф. А., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
* * *
От автора
Начинал я писать «Сандро из Чегема» как шуточную вещь, слегка пародирующую плутовской роман. Но постепенно замысел осложнялся, обрастал подробностями, из которых я пытался вырваться на просторы чистого юмора, но вырваться не удалось. Это лишний раз доказывает верность старой истины, что писатель только следует голосу, который диктует ему рукопись.
История рода, история села Чегем, история Абхазии и весь остальной мир, как он видится с чегемских высот, – вот канва замысла.
Мне кажется, первый промельк его я ощутил в детстве. В жаркий летний день я лежал на бычьей шкуре в тени яблони. Время от времени под порывами ветерка созревшие яблоки слетали с дерева и шлепались на траву.
Иногда они скатывались вниз по косогору, и сквозь рейки штакетника выкатывались на скотный двор, где паслись свиньи. К этим плодам мы со свиньями бежали наперегонки, и я нередко, опережая их, подхватывал яблоко прямо из-под хрюкающего рыла. В более зрелые годы и в других местах мне это никогда не удавалось.
Вот так я лежал в ожидании полунебесных даров и вдруг услышал, как мои двоюродные сестры в соседних домах, одна на вершине холма, другая в низинке, возле родника, перекликаются. Непонятное волнение охватило меня. Мне страстно захотелось, чтобы и этот летний день, и эта яблоня, шелестящая под ветерком, и голоса моих сестер – все, все, что вокруг, осталось навсегда таким же. Как это сделать, я не знал. Вроде бы все это надо было заново вылепить. Я это почувствовал сладостно хищнеющими пальцами. Через несколько минут порыв угас, и я, казалось, навсегда забыл о нем.
Но вот я пишу эту книгу. По мере продвижения замысла поэзия народной жизни все больше и больше захватывала меня. Вероятно, отсюда и размышляющий мул или героический буйвол как нелгущие свидетели ее. Животные не лгут, хотя собакам свойственно очаровательное лукавство. Небольшой пример, как говаривал вождь.
Бывало, к полудню моя чегемская тетушка начинает греметь тарелками, а уж собаки сдержанно ждут у распахнутых дверей кухни. После обеда и им, конечно, что-нибудь перепадет. Но в ожидании еды они вдруг взлаивали без всякой причины, даже подбегали к забору, где, погавкав некоторое время, победно возвращались назад, как бы говоря: мы не дармоеды, отогнали очень опасного, хотя и невидимого врага. Меня всегда смешила эта сфальсифицированная опасность.
Гораздо позже, став литератором, я убедился, что сия ситуация бессмертна. Вот так же некоторые критики, услышав, что гремят тарелками (не скажу где) бросаются отгонять сфальсифицированную опасность.
Но я слишком отвлекся. Мой немецкий переводчик Саша Кемпфе, прочитав «Сандро», вдруг спросил у меня:
– Эндурцы – это евреи?
Начинается, решил я, но потом оказалось, что этот вопрос возбуждает любопытство разных народов. Эндурцев и кенгурцев я придумал еще в детском саду. Мой любимый дядя хохотал над моими рисунками, где я изображал бесконечные сражения двух придуманных племен. Потом любимый дядя погиб в Магадане, а эти придуманные народы всплыли в виде названия двух районов Абхазии. И теперь (только заткните кляпом рот психопату-психоаналитику) я скажу: эндурцами могут быть представители любой нации. Эндурцы – это и наш предрассудок (чужие), и образ дурной цивилизации, делающий нас чужими самим себе. Однажды мы можем проснуться, а кругом одни эндурцы, из чего не следует, что мы не должны просыпаться, а следует, что просыпаться надо вовремя. Впрочем, поиски и выявление эндурцев и есть первый признак самих эндурцев. Позднейший лозунг «Эндурское – значит отличное!» – ко мне никакого отношения не имеет.
«Сандро из Чегема» еще не совсем законченная книга, хотя данная рукопись – самая полная из всех, которые где-либо и когда-либо выходили. Хочется дописать судьбу Тали и некоторых других обитателей Большого Дома.
Чегемской жизни противостоит карнавал театрализованной сталинской бюрократии: креслоносцы захватили власть. Фигура самого Сталина, этого зловещего актера, интересовала меня давно, еще тогда, когда я ничего не писал и писать не собирался.
Сталин достаточно часто отдыхал в Абхазии, и поздние, после его смерти, рассказы людей, видевших и слышавших его (обслуга, охрана и т. д.), – чаще всего восторженные и потому разоблачительные, давали мне возможность заглянуть в первоисточник. Восторженный человек, мне так думается, менее склонен редактировать свои впечатления, ему кажется, что все было прекрасно, и потому он простодушнее передает факты.
Представим вечерок в компании. Вдруг гаснет свет. Один из малозаметных застольцев берет книгу и начинает читать ее в полной темноте. Мы потрясены этой его особенностью, нас не смущает, что читает он ее все-таки по слогам. Тогда это называлось железной логикой. Человек так устроен, что загадочное в его сознании неизменно превращается в значительное. Но продолжим образ.
Компания не просто проводит вечерок, а играет в карты на деньги. И немалые. Вдруг гаснет свет. Малозначительный игрок (о том, что он видит в темноте, никто не знает) заглядывает в колоду, а потом при свете выигрывает игру – и все кажется нормальным.
А если игра затягивается на годы? А если наш удачливый игрок уже договорился с директором электростанции и при этом, будучи отнюдь не глупцом, далеко не всегда выигрывает после световой паузы, а только тогда, когда предстоит хороший куш?
Короче, когда долго нет света, сова садится на трон, филины доклевывают последних светляков, лилипутам возвращается как бы естественное право бить ниже пояса, а новоявленные гуманисты восхваляют Полярную ночь как истинный день в диалектическом смысле. Культ будущего, этот летучий расизм, как-то облегчает убивать в настоящем, ибо между настоящим и будущим нет правовой связи.
Лучше вернемся в Чегем и отдышимся. Собственно, это и было моей литературной сверхзадачей: взбодрить своих приунывших соотечественников. Было отчего приуныть.
У искусства всего две темы: призыв и утешение. Но и призыв, если вдуматься, тоже является формой утешения. «Марсельеза» – та же «Лунная соната», только для другого состояния. Важно, чтобы человек сам определил, какое утешение ему сейчас нужно.
Краем детства я застал во многом еще патриархальную, деревенскую жизнь Абхазии и навсегда полюбил ее. Может, я идеализирую уходящую жизнь? Может быть. Человек склонен возвышать то, что он любит. Идеализируя уходящий образ жизни, возможно, мы, сами того не сознавая, предъявляем счет будущему. Мы ему как бы говорим: вот, что мы теряем, а что ты нам даешь взамен?
Пусть будущее призадумается над этим, если оно вообще способно думать.
Глава 1. Сандро из Чегема
Дядя Сандро прожил почти восемьдесят лет, так что даже по абхазским понятиям его смело можно назвать старым человеком. А если учесть, что его много раз пытались убить в молодости, да и не только в молодости, можно сказать, что ему просто повезло.
В первый раз он получил пулю от какого-то негодяя, как он его неизменно называл. Он получил пулю, когда затягивал подпругу своему коню перед тем, как покинуть княжеский двор.
Дело в том, что он тогда был любовником княгини и торчал у нее день и ночь. Благодаря своим выдающимся рыцарским достоинствам, он был в то время первым или даже единственным ее любовником.
Юный негодяй был влюблен в княгиню и тоже торчал у нее день и ночь, кажется, на правах соседа или дальнего родственника со стороны мужа. Но он, по словам дяди Сандро, не обладал столь выдающимися рыцарскими достоинствами, как сам дядя Сандро. А может, и обладал, но никак не мог найти случая применить их к делу, потому что княгиня была без ума от дяди Сандро.
Все-таки он надеялся на что-то и потому ни на шаг не отходил от дома княгини или даже от самой княгини, когда она это позволяла. Возможно, она его не прогоняла, потому что он подхлестывал дядю Сандро на все новые и новые любовные подвиги. А может, она его держала при себе на случай, если дядя Сандро внезапно выйдет из строя. Кто его знает.
Княгиня эта была по происхождению сванка. Возможно, именно этим объясняются ее некоторые любовные странности. К достоинствам ее прекрасной внешности (дядя Сандро говорил, что она была белая, как молоко), я думаю, необходимо добавить, что она отлично ездила верхом, неплохо стреляла, а при случае могла выдоить даже буйволицу.
Я об этом говорю потому, что доить буйволицу трудно, для этого надо иметь очень крепкие пальцы. Так что вопрос об изнеженности, инфантильности или физическом вырождении сам по себе отпадает, несмотря на то, что она была чистокровным потомком сванских князей.
Я думаю, что этот факт не противоречит историческому материализму, если учесть особенности развития общества в высокогорных условиях Кавказа, даже если при этом не учитывать великолепный воздух, которым дышали ее предки и она сама. Дядя Сандро говорил, что иногда в интимные минуты эта амазонка не прочь была ущипнуть своего любимчика, но он терпел и ни разу не вскрикнул, потому что был настоящим рыцарем.
Я подозреваю, что мужу ее, мирному абхазскому князю, приходилось терпеть более грубые формы проявления ее деспотического темперамента. Так что он на всякий случай старался держаться в сторонке.
Одно время этот юный негодяй пытался заручиться его поддержкой, так что скорее всего он был родственником мужа, а не соседом. Но пользы от этого было мало, хотя муж ее тоже довольно часто торчал у себя дома. Но, разумеется, не так часто, как дядя Сандро, потому что он был страстным охотником на туров, а занятие это требует много энергии и многонедельных походов.
Возможно, ему нужно было, чтобы во время длительных охотничьих отлучек в доме оставался расторопный и храбрый молодой человек, который мог бы развлекать княгиню, принимать гостей, а если надо, и защитить честь дома. Именно таким молодым человеком и был в те времена дядя Сандро. Так что муж княгини, по словам дяди Сандро, любил его не меньше самой княгини. Поэтому на происки юного негодяя он раз и навсегда сказал ему: «Вы меня в свои дела не впутывайте».
Возможно, после этих слов этот безымянный юный негодяй почувствовал себя до того одиноко и сиротливо, что иного выхода не нашел, как выстрелить в дядю Сандро.
Во всяком случае, так обстояли дела до того дня, когда дядя Сандро бодро затягивал подпругу своему коню, а его безутешный соперник уныло стоял посреди двора, и в его голове дозревало легкомысленное даже по тем временам решение выстрелить в дядю Сандро.
И вот только он затянул переднюю подпругу своему коню, как тот окликнул его. Дядя Сандро повернулся, и тот выстрелил.
– …твою мать! – крикнул ему дядя Сандро сгоряча. – Если ты думаешь меня одной пулей уложить! Стреляй еще!
Но тут подбежали люди княгини, да и она сама выскочила на террасу.
Дядю Сандро подхватили, а он еще некоторое время продолжал ругаться с пулей в животе, а потом уже упал.
Его сначала уложили в доме княгини, но потом это стало неприлично, и через несколько дней родственники унесли его на носилках домой. Княгиня поехала за ним и проводила у его постели ночи и дни, что было немалой честью, потому что отец его был хотя и довольно зажиточным, но простым крестьянином.
Дяде Сандро пришлось очень плохо, потому что турецкий пистолет этого юного негодяя был заряжен чуть ли не осколками разбитого чугунка. Для спасения его жизни из города был привезен знаменитый по тем временам доктор, который сделал ему операцию и лечил его около двух месяцев. За каждый день лечения он брал по барану, так что отец его впоследствии говорил про дядю Сандро, что этот Козел ему обошелся в шестьдесят баранов.
Неизвестно, сколько бы еще длилось лечение, если б однажды отец дяди Сандро в неурочное время не вернулся бы с поля. У него сломалась мотыга, и он пришел за новой. Войдя во двор, он увидел, что доктор мирно спит под тенью грецкого ореха вместо того, чтобы лечить его сына или хотя бы готовить ему снадобья. «Небось его бараны пасутся и набираются жиру для него, а он в это время спит», – подумал старик и прошел в дом.
Он вошел в комнату дяди Сандро и еще больше удивился, потому что дядя Сандро спал и притом не один. Для сестры милосердия, даже княжеского происхождения, это было слишком. Старик больше всего рассердился, потому что не знал, в какой из этих шестидесяти дней она прыгнула к нему в постель, первая догадавшись, что он выздоровел или, по крайней мере, что ему нужно сменить процедуру. Узнай он пораньше об этом, может быть, десяток баранов можно было бы и не давать этому бездельнику. Так или иначе, он растолкал княгиню.
– Вставай, княгиня, князь у ворот! – сказал он.
– Я, кажется, прикорнула, пока отгоняла от него мух, – вздохнула она, потягиваясь и приподымаясь.
– Ну да, из-под одеяла, – буркнул старик и вышел из комнаты.
Тут дядя Сандро, который от стыда притворялся спящим и хотел притворяться дальше, не выдержал. Он прыснул. Княгиня тоже рассмеялась, потому что, как истинная патрицианка, хотя и высокогорного происхождения, она была не слишком смущена.
В тот же день доктор с причитавшимися ему баранами был отправлен в город, а княгиня еще несколько дней погостила в доме дяди Сандро и, уезжая, по-княжески одарила его сестер своими шелками и бусами. Так что все остались довольны, разумеется, все, кроме юного негодяя. После своего злополучного выстрела он окончательно осиротел, потому что княгиня переехала в дом дяди Сандро, а он при всем своем нахальстве никак не мог там показаться. Более того. Ему пришлось совсем уехать из наших мест. Разумеется, он скрывался не столько от возмездия закона, сколько от пули одного из родственников дяди Сандро. Так что если в доме княгини он все-таки мог надеяться на какой-нибудь случай, чтобы доказать свои более выдающиеся рыцарские способности, если, разумеется, они у него были, то теперь ему приходилось страдать издали.
Кроме этого случая в жизни дяди Сандро было множество других, когда его могли убить или, по крайней мере, ранить. Его могли убить во время гражданской войны с меньшевиками, если бы он в ней принимал участие. Более того, его могли убить, даже если бы он в ней не принимал участия.
Кстати, перескажу одно его приключение, по-моему, характерное для смутного времени меньшевиков.
Однажды дядя Сандро возвращался домой с какого-то пиршества. Незаметно в пути его застигла ночь. Время было опасное, кругом шныряли меньшевистские отряды, и он решил попроситься переночевать где-нибудь под ближайшей крышей. Он вспомнил, что где-то поблизости живет один богатый армянин. Дядя Сандро был с ним немного знаком. Этот армянин в свое время бежал из Турции от резни. Здесь он выращивал высокосортные табаки и продавал их трапезундским и батумским купцам, которые платили ему, по словам дяди Сандро, чистым золотом.
И вот он подъехал к воротам его дома и крикнул своим зычным голосом:
– Эй, хозяин!
Ему никто не ответил. Он только заметил, что на кухне погас свет, а окна изнутри прикрыли деревянными ставнями. Он еще раз крикнул, но ему никто не ответил. Тогда он пригнулся и, открыв себе ворота, въехал во двор.
– Не подъезжай, стрелять буду! – услышал он не слишком уверенный голос хозяина. Плохи времена, подумал дядя Сандро, если этот табачник взялся за оружие.
– С каких это пор ты в гостей стреляешь? – крикнул дядя Сандро, отмахиваясь камчой от собаки, которая выскочила ему навстречу. Он слышал, как из кухни доносились женские голоса и голос самого хозяина. Видимо, там держали военный совет.
– А ты не меньшевик? – наконец спросил хозяин, голосом умоляя, чтобы он оказался не меньшевиком или, по крайней мере, назвался как-нибудь иначе.
– Нет, – гордо сказал дядя Сандро, – я сам по себе, я Сандро из Чегема.
– Что ж я твой голос не признал? – спросил хозяин.
– С испугу, – объяснил ему дядя Сандро.
Кухонная дверь осторожно приоткрылась, и оттуда вышел старик с ружьем. Он подошел к дяде Сандро и, окончательно признав его, отогнал собаку. Дядя Сандро спешился, хозяин привязал лошадь к яблоне, и они вошли в кухню. Дядя Сандро сразу заметил, что хозяин и его семья ему обрадовались, хотя истинную причину этой радости он понял гораздо позже. Но тогда он ее принял за чистую монету, так сказать, за скромную дань благодарности его рыцарским подвигам, и это ему было приятно. Кстати, семья хозяина состояла из жены, тещи и двух детей-подростков – мальчика и девочки.
В честь дяди Сандро хозяин послал своего мальчика зарезать барана, достал вино, и, хотя гость для приличия старался удержать его от кровопролития, все было сделано как надо. Дядя Сандро был рад, что остановил выбор на этом доме, что ему не изменило его тогда еще только брезжущее чутье на возможности гостеприимства, заложенные в малознакомых людях. Впоследствии беспрерывными упражнениями он это чутье развил до степени абсолютного слуха, что отчасти позволило ему стать знаменитым в наших краях тамадой, так сказать, самой веселой и в то же время самой печальной звездой на небосклоне свадебных и поминальных пиршеств.
Попробовав вина, дядя Сандро убедился, что богатый армянин уже научился делать хорошее вино, хотя еще и не научился как следует защищать свой дом. «Ничего, – подумал дядя Сандро, – в наших краях всему научишься». Так они сидели за полночь у горящего камина за обильным хорошим столом, и хозяин все время направлял разговор в сторону подвигов дяди Сандро, а дядя Сандро, не упираясь, с удовольствием шел в этом направлении, так что застольная беседа их была оживленной и поучительной. Кстати, дядя Сандро рассказал ему знаменитый эпизод из своей жизни, когда он силой своего голоса контузил какого-то всадника, как бы самой звуковой волной смыл его с коня.
– У меня в те времена, – добавлял он, пересказывая мне приключение с богатым армянином, – был один такой голос, что, если в темноте неожиданно крикну, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал.
– От чего это зависело? – пробовал я уточнить.
– От крови, – уверенно пояснил он, – плохая кровь от страха свертывается, как молоко, и человек падает замертво, хотя и не умирает.
Но пойдем дальше. Беседа и вино мирно журчали, дрова в камине потрескивали, и дядя Сандро был вполне доволен. Правда, ему показалось немного странным, что хозяин не отсылает спать своих детей и тещу, потому что хозяйка вполне могла справиться и одна, обслуживая их за столом. Но потом он решил, что детям будет полезно послушать рассказы о его подвигах, да и не каждый день к ним заворачивает такой гость, как Сандро из Чегема.
Но тут снова залаяла собака, и хозяин посмотрел на дядю Сандро, а дядя Сандро на хозяина.
– Эй, хозяин! – раздалось со двора.
Дядя Сандро прислушался и по перемещающемуся звуку собачьего лая определил, что она облаивает по крайней мере пять-шесть человек.
– Меньшевики, – прошептал хозяин и с надеждой посмотрел на дядю Сандро. Сандро это не понравилось, но отступать было стыдно.
– Попробую голосом, – сказал он, – если не поможет, будем защищаться.
– Эй, хозяин, – снова раздался сквозь собачий лай чей-то голос, – выходи, а то хуже будет!
– Отойдите от дверей, – приказал дядя Сандро, – они сейчас будут стрелять в дверь. Меньшевики сначала в дверь стреляют, – пояснил он некоторые особенности тактики меньшевиков. Только он это сказал, как – шлеп! шлеп! шлеп! – ударили пули по дверям, выбрызгивая щепки в кухню.
Тут все три женщины заплакали, а теща богатого армянина даже завыла, совсем как наши женщины на похоронах.
– Что же у тебя двери не из каштана? – удивился дядя Сандро, видя что его дверь ни черта не держит.
– О, аллах, – воскликнул хозяин, – я знаю табачное дело, такие дела я не знаю.
Он совсем растерялся. Он держал свою старую флинту, по словам дяди Сандро, как пастушеский посох. «Хоть бы хорошую винтовку привез из Турции», – подумал дядя Сандро с раздражением. Он понял, что на помощь этого табачника рассчитывать не стоит.
– Куда эта дверь ведет? – спросил дядя Сандро, кивнув на вторую дверь в кухне.
– В кладовку, – сказал хозяин.
– Сейчас буду кричать, – объявил дядя Сандро, – пусть женщины и дети запрутся в кладовке, а то они своим плачем испортят мой крик.
Хозяин пропустил всю семью в кладовку и уже сам туда хотел войти, чтобы никто не мешал дяде Сандро, но тот его остановил. Он приказал ему стоять у одного из закрытых окон, а сам подошел к другому, держа наготове винтовку.
– Открой, хозяин, а то хуже будет, – закричали меньшевики и снова стали стрелять в дверь, и дверь опять стала выщелкивать щепки. Одна щепка ударила дядю Сандро по щеке и впилась в нее, как клещ. Дядя Сандро вынул ее и разозлился на богатого армянина.
– Хоть бы дубовые сделал, – сказал он ему, – раз уж вы в Турции о каштановых слыхом не слыхали.
– Я эти дела не знаю и знать не хочу, – запричитал богатый армянин, – я хочу продавать табак трапезундским и батумским купцам, я больше ничего не хочу.
Но тут дядя Сандро набрал полную грудь воздуха и закричал своим неимоверным голосом.
– Эй, вы! – закричал он. – У меня полный патронташ, я буду защищать дом, берегитесь!
С этими словами он слегка приоткрыл ставню и выглянул во двор. Светила луна, но дядя Сандро сначала ничего не заметил. Потом он вгляделся в черную тень грецкого ореха и понял, что они там укрываются. Он удивился, что они сразу не прошли в дом к богатому армянину, ведь бояться его они не могли, но потом догадался, что они заметили чужого коня, привязанного к яблоне, и решили подождать.
Видимо, они совещались, обсуждая его грозное предупреждение. «Может быть, уйдут, – подумал он. – Как бы не прихватили мою лошадь», – вдруг пришло ему в голову, и он замер у окна, вглядываясь в тех, что стояли в тени грецкого ореха.
– Ну, что, попадали они со своих лошадей? – спросил старый табачник. Он совсем не доверял меньшевикам и потому не решался приоткрыть ставню и выглянуть.
– Откуда у этих эндурских голодранцев лошади, – пробормотал дядя Сандро, продолжая свои наблюдения.
В те времена он считал, что все меньшевики эндурского происхождения. Конечно, он знал, что у них есть всякие местные прихвостни, но сама родина меньшевизма, само осиное гнездо, сама идейная пчеломатка, по его мнению, обитала в Эндурске.
Тут дядя Сандро заметил, что один из этих прохвостов быстро перебежал двор и остановился в тени яблони возле его лошади. Дядя Сандро не заметил, что он там делает, потому что он стоял за лошадью. Все равно ему это не понравилось.
– Эй, – крикнул он, – это моя лошадь! – Он своим голосом дал знать, что кричащий и хозяин дома далеко не одно и то же.
– А ты Ной Жордания, что ли? – ответил тот, что был у лошади, роясь, как теперь догадался дядя Сандро, в его дорожной сумке. И, хотя сумка была пустая, дяде Сандро такое дело совсем не понравилось. Если человек лезет в твою сумку, значит, он тебя не боится, а раз не боится, значит, может убить.
– Я – Сандро из Чегема! – гордо крикнул дядя Сандро, и ему до того захотелось снести голову этому парню из своей винтовки, что он еле сдержал себя. Он знал, что, если он одного или двоих уложит, остальные сбегут, но потом они придут целым отрядом и наделают бед.
– Мы тебя убьем вместе с хозяином, если не откроете, – сказал тот, продолжая возиться с его сумкой.
– Если меня убьете, за меня отомстит Щащико! – гордо крикнул дядя Сандро.
Услышав такое, те, что стояли в тени грецкого ореха, немного поговорили между собой и отозвали того, что стоял у лошади. Дядя Сандро подумал, что слухи о знаменитом Щащико дошли до самого Эндурска.
– А кем он тебе приходится? – услышал он.
– Он мой двоюродный брат, – ответил дядя Сандро, хотя Щащико был ему только земляком. Щащико был известным абхазским абреком и стоил примерно ста хороших меньшевиков, как разъяснил мне дядя Сандро.
– Пусть откроет, мы золото не будем искать, – крикнул один из них.
– Золота все равно нету, – встрепенулся старый табачник.
– Какой же ты богатый табачник, если у тебя нету золота? – удивился дядя Сандро.
– Уже взяли! – нервно вскрикнул старый табачник и, бросив свою флинту, стал бить себя по голове.
– Золото вы уже взяли! – крикнул дядя Сандро сердито.
Тут меньшевики начали что-то хором кричать так, что нельзя было разобрать, что они говорят.
– Говорите кто-нибудь один, – крикнул дядя Сандро, – мы не на базаре.
– Это не мы, это другой отряд золото брал, – крикнул один из меньшевиков обиженным голосом.
– Тогда что вам надо? – удивился дядя Сандро.
– Мы возьмем немного скотины, раз ты брат Щащико, – ответил один из них.
– Так что, впускать? – спросил дядя Сандро, потому что ему не очень хотелось рисковать жизнью ради этого табачника, тем более, что дверь у него прошивалась пулями, как тыква.
– Пускай идут, пускай грабят, – махнул рукой старый табачник, – все равно я отсюда уеду.
И вот дядя Сандро открыл дверь и, держа винтовку наготове, вышел из дому. Меньшевики тоже вышли из тени и пошли ему навстречу, не спуская с него глаз. Их было шесть человек, вместе с писарем этого села, который слегка пожал плечами, когда дядя Сандро взглянул на него. Он пожал плечами в том смысле, что они его заставили заниматься этим некрасивым делом.
Меньшевики, опасливо озираясь, вошли в кухню. По тому, как они сразу же уставились на стол, дядя Сандро понял, что эти голодранцы не каждый день обедают, и еще больше стал их презирать, хотя и не подал виду.
– А эта дверь куда ведет? – спросил старший из них. Он был в офицерской форме, хотя и без погон.
– Там кладовка, – сказал хозяин.
– Там кто-то есть, – сказал один из меньшевиков и направил свою винтовку на дверь.
– Там семья, – сказал старый армянин. Его теща слегка завыла, показывая, что она женщина.
– Пусть выходят, – сказал старший.
Хозяин проковылял в кладовку и стал по-армянски уговаривать, чтобы они вышли. Но они стали отказываться и всячески упираться. Дядя Сандро все понимал по-армянски, поэтому он подсказал хозяину, как их оттуда выкурить.
– Скажи им, что солдатам надо харч приготовить, чтобы они не боялись, – подсказал он ему по-турецки.
Хозяин сказал им про харч, и они в самом деле вышли и стали у дверей. Один из солдат взял лампу и заглянул в кладовку, чтобы узнать, нет ли там вооруженных мужчин. Вооруженных мужчин не оказалось, и меньшевики немного успокоились.
Теща хозяина подбросила в огонь свежих поленьев и стала мыть котел, чтобы сварить в нем остатки барана. Как только она взялась за стряпню, она перестала бояться солдат и начала ругать их, правда по-армянски.
– Давайте к столу, – сказал дядя Сандро, – а винтовки сложите в углу.
Меньшевикам очень хотелось к столу, но винтовки бросать не хотелось. Хозяина-то они не боялись, но уже поняли, что дяде Сандро пальца в рот не клади.
– Ты тоже свою винтовку положи, – сказал старший.
– Вы – гости, вы первые должны это сделать, – разъяснил дядя Сандро простейший этикет невежественному руководителю солдат.
– Но ты тоже гость, – попытался он спорить. Но в таких делах спорить с дядей Сандро уже тогда было бесполезно.
– Я первый пришел, значит, я гость по отношению к хозяину, а вы пришли после меня, значит, вы гости по отношению ко мне, – окончательно добил он его, показывая этому выскочке, как нужно вести себя в приличном доме, перед тем как сесть за хороший стол. Тут старший окончательно понял, что дядя Сандро не из простых, и первым поставил свою винтовку в угол. За ним последовали остальные, кроме писаря, потому что у него не было никакой винтовки. Дядя Сандро поставил свою винтовку отдельно в другой угол кухни. Флинта хозяина валялась возле окна. На нее никто не обратил внимания.
И вот они вместе с дядей Сандро уселись за стол друг против друга, в каждое мгновенье готовые сорваться за своей винтовкой, понимая, что главное не дать опередить себя. Вообще-то, у дяди Сандро был еще в кармане пистолет, но он делал вид, что теперь безоружен.
– Обычно, – прервал на этом месте дядя Сандро свой рассказ, – я перед тем, как войти в дом, где может быть опасность, прятал где-нибудь поблизости винтовку или запасной пистолет. Но здесь ничего не спрятал, потому что это был мирный армянин.
– Зачем прятали оружие? – спросил я, зная, что он ждет этого вопроса.
– А как же, – хитро улыбнулся он, – если на тебя неожиданно кто-то напал и разоружил тебя, лучше этого способа нет. Он уходит с твоим оружием, он торжествует, он потерял над собой контроль, и тут ты догоняешь его и отбираешь у него свое оружие и все, что он имеет. Понимаешь?
– Понимаю, – сказал я, – но если и он прятал оружие и теперь догонит вас и отберет свое оружие, ваше оружие и все, то вы имеете?
– Этого не могло быть, – сказал дядя Сандро уверенно.
– Почему? – спросил я.
– Потому что это был мой секрет, – ответил он и горделиво разгладил свои серебряные усы, – я его тебе открываю, потому что ты не только моими секретами, даже своими не можешь пользоваться.
После этого небольшого лирического отступления он продолжал свой рассказ.
Одним словом, они просидели за столом остаток ночи – пили вино и доедали барана. Они поднимали тосты за счастливую старость хозяина, за будущее его детей. Пили, косясь на винтовки, за цветущую Абхазию, Грузию, Армению и за свободную федерацию Закавказских республик, разумеется, под руководством Ной Жордания.
На рассвете старший поблагодарил хозяина за хлеб-соль и сказал, что надо уладить дело, потому что им пора идти. С этими словами он вынул из кармана бумагу, где было записано, сколько у хозяина мелкого и крупного рогатого скота. Когда офицер вынул бумагу, дядя Сандро посмотрел на писаря так, что он съежился.
– Я подтвердил, что Щащико твой брат, – сказал он ему по-абхазски вполголоса.
– Молчи, чесотка, – ответил дядя Сандро презрительно.
– Ты не у себя в Чегеме, – огрызнулся писарь, видимо, осмелев от выпитого.
– Чтоб раздавить жабу, не обязательно ехать в Чегем, – сказал дядя Сандро и так посмотрел на писаря, что тот сразу же отрезвел и прикусил язык.
Руководитель отряда долго торговался с хозяином, и наконец они сговорились на том, что старик даст ему двадцать баранов и трех быков.
– Нет, я здесь не останусь, я уеду в Батум, – причитал старик, вскрикивая.
– В Батуме будет то же самое, – честно обещал тот, что был в офицерской форме, но без погон.
– Турки резали за то, что армяне, а вы за что? – допытывался старик.
– Для нас все нации равны, – важно отвечал ему старший, – это помощь населению, а не грабеж.
Потом все они поднялись из-за стола, взяли свои ружья и все вместе вышли во двор. Было раннее утро, и в доме старика все еще спали.
– Уеду, уеду, уеду, – причитал старый табачник, пока они проходили к скотному двору.
Старый табачник, продолжая ругаться и проклинать шайтанское равенство, вывел из сарая быков. Это были сильные и породистые быки. Дядя Сандро пожалел, что таких хороших быков приходится отдавать этим эндурским громилам. Он заметил, что в сарае на привязи стоит еще один бык. «С одним быком много не напашешь», – подумал дядя Сандро, жалея хозяина. Потом он вспомнил, что сам недавно проиграл в кости быка, и помрачнел. Долг все еще висел на его чести и мешал ему веселиться.
Руководитель отряда договорился с хозяином, что овец выбирать не будут, а прямо отсчитают первые двадцать голов, которые выйдут из загона. Писарь, хрустнув плетнем, перелез в загон и стал выгонять овец. Когда овец перегнали на скотный двор, оказалось, что среди них одна хромая, еле-еле волочится.
– Брак, – сказал руководитель отряда.
– О, аллах! – взмолился табачник. – Мы же договорились, не я выгонял овец.
– Но она же не дойдет? – задумался руководитель.
– Какое мое дело! – воскликнул хозяин. – Пусть кто-нибудь из твоих людей возьмет ее на плечи.
– Да ну ее, – сказали солдаты, – может, еще заразная.
– Какое мое дело, – повторил хозяин, закрывая загон и показывая, что торг закончился.
– Дайте мне ее, – не выдержал тут писарь, обращаясь к руководителю, – раз она вам не нужна.
– Черт с тобой, бери! – сказал тот. Он был рад, что не приходится заставлять солдат, потому что боялся, что они его не послушаются, и ему будет стыдно перед дядей Сандро.
Писарь с жадной радостью поймал больную овцу, взвалил ее себе на плечи и стал выходить на дорогу. «Как собака, получившая свою кость», – подумал дядя Сандро, глядя на него.
– Чесотка к чесотке тянется, – сказал он, когда тот проходил мимо.
Писарь ничего не ответил, но нарочно, чтобы разозлить дядю Сандро, прочавкал мимо него по грязи, осторожно ликуя под тяжестью добычи. Как только он немного отошел, больная овца, вывернув шею и глядя в сторону загона, так жалобно заблеяла, что дяде Сандро стало не по себе. Потом, когда солдаты вслед за писарем погнали остальных овец, больная овца успокоилась. Но дядя Сандро знал, что, когда писарь свернет к себе домой, а солдаты пойдут дальше, она опять начнет кричать, и ему было жалко эту несчастную овцу, этого старого табачника и самого себя.
Когда меньшевики скрылись из глаз, дядя Сандро, не глядя на хозяина, сказал:
– Все равно они тебя в покое не оставят, дай мне этого быка…
Хозяин посмотрел на дядю Сандро и молча стал бить себя по голове. Дяде Сандро было неприятно говорить хозяину про быка, но этот проклятый писарь с больной овцой совсем доконал его.
– Бери, все бери, я здесь ни дня не останусь! – наконец закричал хозяин, продолжая бить себя по голове, словно исполняя мрачный обряд шахсей-вахсея.
– Нет, – сказал дядя Сандро, сдерживая рыдания, – я возьму только быка, я его должен одному человеку…
С этими словами он прошел в сарай и стал отвязывать быка.
– Все бери! – закричал ему вслед старый табачник. – Только веревку оставь!
– Зачем тебе веревка? – удивился дядя Сандро.
– Повеситься хочу! – весело крикнул ему старый табачник.
Не понравилось дяде Сандро его веселье, и он стал стыдить старого табачника за малодушие, напоминая, что у него семья и дети.
– В Батум, в Батум уеду, – бормотал старый табачник, уже не слушая его.
– Послушай, – сказал дядя Сандро вразумительно, – если ты один уедешь, тебя десять раз ограбят по дороге. Даю тебе слово Сандро из Чегема, что я провожу тебя до самого паровоза, дай только знать, когда будешь ехать.
С этими словами он ударил быка так, чтобы он шел впереди по дороге, а сам вернулся во двор и подошел к своей лошади. Он быстро затянул подпруги и только хотел сесть, как вспомнил, что солдат рылся у него в сумке. «Может, бомбу подложил», – подумал он и, сунув руку в сумку, быстро обшарил ее. Она была пуста. Дядя Сандро вскочил на свою лошадь и выехал со двора. Бык медленно шел впереди него вдоль усадьбы старого табачника. Догоняя его, дядя Сандро не удержался и взглянул на хозяина. Старый табачник, пригнувшись к плетню, старательно поправлял разъехавшиеся прутья загона, словно в эту дыру утекли все его богатства.
Дядя Сандро исполнил свое обещание. Месяца через два старый табачник продал все, что можно еще было продать, нанял аробщика и отправился в город. Дядя Сандро сопровождал его верхом на лошади до самой пристани. Глядя на убогий скарб переселенца, никто бы не поверил, что это бывший богатый армянин, поставщик высокосортных табаков трапезундским и батумским купцам.
– Если б дверь была из каштана, еще можно было сопротивляться, – вспомнил дядя Сандро, прощаясь.
– Даже слышать не хочу об этом, – махнул рукой старый табачник. Так они расстались навсегда, и больше его дядя Сандро не встречал в наших краях.
– Вот так из-за меньшевиков лучшие люди нашего края вынуждены были покидать его, – заключил дядя Сандро свой рассказ, слегка выпучив глаза и многозначительно покачивая головой, как бы намекая на то, что последствия разбазаривания кадров до сих пор сказываются и еще долго будут сказываться как в административном, так и в чисто хозяйственном смысле.
Глава 2. Дядя Сандро у себя дома
Однажды, когда я собирался уехать из горной деревушки Чегем, где гостил у своих родичей в доме дедушки, мне сказали, что меня хочет видеть один человек.
Я вышел из дому и увидел старика, который, палкой отбиваясь от собак, входил во двор. В одной руке он держал довольно увесистый жбан. Я отогнал собак и подошел к нему.
Взглянув на старика, я подумал, что где-то его видел, но не мог вспомнить где. Вернее, даже не сам старик, а то, с какой радостной злостью накинулись на него собаки, и то, с какой неутихающей яростью он от них отбивался, напомнило мне знакомую картину, но я никак не мог припомнить, когда и где это было.
И только потом, уже в автобусе на обратном пути, я вспомнил, что это было там же, возле дедушкиного дома. Видимо, надо было отойти от этого места, чтобы восстановить в памяти полузабытую картину.
Я вспомнил, что в детстве во время войны, когда я жил у дедушки, этот человек проходил время от времени мимо нашего дома, и собаки всегда с такой же веселой злостью нападали на него, и он с такой же неутихающей яростью от них отбивался, при этом не убыстряя и не замедляя шагов.
Тогда у нас, посмеиваясь, говорили, что он до самого города ходит пешком, потому что во время войны машины были редки, да и сесть в них было не так-то просто.
Было странно, вернее, как-то чудно, что собаки только на него так набрасывались, потому что он проходил здесь довольно часто, так что им можно было привыкнуть к нему, как они привыкали ко всем остальным, но почему-то к нему они никак не хотели привыкать. Так что можно было, не выходя из дому, по собачьему лаю определить, что это он проходит по дороге.
Обычно, конечно, кто-нибудь выходил, чтобы унять собак, но не всегда это удавалось, да и он, видимо, нисколько их не боялся, а проходил с мешком или без мешка своей упорной походкой, даже успевал, если возвращался из города, прокричать сквозь собачий лай городские военные новости и, не останавливаясь, шел дальше. Но все то, повторяю, я вспомнил на обратном пути, уже в автобусе.
…Мы поздоровались со стариком. Он приподнял жбан и в то же время, озираясь на собак с презрительной яростью, попросил, чтобы я передал в городе этот небольшой гостинчик его брату Сандро.
Я покосился на жбан. Дело было не из приятных. Тащиться с ним километров десять до автобуса, а там еще искать в городе какого-то Сандро. Но и прямо отказать тоже было как-то неудобно, я замялся, чем и воспользовался старик. Поняв мой взгляд, который я бросил на жбан, он опередил мой отказ, сказав, что проводит меня до машины.
– Хорошо, – согласился я, – только где он живет?
– Бумагу внучка написала, – ответил он и, воткнув свой посох в землю, при этом снова покосился на собак, словно давая им знать, что все равно успеет схватить палку когда надо, достал из кармана негнущейся ладонью тетрадный лист. На нем крупным детским почерком был написан адрес. Тут я опять пожалел, что согласился, но было уже поздно. Брат его жил в пригороде. Правда, туда регулярно ходят автобусы, но все же что за охота тащиться к этому Сандро. Лень изобретательна, и мне пришло в голову, что, может, он работает где-то в городе, так что удобней будет этот жбан занести к нему на работу. Я спросил об этом старика.
– Сандро не из простых, он из присматривающих, – сказал старик, как мне показалось, со скрытой насмешкой над моим невежеством. По-абхазски слово «присматривающий» означает также и «руководящий».
Я попытался выяснить, за чем он присматривает. Старик снова посмотрел мне в глаза с тайной насмешкой, и теперь я понял, что смысл ее в том, что я не могу не знать людей присматривающих, потому что их не так уж много, и если к ним не принадлежу или о них ничего не слыхал, то это не значит, что они сами по себе не существуют.
– Он бывает на сборищах, где собираются стоящие люди, – пояснил он терпеливо и в то же время давая знать, что мне не удастся его перехитрить.
Через полчаса я распрощался с родственниками и пустился в путь. Кстати, они мне напомнили, что речь идет о том самом Сандро, который до войны жил недалеко от дедушкиного дома. Потом, уже после наших первых встреч в городе, я, как это бывает, вспомнил многое, связанное с его жизнью в деревне, но тогда напоминание о нем мне почти ничего не сказало.
Мой спутник оказался очень услужливым и на редкость молчаливым стариком. По дороге он несколько раз порывался взять мой вещмешок, а когда тропа проходила сквозь кустарник дикого ореха, он придерживал нависающие ветки и пропускал меня вперед.
Когда мы спустились к реке и стояли на берегу в ожидании парома, он почему-то сунул жбан в воду и держал его там, покамест паром подходил. Зачем ему надо было охлаждать мед – для меня так и осталось загадкой. Не мог же он не знать, что мед и вообще-то не портится, а такое кратковременное охлаждение все равно никакой пользы не принесет. Солнце довольно сильно пекло, и я в конце концов решил, что он погрузил жбан в холодную горную реку просто для того, чтобы сделать приятное меду или даже самому жбану.
– Не потеряй жбан, он мне нужен для одного дела, – сказал старик, когда я влезал в автобус.
– Не потеряю, – ответил я, понимая, что означает его, якобы отвлеченный, интерес к жбану.
Он стоял возле машины, терпеливо дожидаясь отправки. Я ему сказал, чтобы он шел домой, но он остался ждать, продолжая загадочно улыбаться, словно я опять пытался его в чем-то перехитрить. Кажется, он хотел увериться, что жбан с медом, по крайней мере, выехал в нужном направлении.
– Передай Сандро, что орехи и кукурузу привезу, как только управлюсь! – крикнул он после того, как автобус тронулся. При этом он закивал головой, словно раскрывая более глубокий смысл своих слов: да, да, там-то я и проверю, как ты справился с моим поручением.
На следующий день я не без труда нашел участок дяди Сандро, как я его потом называл. Впрочем, так его называл чуть ли не весь город.
Обсаженный фруктовыми деревьями и мандариновыми кустами, участок был расположен на крутом косогоре. Поднимаясь к дому по узкой тропке, я подумал, что хозяин и здесь, поблизости от города, выбрал себе место, в миниатюре повторяющее рельеф гор. Теплый осенний день клонился к закату. В воздухе стоял запах перезревшего инжира и тонкий аромат цитрусов. Я подошел к дому.
Опрятная миловидная старушка, стоя на крыльце, ласковым голосом сзывала кур, равномерно, как сеятель, разбрасывала пригоршни кукурузы. Увидев меня, она собрала с подола последнюю горсть зерна, высыпала и, отряхивая фартук, приветливо улыбнулась.
– Хозяин дома? – спросил я.
– Тебя, – повернулась она в сторону веранды. Услышав ее голос, я вдруг вспомнил ее имя – тетя Катя!
– Кто? – спросил с веранды сдержанный, но сильный мужской голос. Веранда была открытая, и я удивился, что говорящего не видно. Я решил, что хозяин лежит на кушетке.
– Первый раз вижу, – сказала старушка, мельком улыбнувшись мне, словно извиняясь за то, что вынуждена объясняться при мне.
– Пусть подымется, – сказал голос откуда-то снизу.
Я взошел на веранду и увидел дядю Сандро. Он сидел на низенькой скамеечке и мыл ноги в тазу.
– Добро пожаловать, – сказал он и чуть привстал, показывая, что тазик мешает ему сделать жест гостеприимства более широким, одновременно как бы предлагая убедиться в его потенциальной широте.
После этого он удобней уселся на стульчике, потирая ногой ногу, с вежливым любопытством оглядел меня, показывая, что любопытство его целиком поглощено моей духовной сущностью и никак не распространяется на жбан.
– По обличью вижу, что городской, – сказал он, с хрустом потирая сильные, гибкие ступни ног.
Я назвал себя, объяснил ему цель своего визита и уселся на стул, который подала мне хозяйка, что-то невидимое стряхнув с него фартуком. Дядя Сандро повел бровями в сторону жбана и вполголоса бросил жене:
– Убери.
Старушка взяла жбан и, улыбнувшись мне в том смысле, что человека моего калибра, пожалуй, не стоило беспокоить из-за какого-то меда, унесла его на кухню.
Удивившись, что с тех довоенных времен я довольно сильно вырос, хотя было бы удивительней, если б я остался таким же, он, посетовав на быстротекущую жизнь, успокоился и стал расспрашивать о родственниках и видах на урожай в этом году. Я отвечал, разглядывая его.
Это был на редкость благообразный старик с короткой серебряной шевелюрой, белыми усами и белой бородкой. Розовое прозрачное лицо его светилось почти непристойным для его возраста младенческим здоровьем. Каждый раз, когда он приподнимал голову, на его породистой шее появлялась жировая складка. Но это была не та тяжелая заматерелая складка, какая бывает у престарелых обжор. Нет, это была легкая, почти прозрачная складка, я бы скачал, высококалорийного жира, которую откладывает, вероятно, очень здоровый организм, без особых усилий справляясь со своими обычными функциями, и в оставшееся время он, этот неуязвимый организм, балуется этим жирком, как, скажем, не слишком занятые женщины балуются вязаньем.
Одним словом, это был красивый старик с благородным, почти монетным профилем, если, конечно, монетный профиль может быть благородным, с холодноватыми, чуть навыкате голубыми глазами. В его лице уживался благостный дух византийских извращений с выражением риторической свирепости престарелого льва.
Во время нашей легкой беседы он продолжал омовение ног, время от времени подливая из кувшинчика теплую воду, словно добавляя в тазик благовонные масла.
Вымыв ноги, он расставил их, проследив за симметрией, по краям тазика и, продолжая разговаривать со мной, бросил жене:
– Принеси.
Старушка вошла в кухню и вынесла оттуда старое, но чистое полотенце. Он взял у нее из рук полотенце и легко приподнял обе ноги, показывая, что тазик можно убрать, что и сделала эта миловидная старушка. Она приподняла тазик и тут же шлепнула воду с крыльца.
Дядя Сандро оперся пяткой одной ноги о пол и, продолжая держать другую на весу, стал тщательно протирать ее полотенцем. Он протер одну ногу одним концом полотенца, затем другим концом другую ногу, словно давая каждой ноге, а также окружающим людям урок справедливости и равноправия в пользовании благами жизни.
Все это время он разговаривал со мной, иногда посматривая в дверной проем, словно ожидая кого-то, иногда давая своей жене мелкие хозяйские распоряжения. При этом он понижал голос, и это звучало, как в театре – реплики в сторону, которые якобы зритель не слышит.
– Безразмерные, – сказал он неожиданно, и старушка принесла ему носки, которые он с удовольствием надел, тщательно расправив на них все складки. Старушка поставила рядом с ним галоши уже в качестве личной инициативы, но, видимо, неудачно, потому что дядя Сандро тут же поправил ее. – Новые, – сказал он, как мне показалось, по случаю моего прихода. Старушка унесла старые галоши и принесла новые, сверкающие черным лаком, с загнутыми вверх носками.
Дядя Сандро надел галоши, легко встал и оказался, ко всем своим достоинствам, еще и высоким, стройным стариком, широкогрудым и узкобедрым, что несколько размывало иконописность его облика и одновременно усиливало дух византийских извращений, возможно, отчасти за счет галош с загнутыми носками.
– Накроешь здесь, – сказал он жене, переходя к столу, что стоял в конце веранды.
Я попытался отказаться, но дядя Сандро не пустил меня. Старушка накрыла стол чистой скатертью, потом принесла сыр, лобио, зелень, хлеб, кислое молоко в запотелых банках и чайные блюдца, наполненные пахучим медом.
За ужином дядя Сандро спросил у меня, где я работаю. Я сказал, что работаю в газете.
– Писарь? – спросил он, насторожившись.
Я ему сказал, что иногда пишу сам, а чаще всего привожу в порядок то, что пишут другие.
– Значит, присматриваешь за пишущими, – догадался и успокоился он.
Дядя Сандро на некоторое время задумался, а потом, взглянув мне в глаза, спросил, сколько теперь стоит нанять человека из газеты для написания фельетона. Я ему ответил, что для этого ничего не надо платить.
– А почему тогда за объявление о смерти родственника берут деньги? – спросил он.
Я объяснил ему разницу и сказал, что фельетоны пишутся о жуликах, тунеядцах и бюрократах.
– Значит, сначала надо нанять адвоката, чтобы он доказал, что этот человек жулик или бюрократ? – спросил он.
– А в чем дело? – сказал я.
– У меня есть враг в горсовете, – пояснил дядя Сандро, – инженерчик из Эндурска, хотя и скрывает, где родился. Должен деньги получить за оползень, а он не дает.
– Что за оползень? – спросил я.
– У меня на участке оползень, а дом застрахован. Этот негодяй не хочет акт подписывать. Хорошо бы его напугать фельетоном, – сказал дядя Сандро и, сжав кулак, пригрозил им инженерчику из горсовета.
В это время на веранду взошла женщина и, увидев нас за столом, смущенно остановилась.
– Дорогой дядя Сандро, – сказала она, краснея и запинаясь, – извините, что напоминаю, но вы не забыли…
– Как можно! – воскликнул дядя Сандро и, привстав, жестом пригласил ее к столу.
– Что вы, сидите! – всплеснула она руками. – Я забежала на минутку.
– Он такие вещи не забывает, – вставила тетя Катя не то с грустью, не то с насмешкой.
– Помолчи, – сказал дядя Сандро миролюбиво и добавил, деловито взглянув на женщину, – вино откуда привезли?
– Вино лыхнинское, пьется, как лимонад, – сказала женщина и добавила: – Говорят, с ними будет один человек, прямо, говорят, чудище какое-то… Собирается всех наших споить…
– Кто такой? – встрепенулся дядя Сандро.
– Родственник шларбовцев, – пояснила женщина, – прямо какое-то чудище, говорят. Как бы он нас не опозорил, дядя Сандро, уж вы постарайтесь…
– А-а, знаю я его, сидел с ним, – вспомнил дядя Сандро и презрительно выпятил нижнюю губу. В это мгновенье, казалось, он мысленно пробежал картотеку своих застолий и, вытащив нужную карточку, удостоверился, что соперник никакой опасности не представляет. – Передай своим: то, что он выпьет, я в ухо налью, – добавил дядя Сандро и для наглядности похлопал по уху.
– За вами мы, как за большой крепостью, дядя Сандро, – сказала женщина и, пятясь к дверям, заспешила, – так я пойду, дядя Сандро, а то еще столько дел.
– Через час буду у вас, – сказал он и принялся за кислое молоко.
– За вами мы, как за большой стеной, – донесся голос женщины уже с тропинки.
– Мясо не переварите, мясо! – напомнил дядя Сандро зычным голосом, когда она уже скрылась в зарослях мандарина.
– Не беспокойтесь, дядя Сандро, мы постараемся! – успела она ответить откуда-то снизу.
– Не забывай, что ты старик, – сказала тетя Катя с бесполезной грустью.
– С тобой забудешь, – сказал дядя Сандро и, макая ложку сначала в мед, а потом в кислое молоко, принялся за еду.
– Зятя впускают в дом, – пояснил он причину посещения женщины, легко, я бы сказал, красиво отправляя ложку в рот, – хотят, чтобы я был тамадой. Невозможно отказать – соседи.
– Для тебя весь город соседи, – сказала жена все с той же бесполезной грустью, вглядываясь в дорогу, проходящую под их усадьбой.
– И ты можешь гордиться этим, – заметил дядя Сандро, взглянув на меня.
– Вы еще хоть куда, – сказал я.
После ужина мы вымыли руки, причем дядя Сандро долго и тщательно полоскал свои большие желтоватые зубы. Потом он натянул на ноги легкие азиатские сапоги, надел черкеску, слегка пожурив жену, что газыри плохо протерты. Он чистым платком протер их и затянул кавказским поясом свою прямо-таки осиную талию.
– Пойдем покажу, что сделал оползень, – сказал дядя Сандро, и мы спустились. Дядя Сандро шел легкой гарцующей походкой, и я снова залюбовался этим серебряноголовым, неправдоподобно сохранившимся стариком.
Он показал рукой на цементные сваи, подпиравшие дом. На двух сваях в самом деле были трещины, на мой взгляд, не слишком катастрофические. Забегая вперед, скажу, что дом его до сих пор стоит на месте, хотя с тех пор прошло несколько лет.
– Все-таки его можно было бы припугнуть фельетоном, – сказал дядя Сандро, заметив, что трещины на сваях не произвели на меня большого впечатления.
– Надо посоветоваться, – сказал я неопределенно.
Я попрощался со старушкой, и мы с дядей Сандро пошли по тропинке к выходу.
– Не перепивай, не забывай, что ты старик, – с бесполезным упрямством кинула старушка ему вслед. Было похоже, что она ему эту мысль внушает уже десятки лет.
– Вот женщина, – пробормотал дядя Сандро и, не оборачиваясь, кивнул головой в сторону жены в том смысле, что она сознательно упрощает сложный круг его общественных обязанностей.
Покамест мы спускались, дядя Сандро спросил у меня – нет ли среди моих знакомых надежного проводника, чтобы ему можно было доверить фрукты для отправки в Москву. Я сказал, что у меня есть несколько знакомых проводников, но они, скорее всего, мошенники.
– Таких не надо, – сказал дядя Сандро и, просунув руку между штакетинами, щеколдой закрыл изнутри калитку. Мы вышли на дорогу.
Нам надо было идти в разные стороны, но дядя Сандро медлил, словно хотел спросить о чем-то важном, но не решался. Все же он спросил у меня, нет ли среди моих знакомых людей, которые хотели бы купить свежие фрукты прямо с дерева. По интонации я понял, что это не тот вопрос, который он хотел мне задать, скорее всего, этот вопрос – подступ к тому, который он сейчас решил отложить. Я сказал ему, что такие знакомые у меня есть.
– Так приведи их, – сказал он, – или же сам бери.
– Хорошо, – сказал я.
– Подумай насчет инженерчика, – напомнил он мне осторожно.
– Хорошо, – сказал я бодро, что ему, видно, понравилось. Он оживился.
– Лучше даже не печатать, – добавил он, – а так просто показать и припугнуть…
– Я подумаю, – сказал я серьезно.
– Мы, земляки, должны друг другу помогать, – заметил дядя Сандро, прощаясь, – заходи.
Видно было, что он доволен и решил, что на этот раз с меня хватит. Он пошел, а я еще немного постоял, любуясь его величественной и немного оперной фигурой, как бы иронически сознающей свою оперность и в то же время с оправдательной усмешкой кивающей на тайное шутовство самой жизни.
* * *
Так я стал бывать у дяди Сандро. Возможно, если бы не его рассказы о пережитых приключениях, которые я с удовольствием слушал, мы встречались бы гораздо реже. Я считаюсь хорошим слушателем, потому что умею отключаться, когда рассказ входит в нудную стадию своего развития. При этом я время от времени что-нибудь уточняю, ухватившись за хвост последней фразы, что до сих пор помогает мне поддерживать репутацию.
Только один раз в жизни я попался. В те студенческие времена я хаживал в один литературный дом, где устраивались чтения стихов и рассказов. После этого обычно следовало неплохое угощение, особенно если читал хозяин дома.
В тот день как раз он и читал. Предварив свое чтение меланхолическим замечанием, что этот рассказ мы в печати никогда не увидим, хотя другие его рассказы мы тоже никогда в печати не видели, он стал читать нестерпимо скучный рассказ об инспекторе рыбнадзора, который обречен был в конце оказаться хорошо замаскированным браконьером. Он так тщательно его замаскировал, что это было ясно с самого начала.
Скажу коротко, я уснул в самом грубом смысле этого слова. Видит бог, дело прошлое, я изо всех сил крепился и наконец, как это бывает на собраниях, если сидишь где-нибудь в задних рядах, решил на минуточку прикорнуть, с тем чтобы потом очнуться с посвежевшей головой.
Ни до, ни после этого такого со мной не бывало. Когда я проснулся, в комнате никого не было. Я сначала ничего не понял, а потом, услышав из другой комнаты звон посуды и бодрые голоса моих товарищей, все понял и пришел и ужас. Значит, пока я спал, они успели прочитать рассказ, может быть, даже обсудить его и, оставив меня спать, перешли в другую комнату. Хотелось войти и устроить скандал. Конечно, можно было набраться нахальства и, сказав, мол, здорово я вас разыграл, потирая руки, усесться за стол. Но это было опасно, могли спросить, кто что говорил во время обсуждения. Униженный и оскорбленный, я тихо вышел в переднюю, схватил плащ и выскочил из дома.
Во всяком случае, дядю Сандро я слушал всегда с неослабевающим вниманием и не помню случая, чтобы хоть на минутку отвлекся.
Постепенно из этих рассказов стала вырисовываться его полуфантастическая в молодости жизнь и довольно странная, во всяком случае, необычная старость.
Оказывается, впервые дядя Сандро переехал в город по приглашению самого Нестора Аполлоновича Лакобы еще в начале тридцатых годов. В те времена он прогремел как один из лучших танцоров знаменитого абхазского ансамбля песен и плясок под руководством Платона Панцулая. Танцуя в ансамбле, он одновременно работал комендантом местного Цика, куда его взял Нестор Аполлонович. Уже тогда он танцевал почти на уровне лучшего танцора ансамбля Паты Патарая, во всяком случае, горячо дышал ему в затылок и, кто знает, может быть, дядя Сандро дотанцевался бы до такого времени, что почувствовал бы на собственном затылке ревнивое дыхание первого солиста, если бы не безумные события того безумного года.
После смерти Лакобы, когда начались повальные аресты и уже взяли руководителя ансамбля Платона Панцулая, дядя Сандро, провидчески решив, что забирают всех лучших, сначала захромал, а потом и вовсе, уволившись из ансамбля, вернулся в деревню.
Бедняжка Пата, уже испорченный славой, не мог этого сделать и поплатился. Его взяли, обвинив в том, что он на одном из концертов во время исполнения танца с мечами якобы, невольно выдавая тайный замысел, нехорошо посмотрел в сторону правительственной ложи. Разумеется, он во всем признался и получил десять лет. Дядя Сандро, рассказывая об этом, горестно уверял, что этими мечами капусту нельзя было разрубить, а не то чтобы что-нибудь другое.
Второй раз дядя Сандро покинул деревню уже после войны. На этот раз, скорее всего из осторожности, свой половинчатый побег он закончил в пригороде. Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончились, а город еще не начался.
За это время слава его как одного из лучших украшателей стола, веселого и мудрого тамады, продолжала расти и ко времени моего с ним знакомства достигла внушительных размеров, хотя я тогда ничего об этом не знал. Я как бы жил в другом измерении и, раз выйдя из него, стал встречать дядю Сандро или слышать его имя довольно часто.
В годы либерализации он стал появляться у должностных лиц, иногда на правах человека, который неоднократно встречался с ними за столом, а иногда просто входил к ним с административными предложениями. Так, мне доподлинно известно, что он побывал у одного крупного должностного лица с предложением вернуть местным рекам, горам и долинам их древние абхазские названия, ошибочно переименованные во времена, которые, в свою очередь, тоже ошибочно до последнего времени именовали временами культа. Культ, безусловно, был. Этого никто но отрицает. Но он был вне времени, поэтому нельзя говорить «времена культа», хотя и в пространстве, и притом довольно значительном.
Но вернемся к дяде Сандро. К сожалению, с его предложением вернуть местным рекам, горам и долинам древние абхазские названия тогда не посчитались. И напрасно, потому что во время известных событий в Абхазии это же самое прозвучало всенародно, что привело к некоторой путанице и бестолковщине.
Кстати, по рассказу дяди Сандро, это самое должностное лицо, к которому он обращался со своим предложенном, не встало с места при его появлении в кабинете, а также не встало с места, когда он уходил. Возможно, говорил дядя Сандро, он этим хотел показать, что очень прочно сидит на своем месте.
Все же через некоторое время это самое должностное лицо вынуждено было покинуть свое место якобы в связи с переходом на другую работу, как об этом сообщалось в нашей газете, хотя он сам почти одновременно с этим сообщением благим матом орал на весь город, что не хочет покидать свое место, а потом даже разрыдался на бюро обкома, чем, безусловно, доказал свою искреннюю привязанность к покидаемому месту.
Дядя Сандро после всего этого говорил, что этого человека сняли именно потому, что он в свое время принял у себя в кабинете его, дядю Сандро, с недопустимой по абхазским обычаям степенью хамства. Я было посмеялся этому предположению, но потом решил, что в его словах все-таки есть доля истины. Ведь частное хамство по отношению к дяде Сандро могло быть признаком универсального охамения должностного лица до степени недопустимой не только по абхазским обычаям, но даже и по общепринятой всесоюзной норме.
Когда наступило поветрие защищать кандидатские диссертации, многие молодые научные работники нередко обращались к дяде Сандро с просьбой разъяснить внешние поводы некоторых дореволюционных, а иногда и послереволюционных княжеских междоусобиц. Дядя Сандро охотно разъяснял им внешние поводы, после чего они в своих диссертациях раскрывали внутренние причины и давали анализ разложения абхазского дворянства. В списке использованной литературы дядя Сандро проходил как престарелый очевидец разложения.
В первое время, когда я у него стал бывать, я обычно находил его в общественном саду, который он сторожил. Сад был расположен недалеко от дома и принадлежал табачной фабрике. В саду росли яблони, груши, сливы и хурма. Когда я первый раз появился в этом саду, почти все фрукты там уже были убраны, только хурма светилась фонарями своих плодов и несколько яблонь, абхазский предзимник, если можно так назвать этот местный сорт, все еще стояли в яблоках.
В этом саду дядя Сандро пас свою полулегальную корову, держа ее на длинной веревке. Обычно он сидел на старом потнике, опрятный, с таким горделивым видом, словно держал на привязи не обычную корову, а небольшого зубробизона, укрощенного лично им. Иногда на шее у него висел прекрасный цейсовский бинокль, как впоследствии выяснилось, личный подарок принца Ольденбургского.
Я заметил, что с места, на котором он сидел, хорошо просматривалась дорога, а если на ней появлялся, с его точки зрения, подозрительный человек, он загонял корову за большой развесистый куст ежевики, словно нарочно для этой цели выращенный в саду.
Корова, по-видимому, так к этому привыкла, что как только дядя Сандро вставал, а то и не вставая, бывало, подергивал веревкой, она сама брела за куст и, выглядывая оттуда, ждала, пока пройдет подозрительный человек. Кстати, я ни разу не слышал, чтобы эта корова замычала.
Я этим не хочу сказать, что дядя Сандро приучил ее к молчанию или она сама понимала незаконность своего пребывания в пригороде. Все же было довольно странно видеть столь уж бессловесное животное.
В тот первый раз, когда я его посетил в саду, произошел забавный эпизод. Внизу на дороге появился милиционер, судя по буханке хлеба, которую он держал под мышкой, местный человек. Дядя Сандро, продолжая сидеть на своем потнике, слегка приосанился.
Милиционер, поравнявшись с нами, остановился у забора, почему-то бросил тоскливый взгляд на одну из яблонь, потом на дядю Сандро и сказал:
– Пасешь?
– Пасу, – твердо ответил дядя Сандро.
– Хорошую ты мне яблоню отвел, – вздохнул милиционер и снова оглядел яблоню, на которой, как я теперь заметил, и в самом деле почти не было плодов. Это была яблоня местного сорта.
– Сам выбирал, – ответил дядя Сандро загадочно.
– Хорошо ты мне удружил, по-соседски, – сказал милиционер и, укрепив под мышкой буханку, двинулся дальше, все еще продолжая ворчать.
– Что такое? – спросил я.
– Из-за коровы отвел ему яблоню, – сказал дядя Сандро, – а она в этом году, как видишь, не дала урожая. Вот он и сердится.
– И давно это вы так?
– Шестой год, – сказал дядя Сандро, – раньше я коз держал. Выбрать дерево я ему даю весной. В этом году ему не повезло. Я ему дал в придачу сливу-скороспелку, но он все равно недоволен.
Я спросил у него, чего он все следит за дорогой, если уж с милиционером у него налажены деловые отношения.
– А райсовет? – сказал дядя Сандро.
– Отведи и им какое-нибудь дерево, – предложил я.
– На всех не напасешься, – ответил он, как мне показалось, несколько раздраженный неуместной шутливостью моего тона.
Приходя сюда, я обычно усаживался рядом с ним, и мы беседовали, причем дядя Сандро предупреждал меня, чтобы я не сидел на голой земле, ибо от этого, по его мнению, происходит большинство болезней. Сидеть, уверял он, надо на камне, на бревне, на шкуре животного или, в крайнем случае, если ничего нет, на собственной шапке. По его словам, за всю свою долгую жизнь он ни разу не сидел на земле.
– И, как ты видишь, я неплохо сохранился, – говорил он, поглаживая ладонью свое лицо. На это возразить было нечего.
Почти по любому поводу он вспоминал случаи из своей бурной жизни или меня просил рассказать о том, что делается на свете. Слушал внимательно, но не слишком удивляясь, словно все, что происходит теперь, это – разновидность того, что он давно знал или сам пережил.
Когда я ему рассказал об убийстве президента Кеннеди и о том, что убийцу нашли, он спокойно меня выслушал и, обращаясь ко мне, как бы давая мне дружеский совет, сказал:
– Если ты собираешься убить человека, ты должен это сделать так, чтобы тебя не нашли… А так убить каждый дурак может…
Подвиги в космосе как будто оставили его равнодушным. Главное, что меня слегка раздражало, он сначала обо всем очень подробно расспрашивал, а потом, выслушав, махал рукой, мол, все это неправда.
– Один человек из нашей деревни, – сказал он как-то после очередного моего космического рассказа, – вбил кол у себя в огороде, а потом всем говорил, что это – середина земли. Попробуй проверь!
Меня это задело, и я, несколько горячась, стал доказывать, что тут не может быть никакого обмана.
– Послушай сюда, – сказал он и сановито дотронулся до своих серебристых усов, – один пастух, когда кончился март – самый дождливый и неприятный для пастухов месяц, оказывается, сказал: «Слава богу, кончился этот вонючий март, теперь и вздохнуть можно».
Услышал это март и обиделся на пастуха. Ну, говорит, покажу я этому негодяю. Просит март у апреля: «Одолжи мне пару дней, отомщу я этому голодранцу за оскорбление». – «Хорошо, – говорит апрель, – пару дней я тебе дам по-соседски, но больше не проси, потому что самому времени не хватает».
Взял март у апреля два дня и нагнал такую погоду, что по нужде не выйдешь из-под крыши, а не то чтобы стадо вывести. Что делать? Голодные козы кричат, козлята беспокоятся, без молока вот-вот перемрут. И все-таки пастух вывернулся. Посадил он кошку в козий мешок и повесил за балку в сарае, где держал коз. Кошка кричит из мешка и раскачивает его над головами коз. А козы, как ты знаешь, любопытные, вроде женщин. Вот они и прозыркали два дня, стараясь понять, почему этот мешок качается и кричит кошачьим голосом, а про голод забыли. Вот так наш пастух перехитрил март.
– Ну, это вы перехватили, дядя Сандро, – смеюсь я.
– Меня не проведешь, – улыбается он довольный. – Сандро из Чегема кое-что видел на свете… С принцем Ольденбургским встречался, при Лакобе состоял как близкий родственник, со Сталиным два раза сидел вот так, как мы с тобой сейчас сидим… Чем ты меня еще удивишь?
– Расскажите, – прошу я.
– В свое время, в своем месте, – отвечает он, задумавшись, и глядит вдаль.
Под нами живописный косогор с домами, проглядывающими из зелени садов и виноградников. Дома самые разные: обычные деревенские на высоких сваях, а рядом наскоро сколоченные хибарки только набирающих силы хозяев, а там и двухэтажные безвкусные домины процветающих пригородников.
Дядя Сандро, окидывая взглядом поселок, бросает замечания по поводу возвышения или падения отдельных хозяйств. Тут я впервые услышал о Тенгизе, которого он обычно уменьшительно называл «мой Тенго».
– Далеко пойдет этот парень, – сказал он, показывая на его дом, со стороны веранды уютно озелененный стеной винограда, а с другой – еще в строительных лесах.
– А что он? – спросил я.
– Он присматривает за всеми машинами, идущими по приморской дороге, – сказал дядя Сандро.
– Автоинспектор, что ли? – спросил я. Возможно, в моем вопросе ему почудился недостаток уважения к его любимчику, потому что глаза его внезапно вспыхнули, и выражение свирепости престарелого льва на лице его показалось мне теперь не столь уж риторическим.
– Ты его можешь называть мусорщиком, но он присматривает за идущими машинами и имеет государственный пистолет…
– Я и не спорю, – вставил я.
– Какой может быть спор, – успокаиваясь, заметил он, – раз ему доверили пистолет, значит, ему доверили стрелять в нужное время, а тебе (тут он неожиданно ткнул пальцем по колпачку авторучки, торчавшей из кармана моего пиджака) доверили этот пугач, стреляющий чернилами, и то ты боишься пугануть инженерчика из горсовета.
С тех пор я старался быть осторожней, когда речь заходила о Тенгизе, и по мере сил изображал на лице восхищение его любимчиком.
Иногда я встречал дядю Сандро на берегу моря, где он сидел на скамейке, перебирая четки и любуясь мельтешением чаек. Порой он важно прохаживался вдоль берега, изредка поглядывая из-под руки на горизонт, словно переодетый адмирал, ждущий тайного транспорта. Или я его заставал сидящим на берегу с газетой в руках, и тут он неожиданно бывал похож на дореволюционного профессора, удачно вросшего в социализм и потому хорошо сохранившегося, если, конечно, не обращать внимания на его экзотический наряд или то, что он в отличие от профессора все же читал по складам.
Он сиживал и в кофейнях в окружении шумной компании, между прочим, нередко молодых людей. Видимо, он им рассказывал что-то веселое, потому что оттуда время от времени доносились взрывы смеха. Иногда я его перехватывал, едва он только заходил в кофейню, и усаживался с ним за отдельный столик.
– Встречаю на базаре братьев Ламба, – начал он однажды в кофейне без всякого вступления, – давно я с ними хотел поговорить, да все случая не было.
– Идемте, – говорю, – в кофейню, у меня к вам разговор есть.
– Пойдемте, – говорят, – дядя Сандро.
Заходим, садимся. Я за свой счет заказываю кофе, коньяк, боржом. Официантка подает. Я молчу. Думаю, пусть она отойдет. Она отходит. Я смотрю на них, сидят напротив два здоровых лба и смотрят.
– Догадываетесь, – говорю, – зачем я вас позвал?
– Нет, – говорят лбы, переглянувшись.
– А отчего, – говорю, – вы такие недогадливые?
– Не знаем, – говорят лбы и снова переглядываются.
– Может, – говорю, – родители виноваты?
– Нет, – говорят, мы сами такие.
– Значит, родители не виноваты?
– Нет, – говорят.
– В том числе и отец?
– В том числе и отец.
– Так слушайте меня внимательно, – говорю. – Я знал хорошо вашего отца. Сорок лет назад его убил холуй князя Чачба. С князем кое-как справилась советская власть, а холуй до сих пор ходит по нашей земле и смеется над вами про себя, а иногда и открыто. За сорок лет советской власти самые дремучие пастухи, – говорю, – из самых дремучих урочищ свет увидели, а некоторые даже депутатами стали. Неужели вы до сих пор такие темные, что не знаете – за отца сыновья должны отомстить?!
– И что ты думаешь, они на мои чистые, красивые слова ответили? – обратился дядя Сандро ко мне.
– Не знаю, – говорю.
– Так слушай, если не знаешь, – заметил дядя Сандро, – так вот…
– Дядя Сандро, – говорит лоб, что постарше, – но ведь нас за это арестуют.
– Козлиная голова, – отвечаю ему, – конечно, арестуют, если поймают. Но ты подумай: как показал Двадцатый съезд, партийные люди и то по десять, по пятнадцать лет даром просидели, а ты что, за родного отца отказываешься посидеть? Отрекаешься?
– Не отрекаемся, – отвечает теперь лоб, что помладше, – но, может, в этом деле отец был виноват?
– Ты что, – говорю, – судья?
– Нет, – говорит, – я – завмаг.
– Тогда, – говорю, – ты исполни свой долг, а судья, исполняя свой долг, разберется, кто был виноват.
– Нет, – говорит, – ты нас, дядя Сандро, в такие дела не втягивай…
Тут я не выдержал. Я ему напоминаю о чести, я его за свой счет угощаю коньяком, чтобы пробудить в нем мужество, и я же виноват!
– Чтоб я, – говорю, – твой гроб купил в твоем же магазине! Убирайтесь отсюда и чтоб на базаре и в других общественных местах вашей ноги не было, пока я жив!
Слова не сказали – встали, ушли. Да что толку – люди совесть забыли, освинели… Правда, я тоже ошибку допустил, надо было сначала отдельно друг от друга с ними поговорить, да понадеялся на их совесть… Отец-то у них был орел, – добавляет дядя Сандро после некоторого молчания, как бы еще раз мысленно пересмотрев все возможные причины падения братьев Ламба, – но со стороны матери, кажется, у них кровь подпорчена эндурской примесью.
Он допивает свой остывший кофе несколькими большими глотками и окончательно успокаивается.
– Между прочим, мой Тенго помог мне с оползнем, – вспоминает он своего чистокровного скакуна, может быть, мысленно отталкиваясь от подпорченного завмага.
– Значит, выплатили?
– Нет, бетонную канаву провели за счет горсовета, и то хлеб…
После этой встречи мы с ним не виделись около месяца, и я стороной узнал, что дядя Сандро попал в автомобильную катастрофу. Он ехал на грузовике вместе со своими земляками на какие-то большие похороны в селе Атары. Навстречу им мчался грузовик, возвращавший людей с этих же похорон. Шофер встречного грузовика, оказывается, по неопытности перепил на поминках. Одним словом, машины столкнулись. К счастью, никого не убило, но было много раненых. Дядя Сандро сравнительно легко отделался, он вывихнул ногу и потерял один зуб.
– Чуть со своими покойниками не приехали на эти похороны, – рассказывал он во время нашей следующей встречи и, пальцем оттянув губу, показывал на единственный проем между зубами, явно насильственный, во рту и без этого зуба переполненном крепкими желтоватыми зубами.
Он сидел в саду на таком же потнике, только теперь рядом с ним торчал посох, к которому он, оказывается, пристрастился после этой автомобильной катастрофы. Корова на длинной веревке паслась тут же. Время от времени отрываясь от своего сочного занятия, она, подняв голову, поглядывала на дорогу.
В то время как раз проходила кампания по пересмотру пенсионного дела. То ли дядя Сандро узнал о ней, то ли решил, что автомобильная катастрофа – это не что иное, как производственная травма, но он стал просить помочь ему выхлопотать пенсию. В каком-то идеальном смысле он и в самом деле получил производственную травму, но навряд ли собес захотел бы это понять.
Он показал мне два длинных заявления с перечислением его скромных заслуг в хозяйственном и культурном (годы, проведенные в ансамбле песен и плясок) строительстве Абхазии. Заявления были написаны на имя Хрущева и Ворошилова.
– Как ты думаешь, Хрущит поможет? – спросил он, называя его на абхазский манер.
– Не знаю, – сказал я, возвращая ему машинописные копии заявлений. По-видимому, оригиналы были уже посланы в правительство.
– Ну, и ты со своей стороны поднажми, – попросил он, пряча бумаги в карман.
– Дядя Сандро, – сказал я, – но ведь у вас нет трудового стажа.
– Шесть лет за этим садом присматриваю, гори он огнем, – сказал он без особого энтузиазма. Видно, вопрос этот уже подымался и без меня.
– Мало, – сказал я.
– Выдумали какой-то стаж, – проворчал он, – можно подумать, что все эти годы они меня кормили. Раз человек не грабил, не убивал, значит, он жил трудом… А что, если хлопотать как о престарелом колхознике?
Я засмеялся.
– Но мои братья там, – ответил он на мой смех, – все налоги платят вовремя…
– Навряд ли поможет, – сказал я.
– Посмотрим, – сказал дядя Сандро, – с моим Тенго посоветуюсь. Ты не слыхал, что он сделал?
– Нет, – сказал я, стараясь следить за собой.
– Электрическим насосом воду подымает на свой участок, вот что сделал! – воскликнул дядя Сандро.
– Выдающийся человек, – сказал я и твердо посмотрел ему в глаза.
– В хорошем смысле, – поправил меня дядя Сандро и тоже твердо посмотрел мне в глаза.
Опять на дороге появился милиционер. Дядя Сандро несколько подобрался в ожидании, когда тот поравняется с нами. Поравнявшись, милиционер снова остановился и мельком взглянул на свое дерево, как бы с презрительной надеждой увидеть на нем неожиданно появившиеся плоды, хотя теперь уже и на других деревьях не было ни одного плода.
– Пасешь? – перевел он взгляд на дядю Сандро.
– Пасу, – с достоинством ответил дядя Сандро.
– Чтоб ты столько счастья имел, сколько я пользы имею с твоего дерева, – проговорил милиционер и пошел дальше.
– Другой раз будешь летние выбирать, – крикнул ему вслед дядя Сандро.
Милиционер остановился и, обернувшись, горестно протянул:
– Летние… Ничего, Сандро, дождешься похуже того, что с тобой случилось, – добавил он и пошел дальше. Было похоже, что милиционер этой загадочной фразой дал знать, что автомобильная катастрофа – это деликатный намек того, кто свыше следит за нашими поступками и время от времени легкими щелчками напоминает о себе.
– Иди, иди, дуралей, – проговорил дядя Сандро скептически, но не очень громко.
– А почему ему летние сорта не нравятся? – спросил я.
– Наш сорт тем и хорош, что толстокожий… весной можно продавать…
Кажется, этим замечанием о выгодной толстокожести наших яблок в тот раз и закончилась наша встреча. В последующие годы, видимо потеряв надежду использовать меня в административном порядке, дядя Сандро поручал мне, если я к нему приходил в сезон, только собирать фрукты.
– Можешь есть от пуза, – говорил он, стоя под деревом и подавая мне снизу корзину, когда я вскарабкивался на нижнюю ветку.
Между прочим, пенсию он все же получил той же зимой. Правда, небольшую, что-то около двухсот рублей старыми деньгами, но все-таки пенсию. Я уж не знаю, что он там использовал для этого – то ли автомобильную катастрофу, то ли еще что. А может быть, люди, достигшие его возраста, вообще независимо от трудового стажа имеют право на пенсию.
– Нет, – сказал он, словно мягко возражая кому-то, – все-таки власть у нас неплохая, идет навстречу человеку.
– Как же все-таки получили? – полюбопытствовал я.
Мы сидели за столиком в той же приморской кофейне. Пытаясь загладить свою вину за неучастие в его пенсионных делах, я заказал графинчик коньяка, боржом и кофе – легкий горючий материал наших бесед.
Был один из тех чудных декабрьских дней, когда солнце не наваливает, распустив пояс, а доносит свое тепло в благородной, сдержанной дозировке. Дядя Сандро был в отличном настроении. Рассеянно, но доброжелательно оглядывая столики, он выслушал мой вопрос, погладил усы и, слегка запрокинув голову, притронулся к нежной складке на шее.
– Ты знаешь, что это такое? – спросил он, веселея глазами.
– Жир, – упрощенно ответил я.
– Мозоль, – ответил он с шутливой гордостью.
– От чего? – спросил я, стараясь угадать его стройный, хотя еще не совсем понятный силлогизм.
– Думаешь, легко быть вечным тамадой, – ответил он и еще сильней запрокинул голову, показывая, что, когда пьешь, все время приходится держать ее в таком положении. Он снова притронулся к этой складке на шее и даже поощрительно похлопал ее в том смысле, что она ему еще послужит.
Именно в эту встречу у нас разговор зашел о божественных промыслах. В это время газеты были переполнены разговорами о снежном человеке, и я кое-что пересказал ему.
Он с интересом выслушал меня и спокойно подтвердил, что все это правда, что он сам в молодости видел в горах лесную женщину, как он ее назвал на наш лад. На его глазах она выскочила из зарослей с длинными, до колен, развевающимися волосами и побежала вниз, в котловину, на ходу ударяя руками по голове, как это делают у нас женщины во время оплакивания.
– Вы не испугались? – спросил я.
– Нет, – сказал он просто, – у меня было ружье. Я даже пытался ее догнать, но она как чесанула в заросли рододендрона, вмиг сгинула.
– Вы что, хотели ее поймать? – спросил я.
– Сам не знаю, – пожал он плечами, – выдумывать не хочу. Вообще, когда женщина бежит, хочется погнаться за нею, а мы тогда пастушили в горах, и я несколько месяцев женщину не видел. В те времена лесных людей многие видели, но женщины среди них попадались очень редко. Вот другой случай был у меня в горах, тут я испугался по-настоящему. Но это он сам подстроил, – заключил дядя Сандро и кивнул головой на небо.
– Как он? – переспросил я, потому что никогда до этого не слышал, чтобы дядя Сандро ссылался на небеса.
– Он или кто-то из его людей, – уточнил дядя Сандро и посмотрел на меня многозначительно.
– Так расскажите, – попросил я.
– Выпьем еще по кофе и коньяку, – согласился дядя Сандро, кивнув на официантку, – я этот случай редко рассказываю, но тебе расскажу…
Я подозвал официантку и заказал. Дядя Сандро, пока я заказывал, спокойно сидел напротив, внушительно положив руки на посох, который он завел после автомобильной катастрофы. Я ждал, когда он начнет рассказывать, но дядя Сандро молчал, поглядывая на официантку, убирающую со столика, в том смысле, что рассказ не рассчитан для слуха непосвященных.
И вот он начал говорить, и я впервые понял, что вещи эпического склада получаются у него не хуже бытовых.
– Это было, – начал он, отхлебнув кофе из чашки, – за год до Большого Снега и через год после того, как наш народный герой Щащико убил стражника и ушел в лес. Его ловили пятнадцать лет и не могли поймать. Ни один пристав не мог пройти пешком или проехать на лошади от Чегема до самого Цабала. Везде его поджидала верная пуля Щащико. Но что о нем говорить, я не о нем, царствие ему небесное. Как всегда, обманом его выманили из леса, обещали амнистию, а потом вместе с братом убили в тюрьме.
Но я не об этом. Я хочу рассказать, что было со мной. В то лето отец держал скот в урочище Башкапсар. Здесь в те времена дичь еще была непугана, и косули иногда заходили в наше стадо поиграть с козами.
Однажды у нас пропала лошадь. Мы с раннего утра ее искали, и, когда солнце поднялось на высоту хорошего бука, мы напали на ее след. Часа два шли мы по ее следу, пока не увидели ее на таком выступе, откуда она сама спуститься не могла. Со скотом такое бывает, особенно когда он голоден и нападет на хорошую траву. А эту лошадь только-только пригнали из деревни. Семь потов с нас сошло, пока мы ее оттуда выволокли и пригнали обратно.
И вот мы уже подходим к нашему лагерю, но решили передохнуть на взгорье у ручейка. Лучшего места для отдыха не сыщешь.
Внизу в лощине версты две до нашего лагеря. Над балаганом дым – пастухи обед готовят. Справа на склоне пасутся коровы, выше – лошади, еще выше – козы. Слева пихты и кедрачи, ломая друг другу ребра, тянут головы к небу. А небо чистое – ни одной тучки. Воздух крепкий и вкусный, как буйволиное молоко. Такого воздуха, такой благодати сейчас нет. Сейчас и в горах воздух порченый, потому что везде самолеты летают.
Вот в таком месте мы присели у ручья, напились и решили передохнуть. Товарищ мой, наш односельчанин, я его не называю, потому что он еще живой, решил смочить в воде свои чувяки. Они у него пересохли. Вижу: снимает с ног и сует прямо туда, где мы пили воду.
– Что ты делаешь, – говорю, – разве ты не знаешь, что это не положено по нашим обычаям? Раз ты пил здесь воду, значит, надо спуститься пониже, если хочешь вымыть ноги, или смочить чувяки, или платок постирать.
– А, – говорит, ничего не случится. Мы уже напились, а люди здесь не ходят…
– Может, ничего и не случится, – говорю, – но зачем обычай нарушать? Не мы его придумали.
– Тех, кто придумал, – отвечает он вроде в шутку, – давно уже нет, а мы никому не скажем…
Не понравилось мне это, но что скажешь? Слишком легкий он был человек, да и я был молод. Думал, обойдется как-нибудь… Так вот он и сунул свои чувяки в воду, и даже камнем их прикрыл, чтобы лучше водой пропитались.
И вот, значит, лежим мы в медовой альпийской траве. Солнце греет, ручеек журчит, дремота забирает… Такое сладкое место – нельзя не уснуть. И уже я, наверное, видел второй сон и переходил к третьему, как почувствовал во сне – случилось что-то нехорошее.
Еще сплю, а сам думаю, что бы могло случиться? Неужели широколапый, медведь значит, зарезал кого-нибудь из нашего стада? И так во сне хочу догадаться, что случилось, потому что, думаю, проснусь – поздно будет. Но чувствую – никак не могу догадаться во сне. Нет, думаю, надо проснуться и на все посмотреть своими глазами, тогда, может, пойму, что случилось. Подымаю голову, озираюсь.
Смотрю вниз – балаганы на месте, дым идет, пастухи обед готовят. Смотрю направо по склону – вижу: коровы пасутся, выше – лошади и совсем наверху – козы, как белые камни. Нет, думаю, там ничего не случилось, иначе стадо всполошилось бы. Товарищ мой спокойно спит. Отчего же, думаю, что-то душу свербит? И вдруг прислушался и обмер – ручей перестал журчать. Я заглянул в него и почувствовал – не дай тебе бог почувствовать такое! Словом, вижу – ручей пересох. Вода кое-где в углублениях, как на дороге после дождя. Так что и горсти не наберешь.
Тряхнул я своего товарища и говорю:
– Посмотри, что ты наделал!
Он так перепугался, что никак не мог на ноги натянуть свои чувяки. Руки болтаются, как сломанные, губы шепчут:
– Аллах, пощади…
В то лето его буйволица во время грозы, ошалев от крупного града, сорвалась со скалы и сдохла, а у меня медведь зарезал годовалого телка. С тех пор мы на эти пастбища не возвращались.
– Дядя Сандро, – говорю я, – а что, если где-то наверху сорвался большой камень или лавина перекрыла ручей?
– Так и знал, что-нибудь такое скажешь, – ответил дядя Сандро с усмешкой. – Значит, по-твоему, лавина день и ночь ждала, покамест мой товарищ чувяки вымоет в этом ручье, а потом сказала себе: «Ага, теперь самое время сорваться и перекрыть ручей!»
– Мало ли что могло случиться, – сказал я.
– Тогда ответь, – вдруг оживился дядя Сандро, – почему он у него взял буйвола, а у меня только телку?
– При чем тут буйвол и телка? – не понял я.
– А при том, – ответил дядя Сандро, – что он, как хороший судья, наказал нас. У него, как у главного виновника, взял буйвола, а у меня – годовалую телку за то, что не остановил его.
– Дядя Сандро, – говорю я, – неужели он за вами не видел других грехов?
Дядя Сандро спокойно посмотрел на меня и сказал:
– Он не всякие грехи карает. Если ты грешил, рискуя жизнью, он это учитывает. Но если ты грешил, ничем не рискуя, наказания не избежать… И у меня есть такой грех.
– Расскажите, дядя Сандро, – попросил я, разливая остаток коньяка.
– Нечего рассказывать, – сказал дядя Сандро и, сполоснув рот коньяком, проглотил его. – На свадьбе Татырхана я своей рукой зарезал двенадцать быков, и теперь в последние годы кисть правой руки болит. – Дядя Сандро зашевелил вытянутой кистью правой руки, как бы прислушиваясь к действию давнего греха: – И тогда, помнится, вот так же болело запястье… Глупый был, согласился…
Он задумался, и выражение его слегка выпученных глаз мне впервые показалось сентиментальным.
– Да, – проговорил он, – двенадцать беззащитных быков…
Мне показалось, что он сейчас разрыдается. Но тут к нам подошел молодой человек, исполненный ликующего почтения.
– Дядя Сандро! – воскликнул он. – А я вас ищу по всему городу…
– Что ты говоришь! – оживился дядя Сандро. – А я совсем забыл. Старею, старею, дорогой.
– Как можно, дядя Сандро, вас ждут! – воскликнул молодой человек. – Никто ни к чему не хочет притронуться.
– Иду, мой мальчик, иду! – сказал дядя Сандро и, встав, оправил черкеску.
– Извини, дорогой, но компания ждет, – добавил молодой человек, миролюбиво, но твердо обращаясь ко мне, как бы давая знать, что было бы безумным расточительством тратить драгоценные силы великого тамады на одного человека, когда его ждут жаждущие массы.
– Так ты остаешься? – спросил дядя Сандро, словно до этого уговаривал меня пойти с ним, но я отказался.
– Да, – сказал я, – я еще посижу.
Постукивая посохом и кивая знакомым, дядя Сандро прошел между столиками походкой щеголеватого пророка и скрылся на улице.
Всегда бывает немного обидно, если кто-нибудь в твоем присутствии уходит веселиться, даже если ты и не собирался сопровождать его. Я еще посидел немного, раздумывая над рассказом дяди Сандро, а потом пошел домой в состоянии некоторой грусти.
Помню, в голове застрял какой-то обрывок мысли насчет того, что не только люди создали богов по своему подобию, но и каждый человек в отдельности создает бога по своему подобию. Впрочем, возможно, я об этом подумал не тогда, а несколько позже, а то и раньше.
Глава 3. Принц Ольденбургский
Принц Ольденбургский стоял, задумавшись, над прудом гагринского парка, как Петр над водами Балтийского моря. Он стоял, слегка опершись на палку огромным, все еще поджарым, несмотря на возраст, телом.
Александр Петрович был не в духе. Свита вместе с адъютантом, в количестве шести человек, стоявшая рядом на длинной и широкой, как петербургский проспект, парковой аллее, всей своей позой выражала готовность броситься выполнять любой его приказ, как, впрочем, и разбежаться во все стороны.
Свита молча следила за принцем. Сам же принц следил за черным австралийским лебедем, бесшумно скользившим по воде в его сторону. Казалось, маленький пиратский фрегат бесстрашно атакует императорский крейсер, то есть самого принца.
Это был старый яростный самец, рвавшийся в драку с молодым соперником, стоявшим на воде в двух шагах от Ольденбургского. Молодой лебедь, изогнув свою бескостную шею, с глупой беспечностью рылся красным пасхальным клювом у себя под крылом.
Был чудный солнечный день начала октября. Легкая тень принца падала на воду. Молодой лебедь, стоя в его тени, продолжал рыться клювом под крылом. Александр Петрович вдруг подумал, что молодой лебедь потому и беспечен сейчас, что чувствует его отеческую тень. Возможно, так оно и было.
Между тем старый забияка, выгнув копьевидную голову, приближался к берегу. «Заклюет, сволочь», – подумал принц, когда тот, не снижая скорости и не меняя своих воинственных намерений, вплыл в его тень. Принц Ольденбургский с неожиданным проворством пригнулся и ударил палкой по воде перед самым носом старого самца. Тот остановился и возмущенно вскинул голову. Потом он вытянул шею и, уже не продвигаясь, попытался дотянуться до своего беспечного соперника. Принц Ольденбургский палкой надавил ему на шею и с трудом оттолкнул упрямо тормозящее, тяжелое тело лебедя. После этого он еще несколько раз ударил палкой по воде, и старый самец, несколько охлажденный ртутными брызгами, посыпавшимися на него, повернул обратно, чтобы взять разгон для новой атаки.
Розовый пеликан Федька дремал на искусственном островке, положив на крыло тяжелый меч клюва. Иногда он открывал глаз и без особого любопытства следил за происходящим. Так умная, уважающая себя собака иногда сквозь дремоту послеживает за щенячьей возней.
Огромный белый лебедь-шипун, привлеченный шумом воды, осторожно приблизившись, проплыл мимо принца. Было странное противоречие между белоснежным величием его царственно скользящего тела и выражением алчного любопытства его глупенького глаза, увенчивающего божественную шею. Хаос мировой глупости и жестокая глупость всех женщин глядели из этого глаза.
Лебедь, которого защищал принц, так и не заметив опасности, продолжал сладострастно рыться у себя под крылом.
Александр Петрович выпрямился и вздохнул. Сейчас он с особенной тоской вспомнил, что ему не хватало в последние недели. Он вспомнил мягкие, сильные пальцы своей массажистки Элеоноры Леонтьевны Картуховой или Картучихи, как ее обычно называли гагринцы, да и сам принц, когда бывал шутливо или, наоборот, сердито настроен.
Почти месяц назад он приказал ей пребывать под домашним арестом и ни под каким предлогом не появляться на улицах местечка под угрозой высылки в отдаленные места, потому что открылось безобразное коварство этой женщины.
В те дни принц был занят хлопотами, подготовляя гостиницу к приезду из Петербурга фрейлин императрицы Александры Федоровны. Тогда же неожиданно запил, вернее, с неожиданной широтой запил бывший солдат Преображенского полка, промышлявший в местечке крысиным ядом и мочегонными средствами. Когда один из собутыльников бывшего преображенца спросил, откуда у него столько денег, тот проговорился, что Картучиха закупила у него крысиного яда для отравления прибывающих фрейлин, которые, кстати, так и не прибыли.
Преображенец спьяну проговорился, собутыльник с похмелья донес. И хотя Александр Петрович не вполне поверил, что Картучиха и в самом деле собирается отравить фрейлин императрицы или, по крайней мере, одну из них, которую он якобы собирается прельстить, но сама попытка шантажировать его таким образом привела принца в законную ярость.
В прошлом Картучиха была массажисткой и любовницей принца, совмещая эти две естественно перерастающие одна в другую должности. Но в последние годы ей все чаще приходилось ограничиваться массажа-ми по причине мирного угасания страсти стареющего принца. Ему уже было за семьдесят.
Картучиха, думая, что принц охладел именно к ней, бешено его ревновала и особенно утонченными массажами пыталась восстановить свою вторую должность.
Никогда раньше принц Ольденбургский не чувствовал себя после этих массажей столь освеженным и бодрым, но отнюдь не для любовных утех, а для деятельности государственной, чего эта дура, без которой он уже не мог обойтись, никак не могла понять.
Александр Петрович сам никогда не был ни гулякой, ни развратником и терпеть не мог таковых. Он и с Картучихой сблизился из-за телесной необходимости, потому что когда-то горячо любимая жена его, принцесса Евгения Максимилиановна, уже долгие годы разбитая параличом, влачила слабоумное существование.
Бог с ней, с этой Картучихой, баба, она и есть баба, но разве в Петербурге его понимают? Царь, которого Александр Петрович, несмотря на все его слабости, так нежно любит, постоянно вводится в гиблые заблуждения придворными интриганами. Сколько своевременных и прекрасных начинаний было испорчено из-за того, что люди, окружающие его, свою личную корысть ставят выше интересов империи, чем так ловко пользуются для своей агитации иуды-социалисты.
Когда в начале века он пришел к царю с проектом создания на Черноморском побережье климатической станции с тем, чтобы со временем превратить ее в кавказскую ривьеру, царь с неожиданной быстротой согласился с его предложением. Потом-то Александр Петрович догадался, что они таким образом просто хотят избавиться от него в Петербурге. Александр Петрович знал, что его при дворе считают чудаком за то, что он всегда, не взирая на лица, со всей откровенностью верноподданного высказывал свои мысли о средствах к спасению царя и государства Российского. Все Ольденбургские принцы были такими, и все считались чудаками.
Принцы Ольденбургские принадлежали к гольштейнготторпской линии Ольденбургского дома. Они – прямые потомки Георга-Людвига Гольштинского, вызванного на русскую службу императором Петром Третьим. При Екатерине они несколько зачахли и даже как бы отчасти возвратились в Германию, демонстрируя преданность Петру Третьему, но позже всегда были на виду и всегда считались чудаками. С тех давних пор они, как водится, обрусели с запасом, продолжая, однако, пребывать в чудаках.
Так дед Александра Петровича, принц Георгий, будучи генерал-губернатором нескольких губерний, и притом дельным генерал-губернатором, писал стихи. Мало того, что он их писал, он их еще и печатал на всеобщее обозрение, неизменно посвящая стихи собственной жене, великой княгине Екатерине Павловне, что было почти неприлично.
Александр Петрович не забыл, как посмеивались при дворе над его отцом, Петром Георгиевичем, когда тот предложил покойному Александру Третьему объявить торжественным манифестом, что отныне вместе с императорской короной и скипетром будет храниться под общим колпаком экземпляр свода законов.
Но что тут было смешного в этом благороднейшем и полезнейшем предложении, господа? Это был бы великий манифест, означавший, что отныне свод законов в пределах Российского государства так же свят, как императорская корона. Разве не от беззакония и злоупотреблений, ничего общего не имеющих с поистине общенародной идеей самодержавия, зашаталась Россия? Разве не они дают ядовитую пищу социалистическим горлопанам?
Для создания кавказской ривьеры принц Ольденбургский выдвинул весьма действенный аргумент, заключавшийся в том, что русские толстосумы будут ездить в Гагры вместо того, чтобы прокучивать свои деньги на Средиземноморском побережье. Но даже сам этот достаточно важный расчет был только тонким тактическим ходом. Истинная пламенная мечта принца, пока тщательно скрываемая от всех, заключалась в том, что он здесь, на Черноморском побережье, внутри Российской империи, создаст маленький, но уютный остров идеальной монархии, царство порядка, справедливости и полного слияния монарха с народом и даже народами. (Словно нарочно, для удобства эксперимента, берег был богат многообразием чужеродцев.)
И вот выросли на диком побережье дворцы и виллы, на месте болота разбит огромный «парк с насаждениями», как он именовался, порт, электростанция, больница, гостиницы и, наконец, гордость принца, рабочая столовая с двумя отделениями: для мусульманских и христианских рабочих. В обоих отделениях столовой кухня была отделена от общего зала стеклянной перегородкой, чтобы неряхи-повара все время были на виду у рабочих.
Это было личное изобретение принца, которое там, в Петербурге, тоже могло показаться смешным. Но бунт на броненосце «Потемкин», не забывайте, господа, начался с кухни!
И все-таки венец всего сделанного принцем здесь – лучшее в Европе пожарное депо, где каждый инструмент пронумерован, а наиболее отважные и сильные жители местечка снабжены особыми бляхами с соответствующим номером, чтобы в случае пожара не метаться, не хватать что попало, а бежать к месту бедствия со своим инструментом.
Наиболее ценные здания местечка были снабжены дырчатыми трубопроводами, расположенными в середине потолка каждого помещения. В случае пожара, по замыслу, в эти трубы должна была под большим давлением накачиваться вода, чтобы сбивать пламя не только снаружи, но, подобно неожиданному кавалерийскому рейду в тылы врага, уничтожать его изнутри. Потомственный преображенец, участник турецкой кампании, принц знал толк в таких вещах.
Правда, пожары в Гаграх, как в турецкой бане, случались крайне редко, но на то и санитарные меры. Санитария – великая вещь! Недаром принц Ольденбургский в свое время возглавлял комиссию по борьбе с чумой.
Что и говорить, местечко процветало под неусыпным отеческим глазом Александра Петровича. И в дни празднеств в парке с насаждениями он всегда был в гуще народа, озаренный огнями фейерверков, многочисленных и в то же время не представляющих пожарной опасности ввиду их строгой направленности в сторону моря, кстати, самой могучей противопожарной стихии. И в дни бедствий он всегда был с людьми, личным примером воодушевляя растерянных и слабых духом. Так, недавно, когда наводнение прорвало плотину на Жоекваре, не он ли первым с ротой верных преображенцев бросился в воду, так что свите ничего не оставалось, как последовать за ним?
Да, только личным примером можно воодушевить нацию, как учил и продолжает учить нас Великий Петр, сам неутомимый труженик на троне. Впрочем, личный пример принц Ольденбургский нередко подкреплял личной палкой, в ее прямом петровском предназначении гулявшей по спинам всех этих полицеймейстеров, канцеляристов, нагловатых инженеров, а иногда и до генералов добиралась его поистине демократическая палка.
Но, разумеется, не только на простолюдинов старался воздействовать личным примером принц Ольденбургский. Нет, его деятельность была отчасти укоряющим, но в то же время и воодушевляющим кивком в сторону Петербурга. К сожалению, там все еще недопонимали истинный смысл его работы.
Даже нежно любимый царь, когда в 1911 году, проездом на крейсере, посетил гагринскую климатическую станцию, пробыл на ней всего два часа. А царица даже не соизволила сойти с крейсера на гостеприимный гагринский берег.
Царь очень одобрительно отозвался о парке с насаждениями, но пожарное депо и рабочую столовую почему-то отказался осмотреть. А главное, не сделал никаких указаний в смысле постепенного, но повсеместного распространения гагринского опыта.
Истинный замысел принца поняли как раз те, кто пытался разрушить и разложить Российское государство, то есть иуды-социалисты. Еще в 1903 году принц получил анонимное письмо, по-видимому, от одного из придворных прохвостов. В письмо была вложена подпольная газетка с вызывающим, огнеопасным названием – не то «Пламя», не то «Костер». Там против Ольденбургского была статейка под названием «Коронованный вор, или Царское приданое». Статейка представляла из себя смесь чудовищного нахальства и такого же невежества. Особенно его поразило одно место, где говорилось, что «захват гагринской дачи вызвал целую бурю недовольства у абхазцев, аборигенов края, и для них в Гагры приглашены две пехотные роты».
Во-первых, почему захват гагринской дачи, когда объяснительную записку по делу гагринской дачи одобрил царь, рассматривало и изучало министерство финансов и, наконец, с полным соблюдением всех законов проект был принят по докладу министра финансов? Какой же это захват, иуды-социалисты? Вот ваше учение о том, что все на свете принадлежит пролетариату, – вот это захват, вот это грабеж и разбой, а тут абсолютно законный, а главное, полезный для судеб империи акт.
Что касается двух пехотных рот, опять вранье. Пехотные роты тогда никто не приглашал, поскольку никакой бури недовольства у аборигенов края не было и не могло быть.
Правда, через два года некоторые рабочие взбаламутились, да и то не местные аборигены, а свои же босяки. И тогда в самом деле просили из Новороссийска пехотную роту (роту, а не две, иуды), и ту не прислали, потому что у самих было неспокойно.
Александр Петрович, получив письмо с этой поджигательской газеткой, не только не пришел в бешенство, как, по-видимому, ожидал анонимный прохвост, но почувствовал огромное удовлетворение. Да, да, именно враги первыми разгадали его замысел и забили тревогу.
Что касается аборигенов, то у него с ними сложились самые хорошие отношения. Он нередко защищал их от жуликов-подрядчиков, нанимавших их на общественные работы, и от канцелярских бумагомарателей.
Некоторые обычаи их восхищали его своей первозданной мудростью. В исключительном уважении к старости, вернее, к возрастному старшинству, естественно восходящему самой большой почтительностью к самому старому человеку, он с радостью ученого угадывал биологический монархизм, как бы предтечу стройной идеи христианского самодержавия, к сожалению, во многом испоганенную сословными паразитами и бездельниками.
Подобно Великому Петру, принц Ольденбургский организовал в Гаграх кунсткамеру с живыми и мертвыми чудесами. Кунсткамера была организована для развития любознательности у аборигенов. За интересные экспонаты принц щедро вознаграждал. Дабы избежать в этом деле бюрократической рутины, Александр Петрович особым приказом повелел направлять людей с интересными находками лично к нему.
В кунсткамере хранились образцы местных минералов и руд, огромная древнегреческая амфора с лепешкой запекшегося вина на дне, еще не слишком проржавевшие стрелы и феодальные мечи, женское седло величиной с верблюжий горб, названное седлом «неизвестной амазонки», и многое другое – не менее любопытное и поучительное.
Живая природа была представлена в виде чучел местных орлов, с ненавистью взиравших на своих живых собратьев, кукурузный стебель с четырнадцатью початками, корни абхазского женьшеня, совершенно белый дикий кабан-альбинос, папоротниковое дерево величиной с вишню, дикий буйвол, пойманный в горах, но впоследствии узнанный хозяином и признанный одичавшим.
Кроме всего, принц Ольденбургский много экспериментировал для украшения и развития самой природы, хотя наряду с успехами в этой области были и досадные неудачи.
Так, полсотни розовощеких ангольских попугайчиков, купленных в берлинском зоопарке, были выпущены на волю. Попугайчики сначала хорошо прижились и даже прилетели в парк, но потом их довольно быстро переклевали растерявшиеся было местные ястребы.
Вопреки уверениям специалистов, что обезьяны не могут перенести местной зимы, принц Ольденбургский выпустил на волю десять мартышек обоего пола. Вопрос о возможности приживания африканских мартышек остался открытым, потому что еще до наступления зимы их перестреляли местные охотники.
Первую убитую мартышку принцу привез сам охотник, ничего не знавший об эксперименте и требовавший вознаграждения. Потом явилась целая делегация старейшин окрестных сел и довольно твердо заявила, что абхазцы в дальнейшем не потерпят осквернения дедовских лесов человекоподобными тварями. Принц смирил гордость и махнул рукой на обезьян во имя главного дела. Ведь он надеялся неустанно привлекать чужеродцев разумной целесообразностью русского покровительства.
Цивилизация края шла полным ходом, хотя иногда натыкалась на неожиданные препятствия. Так и сегодня ряд безобразных случаев испортил ему настроение.
Ровно в шесть утра Александр Петрович проснулся по сигналу горниста и сразу же покинул постель. По замыслу, серебряный звук горна, раздававшийся над Гаграми в шесть утра, должен был призывать жителей местечка к созидательной работе. На самом деле по сигналу горна вставал только сам принц и рабочие ремонтных мастерских, которых он, кстати говоря, назло теориям иуд-социалистов, любил больше всех остальных жителей городка.
Обход своих владений принц в этот день решил начать с ремонтных мастерских. Ряды деловито жужжащих станков, сосредоточенные фигуры рабочих, склоненные над ними, всегда способствовали его радостному созидательному настроению.
В это утро душевное состояние принца было недостаточно ясное, все еще мешала некоторая оскомина вчерашнего безобразия. Накануне утром он посетил бараки, расположенные недалеко от Гагр, где жили пленные австрийцы, работавшие на прокладке железной дороги. Принц нашел общее состояние бараков неудовлетворительным. Особенно его возмутило, что при огромной вместительности бараков они имели только по одной двери, что в случае ночного пожара могло привести к панике и человеческим жертвам. Принц Ольденбургский приказал начальнику участка инженеру Бартмеру немедленно вызвать всех плотников и к пяти часам вечера во всех бараках прорубить двери через каждое третье окно. Ровно в пять часов вечера лимузин «бенц» Ольденбургского снова остановился в ущелье Жоеквары недалеко от бараков. К этому времени оставалось прорубить и навесить три двери. На начальника участка инженера Бартмера был наложен месячный арест с исполнением служебных обязанностей.
Принц Ольденбургский ко всем своим многочисленным служебным обязанностям с начала мировой войны был назначен начальником санитарно-эвакуационной службы, и следить за содержанием пленных входило в его прямые полномочия.
Александр Петрович придавал большое значение человечному отношению к пленным. Сегодня он пленный, думал принц, но завтра возвратится домой, и от нас зависит, кем там будет, хвалителем или хулителем империи. Так учил нас Великий Петр. Как там сказано у Пушкина: «И славных пленников ласкает…» Этого не понимает инженер Бартмер своим куцым практическим умом, за что и несет наказание.
Вот что случилось вчера и от чего на душе у принца оставалась некоторая смутность. Для восстановления ясности духа Александр Петрович и решил начать день с ремонтных мастерских.
…Золотисто-зеленое утреннее небо обещало хороший день. Лимузин «бенц», ведомый кожаным шофером-итальянцем, вместе с сонной свитой и дураком-адъютантом вез его к рабочим.
– Зхаствуйте, бхатцы! – гулко разнеслось в помещении мастерских, и принц Ольденбургский легко зашагал в сопровождении мастера между деятельно жужжащими станками. Иногда он останавливался у станка и спрашивал у мастера, кто, что и для чего делает, каждый раз получая толковый умиротворяющий ответ. Настроение улучшалось. Хотелось жить и работать. А главное – эти прекрасные, сосредоточенные лица рабочих, которые без тени подобострастия или жульничества продолжали работать даже тогда, когда он останавливался возле их станков. Поблагодарив рабочих за службу, Александр Петрович уселся вместе со свитой в машину и поехал дальше, осматривать другие заведения местечка.
– Выключай станки, – сказал мастер, проследив в окно за удаляющейся машиной. Часть станков, не нужных для дела, тут же выключили. Было замечено, что принцу нравится, когда работают все станки.
Взбодренный ремонтными мастерскими, Александр Петрович катил по чистому, как стеклышко, гагринскому шоссе. И вдруг недалеко от полицейского участка машина остановилась как вкопанная: посреди дороги валялся разбитый арбуз. Главное, что полчаса назад, когда они здесь проезжали, ничего такого не было, и уже кто-то успел нагадить.
Принц Ольденбургский медленно багровел. Услышав, что машина остановилась, от полицейского участка, стуча сапогами, бежал помощник начальника полиции. Адъютант и свита несколько ожили и задвигались на сиденье в ожидании развлекательной взбучки. Комизм положения усугублялся тем, что помощник начальника полиции бежал сзади по ходу машины. Поравнявшись с сидящим принцем, он остановился, так и не заметив разбитого арбуза.
– Что это? – Александр Петрович, вытащив палку, ткнул ею в сторону безобразия.
Обреченно косясь на палку, полицейский осторожно заглянул за радиатор:
– Арбуз, ваше высочество!
– Кто?! – взорвался принц.
– Не смею знать, ваше высочество!
– Убхать! – и палка, выбив струйку пыли, опустилась на мгновенно отвердевшую спину блюстителя порядка. Лимузин «бенц», брезгливо объехав безобразие, покатил дальше.
В то же утро за завтраком принц узнал о новых безобразиях. Как обычно, завтракая, он просматривал свежую почту. Письма, требующие безотлагательного ответа, складывались в аккуратную стопку, остальные отбрасывались в ворох никчемных или не требующих быстрого ответа.
Внимание Александра Петровича задержало письмо одного очень богатого помещика, недавно отдыхавшего в Гаграх в течение двух месяцев. Помещик писал, что скучает по этому райскому уголку, созданному руками принца, что Гагры снятся ему по ночам и он прямо не находит себе места в родовом имении.
Александру Петровичу, с одной стороны, было приятно впечатление, произведенное его детищем на этого видавшего все пресыщенного эпикурейца, но, с другой стороны, ему хотелось, чтобы Гагры внушали таким людям более созидательные мысли, а не эти сентиментальные вздохи.
Вот чудак, думал принц, сделай у себя то же самое и не будешь скучать. Так и не решив, напомнить ему об этом или не стоит заводить с ним переписку, Александр Петрович бросил его письмо между ворохом никчемных и стопкой безотлагательных.
Дальше шло письмо от студента Дадиани, родственника но грузинской линии. Родственник был так себе, десятая вода на киселе, но он был в числе тех, кому принц помогал. Александр Петрович помогал бедным студентам из хороших дворянских семей.
В почтительных тонах студент напоминал о помощи, но само письмо было написано без единого ятя, от чего почтительный тон превращался в утонченное издевательство. Письмо было скомкано и отброшено – и сюда проникла социал-демократическая зараза!
– Ни копейки мехзавцу!
Управляющий легким поклоном-кивком дал знать, что распоряжение, и притом не без личного удовольствия, принято к сведению.
Еще одна корреспонденция остановила внимание принца. Это была копия телеграммы инженера Бартмера дирекции компании, в которой он служил. Инженер Бартмер жаловался на инцидент с бараками, впрочем, абсолютно точно излагая факты. Это его право, подумал принц, откладывая телеграмму.
– Ваше высочество, – проговорил управляющий, – телеграфист спрашивает, передавать телеграмму или нет?
– В пределах Российской империи, – строго ответил принц, – каждый имеет право телегхафиховать, куда он хочет и что он хочет.
Управляющий замер, чувствуя, что Александр Петрович сел на любимого конька.
– А если злоумышленник, ваше высочество?
– Даже если готовится покушение на особу царствующего дома, – страшным от вдохновения голосом проговорил принц, – он обязан, не останавливая преступной телегхаммы, вехноподданно упредить, известив об этом полицию.
«А как же быть с тайной переписки?» – подумал управляющий, но еще более замер, как бы потрясенный трагической красотой независимости российских законов.
Теперь управляющему предстояло доложить еще о двух безобразиях, что было особенно трудно, учитывая характер этих безобразий и высокое состояние принца. Но так или иначе доложить пришлось.
Первое безобразие состояло в том, что сегодня рано утром некий абхазец разбил голову сторожу гостиницы «Альпийская» у него же выхваченным из рук ружьем. Преступник, не оказавший сопротивления, был схвачен служителями гостиницы и отправлен в полицию вместе со своей лошадью. В свое оправдание он заявил, что сторож оскорбил его посредством непристойного звука, якобы нарочно изданного, когда абориген пил воду из источника около гостиницы.
Издавал ли сторож непристойный звук и притом нарочно, чтобы оскорбить аборигена, было неизвестно, потому что сам он в бессознательном состоянии был отправлен в больницу, а других свидетелей нет.
Второе безобразие состояло в том, что ночью исчез один из трех черных лебедей, как раз любимец принца. По слухам, из парка в эту ночь раздавались пьяные голоса неизвестных людей, а сторож за день до этого был свален тропической лихорадкой.
– Узнать, кто знал, что сторож болеет, – приказал принц, но это ничего не дало, потому что все знали, что сторож заболел.
Принц приказал своему адъютанту на моторной лодке обойти море в окрестностях Гагр на случай, если лебедь просто улетел от преследователей. Иногда лебеди и сами улетали в море, но потом всегда возвращались.
Поиски лебедя на моторной лодке окончились безрезультатно. О пьяных ничего не было известно, кроме того, что на берегу пруда был найден ремень без опознавательных знаков, из чего можно было заключить, что пьяные, во всяком случае один из них, раздевшись, пытался поймать лебедя в самом пруду.
Не давая волю личным переживаниям, принц Ольденбургский непреклонно продолжал свой распорядок дня, приказав к одиннадцати часам привести преступника в парк, где он будет в это время рассматривать место ночного происшествия.
Исчезнувший лебедь обычно защищал молодого самца от наскоков старого вояки. Отчасти за эти рыцарские качества принц Ольденбургский его и любил. Он вообще очень любил все свое птичье хозяйство, но особенно выделял розового пеликана и этого исчезнувшего лебедя за красоту и благородство.
После массажей Картучихи, будь она неладна, и осмотра ремонтных мастерских кормление пеликанов было третьим по силе воздействия успокаивающим средством Александра Петровича.
Розовый пеликан все еще дремал на островке, а три черные лебедицы, из-за которых старый самец не давал покоя молодому, спокойно паслись в дальнем конце пруда. Судя по всему, поглощенный процессом вражды, старый самец забыл о ее причине. Сейчас он опять приближался к своему сопернику.
– Так и буду стоять, – пробормотал принц, снова отогнав самца и отряхивая свою палку.
– Уже ведут, ваше высочество, – как всегда невпопад отозвался адъютант, кивнув на парковую аллею, в конце которой появились три фигуры – начальник полиции, переводчик канцелярии принца и преступный абхазец. Адъютант даже приподнял на груди бинокль и взглянул на эту группу из присущей ему, как считал принц, паразитической праздности. Бинокль оставался у него на груди после бесцельных поисков пропавшего лебедя.
Александр Петрович не любил своего адъютанта, считая его шалопаем и бездельником. Он бы давно его выгнал, но, подозревая, что адъютант отчасти следит за ним и время от времени доносит на него в Петербург, нарочно из гордости продолжал оставлять его при себе.
Принц Ольденбургский подошел к свите и посмотрел вперед. Они приближались. Впереди шел, по-видимому, сам преступник – стройный молодой человек в черкеске и мягких азиатских сапогах. Одной рукой он придерживал перекинутый через плечо дорожный хурджин. Александр Петрович невольно залюбовался его упругой рысьей походкой.
Шагов за тридцать преступник оглянулся и спросил у переводчика по-абхазски:
– Кто из них сам?
– Тот, что с палкой, – тихо ответил переводчик.
– Я так и думал, – сказал молодой человек.
Молодой человек – увы, это был дядя Сандро – приостановился шагах в пяти от принца и, слегка поклонившись, пробормотал по-абхазски приветствие. На приветствие ему никто ничего не ответил, и он притих, стараясь умерить природную живость своих глаз, которая сейчас не без основания могла быть воспринята как признак дерзости, граничащей с нахальством.
Несколько секунд длилось неловкое молчание, потому что Александр Петрович почувствовал неудобство от того, что судилище приходится производить стоя. В этом был какой-то непорядок, и он молча двинулся к скамейке, стоявшей в десяти шагах от него под олеандром. Все последовали за ним.
Наконец, принц уселся, а свита, симметрично разделившись, стояла по обе стороны от скамейки.
– Как случилось? – спросил принц, сутуло наклоняясь вперед и исподлобья оглядывая дядю Сандро. Эта привычка придавала его позе грозную стремительность и внушала собеседнику необходимость идти к истине кратчайшим путем.
Дядя Сандро это сразу понял и, почувствовав, что кратчайший путь к истине будет для него наиболее гибельным, решил не поддаваться, а навязать ему свой путь к истине. Начало этого пути уже было заложено в полицейском участке, где он притворился не понимающим русского языка.
Переводчик перевел вопрос принца. Дядя Сандро благодарно ему кивнул за перевод и начал излагать свою версию происшествия. Принц Ольденбургский почувствовал, что дядя Сандро уклоняется от кратчайшего пути к истине, перебил его, ткнув палкой на хурджин.
– Что это у него там шевелится? – спросил он у переводчика.
Дядя Сандро закивал головой и стал развязывать хурджин. К великому удивлению окружающих и самого принца, он вытащил оттуда несколько придушенного и измазанного в собственном помете черного лебедя.
– Откуда? – встрепенулся принц и, легко вскочив на ноги, взял у него любимую птицу.
– Может запачкать, – предупредил дядя Сандро, но переводчик не осмелился перевести. – В подарок привез, – добавил дядя Сандро.
Принц Ольденбургский с лебедем в руках подошел к пруду и поставил его на воду. Лебедь несколько секунд скучно стоял на воде, но потом вдруг встрепенулся и с криком поплыл на середину пруда, раскатывая грудью треугольную рябь.
– Что ж ты сразу не сказал? – спросил принц, удивленно уставившись на дядю Сандро. Наглое обаяние дяди Сандро начинало действовать на принца.
– Я это вез ему в подарок, но раз такое случилось, решил: пусть сначала накажут, а потом подарю, – ответил дядя Сандро.
– Что ж, благоходно, – кивнул принц, снова усаживаясь на скамейку. На самом деле дядя Сандро, увидев в пруду несколько черных лебедей, приуныл, решив, что у принца уже такое есть и находка его не представляет большой ценности.
– Где ты его нашел? – спросил принц, откидываясь на скамейке и доброжелательно оглядывая дядю Сандро, как бы разрешая ему несколько удлинить путь к истине. Дядя Сандро это сразу же почувствовал и, не скупясь на краски, рассказал историю поимки черного лебедя.
В то раннее утро дядя Сандро ехал верхом из Гудауты в село Ачандары, где он собирался погостить несколько дней у своего родственника в ожидании поминального пиршества, которое должно было состояться в соседнем доме. В наших краях сороковины устраиваются не очень точно, то к погоде прилаживаются, то еще какие-нибудь хозяйственные расчеты, так что дядя Сандро решил, что лучше не рисковать и подождать на месте, чем пропустить хорошие поминки.
И вот он едет по приморской дороге и вдруг видит, что недалеко от берега на воде сидит невиданная в наших краях черная птица с длинной шеей.
До этого он о лебедях Ольденбургского и слыхом не слыхал, хотя о самом принце наслышался, но не видел его ни разу.
Так вот дядя Сандро заинтересовался этой птицей и осторожно подъехал к самому берегу. Птица тоже заметила дядю Сандро и, может быть, даже заинтересовалась им, потому что, вытянув длинную шею, стала за ним следить. Дядя Сандро очень удивился этой странной встрече и решил пристрелить ее и принести родственникам на завтрак, если она не слишком воняет рыбой. По его словам, она была покрупнее хорошей индюшки.
Дядя Сандро, не слезая с лошади, вытащил свой «смит-вессон», прицелился и выстрелил. Птица стояла на воде метрах в тридцати от берега, но дядя Сандро в нее не попал. Но самое главное, что птица никуда не улетела, а только отплыла метров на двадцать и не в глубь моря, а вдоль берега. Дядя Сандро слегка тронул лошадь и, поравнявшись с птицей, еще более тщательно прицелился и снова выстрелил. Опять не попал, а главное, птица никуда не улетела, а только проплыла вдоль берега, примерно на такое же расстояние. Дядя Сандро раззадорился и, снова поравнявшись с птицей, снова пальнул в нее. Опять не попал. То ли «смит-вессон» не брал на таком расстоянии, то ли птица была завороженная. Будь у меня, говаривал дядя Сандро, побольше патронов, так бы и пригнал ее в Гагры, потому что она все время отплывала в одну сторону. У дяди Сандро было всего пять или шесть зарядов и, расстреляв их задаром, он пришел в такое бешенство, что решил вплавь пуститься за ней, раз уж она не улетает.
Недолго думая, он загнал в море своего рябого скакуна. До этого дядя Сандро в море его никогда не пробовал, но абхазские и мингрельские реки скакун одолевал хорошо.
Все же в море ему не понравилось, и он долго упирался. Дядя Сандро загнал его в воду. Как только конь поплыл, он сразу же сделался послушным, потому что упираться стало не во что. Проклятая птица подпускала его довольно близко, но как только он подплывал, отходила, и опять же в сторону Гагр.
Или подранок, или наваждение, думал дядя Сандро, и хотя весь промок, но до того разгорячился, что не замечал холода, и, главное, конь, рассказывал дядя Сандро, уже как хорошая собака, напавшая на след дичи, сам рвался за ней, но все же догнать не мог.
Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б, на счастье, они не вышли на мелководье. Почувствовав под ногами дно, конь припустил, а птица, рассказывал дядя Сандро, припустить не могла, потому, хоть шея у нее и была длиной с мою руку, ноги все же у нее были короткими, особенно против лошадиных. В последнее мгновенье она попыталась нырнуть, но дядя Сандро успел ухватить ее за черную задницу и приподнять над водой.
Дядя Сандро страшно замерз и разозлился на эту странную птицу, особенно после того, как, пощупав ее, убедился, что тело у нее твердое, как доска, и до индюшки ей далековато. Хотел он ей тут же размозжить голову, но вспомнил, что рядом, в Гаграх, живет принц Ольденбургский и от скуки покупает всякую всячину.
Может, купит, подумал дядя Сандро, и, сунув птицу в хурджин, приторочил его к седлу и поехал в Гагры.
Часа через два дядя Сандро был в Гаграх. Одежда на нем кое-как обсохла, но все же он сильно продрог и очень хотел выпить, чтобы согреть кровь, но выпить было нечего и не на что.
В самих Гаграх он встретил одного абхазца и спросил у него, принимает ли еще принц всякую всячину.
– Если всякая всячина понравится, то принимает, – ответил абхазец. Тогда дядя Сандро попросил отвести его к принцу. Но тот отказался, ссылаясь на то, что принц со вчерашнего дня не в духе.
– Что же случилось вчера? – спросил дядя Сандро, начиная раздражаться.
Тут абхазец этот радостно, но под большим секретом рассказал ему, что двери в бараках австрийских пленных до сих пор еще не прорубили и что принц из-за этого сильно серчает, особенно на инженера Бартмера, который считай что мертвый и не слишком ошибешься.
Дядя Сандро еще больше помрачнел, и тогда абхазец сказал, что в Гаграх живет один грек, который перекупает подарки принцу, а потом сам или через своих родственников преподносит ему.
– Дом построил на этом деле, – похвастался он своим знакомым греком и предложил свести его с ним. Дядя Сандро отказался. Тогда абхазец попросил показать ему подарок принцу, но дядя Сандро и тут отказался.
– Да так, пустячок, – сказал он.
– Учти, если орел, – сказал абхазец, оглядывая хурджин и стараясь угадать, что в нем лежит, – можешь его собакам отдать, орлов уже не принимает.
– Как же, орел, – сказал дядя Сандро, радуясь за свою птицу, – чуть не заклевал меня вместе с лошадью.
Тут абхазец двинулся дальше, и дядя Сандро, оставшись один, опять помрачнел.
– Так когда же они эти проклятущие двери прорубят?! – крикнул ему вслед дядя Сандро.
– Никто не знает! – радостно обернулся абхазец, – одно могу сказать, за мильон рублей не хотел бы я быть инженером Бартмером.
Абхазец, махнув рукой, скрылся за углом, все еще радуясь, что он не инженер Бартмер.
Дядя Сандро поехал дальше. Он подъехал к гостинице «Альпийская» и увидел этого несчастного сторожа. Дядя Сандро спросил у него, нельзя ли ему увидеться с принцем Ольденбургским, которому он привез одну диковинку. Сторож ему на это ответил, что с принцем увидеться нельзя, и опять, как тот абхазец, стал ему рассказывать про ненавешенные двери и пленных австрийцев, хотя про инженера Бартмера ничего не сказал.
Можно себе представить, каково было дяде Сандро слушать все это во второй раз. К тому же сторож поинтересовался, какой подарок он везет принцу Ольденбургскому.
– Камень или животное? – спросил сторож.
– Уж, во всяком случае, не орел, – ответил дядя Сандро, еле сдерживая себя.
Видя, что из-за этих дурацких ненавешенных дверей ему не удастся свидеться с принцем, дядя Сандро, отчаявшись, спросил у сторожа, как найти того грека, который перекупает всякую всячину для принца. Сторож ему на это ничего не ответил, а только подозрительно посмотрел на него и сурово замкнулся, намекая на свою должность.
Дядя Сандро проглотил это оскорбление, но, чтобы сторож не подумал, что он его испугался, он слез с лошади и стал пить воду из фонтанчика, устроенного перед входом в гостиницу, хотя пить ему не хотелось.
Дядя Сандро, нагнувшись, сделал пять-шесть глотков из этого фонтанчика, как вдруг услышал непристойный звук, изданный гяурской задницей сторожа.
Ошеломленный странными гагринскими делами, еще до этого замученный птицей, дядя Сандро не выдержал. Он бросил свою лошадь, подскочил к сторожу, выхватил у него винтовку и дал ему прикладом по голове. Обливаясь кровью, сторож рухнул у своей гостиницы. Из гостиницы выскочили служители, схватили дядю Сандро и переправили его в полицейский участок.
Все это дядя Сандро рассказал принцу, по дороге отбрасывая ненужные детали и, наоборот, останавливая внимание на деталях полезных. Так он решил, что про «смит-вессон» и упоминать не стоит, тогда как расстояние от берега до черного лебедя смело увеличил до одной версты.
– Да как ты его разглядел с бехега? – удивился принц.
– У нас, у чегемцев, глаз острый, – скромно пояснил дядя Сандро.
Принц Ольденбургский выразительно посмотрел на адъютанта.
– Так он же возле Гудаут нашел его, – напомнил адъютант.
– А бинокль? – спросил Александр Петрович, на что адъютант ничего не смог ответить.
– Так значит, – повернулся принц к дяде Сандро, – у всех чегемцев глаз острый?
– Да, – сказал дядя Сандро, не моргнув своим острым чегемским глазом, – у нас вода такая.
– Интересно, что за вода, – сказал принц Ольденбургский задумчиво, – надо будет снарядить человека за пробой…
Дядя Сандро ясным взором смотрел на принца, выражая готовность внести любые уточнения по поводу чегемских источников.
– Дарю тебе за любознательность и остроглазие, – сказал принц Ольденбургский и кивнул на бинокль адъютанта. Тот молча снял его и передал дяде Сандро. Дядя Сандро поблагодарил принца и повесил бинокль на шею.
– Ах ты, везунчик, – сказал переводчик по-абхазски. Происшествие со сторожем дядя Сандро изложил как бы мимоходом, стараясь не портить хорошее впечатление от остального рассказа. Он сказал, что, проезжая мимо гостиницы, решил напиться, и когда, спешившись, стал пить воду из фонтанчика, сторож без всякого повода стрельнул в него задницей, что по абхазским обычаям считается страшным оскорблением. Вот он и не выдержал.
Дикарь, подумал Александр Петрович, но какое чувство собственного достоинства.
– Спроси, – кивнул он своему переводчику, – откуда он знает, что сторож хотел его этим оскорбить?
– А там больше никого не было, – ответил дядя Сандро.
Свита рассмеялась. Принц нахмурился: не вполне законная симпатия к этому молодому человеку начала передаваться свите.
– А если сторож умрет? – спросил принц, стараясь постигнуть психологию поступка молодого аборигена.
– Значит, так у него на роду написано, – ответил дядя Сандро и для полной ясности постучал указательным пальцем себя по лбу.
– Тогда мы тебя сошлем на каторгу, – сказал принц, все еще пытаясь раскрыть перед его сознанием, упрямо отказывающимся рефлектировать, всю трагическую нелепость его поступка.
– Знаю, в Сибирь, – поправил его дядя Сандро и добавил: – Значит, так суждено.
– Ну, а если у него это нечаянно получилось? – не унимался принц.
– Он должен был сразу же, пока я еще не успел оскорбиться, сказать: «Не взыщите, нечаянно!» – радостно ответил дядя Сандро, показывая, что при отсутствии злого умысла всегда можно найти общий язык.
Принц Ольденбургский задумался. Дядя Сандро, почувствовав, что допрос, по-видимому, кончился, вывернул свой хурджин и, присев у пруда, стал его обмывать.
«Дикарь, но как свободно держится, – думал Александр Петрович, – крепостного рабства не знали, вот в чем дело…»
В это время по парковой аллее в кресле-коляске, запряженной осликом, тряся сухонькой головкой, проехала принцесса Евгения Максимилиановна. Ослика вел под уздцы казак. Другой казак придерживал коляску сзади. Свита поклонилась. Ничего не замечая, принцесса проехала как страшный сон.
– А это еще кто? – тихо спросил дядя Сандро у переводчика при виде такого странного зрелища.
– Его жена, – так же тихо ответил переводчик.
– Ну и жена, – вздохнул дядя Сандро, жалея принца.
– Ваше высочество, как быть с этим? – спросил начальник полиции, почувствовав, что дальше занимать время принца неприлично и опасно.
– Если сторож придет в себя, отпустить, а если что, будем судить, – сказал принц.
Дядя Сандро вместе с переводчиком и начальником полиции пустился в обратный путь. Сейчас спутники дяди Сандро едва поспевали за ним, ему хотелось догнать коляску и еще раз посмотреть в лицо страшной принцессы.
Начальник полиции туго обдумывал слова принца, стараясь вникнуть в их подспудный смысл, угадать, нет ли ловушки, тайного испытания. Он почувствовал, что преступник чем-то понравился принцу, иначе он не стал бы дарить ему бинокль, но, с другой стороны, ему же, принцу, в угоду надо было неукоснительно выполнять законы.
– Рабства не знали, вот в чем положительная особенность абхазов, – многозначительно сказал принц, обращаясь к свите. Свита вздохнула, и на некоторых лицах даже как бы появилось выражение некоторой запоздалой вины за слишком долгое крепостное право в родной стране.
С пристани раздался звук шомпольной пушки, возвестившей законный полдень. Принц Ольденбургский покосился на свиту. Свита подчеркнуто замерла, выражая полное доверие к точной работе шомпольной пушки. А раньше, бывало, как только ударит пушка, кто-нибудь нет-нет и посмотрит на часы, словно надеясь, что пушка вдруг ошибется. Но пушка не могла ошибиться, потому что была связана электрической проводкой с башенными часами.
В двенадцать часов начинался перерыв на всех рабочих предприятиях Гагр. Кроме того, это было время кормления пеликанов и цапель.
Услышав выстрел, розовый пеликан бросился в воду и теперь ракетными толчками пересекал пруд.
Через несколько минут у пруда появился боцман пристани с мокрым сачком, наполненным ставридой. Принц Ольденбургский требовал для кормления пеликанов самой свежей рыбы, поэтому боцман всегда держал про запас сачок, наполненный рыбой и опущенный в море. Такая рыба по крайней мере в течение суток была похожа на свежевыловленную.
Увидев боцмана, пеликан, выходя из воды, клокотнул и, расправив огромные крылья, словно прикрывая беговую дорожку от возможных соперников, побежал к нему. Как пеликан ни спешил, а все-таки остановился на краю аллеи, там, где кончался зеленый дерн – знал, дальше не положено. За пеликаном более сдержанно приковыляла пеликанша, а там и вовсе скромно, не доходя до границы аллеи, остановились цапли.
Птицы лучше иных людей усваивали порядок, который с такой энергией насаждал принц Ольденбургский. Птицы и рабочие ремонтных мастерских, и потому он тех и других любил больше всех.
Началось кормление. Александр Петрович вынул из сачка крупную ставриду и бросил ее пеликану. Разинув свой чудовищный клюв, пеликан с ловкостью собаки на лету подхватил добычу. Мгновенье было видно, как рыба, скользя, проваливается по желобу нижней челюсти. Пасть захлопнулась с полноценным звуком одернутого зонта. Александр Петрович бросил рыбу пеликанше. Тот же благородный костяной звук с металлическим оттенком, только зонт поменьше. Так повторялось много раз, и пасти пеликанов перещелкивались, прихватывая рыбу.
Иногда Александр Петрович нарочно подбрасывал обезглавленные экземпляры ставриды, и оба пеликана гневным движением так и не раскрывшихся клювов отменяли попытку подсунуть им неполноценную добычу. Обезглавленная рыба каждый раз определялась безошибочно и на лету, вызывая горестное восхищение Александра Петровича. О, если бы правители России и ее народы так же точно подхватывали полноценные идеи и отбрасывали порочные!
Наконец пеликаны наелись. Самка отошла, а самец, расправив мощные крылья из розового мрамора и выставив вперед первобытный клюв, застыл в позе неведомого герба. С остатками рыбы, в том числе и обезглавленной, скромно расправлялись цапли.
Александр Петрович почувствовал, что к нему возвращается гармоническое состояние.
– Поехали поглядим, как поубили двеи в бахаках, – обратился он к свите, вытирая руки чистым полотенцем, поданным боцманом пристани.
Усаживаясь в машину рядом с кожаным шофером, он подумал: если все будет хорошо, после обеда зайду к Картучихе. В сущности, думал он, это не будет нарушением собственного приказа. Ведь приказ пребывать под домашним арестом, до конца которого оставалось два дня, никак не оговаривал ежедневные массажи. Массажи он отменил ввиду личной немилости, хотя сам же от этого и страдал.
– Пеедай, буду после обеда, – сказал он адъютанту, усевшись рядом с шофером и тем самым останавливая его попытку влезть в машину. Надо было показать, что его бездарный объезд залива в поисках черного лебедя не остался безнаказанным. Адъютант придал лицу кающееся выражение, хотя был рад, что ему не придется топтаться возле этих вонючих бараков.
Лимузин «бенц» ехал в сторону ущелья Жоеквары. Редкие прохожие, останавливаясь, смотрели на экипаж принца и на самого Ольденбургского. Он сидел, откинувшись назад, как бы полностью доверяясь стремительности мотора и потому давая отдохнуть собственной стремительности. Рука его, зацепившись большим пальцем за крючок мундира, лежала на груди. Сейчас загнутая ручка его знаменитой палки висела на его костистом запястье – верный признак ясного состояния духа.
Через полчаса веселый абхазец, встретивший утром дядю Сандро, потерял свой мифический миллион – инженер Бартмер был прощен ввиду того, что последняя дверь в последнем бараке (приказ: по фасаду через три окна) ко времени приезда принца была навешена.
В шестом часу вечера огромная спина принца принимала заслуженную дозу блаженства. Принц лежал в спальне Картучихи на низкой тахте, уютно продавленной за многие годы его большим телом. Картучиха работала над ним, как истосковавшийся арендатор над своим участком. Александр Петрович засыпал. Последние волны блаженства стекали к ногам и подымались к затылку. Картучиха прикрыла его легким одеялом и тихо вышла из спальни.
Через минуту, хлопнув калиткой, она шла по улице к соседу турку-кофевару якобы для покупки кофе. На самом доле она хотела показать людям, что полоса великого гнева сменилась на милость. Хотя принц Ольденбургский и не отменял своего наказания, она знала по опыту, что спина Александра Петровича, вкусившая массаж, сама похлопочет за нее и в конце концов смягчит суровую точность его приказа.
На улице Картучиха встретила санитара, бежавшего из больницы в полицейский участок.
– Куда бежишь, Серафим? – спросила Картучиха, останавливая его.
– Сторож очнулся и попросил водицы, – сказал санитар, обалдело оглядывая ее, – бегу в полицию.
– А-а, – сказала Картучиха, – давай беги.
И санитар припустил дальше. Услышав сообщение санитара, заместитель начальника полиции, точно исполняя приказ своего начальника, лично открыл камеру, в которой сидел дядя Сандро, и выпустил его, сказав при этом:
– Катись к едреной матери, пока сторож в сознании. Моя бы воля…
В чем заключалась его воля, дядя Сандро так и не узнал, хотя догадывался, что она ему ничего хорошего не сулила. Он поспешно вывел свою лошадь из полицейской конюшни и выехал на улицу.
В тот раз дядя Сандро так и не попал на поминальное пиршество в селе Ачандара, потому что, не слишком надеясь на здоровье сторожа, решил не рисковать и ехать к себе в Чегем. Бинокль, болтавшийся у него на груди, приятно тяжелил ему шею, напоминая об удивительной встрече с удивительным принцем Ольденбургским.
Остается сказать, что после революции принц Ольденбургский переехал в Финляндию, где, по слухам, занимался цивилизацией некоего местечка, которое по доброй старой памяти назвал Новыми Гаграми. Продолжил ли он свои опыты, надеясь на скорое падение Советов, или просто деятельная его натура ни в чем не терпела застоя, остается неизвестным. О дальнейшей его судьбе ни мне, ни владельцу великолепного бинокля ничего не известно.
– Он хотел людям хорошего, – говаривал дядя Сандро, вздохнув, – но среди людей немало сукиных сынов оказывалось…
Глава 4. Игроки
Третьи сутки в большом зале особняка известного табачника Коли Зархиди шла большая игра.
Играли в нарды. В эту ночь трижды менялись свечи в подсвечниках, и постепенно играющие отпадали, переходили в более укромные уголки, где, попивая вино, перекидывались в карты на небольшие ставки. Некоторые толпились у низенького столика посреди залы, как бы составляя кордебалет при двух основных солистах – хозяине дома и эндурском скотопромышленнике.
Дядя Сандро знал Колю Зархиди, потому что тот покупал табак у его отца и, кроме того, сам держал несколько плантаций в селе Чегем, как и в некоторых других селах. Летом в доме дяди Сандро нередко гостили родственники Коли Зархиди, особенно те, кого донимала всесильная в те времена колхидская лихорадка. Бывал там и Коля.
Дядя Сандро, приезжая в город, обязательно захаживал к своему высокому кунаку, ценившему в нем легкость на ногу, когда дело касалось опасных приключений, и твердость в ногах при питье.
Коля Зархиди, несмотря на свой солидный авторитет крупного табачника, был известным в Абхазии кутилой и игроком. Вернее даже сказать, что Коля Зархиди, несмотря на то, что был известным кутилой и игроком, все же не терял наследственного чутья торговца и знатока табаков.
Игра эта готовилась давно. Среди собравшихся было несколько тайных союзников скотопромышленника и еще больше не слишком тайных друзей Коли. Среди них на первом месте был дядя Сандро, заранее предупрежденный и приглашенный Колей. В таких играх мало ли что может быть, надо быть готовым ко всему.
Коля Зархиди рассчитывал сорвать с этой игры большой куш. Но провидению было угодно другое. Третьи сутки с небольшими перерывами маленький бледный грек сидел против разлапого, широкоплечего скотопромышленника с зоркими под лохмами бровей глазами умного кабана.
Удачливый Коля на этот раз проигрывал. Если ему удавалось взять «оин», скотопромышленник отвечал «марсом», то есть двойным выигрышем. Скотопромышленник играл смело и раскидисто, открывался и давал бить свои фишки. Пленные фишки неожиданно взрывали оборону грека и сами, в конце концов, пленяли и растаскивали его камни.
Четырежды грек менял кости, но ничего не помогало, они ложились так, как хотел скотопромышленник. Он был в ударе и каждый раз из дюжины возможных комбинаций почти безошибочно выбирал наиболее надежную для продолжения партии. Так, бывало, в стаде нежноглазых телят он угадывал и метил самого мощного в будущем, самого крутолобого производителя.
Кроме того, ему везло, как везет всем скотопромышленникам в мире. А ничто так не обостряет способности, не вдохновляет, как везение, и ничто так не способствует везению, как вдохновенная игра.
За эти трое суток между партнерами произошло несколько неприятных стычек в связи с оценкой некоторых плантаций, но все обошлось благополучно, потому что в качестве третейского судьи в эту последнюю ночь был приглашен персидский коммерсант Алихан, как представитель солидной нейтральной нации.
Алихан держал в городе кофейню-кондитерскую под названием «Кейф», где продавались восточные сладости собственного изготовления, горячительные и прохладительные напитки и, конечно, кофе по-турецки.
После того как все плантации были проиграны, Алихану предложили уйти домой, но он почему-то остался и стал помогать юной хозяйке, любовнице табачника, варить кофе и подавать гостям. Эту сонную толстушку, волоокую красавицу по имени Даша, Коля Зархиди увел, вернее, как бы одолжил у своего приятеля, гарнизонного офицера, такого же кутилы, как и он. Даша ему давно нравилась, может быть, он даже влюбился бы в нее, если б у него было больше времени. Но времени у Коли не было, и потому однажды ночью, когда Коля с друзьями возвращался на фаэтонах после одного из загородных кутежей (Даша вместе с офицером ехала с ним в одном экипаже), он спросил у офицера:
– Что скажешь, если Даша поедет со мной?
– Скажу «уф», – ответил офицер.
Даша была родом из Екатеринодара, куда офицер этот, возвращаясь из отпуска в Россию, заехал погостить к своему товарищу. Почти в шутку, смехом, он тайно увез ее из дому, обещая показать ей Москву и там жениться на ней.
Только в Туапсе, увидев море, Даша догадалась, что они едут не в Москву, а даже в противоположную сторону. Даша встала, чтобы выйти из дилижанса, на котором они катили вдоль моря, но дилижанс шел слишком быстро, к тому же в нем были чужие люди. Даша постеснялась чужих людей, вздохнула и села на место. Через два дня, уже подъезжая к Мухусу, она успокоилась и сказала, что море ей напоминает степь, только по степи можно ходить, а по морю нельзя.
Офицер этот жил с нею четыре года, случалось, бивал ее плеткой, чтобы вызвать в ней интерес к жизни, или добраться до ее спящей души, или, по крайней мере, хотя бы отучить ее рассказывать по утрам сны, бесконечные, как степные дороги с однообразными вехами эротических миражей.
Он считал, что терпит Дашу в ожидании удачной женитьбы, когда он сможет вырваться из армии, с Кавказа, из этой малярийной дыры и богатого убожества провинциальных кутежей. Но удачная партия здесь никак не подворачивалась, а в Москве не хватало отпускного времени и полезных знакомств. За время гарнизонной службы он достаточно окавказился, чтобы разделять застолье местных табачников, но не настолько, чтобы кто-нибудь из них захотел вступить с ним в родство и отделить ему часть своих накоплений или тем более взять его в компаньоны.
На легких кавказских хлебах Даша расцвела и, как свойственно славянской натуре, быстро приспособилась к чуждым формам блаженства. Она принимала участие в кутежах своего возлюбленного, волнуя застольцев юным обилием и сонным цветеньем.
Но больше всего она любила пить кофе по-турецки, запивая его знаменитым лимонадом братьев Лагидзе. Она научилась гадать и, выпив кофе, переворачивала чашку, давая стечь кофейной гуще, потом заглядывала в нее. Показания кофейной гущи она сопоставляла с картинами своих снов, соединяла их, мысленно прочерчивая кривую судьбы.
– Чтой-то будет, – вздохнув, говорила она, закончив гадание.
Показания кофейной гущи, подстрахованные снами, в самом деле сбывались, потому что в жизни всегда что-нибудь случается.
Так и теперь, услышав разговор своего возлюбленного с Колей, Даша поняла, что сбывается то, что должно сбыться, и промолчала. Она только закусила губу от смущения и крепче повязала на шее платок, как бы почувствовав на лице дуновение судьбы. Вместе с тем она обиделась на своего возлюбленного за его ответ-выдох и с покорной грустью поняла, что никогда ему этого не сможет простить.
С этого мгновения ее мерцающее сознание обратилось на Колю. Она вспомнила, что маленький порывистый грек ей нравился всегда, она испытывала к нему почти материнскую нежность. Только от его мельтешения у нее, бывало, рябило в глазах, бывало, все ей хотелось как-нибудь угомонить его, да она не знала, как это сделать. И в том, что ей и раньше хотелось угомонить Колю Зархиди, Даша разгадала давний намек судьбы и окончательно успокоилась. Она стала думать, как запутает его обволакивающей нежностью, запеленает ласками, замурлыкает. «Небось, угомонится», – думала она, заранее стараясь не пропустить, а главное, не забыть новые сны, которые она увидит на новом месте.
Рано утром, пока Даша старательно спала на новом месте, Коля встал (выпутался-таки) и, как обычно, ушел в кофейню, где за хашем, чачей и турецким кофе опохмелялся и получал свежую коммерческую информацию.
Коля ушел, но многочисленная родня его оставалась дома. И когда мать зашла в его спальню, куда она обычно заходила по утрам, чтобы прибрать ее и по запахам определить, где кутил ее сын и сколько он выпил, и вдруг обнаружила в постели сына женщину, старуха завопила. Этого еще не бывало, чтобы ее единственный сын, Коля Зархиди, приводил русскую женщину в честный греческий дом. На шум сбежалась родня, дюжина кривоногих и патриархальных приживалок.
Даша проснулась и попыталась привстать, спросонья улыбаясь улыбкой гимназистки, вспоминающей свой первый школьный бал. На самом деле она старалась вспомнить сны этой ночи. Выражение лиц и шум, поднятый женщинами, постепенно привели Дашу к враждебной яви. Она сделала еще одну попытку привстать и даже в самом деле села на постель, удивленно оглядывая женщин и вслушиваясь в их враждебное лопотание.
– А мы с Колей решили, – начала было она, всплеснув одеялом, и вдруг забылась, обдав женщин сладостной чумой наспанного греха.
– Дьяволос! – закричали они и, путаясь в дверях ногами, ринулись из комнаты.
В тот вечер в доме Зархиди собрались на семейный совет все родственники, среди которых было немало почтенных коммерсантов. Взрослые замужние сестры Коли неистовствовали, как голодные тигрицы. Во время совета они несколько раз рвались в его спальню, где дожидалась своей участи Даша, чтобы избить ее. К счастью, мужья вовремя перехватывали их и оттаскивали назад с добровольно преувеличенным усердием.
Успокоившись, сестры предложили объявить Колю сумасшедшим и на этом основании взять над ним опеку. Но этот способ уже тогда опытным людям казался устаревшим, потому что почтенные коммерсанты стали возражать. Они утверждали, что этим немедленно воспользуются другие табачники, чтобы подорвать его коммерческое имя. Матери тоже было обидно объявлять Колю сумасшедшим, и она не поддержала дочерей.
Сам Коля откровенно и нагло смеялся над родней, потому что был уверен в своем главном козыре: он был единственным сыном своего отца, и было никак невозможно продолжить славный род Зархиди, не прибегнув к его услугам, притом добровольным.
В конце концов по совету старейшего родственника решили подождать, пока Даша надоест Коле, потому что, как он пояснил, всякая женщина надоедает мужчине, если у него ее не пытаются отобрать.
Поджав губу, мать скорбно согласилась с этим решением, но сестры требовали, чтобы Коля точно сказал, когда она ему надоест.
– Откуда я знаю! – кричал Коля, весело размахивая руками.
Сестры уходили, бросая гневные взгляды на дверь, за которой ждала своей участи Даша. Мужья их, завидуя Коле, задумчиво медлили на мраморной лестнице.
Решение ждать, пока Даша надоест Коле, оказалось роковым. Все получилось наоборот – тихая, сонная Даша выжила из дому дюжину воинственных и шумных гречанок.
Как и во всяком южном доме, в особняке Коли с утра начиналась бешеная деятельность. Многочисленная родня хваталась с утра за веники, шваркала половыми тряпками, грохоча ведрами, бегала за водой. Все эти приживалки, под зычным руководством матери Коли, скрипели базарными корзинами, стучали столовыми ножами, соскребали нагар с подсвечников и налеты органических окаменений с мидий, перерывали горы риса, выискивая порченые зерна, переругивались с продавцами фруктов, на своих осликах въезжавших во двор особняка, выбрасывали на окна и балконы и тут же колотили палками ни в чем не повинные матрацы, шушукались с греческими свахами, постоянно ждали неведомых гостей, с ужасом прислушивались к вестям из России, где, по слухам, рабочие не только греческих коммерсантов, собственного царя не пощадили, оставив его с женой и детьми без куска хлеба.
И что же? Посреди этого могучего жизнеутверждения семейственности, очаголюбия ходила сонная волоокая женщина, хлепая по мокрому полу босыми ногами, пытаясь рассказывать свои степные сны, непонятные и ненужные, как валенки киприоту.
И эта женщина завладела сердцем единственного мужчины, продолжателя славного рода Зархиди?! Где справедливость, где божественный промысел?! Поистине боги отвернулись от Греции и от каждого грека в отдельности.
Однажды за обедом Даша отказалась есть плов с мидиями.
– Зачем? – кротко спросила свекровь поневоле.
– Они противные, они как улитки, – сказала Даша, не подозревая, что улитки еще более национальное блюдо, чем плов с мидиями. Во всяком случае, для черноморских греков.
– Борщ лучше? – все с тем же кротким любопытством спросила Колина мама. Приживалки, вытаращив глаза и стараясь не шуметь челюстями, глядели на Дашу. Надвигалась гроза, но Даша не понимала.
– Конечно, – сказала Даша, – маменька готовила такой борщ…
– Езжай маменька, деньги дам, – ласково предложила мать Коли.
– Мне нельзя, – вздохнула Даша, – меня папенька убить могут…
– Зато мине можно, – внятно сказала старуха и встала из-за стола. Смертельно перепуганные приживалки последовали за ней.
В тот же день небольшая траурная процессия во главе с матерью Коли Зархиди вышла из особняка, прошла по городу и скрылась в доме одной из сестер Коли. Правда, в доме оставалась преданная служанка, которой старуха наказала следить и следить за этой русской дьяволос, мечтающей разорить сына на радость конкурирующим табачникам.
Она была уверена, что офицер этот, купленный табачниками, подсунул Дашу ее бесхитростному сыну. Исподволь, через верных людей она стала выяснять, сколько получил офицер за свою операцию, чтобы не слишком переплатить, когда она попытается откупиться от Даши. Говорят, они встречались, но свидетелей при этом не было, поэтому точно ничего не известно.
А Даша целыми днями в халате с короткими рукавчиками сидела на балконе особняка, поглядывая на улицу, прихлебывая кофе и запивая каждый глоток знаменитым лимонадом братьев Лагидзе. Если по улице проходил кто-нибудь из знакомых, Даша окликала его и спрашивала:
– Колю не видел?
– Видел, в кофейне, – обычно отвечал прохожий.
– Гони его домой, – обычно наказывала Даша, прихлебывая кофе.
Если прохожий отвечал, что не видел Колю, Даша не огорчалась.
– Гони, если увидишь, – просила Даша, тут же забывая о человеке, с которым только что говорила. А тот, бывало, стоял, переминаясь, чего-то ожидая и наконец вздохнув бог знает о чем, шел дальше своей потускневшей дорогой.
Так обычно она проводила свои дни, если не возилась во дворе особняка, где она разбила грядку подсолнухов между благородными лаврами, посаженными еще отцом Коли.
Однажды, когда Даша, как обычно, сидела на балконе, попивая кофе, к особняку верхом на лошади подъехал ее бывший возлюбленный. Он остановил лошадь, поднял голову и сказал:
– Высоко забралась, Дашка?
– Мне не то обидно, что бил, – ответила Даша, продолжая держать в руке чашку с кофе и ложась грудью на перила балкона, – а то обидно, что ты сказал «уф».
– Погуляла и хватит, – примирительно посоветовал офицер, – вон и мамаша его от тебя сбежала.
– Я теперь Колю люблю, – ответила Даша, – а морских улиток я не могу уважать…
Уже начиная раздражаться, офицер начал уговаривать ее, переходя от любовных воспоминаний к угрозам и наоборот. Даша тихо слушала его, положив голову на перила, высунув неуклюжую полную руку, и скапывала из чашки остатки кофейной гущи, стараясь попасть ими в шевелящееся ухо лошади. Наконец попала. Лошадь, гремя уздечками, замотала головой.
– Значит, не хочешь? – спросил офицер.
Даша, все еще лежа щекой на периле, тихо покачала своей волоокой кудлатой головой.
– Видно, мало я тебя лупцевал, Дашка, – крикнул офицер и, ударив лошадь плетью, галопом помчался в сторону моря.
– Видно, мало, – повторила Даша и заплакала, продолжая лежать щекой на периле, так и забыв убрать руку с запрокинутой чашечкой в ладони.
Так Даша навсегда осталась у беспутного Коли Зархиди. В тот вечер самая старшая из Колиных сестер пыталась ворваться в особняк, чтобы собственноручно рассчитаться с Дашей. К счастью, Коля оказался дома. Он закрыл парадную дверь на цепочку, но та ворвалась в дом через вход со двора. Коля едва успел ее перехватить. В виде жалкой отместки она сломала все подсолнухи на Дашиной грядке, чем сильно огорчила ее. В тот же вечер Коля собственноручно заколотил дверь, ведущую во двор, и велел Даше не открывать парадной двери незнакомым людям, пока не посмотрит на них с балкона.
– Я и так всегда на балконе, – сказала Даша.
Дней через десять после посещения Даши застрелился офицер, ее бывший возлюбленный. Все это время он беспробудно пил, но в то утро, по словам денщика, был спокоен и абсолютно трезв. Сидя за своим столом и глядя в зеркало, он тщательно побрился и велел денщику принести полотенце, вымочив его в горячей воде. Денщик принес полотенце, помог ему сделать горячий компресс, после чего офицер отдал ему полотенце и сказал:
– Спасибо, братец.
Унося полотенце, денщик оглянулся и увидел, что офицер, боком глядя в зеркало, как если бы бритвой выравнивал висок, осторожно поднес к нему пистолет, посмотрел в зеркало и выстрелил. Некоторые говорили по этому поводу, что это тихий случай белой горячки, другие говорили, что тут замешана какая-то женщина. Интересно, что о Даше никто не подумал, потому что все знали о том, как он к ней относился и как он лихо сказал «уф», когда отдавал ее греку.
Денщик, допрошенный с пристрастием, повторил то же самое, только признался, что офицер перед выстрелом не говорил ему «спасибо, братец», а что это он сам придумал для красоты несчастья.
Начальник гарнизона, посылая рапорт по этому случаю, писал, что офицер наложил на себя руки во время очередного приступа тропической лихорадки, тем самым облагородив версию о белой горячке.
Так обстояли дела и жизнь к тому времени, когда маленький стройный грек и грузный эндурец насмерть уселись посреди залы за низеньким игральным столиком.
Игра продолжалась. Бледные лепестки огня на свечах вздрагивали, когда скотопромышленник, тряхнув в ладони, бросал на доску щебечущие кости и бил этой же ладонью по груди, словно давая клятву верности.
Два маленьких кубика, бешено вращаясь, прокатывались по лакированному днищу игральной доски.
– Щащь-бещь!
– Иоган, прошу!
– Ду-се!
– Иоган, прошу, да?!
– Чару-се!
– Ду-як!
– Иоган, прошу как брата!
– Дорт-чар!
– Иоган-раз! Иоган-два! Иоган-три! Иоган-четыре!
Удары передвигаемых фишек, особенно когда ложились на битые, щелкали, как бичи надсмотрщиков. В голосе Коли, когда он называл выпавшие кости или выкликал желанные, слышалось вибрирующее отчаяние. Скотопромышленник, как выигрывающий, играл шумно, фамильярничал с судьбой, с хохотом, с прибаутками выкликал свои кости, что нервировало грека и давало эндурцу дополнительный психологический перевес.
– Щащи-бещи! – говорил он. – Снимай вещи!
– Ду-бара-дубринский, – сообщал он, – танцует по-лезгински!
Коля Зархиди продолжал проигрывать. Плантации и два табачных склада остались позади. Уже был пущен в ход особняк и его, партию за партией, крупными ломтями, как рождественский пирог, пожирал эндурский скотопромышленник.
Светало. Дядя Сандро нервно прохаживался по зале. Он искал выхода из создавшегося положения и не мог найти. Двое из гостей, переглянувшись, тихо вышли. Дядя Сандро догадывался, что эти люди связаны с другими табачниками, которые кровно заинтересованы первыми узнать окончательный исход игры. Надо было спасать Колю, надо было остановить игру и повернуть ее вспять, но как это сделать, сохранив приличие?
От избытка энергии дядя Сандро заглянул в кухню, где персидский коммерсант, сдержанно горячась, что-то доказывал Даше. Из соседней комнаты доносилось тихое надгробное песнопение служанки, запертой там Колей, чтобы она не шпионила за ним и не вмешивалась в игру.
Дяде Сандро показалось, что персидский коммерсант уже уговаривает Дашу бежать с ним. Во всяком случае, при виде дяди Сандро он замолк и пожал плечами, давая знать, что он ничего такого не говорил, а если что-нибудь такое и говорил, то может тут же взять свои слова обратно. При этом он опускал не по возрасту длинные ресницы, чтобы притушить настойчивый блеск в глазах, больше слов выдававший тайные старания хорасанского сластолюбца. Дядя Сандро молча вышел из кухни. Этого он не принимал всерьез, опасность была не здесь.
Дядя Сандро подошел к столику, чтобы проследить за очередной партией. Скотопромышленник, подняв голову, хозяйски оглядывал потолок залы. И вдруг, молча кивнув дяде Сандро, он показал рукой на один из углов, где от сырости слегка размыло роспись орнамента.
Казалось, новый хозяин пригласил мастера и показал ему, какие работы предстоит произвести. Дяде Сандро большого труда стоило сдержать себя. Он заставил себя углубиться в игру, тем более что Коля эту партию выигрывал.
Но когда скотопромышленник и эту партию повернул назад, поставив на место все свои битые фишки, да еще по дороге прихватил фишки противника, что неминуемо вело грека к очередному проигрышу, дядя Сандро не выдержал. Он схватил серебряный фруктовый нож, лежавший на столике, и с такой силой ударил его о столик, что нож сломался, и лезвие со свистом пролетело мимо головы скотопромышленника и ударилось о стену. Тот и ухом не повел. Он только провел ногтем большого пальца по выщербу, оставленному ножом на поверхности столика, и сказал:
– Лакировка…
Дядя Сандро заметил, что скотопромышленник чем больше выигрывал, тем наглее оглядывал Дашу. Принимая кофе из ее рук, прихлебывал, чмокал губами и, оглядев ее пышный бюст, двусмысленно хвалил:
– Хорош каймак, хорош…
На этот раз, когда Даша, собрав на поднос пустые чашечки, сонно удалилась на кухню, скотопромышленник подозвал одного из своих людей и что-то шепнул ему на ухо. Дядя Сандро все понял, но сделал вид, что ничего не заметил. Через некоторое время тот вернулся и подошел к скотопромышленнику. Дядя Сандро тихо прошел на кухню.
Даша, потупившись, стояла у плиты, а персидский коммерсант взволнованно ходил по кухне, время от времени взмахивая руками под давлением распиравшего его гневного, но безгласного монолога.
– Что случилось, Даша? – спросил дядя Сандро.
– Они зовут меня в Эндурию; они говорят, что Коля теперь нищий, – сказала Даша, задумавшись.
– Что за нац?! – всплеснул руками персидский коммерсант и посмотрел на дядю Сандро, взглядом призывая закончить его возмущение своим действием.
– А ты что? – спросил дядя Сандро.
– Я что? Я как Коля скажет, – ответила Даша.
– Что за нац?! – снова всплеснул руками персидский коммерсант, выслушав Дашу и тоном показывая, что он на этот раз в свое восклицание включает более широкий круг народов.
– Пока у вас есть я, не бойся, Даша, – сказал дядя Сандро загадочно и вышел из кухни.
Неизвестно, что бы придумал дядя Сандро, если бы в это раннее утро Даша еще раз не вошла бы в залу с дымящимся подносом. Увидев ее, скотопромышленник вдруг откинулся на стуле, отставил ногу и, улыбчиво глядя на Дашу, неожиданно пропел:
- Базар большой,
- Народу много.
- Русский девушка идет,
- Давай дорога.
– Поет! – громовым голосом воскликнул дядя Сандро и, как выпущенный из пращи, вылетел из залы. В зале вдруг замолкли все звуки. Стало слышно, как работают в столовой фамильные часы, а из комнаты служанки донеслось надгробное песнопение.
Все почувствовали, что в воздухе запахло смертельной опасностью. Скотопромышленник, в это мгновенье взяв кофе с подноса, осторожно приподнял чашечку. Сторонники грека и самого скотопромышленника, замерев, жадно следили за его рукой, ожидая, вздрогнет она или нет. Но не вздрогнула рука скотопромышленника, выдержали иго буйволиные нервы. Он отпил кофе, облизнулся, поставил чашечку на столик и сказал, кивнув в сторону двери:
– За гитарой побежал…
Сторонники скотопромышленника приободрились.
– Сандро просто так ничего не делает, – не слишком уверенно заметил один из друзей грека. Не успел он договорить, как в зал вбежал персидский коммерсант и закричал:
– Сандро подымается!
Почти одновременно послышалось усиливающееся цоканье металла по мрамору, бронзовый звук судьбы. Гости повскакали с мест, не зная, к чему готовиться, а маленький грек и скотопромышленник, не шевелясь, продолжали сидеть за своим столиком. И тут все заметили, что кровь стала медленно отливать от лица скотопромышленника, а посеревшее за трое суток лицо грека стало розоветь, словно они были связаны, как сообщающиеся сосуды, словно какой-то невидимый перепад давления погнал эту самую общую кровь в обратном направлении.
Античный звук ударов копыт по мрамору забытой доблестью пьянил душу маленького грека. И когда звук этот подошел к самым дверям, где все еще стоял персидский коммерсант, тот вдруг лягающим движением ноги распахнул обе створки и, как вспугнутый заяц, метнулся в сторону перед самой огнедышащей мордой коня.
Сдержанной рысцой дядя Сандро прогарцевал по зале, не сводя со скотопромышленника гневных выпуклых глаз. Дядя Сандро пересек залу и, сам открыв себе дверь, въехал в другую комнату.
– Играй! – крикнул Коля замешкавшемуся скотопромышленнику.
Тот вяло кинул кости, продолжая прислушиваться к удаляющемуся цоканью копыт.
– Что случилось, Коля?! – раздался истошный крик запертой служанки.
– Сандро лошадь прогуливает! – крикнул в ответ повеселевший Коля.
– Уехал? – спросил скотопромышленник, когда звук копыт замолк в одной из задних комнат. Друзья грека радостно объявили ему, что Сандро уехать никак не мог, даже если бы захотел, потому что второй выход из дома Коля вынужден был заколотить из-за плохого поведения старшей сестры.
– При чем сестра, – сморщился скотопромышленник, и все почувствовали, что нервы у него сдают.
Дядя Сандро проехал по всем комнатам особняка. Выпростав ногу из стремени, он на ходу отбрасывал или отодвигал столы, стулья и все, что могло помешать свободному движению лошади. В столовой, увидев свое отражение в большом настенном зеркале, лошадь заржала и попыталась въехать в него. Дядя Сандро с трудом ее повернул и погнал обратно.
На этот раз он влетел в залу и, огрев ее камчой, перебросил через столик игроков.
– Браво, Сандро! – закричали в один голос сторонники грека, а эндурец в знак протеста положил кости на дно игральной доски.
– Играй! – приказал Коля и, вынув из кармана пистолет, положил его на столик рядом со своим портсигаром.
– Скажи ему, чтоб не прыгал, – попросил скотопромышленник, – я под лошадью не привык играть.
– Успокой нервы и играй, – снова приказал грек и постучал по столику дулом пистолета, как учитель указкой.
Складывалось щекотливое положение. С одной стороны, но неписаным и потому твердым законам игры выигрывающий обязан играть до тех пор, пока проигрывающему есть что проигрывать, но, с другой стороны, дядя Сандро выделывал черт-те что. Скотопромышленник обратился к своим сторонникам, но те, сломленные дерзостью Сандро, а может быть, из любопытства к необычности происходящего решили, что он все-таки должен продолжать игру в случае, если Сандро будет прыгать через игральный стол с одинаковым риском для обоих игроков, то есть через середину стола.
– Зачем он должен прыгать, зачем? – пытался эндурец поднять голос.
– Судьба, – отвечали ему.
Опять в качестве третейского судьи был выбран персидский коммерсант, как представитель солидной нейтральной нации.
Его поставили к стене таким образом, чтобы между дверями, серединой стола и местом, которое он занимал, проходила прямая, и он мог бы точно видеть, насколько отклоняется лошадь дяди Сандро во время полета.
Игра была продолжена. Дядя Сандро прыгал только в одну сторону, потому что для обратной стороны не хватало разгона. Так что из залы он обычно выезжал на холостом ходу, не забыв бросить гневный взгляд на скотопромышленника.
Каждый раз, услышав приближающийся стук копыт, эндурец нагибал голову и, втянув ее в плечи, замирал, пока лошадь не проскакивала над столиком. Как только лошадь проскакивала, он с надеждой смотрел на персидского коммерсанта. Но тот грустно качал головой в том смысле, что Сандро и на этот раз не проштрафился.
Иногда дядя Сандро, доскакав до столика, неожиданно поворачивал лошадь, как бы не соразмерив разгон, и уходил в новый заезд. Эти ложные попытки еще больше сбивали с толку скотопромышленника.
А маленький грек с каждым прыжком дяди Сандро делался все уверенней, все веселей – былая удачливость возвращалась к нему. И когда во время одного из прыжков дяди Сандро он поднял свою чашечку с кофе и отпил глоток под самым летящим, обдающим горячим воздухом брюхом лошади – «Браво, Коля!» – заревели сторонники грека и захлопали в ладоши.
Скотопромышленник сникал.
– Лошадь устает, – начал он тревожиться после десятого прыжка.
– Ничего, она у меня застоялась, – ответил дядя Сандро, потрепав ее по шее, выехал из залы, готовясь к новому заезду. Через минуту из глубины особняка раздался страшный грохот, казалось, лошадь вместе со всадником провалилась в тартарары.
– Я же говорил, лошадь устала! – радостно закричал скотопромышленник и вскочил с места.
Но тут снова раздался стук копыт приближающейся лошади, а скотопромышленник, еще стоя, стал втягивать голову в плечи, постепенно оседая.
– Что случилось, Сандро? – крикнули в один голос гости, когда он появился в дверях.
– В зеркало въехала, – ответил дядя Сандро на лету, перемахивая через столик.
– Она думала, другая лошадь едет, – приземлившись, стал пояснять дядя Сандро, поглаживая по шее, чтобы немного успокоить разгоряченную лошадь, – но она не знает, что в Абхазии другой такой лошади нет…
В самом деле, это была лошадь хоть и местной породы, но довольно странной масти – гнедая, в то же время ярко-пятнистая, как рысь. Дядя Сандро говорил, что конокрады дважды бежали из отцовской конюшни, неожиданно увидев ее среди лошадей. И хотя трудно установить, от чего бежали конокрады, по словам дяди Сандро получалось, что они принимали его лошадь за дикого зверя, поставленного сторожить обычных лошадей.
– Никак голову не мог удержать, – радостно продолжал пояснять дядя Сандро, выезжая из залы и отряхиваясь от мельчайших осколков зеркала, как от воды.
– Почему? – восторженно спросили сторонники грека.
– Такую шею имеет, – уже в дверях сказал дядя Сандро, – пароход может поднять, – и, не оборачиваясь, выехал из залы.
– Эта лошадь ему идет, – задумчиво сказала Даша, глядя ему вслед.
Стоит ли говорить, что скотопромышленник проигрывал партию за партией. Примерно на четыре прыжка приходился один проигрыш.
– Ну, как? – спрашивал дядя Сандро, перебросив лошадь через играющих.
– Один мой, – радостно отвечал грек, раскладывая фишки, если партия была закончена.
Два с половиной часа длилась эта необычная игра под брюхом летящей лошади. За это время Коля Зархиди успел отыграть весь проигрыш, всю наличность и коляску скотопромышленника, на которой он приехал из Эндурии.
Наверное, в ход были бы пущены эндурские бойни, если бы лошадь в самом деле не устала. После сорокового прыжка дядя Сандро не стал выезжать из залы, а вплотную подъехав к столику играющих, поднял лошадь на дыбы и несколько сокрушительных секунд стоял над столом, задрав хрипящую и шмякающую кровавую пену на игральную доску голову лошади.
Как только лошадь опустила копыта, скотопромышленник встал.
– Я в проигрыше, и я кончаю, – сказал он, как-то странно заспешив, и вдруг все заметили, что это уже не тот всесильный скотопромышленник, а просто пожилой, сломленный человек.
– Ваше дело, – ответил Коля, пряча пистолет в карман. К нему вернулась корректность крупного табачного дельца.
Все еще разгоряченный, дядя Сандро выехал на балкон и, расстегнув рубаху, подставил грудь под прохладный утренний ветерок.
Окрестные крестьяне, погоняя осликов, навьюченных огромными корзинами с зеленью, фруктами, краснозобыми индюшками, шагали в сторону базара. Портовые рабочие, ежась от утренней прохлады, плелись в сторону порта, и только стайки алкоголиков, оживленно узнавая друг друга, целенаправленно торопились в хашные и кофейни.
С видом усталого триумфатора дядя Сандро глядел на утренний город.
– Сандро, прошу как брата, – крикнул ему Коля, – кто-нибудь увидит и матери расскажет за лошадь.
– Ты моей лошади должен задницу целовать, – сказал дядя Сандро, въезжая в залу.
– И буду, клянусь прахом отца, – ответил Коля. Выпущенная служанка выносила полное ведро разбитых тарелок. В столовой лошадь дяди Сандро врезалась задней ногой в буфет. Кроме зеркала и буфета да еще куска мрамора величиной с кулак, отбитого от лестницы копытом лошади, когда он выезжал из особняка, никакого другого ущерба прыжки и скачки дяди Сандро особняку не нанесли.
Скотопромышленнику дали на своей коляске доехать до гостиницы «Ориенталь», откуда он в тот же день выехал в Эндурию на местном дилижансе.
Говорят, именно в тот год дела его пошли прахом. В Эндурии выдвинулся другой скотопромышленник. Он тайно закупил на Кубани огромную партию истощенного бескормицей скота, перегнал его на летние пастбища альпийских лугов, и осенью орды ожиревшего кубанского скота ринулись на рынки Эндурска и разорили старого скотопромышленника.
Говорят, старик после такого двойного удара тронулся. Коля Зархиди, надо отдать ему справедливость, узнав об том, снарядил из Мухуса в Эндурск известного психиатра и велел его лечить за свой счет, пока тот не войдет в ум.
Как это ни странно, вылечил его не психиатр, а Октябрьская революция, когда она реально утвердилась в Закавказье. В день, когда старик узнал, что все имущество молодого скотопромышленника конфисковала новая власть, он поставил во здравие Ленина в Иллорском монастыре пятьдесят свечей в человеческий рост из самого благоухающего цебельдинского воска. Кроме того, он устроил народное пиршество, на котором скормил эндурским нищим десяток последних быков.
Старик настолько оправился, что через некоторое время пошел работать мясником в одну из своих бывших лавок, где проработал до конца своих дней.
Потрясение от знаменитой игры с Колей осталось у него в виде небольшой странности – заслышав цоканье лошадиных копыт, даже если это были обычные извозчичьи дроги, старик, втянув голову в плечи, замирал в той позе, в какой застал его тревожащий душу звук. Покупатели к этой его небольшой странности привыкли и не тормошили его до тех пор, пока он сам не отходил.
После этой знаменитой победы пиры в доме Коли Зархиди и в окрестных ресторанах длились почти беспрерывно до самой Октябрьской революции (в ее закавказском варианте), которая, по ложному учению Троцкого, тоже должна была развиваться перманентно, что было бы ужасно и потому нежелательно.
Злые языки утверждают, что Коля Зархиди вознаградил дядю Сандро через Дашу, но другие говорят, что этого не могло быть потому, что было и так. Сам дядя Сандро оба эти предположения до сих пор с негодованием отвергает.
Возможно, вмешательство дяди Сандро в эту знаменитую игру (хотя она тем и знаменита, что он вмешался в нее) с точки зрения содержателей европейских игорных домов и покажется недопустимым давлением на психику игрока, я все-таки склонен считать поступок дяди Сандро исторически прогрессивным.
Так или иначе, он помог сохранить имущество Коли Зархиди, которое, за исключением настенного зеркала, проломанного буфета и других мелочей, полностью перешло в руки советской власти.
– Я же говорила, чтой-то будет, – напомнила Даша, когда в согласии с решением местного Совета им предложили покинуть особняк, что они и сделали. Правда, мать Коли Зархиди опять ухитрилась оставить при особняке служанку, которая теперь работала уборщицей и жила во дворе в одной из пристроек. На этот раз мать Коли оставила ее здесь с тем, чтобы она присматривала за советской властью, что, безусловно, было гораздо сложней. В особняке были размещены учреждения местной власти.
Хотя Коля, конечно, был разорен, все же многое в его жизни прояснилось. Во-первых, мать примирилась с его любовницей, которая теперь не могла ему сделать ничего плохого, польстясь на его добро. Она даже сама настояла на том, чтобы Коля женился на ней, что он и сделал, быстро оформив легкий в те времена советский брак.
Сначала им пришлось довольно туго, но потом, во времена нэпа, персидский коммерсант снова открыл свою кофейню-кондитерскую, на этот раз осторожно назвав ее «Кейфующий пролетарий». Он взял в долю бывшего табачника, все еще пытаясь осуществить свои хоросанские виды на Дашу. Коля числился на работе, хотя целыми днями только и делал, что пил кофе и водку за счет бывших друзей, а иногда даже и за счет своих бывших рабочих табачных складов.
В связи с последним обстоятельством некоторые люди, уполномоченные для того, нарочно подсаживались к ним и узнавали, не баламутит ли он своих бывших рабочих. Как выяснилось, Коля рабочих не баламутил, и его оставили в покое с тем, чтобы он в согласии с ходом истории перековывался или отмирал вместе с нэпом.
Иногда, раздухарившись со своими бывшими друзьями, а ныне деклассированными собутыльниками, он кричал Алихану прислать за его счет пару бутылок. Алихан целыми днями стоял за прилавком, варил с утра до вечера кофе в джезвеях и отпускал напитки.
– Какой счет? – неизменно спрашивал Алихан, услышав этот нахальный призыв и, разводя руками, удивленно подымал свои круглые брови. Тем не менее он всегда посылал эти запрошенные бутылки, потому что Даша была рядом. С сонной медлительностью она разносила заказы, и на нее никто не обижался, потому что для этого и приходили тогда в кофейни, чтобы помедлить, покейфовать, согласно названию кофейни, передохнуть от мчащегося и громящего, как порожняк на рельсах, времени.
Но судьбе было угодно еще раз возвысить Колю Зархиди. Однажды нежданно-негаданно его к себе вызвал наш замечательный революционер, бессменный, пока его не отравил Берия, председатель Совнаркома Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба.
Стране нужна была валюта. Абхазские высокогорные табаки все еще помнили на международных рынках. Необходимо было восстановить старые торговые связи и организовать новые.
Нестор Аполлонович пригласил его в свой кабинет, расположенный в его бывшем особняке. Он рассказал ему суть дела и предложил честно работать с советской властью. За это он обещал ему предоставить приличную квартиру и вернуть все, что найдется из реквизированной мебели.
– Я согласен, – сказал Коля, – только мебель не надо.
– Почему? – удивился Нестор Аполлонович и, наклонившись над столом, приложил ладонь к уху. Он был глуховат, Нестор Аполлонович. С плутовской улыбкой (каждый грек немного Одиссей) Коля кивнул на фамильные часы, стоявшие за спиной наркома. Нестор Аполлонович обернулся и сказал со своей милой, обезоруживающей улыбкой: – У них бой хороший, а я плохо слышу…
Больше к вопросу о мебели не возвращались. Впоследствии Нестор Аполлонович никогда не пытался, в отличие от некоторых, отомстить ему за этот дерзкий жест, потому что, опять же в отличие от некоторых, сам был человеком остроумным и ценил в людях находчивость.
Кстати, небольшой пример его находчивости. Однажды на одном совещании в Тбилиси один из ораторов сказал, что в Абхазии, несмотря на неоднократные указания, все еще медленно строят шоссейные дороги.
– По-видимому, – добавил он не слишком тактично, – мы недостаточно громко об этом говорим, и Нестор Аполлонович нас плохо слышит.
– Слышу, – писклявым голосом, свойственным людям с поврежденным слухом, выкрикнул Нестор Аполлонович.
– Тогда давайте, – попросил оратор и, уступив ему трибуну, проковылял на место походкой, свойственной хромым от рождения.
Говорят, в ответной справке Нестор Аполлонович дал толковый отчет о дорожном строительстве в Абхазии, сказал о недостатках и достижениях в этом деле. В конце он добавил, что хотя в Абхазии строились и будут строиться шоссейные дороги так, как тому нас учит партия, все же проложить такой шоссейной дороги, особенно в горных условиях, на которой данный товарищ не хромал бы, мы, конечно, не можем.
Но я отвлекся. Таким образом, Коля Зархиди снова оказался при деле. В ближайший год он наладил закупку табаков у населения, переработку и дальнейшую продажу за границей.
Нестор Аполлонович доверил ему самому съездить с табаками в Стамбул, откуда он через некоторое время привез золото. Через год Коля Зархиди повез в Стамбул еще большую партию табаков и получил за нее еще больше валюты. А еще через два года он увез в Турцию чуть ли не целый пароход душистого высокогорного табака и не вернулся. В Стамбуле играют прямо в кофейнях, и, видно, Коля не удержался…
Это вероломство (вольное или невольное) сильно огорчило Нестора Аполлоновича. Пожалуй, всех огорчил Коля Зархиди своим поступком, кроме персидского коммерсанта, что в достаточной степени говорит о его аполитичности. Он добился своего – Даша осталась с ним.
Но и ему пришлось несладко – кончался нэп, наступал государственный сектор. Для начала Алихану предложили расчленить кофейню-кондитерскую и свободно выбрать одно из двух: или кофейню, или кондитерскую. Алихан подумал и выбрал кофейню. Через некоторое время ему предложили прекратить продажу в кофейне горячительных напитков, одновременно расширив ассортимент прохладительных. Алихан согласился, но схитрил, продолжая из-под прилавка продавать горячительные напитки. Так как дело шло к полному подавлению частного сектора, ему предложили прекратить в кофейне продажу кофе, но оставить прохладительные напитки. На этот раз Алихан не согласился и совсем закрыл кофейню.
Алихан крепился. Он приобрел лоток на колесиках, в котором продавал восточные сладости собственного изготовления: рахат-лукум, козинаки, халву, щербет… Бесполезно упорствуя, он все еще продолжал именовать себя коммерсантом.
В этом качестве его привел в наш двор мой отец. Он переехал к нам со своей простоволосой, неряшливой женой, которую во дворе называли бывшей красавицей, а иногда, по-видимому, для сокращения, просто бывшей.
Целыми днями, я об этом смутно помню, она варила себе кофе на мангале, помыкала худым, высоким стариком и что-то кричала ему вслед, когда он вывозил со двора на своем лотке маленькую витрину магометанского рая.
Потом он почему-то перестал продавать восточные сладости и перешел на жареные каштаны и, как непонятно говорили взрослые, стал морфинистом. Через несколько лет он вместе с женой переехал в Крым, и запах жареных каштанов постепенно выветрился со двора.
А бывало, вечерами дядя Алихан сидел на пороге своей комнатенки, парил мозоли в теплой воде, курил и напевал персидские песни. Помню стекленеющий взгляд каштанщика, мелодию, цепенящую сладкой горечью бессмысленности жизни, бесконечную, как караванный путь в никуда.
Бисмилах ирахмани ирахим! – блажен, кто блажен!..
Глава 5. Битва при Кодоре, или Деревянный броневик имени Ноя Жордания
Подобно тому, как на скотном дворе стоит сделать неосторожный шаг, как тут же угодишь в коровью лепешку, так и в те времена, говаривал дядя Сандро, бывало, носа не высунешь, чтобы не шмякнуться в какую-нибудь историю.
В тот день дядя Сандро гостил у своего друга в селе Анхара, расположенном на живописном берегу Кодора. В этом большом и зажиточном селе уже с полгода стоял меньшевистский отряд. На другом берегу реки стояли красные. В этом месте был проложен, тогда еще единственный, мост через Кодор. С этой стороны моста меньшевики охраняли мост от большевиков, тогда как с другой стороны моста большевики охраняли мост от меньшевиков.
В то время было или казалось, а то и делали вид, что было временное равновесие сил. Так или иначе, меньшевистская охрана так же, как и наша, скучала и от нечего делать, а также для разнообразия солдатского стола, глушила рыбу.
Глушили рыбу километра за два выше моста, и мертвая форель кверху брюхом плыла вниз по течению. Иногда рыба, оглушенная меньшевиками, попадала к большевикам, иногда наоборот.
Как только раздавались взрывы, по обе стороны реки появлялись мальчишки, потому что солдаты и красноармейцы, как ни старались, не могли выловить всю рыбу – течение, даже здесь, в низовьях Кодора, очень быстрое.
Так как было еще неясно, кто будет наступать – большевики или меньшевики, обе стороны по взаимному согласию и договоренности глушили рыбу, чтобы не повредить моста, на достаточно большом расстоянии от него. Таким образом, сравнительно мирные взрывы раздавались почти каждый день, потому что обе стороны отчасти старались доказать, что у них гранат и других боеприпасов достаточно, так что в случае войны есть чем встретить врага.
Меньшевики в первое время, когда расположились в этом селе, объявили его Закрытым Городом, чтобы красные лазутчики не могли шпионить за ними. Кроме того, они побаивались и партизан, хотя, как потом выяснилось, в этих местах никаких партизан не было, потому что те, кто хотел воевать на стороне большевиков, могли просто переплыть Кодор и присоединиться к ним.
Как только меньшевики объявили село Закрытым Городом и стали ограничивать впуск и выпуск людей из села, жители его с особенной остротой стали переживать вынужденную разлуку со своими близкими и не могли успокоиться до тех пор, пока те не приезжали или они сами не наведывались к ним.
А как быть с освященной древними традициями необходимостью побывать на свадьбе и других родовых торжествах? А дежурство у постели больного родственника? А годовщина смерти, а сорокадневье? Я уж не говорю о свежих похоронах.
Одним словом, поднимался ропот, и командование, не решаясь осложнять свои отношения с местным населением, тем более что отряд в значительной степени кормился за счет него, и в то же время стараясь сохранить престиж, отменило свой приказ и, наоборот, объявило село Анхара Открытым Городом для всех, кроме большевиков.
Тут местные жители успокоились, и уже разлуку с близкими стали переживать менее болезненно, и уже никто никого не приглашал чересчур настойчиво и никто никуда не уезжал без особой надобности, а все делалось в меру, как того требуют обычаи и собственное желание.
Так обстояли дела в селе Анхара до первых дней мая 1918 года. Именно в эти дни дядя Сандро гостил у своего друга, жителя этого села, и на его глазах, можно сказать, история сдвинулась с места и покатилась по черноморскому шоссе.
Друга дяди Сандро звали Миха. Был он, по его описаниям, человеком статным, приятным с виду и умным. Слегка разводя руками и оглядывая свою сановитую фигуру, дядя Сандро так о нем говорил:
– Видишь, какой я? Так вот он был почти не хуже.
По словам дяди Сандро, этот самый друг его разбогател на свиньях. Каждую осень он перегонял своих свиней в самые глухие каштановые и буковые урочища и держал их там вплоть до первого снега.
В те времена в этих урочищах каштанов и буковых орешков лежало на земле по колено. Свиньи жирели с неимоверной быстротой, так что к концу осени некоторые уже не могли встать на ноги и, ползая на брюхе, продолжали пастись и жиреть. В конце концов, когда выпадал первый снег, свиней перегоняли домой, а оттуда на базар.
Наиболее преуспевших в ожирении приходилось перевозить на ослах, потому что сами они передвигаться не могли. Конечно, какую-то часть уничтожали волки и медведи, но все равно выручка от продажи свиней перекрывала эту усушку и утруску за счет хищников.
Ни до него, ни, кажется, после него никто не догадывался перегонять свиней на осенний выпас в каштановые леса, подобно тому, как перегоняют травоядных на летние пастбища.
Впрочем, все это не имеет никакого отношения к самой сути моего рассказа. Вернее, почти никакого.
Правда, время было тревожное. И когда на дорогах Абхазии люди стали встречать ослов, навьюченных свиньями, этими злобно визжащими, многопудовыми бурдюками жира, верхом на длинноухих терпеливцах, то многие, особенно старики, видели в этом зрелище мрачное предзнаменование.
– Накличешь беду, – говаривали они Михе, останавливаясь на дороге и провожая глазами этот странный караван.
– Я сам не ем, – пояснял тот мимоходом, – я только нечестивцам продаю.
Так вот, в то утро дядя Сандро вместе со своим другом сидел за столом и завтракал. Они ели холодное мясо с горячей мамалыгой. Дядя Сандро нарезал аккуратные кусочки мяса, обмазывал их аджикой, клал в рот, после чего досылал туда же ломоть мамалыги, не забыв предварительно окунуть его в алычевую подливку. Хозяин время от времени подливал красное вино.
Разговор шел о том, что горные абхазцы, в отличие от долинных, более консервативны и все еще не хотят разводить свиней, тогда как это очень выгодное дело, потому что и горах полным-полно буковых и каштановых рощ.
Хозяин давал знать, что ценит широту взглядов, которую проявляет дядя Сандро как представитель горной Абхазии, тем более что в самом селе Анхара многие никак не могли смириться с тем, что Миха вот так вот запросто, ни с того ни с сего взял да и разбогател на свиньях.
Земляки завидовали Михе, а так как догнать его в обогащении на свиньях уже не могли, им ничего не оставалось, как кричать ему вслед, что он плохой абхазец.
Дядя Сандро жаловался, что у него нет времени заниматься свиньями, а отец не соглашается их разводить из глупого мусульманского упрямства. Миха обещал ему при случае поговорить по этому поводу с отцом дяди Сандро, хотя ему было неясно, почему у дяди Сандро находится время на всякое мало-мальски заметное застолье (в пределах Абхазии), а на разведение свиней не хватает. Миха, разговаривая с гостем, по привычке прислушивался к мирному похрюкиванию свиней в загоне и глухим взрывам со стороны реки. Сегодня взрывы эти доносились отчетливей, и разговор невольно обратился к последним новостям, вызвавшим усиление этих неприятных звуков.
Дело в том, что позапрошлой ночью к меньшевикам прибыло подкрепление, и они стали готовиться к штурму моста. И то и другое они старались, насколько это возможно, скрыть от постороннего глаза. Скрыть, разумеется, не удавалось, и тот берег обо всем знал.
Во всяком случае, сразу же после прибытия подкрепления, то есть на следующий день с утра, большевики первые нарушили договор и стали глушить рыбу совсем рядом с мостом, тем самым показывая, что они знают и о прибывшем подкреплении, и о готовящемся штурме.
Глушением рыбы возле моста они показывали, что у них теперь нет никакого резона беречь мост, по которому собираются наступать меньшевики, а, наоборот, даже есть интерес взорвать его. И все-таки они его не взрывают. А почему? А потому, что уверены в своих силах.
Кстати, меньшевики после прибытия подкрепления заняли большой сарай местного князя, который использовал его обычно для общественных собраний (понимай – пиршеств) при плохой погоде.
Они выставили усиленную охрану и стали что-то строить внутри сарая. А что они строят, никто не знал. Знали только одно, что меньшевики купили у местного населения десять арб, но использовали от них только колеса, а почему не использовали остальные деревянные части, было неизвестно. Кроме того, они купили у местных крестьян каштановые балки и доски и, надо честно сказать, купили щедро – по хорошей цене.
Одним словом, было ясно, что там что-то строится, что это что-то будет на колесах арб, но что из себя представляет это что-то, никто не знал.
Одни говорили, что меньшевики строят огромную бомбу, которую на колесах довезут до Мухуса и там, раскатив ее с пригорка Чернявской горы, пустят на город и взорвут его. Другие говорили, что строится не бомба, а деревянный броневик имени Ноя Жордания. Правда, на вопрос, что же послужит тягловой силой этому броневику, никто ничего определенного не мог ответить.
Рядом с этим сараем лежало зеленое поле, общественный выгон, и некоторые крестьяне беспокоились, как бы во время строительства этого сооружения оно не взорвалось и не покалечило скот или кого-нибудь из людей.
На этот день, который мы сейчас описываем пером, свободным от предрассудков, была назначена сходка перед конторой старшины. На нее должно было явиться взрослое население мужского пола.
Насильственная мобилизация была маловероятна, хотя и не вполне исключена, поэтому Миха не спешил на сходку, а ждал оттуда вестей, тем более что для неявки у него была достаточно уважительная причина – в доме гость.
После того как жена его прибежала от соседей и сказала, что мобилизации не будет, потому что сходку уговаривать уговаривают, а оцеплять не оцепляют, хозяин решил пойти туда вместе с дядей Сандро.
Верный своему правилу за большими общественными делами не забывать маленьких личных удовольствий, дядя Сандро тщательно выскоблил из кости, лежавшей перед ним, костный мозг, слегка обмазал его аджикой и отправил все в рот, жестом показывая хозяину, что теперь он готов идти на сходку.
Дядя Сандро и Миха вышли на веранду, где вымыли руки и ополоснули рты. Спустились вниз во двор. Здесь их встретил десятилетний хозяйский мальчик, всем своим видом показывая готовность выполнить любое поручение.
Дядя Сандро подумал, что друг его, несмотря на то, что занимается разведением свиней, все-таки правильно, по-нашему воспитывает детей. Он одобрительно посмотрел на мальчика и поручил ему поймать свою лошадь и загнать во двор. Он хотел быть готовым ко всему.
– С этими никогда не знаешь, то ли гнаться за кем, то ли бежать от кого, – сказал он своему другу, на что тот понимающе кивнул.
– С теми тоже, – добавил Миха.
Дядя Сандро и Миха вышли на проселочную улицу. Со стороны моря дул свежий бриз, внизу под обрывистым склоном желтела всеми своими рукавами дельта Кодора. Солнце играло на зелени, до того свежей и пушистой, что хотелось встать возле молодого куста дикого ореха и кротко обглодать его.
Дядя Сандро подумал, что такие мысли не ко времени и, щелкнув камчой по мягкому голенищу своего сапога, бодро зашагал, как бы подгарцовывая небесной музыке этого цветущего и тревожного дня.
Дядя Сандро любил, спешившись, ходить вот так вот с камчой. Он чувствовал, что человек с камчой всегда производит на других благоприятное впечатление. Держа в руках камчу, прохаживаясь и постукивая ею по голенищу, дядя Сандро чувствовал, как в нем крепнет хозяйская готовность оседлать ближнего, тогда как та же камча нередко на глазах у дяди Сандро вызывала и укрепляла в ближнем способность быть оседланным. А у иных, замечал дядя Сандро, при взмахе камчи в глазах появлялась даже как бы робкая тоска по оседланности.
Дядя Сандро любил прогуливаться с камчой, но не потому, что стремился оседлать ближнего. Здесь была своего рода военная хитрость, самооборона. Если у тебя вид человека, стремящегося оседлать ближнего, говаривал дядя Сандро, то уж, во всяком случае, тебя не слишком будут стремиться оседлать другие.
Конечно, бывали случаи, когда у некоторых людей вид этой камчи вызывал раздражение, но дядя Сандро считал, что это просто зависть или ревность к его хозяйской готовности оседлать ближнего.
По дороге стали попадаться жители села, верхом или пешком идущие на сходку. Кое-кто торопился, а кое-кто не спешил. Через некоторое время они догнали арбу, груженную песком. Друзья заторопились, потому что знали – она направляется к этому сараю, где меньшевики строят свое секретное оружие. Оказывается, для этого оружия им понадобился песок, и они наняли крестьян возить его.
Было известно, что аробщиков, привозящих песок, к самому сараю не подпускают, им приказывают отойти в сторону и сами заводят арбу в сарай, сами ее разгружают и потом подводят пустую арбу к хозяину, с тем чтобы она снова ехала за песком.
Поравнявшись с арбой, дядя Сандро сразу же узнал аробщика, это был Кунта Маргания, когда-то работавший пастухом и живший в их доме.
Увидев дядю Сандро, Кунта обрадовался и на ходу спрыгнул с арбы. Обнялись. Кунта теперь шел рядом с дядей Сандро, изредка помахивая над буйволами длинным прутом:
– Ор! Хи!
Арба немилосердно скрипела, а буйволы, наклонив рогатые головы, тянули ее, как бы стараясь разъехаться в разные стороны.
Разговаривая с Кунтой, дядя Сандро поглядывал на него и думал о том, что рановато постарел Кунта. Ему было не больше сорока, но выглядел он уже чуть ли не старичком. Маленького роста, большерукий, и горб за спиной как вечная кладь. В чувяках из сыромятной кожи, сейчас он бесшумно шагал рядом, напоминая дяде Сандро о собственном детстве, таком далеком и таком безгрешном.
Кунта был человеком добрым и, прямо скажем, глупым. Он почти не мог самостоятельно вести хозяйство – разорялся. Обычно после этого он нанимался к кому-нибудь пастушить. За несколько лет становился на ноги, брался за самостоятельную жизнь и снова разорялся.
Правда, по слухам, теперь у Кунты взрослый сын, и он с его помощью справляется со своим нехитрым хозяйством. После обычных расспросов о здоровье родных и близких Кунта вдруг ожил.
– Слыхали? – спросил он и заглянул в глаза дяде Сандро.
– Смотря что? – сказал тот.
– Меньшевики добровольцев берут, – важно заметил Кунта.
– Это и так все знают, – сказал Миха.
– Говорят, – пояснил Кунта с хитрецой, – если возьмут Мухус, разрешат потеребить лавки большевистских купцов.
– Выходит, если Мухус возьмешь, что хочешь бери? – спросил дядя Сандро, потешаясь над Кунтой и подмигивая Михе.
– Сколько хочешь не разрешается, – сказал Кунта, не чувствуя, что над ним смеются, – разрешается только то, что один человек на себе может унести.
– Что же ты хотел бы унести? – спросил дядя Сандро.
– Мануфактуру, гвозди, соль, резиновые сапоги, халву, – с удовольствием перечислял Кунта, – в хозяйстве все нужно.
– Слушай, Кунта, – серьезно сказал дядя Сандро, – сиди дома и кушай свою мамалыгу, а то худо тебе будет…
– Переполох, – вздохнул Кунта, – в такое время многие добро добывают.
– Сиди дома, – подтвердил Миха, – сейчас не знаешь, где найдешь, где потеряешь…
– Тебе хорошо, у тебя свиньи, – как о надежной твердой валюте напомнил Кунта и, немного подумав, добавил: – Я-то сам не иду, сына посылаю…
Они вышли на лужайку перед конторой, и сразу же гул толпы донесся до них. Под большой, развесистой шелковицей стояло человек триста – четыреста крестьян. Те, что уместились в тени шелковицы, сидели прямо на траве. Позади них стоя толпились остальные. Среди них выделялось десятка полтора всадников, что так и не захотели спешиться. У коновязи трепыхалась сотня лошадиных хвостов.
Кунта попрощался с друзьями и легко вскочил на арбу.
– Подожди, – вспомнил дядя Сандро про тайное оружие меньшевиков, – ты о нем что-нибудь знаешь? – Он кивнул в сторону сарая.
– Нас близко не подпускают, – сказал Кунта.
– А ты попробуй, придурись как-нибудь, – попросил дядя Сандро.
– Хорошо, – уныло согласился Кунта и, взмахнув прутом, огрел вдоль спины сначала одного, а потом и второго буйвола, так что два столбика пыли взлетели над могучими спинами животных.
– Да ему, бедняге, и придуряться не надо, – заметил Миха.
Дядя Сандро кивнул с тем теплым выражением согласия, с которым все мы киваем, когда речь идет об умственной слабости наших знакомых.
– Эртоба! Эртоба! – первое, что уловил дядя Сандро, когда они с Михой приблизились к толпе. Это были незнакомые дяде Сандро слова. Они подошли к толпе и осторожно заглянули внутрь.
У самого подножия дерева за длинным столом сидело несколько человек. Стол этот, давно вбитый в землю для всяких общественных надобностей, сейчас, из уважения к происходящему, был покрыт персидским ковром, принадлежащим местному князю.
Сам князь, пожилой, подтянутый мужчина, тоже сидел за столом. Кроме него за столом сидели два офицера: тот, что был с отрядом, и тот, что прибыл с подкреплением. Дядя Сандро сразу же по глазам определил, что оба настоящие игроки, ночные птицы.
Рядом с князем сидел и явно дремал огромный, дряхлый старик в черкеске с длинным кинжалом за поясом, с башлыком, криво, по-янычарски повязанным на большой усатой голове. Усы были длинные, но как бы изъеденные временем, негустые. Это был известный в прошлом головорез Нахарбей.
Хотя по происхождению он был простым крестьянином, за неслыханную дерзость и свирепость в расправе со своими недругами он пользовался уважением почти наравне с самыми почтенными представителями княжеских фамилий, что, в свою очередь, рождало догадку о характере заслуг далеких предков нынешних князей, которые вывели их когда-то из толпы обыкновенных людей и сделали князьями.
Поговаривали, что Нахарбей участвовал в походах Шамиля, но так как сам он уже смутно помнил все кровопролития своей цветущей юности и иногда аварского Шамиля путал с абхазским Шамилем, известным в то время абреком, то местные заправилы, стараясь преуспеть в большой политике, поддерживали то одну, то другую версию. Сейчас господствовал аварский вариант, потому что борьба меньшевиков с большевиками довольно удобно укладывалась в традиции борьбы с царскими завоевателями.
Нахарбей дремал, склонив голову над столом, иногда сквозь дрему ловя губами нависающий ус. Порой он открывал глаза и смотрел на оратора грозным склеротическим взглядом.
У края стола возвышался оратор. Никто не знал его должности, но дядя Сандро, оценивая происходящее, решил, что он – меньшевистский комиссар. Это был человек с бледно-желтым лицом, с чересчур размашистыми движениями рук и блестящими глазами.
Говорил он на чисто абхазском языке, но иногда вставлял в свою речь русские или грузинские слова. Каждый раз, когда он вставлял в свою речь русские или грузинские слова, старый Нахарбей открывал глаза и направлял на него смутно-враждебный взгляд, а рука его сжимала рукоятку кинжала. Но пока он это делал, оратор снова переходил на абхазский язык, и взгляд престарелого джигита затягивался дремотной пленкой, голова опускалась на грудь, а рука, сжимавшая рукоятку кинжала, разжималась и сползала на колено.
Время от времени оратор хватался за стакан и отпивал несколько глотков. Когда в стакане кончалась вода, сидевший рядом с оратором писарь услужливо наливал ему из графина. Звук льющейся воды или звяканье графина о стакан тоже ненадолго будили престарелого джигита.
Перед писарем лежала открытая тетрадь. Слушая оратора, он постукивал по столу карандашом, держа его длинным отточенным концом кверху. Оглядывая крестьян, он взглядом давал знать, что с удовольствием внесет в свою тетрадь эту замечательную речь, но только плодотворно преображенную в виде списков добровольцев.
Во время своей речи оратор то и дело выбрасывал руку вперед и сверкающими глазами как бы указывал на какой-то важный предмет, появившийся вдали. Дядя Сандро уже знал, что это делается просто так, для красивой убедительности слов, но многие крестьяне еще не привыкли к этому жесту, тем более в сочетании со сверкающими глазами, и то и дело оглядывались назад, стараясь разглядеть, на что он им показывает. Те, что попривыкли к этому жесту, посмеивались над теми, кто все еще оглядывался.
Справа от дяди Сандро сидел на лошади незнакомый крестьянин. Лошадь его, косясь на камчу дяди Сандро, беспокоилась и все норовила уйти в сторону, но отойти было некуда, и хозяин, не понимая причины ее беспокойства, тихонько ругался, каким-то образом связывая в один узел это ее беспокойство и суетливость оратора.
После очередного выбрасывания руки, когда многие крестьяне оглянулись по направлению руки, всадник этот с довольной улыбкой посмотрел на дядю Сандро и сказал:
– В первый раз, как увидел, думаю, на что это он там показывает? Может, думаю, скот в поле… На потраву показывает… Как же, думаю, я с лошади не вижу, а он со своего места замечает?!
В конце лужайки за плетнем виднелось кукурузное поле. Всадник, поглядывая на дядю Сандро и одновременно косясь на это поле, давал убедиться своему собеседнику, что у него кругозор гораздо шире, чем у оратора, и, стало быть, оратор никак не может видеть что-нибудь такое, чего не видит он со своей лошади.
После этого он неожиданно притянул одну из веток, нависающих над его головой, и стал бросать в рот, посасывая и причмокивая, мокрые продолговатые ягоды шелковицы.
– А ну, тряхни! – сказал кто-то из сидящих впереди. Всадник покрепче ухватился за ветку и несколько раз тряхнул ее. Черный дождь шелковиц посыпался вниз. Впереди образовалась небольшая суматоха, и писарь, заметив ее, направил на всадника осуждающий взгляд. Дядя Сандро с усмешкой отметил, что писарь старается придать своим глазам такой же блеск, как у оратора. Постепенно крестьяне притихли, и только лошадь, шумно дыша на траву, дотягивалась до рассыпанных ягод.
А между тем оратор продолжал говорить, стараясь разгорячить сходку и довести ее до состояния митинга. Но сходка до состояния митинга никак не доходила. Самому оратору почему-то мешали взрывы, то и дело доносившиеся со стороны реки, да и сами крестьяне, задававшие всякие уводящие от митинга вопросы.
Как только слышался очередной взрыв, оратор замирал, поворачивал к реке свое бледное, подвижное лицо и говорил:
– Слышите?! Сами нарушают, а потом сами будут жаловаться, что мы наступаем.
Дядя Сандро никак не мог понять, кому будут жаловаться большевики, если меньшевики начнут наступать. Вообще, он многого из речи оратора не понимал, объясняя это отчасти своим опозданием на сходку, отчасти всеобщим безумием.
Оратор, по-видимому, еще до прихода дяди Сандро объяснил, почему меньшевистская власть хорошая, а советская – плохая. Теперь, уже исходя из этого, он останавливался на выгодах, которые получат крестьяне при меньшевистской власти именно потому, что она хорошая, а не наоборот. А раз так, говорил он, крестьяне должны проявить сознательность и вступать в ряды добровольцев. Каждый, говорил он, кто не превышает тридцатипятилетний возраст и еще не потерял совести под влиянием большевиков, должен в это трудное время вступить в ряды добровольцев.
Для тех, пояснил он, кто превышает этот возраст и в то же время не потерял совести под влиянием большевиков, командование сделает исключение и будет принимать в ряды добровольцев. Так пояснил он, хотя никто у него не просил пояснения.
– Эртоба! Эртоба! – при каждом удобном случае выкрикивал он.
– Что это за слово? – спросил дядя Сандро у своего товарища, который во всех отношениях был почти не хуже дяди Сандро, а в отношении грузинского и русского языка даже лучше, опять же как человек, торгующий свиньями, то есть имеющий дело с христианскими народами.
– Эртоба значит единство, – ответил Миха, – он хочет, чтобы мы с ним были заодно.
Слева от дяди Сандро стоял незнакомый крестьянин. Дядя Сандро заметил, что тот каждый раз, когда недослышивал или недопонимал оратора, приоткрывал рот, словно включал инструмент, усиливающий как смысл, так и звук ораторской речи. Сейчас он обернулся на слова Михи.
– Я могу быть с родственником заодно, – сказал он, загибая корявый палец и с дурашливой улыбкой кивая на оратора, – с соседом заодно, с односельчанином заодно, но с этим эндурцем, которого первый раз вижу, как я могу быть заодно?
– В том-то и дело, что чушь болтает, – отозвался верховой, снова пригибая ветку шелковицы и ища глазами, где она гуще облеплена ягодами, – стоящий человек никогда не будет показывать рукой на то, чего сам не видит.
– …Завтра наступаем, – объявил оратор, – кто с нами, записывайтесь до шести утра, а после шести, хоть золотом осыпьте, ни одного человека не возьмем… Спешите в ряды! Эртоба! Эртоба! – крикнул он и взмахнул рукой, как бы призывая весь оркестр звучать в едином марше.
– Эртоба! – повторили за ним несколько голосов, да и те запнулись, смущаясь своим одиночеством.
Видя, что люди слишком мнутся, оратор решил им помочь и сказал, что если прямо сейчас некоторым записываться стыдно перед близкими, у которых родственники ушли с большевиками, то такие позже могут заходить в контору и записываться тайно, потому что командование, в отличие от тех (кивок в сторону реки), уважает родственные чувства.
Писарь, оглядывая собрание и молча останавливая взгляд то на одном, то на другом, предлагал вписать их в свою тетрадь, но те, на ком он останавливал свой взгляд, чаще всего отворачивались или, не успев отвернуться, прикладывали руку к груди и отказывались, смягчая отказ этим жестом благодарности за доверие.
Все же человек пятнадцать-двадцать записалось. Первым по предложению князя зачислили в отряд в качестве Почетного Добровольца старого Нахарбея. При этом все радостно зашумели, писарь медленно, словно продлевая удовольствие, вписывал его в тетрадь, а оратор в это время уверял сходку, что дух Нахарбея осенит правое дело меньшевиков.
Сам престарелый джигит, услышав свое имя в сопровождении слишком громкого шума, кусанул ус и уставился на оратора до того неподвижным и долгим взглядом, что тот не на шутку смутился. Но тут к Нахарбею наклонился князь и что-то зашептал ему на ухо. Тот кивнул усатой головой и успокоился.
– Задавайте вопросы, – сказал оратор, ободренный тем, что все-таки кое-кто записался. После добавил, с намеком на тех, кто за рекой: – Мы вопросов не боимся…
Он победно оглядел собравшихся и теперь уже сам, налив себе воду из графина, стал ее пить большими глотками.
– Как мельница, на воде работает, – сказал кто-то из задних рядов.
– Работает-то как мельница, да муки не видать, – добавил другой.
– Сынок, – кто-то обратился к оратору из толпы, – говорят, если Мухус возьмете, большевистских купцов разрешат потеребить. Интересуемся, это правда?
Оратор все еще пил воду, когда прозвучал вопрос, но, услышав его, он быстро отставил стакан и замахал рукой:
– Ничего такого я не говорил и даже не имею права говорить! – как-то чересчур сварливо открестился он, из чего многие поняли, что так оно и будет, только прямо говорить об этом не хотят.
– Послушай, – вдруг закричал тот, что стоял слева от дяди Сандро, – а что будет с нами, если мы с вами пойдем, а большевики вас побьют?
Сразу же установилась неловкая тишина. Стало слышно, как у коновязи щелкает железо во рту у лошадей и шуршат их хвосты, отмахивающиеся от мух. С одной стороны, всем не терпелось узнать, что скажет оратор, а с другой стороны, вопрос прозвучал слишком дерзко для этих гостелюбивых краев. А ведь меньшевики были некоторым образом гостями, хотя и незваными.
– Интересный вопрос, – сказал оратор и посмотрел на сидящих рядом с ним за столом. Оба офицера презрительно закачали головами, показывая, что исход предстоящего сражения у них не вызывает тревоги.
– Интересный вопрос, – повторил оратор и прибавил, – но нас коммунисты никогда не побьют, тем более…
Оратор умолк и многозначительно кивнул в сторону сарая, откуда доносился приглушенный перестук топоров.
– Кто его знает, – миролюбиво заметил сосед дяди Сандро, задававший вопрос. Он был рад, что кое-как выкарабкался из своего вопроса.
– А почему вы не говорите, что у вас там делается в сарае? – вдруг раздался чей-то раздраженный голос из задних рядов. Люди, видно, продолжали подходить. Дядя Сандро говорящего не видел, но по голосу почувствовал, что тот стоит на солнце и, может, даже без шапки.
– …Может взорваться, – продолжал раздраженный голос, – а у нас там скот пасется, женщины ходят…
– Взорваться не может, не допустим… Но военную тайну разглашать не имею права, – ответил оратор и прибавил: – Завтра сами увидите.
– А как быть с теми абхазцами, – вдруг кто-то выкрикнул из толпы, – которые, пользуясь суматохой, вовсю разводят свиней?!
– Каких свиней?! – растерялся оратор.
– Да, да, как быть?! – с нескольких сторон оживились завистники Михи. Оратор растерялся, но зато сам Миха ничуть не растерялся.
– Я сам не ем, черт вас подери! – громко выкрикнул он. – Я только нечестивцам продаю!
– И я, как гость, подтверждаю! – зычно добавил дядя Сандро.
Все оглянулись на него, многие удивленно, потому что видели его в первый раз.
– Сандро из Чегема, – теплым, ласкающим слух ветерком прошелестело по толпе.
– Ты гость, ты можешь не все знать, – вяло огрызнулся тот, кто выкрикнул насчет свиней.
– Вы у человека про дело спрашивайте, – вставился князь, – а со своими свиньями мы тут сами разберемся.
Князь тоже был противником свиноводства. Он считал, что вместе со свиньями в чистую жизнь абхазцев проникает гибельное неуважение к старшинству, хамская односложность отношений, свойственная другим, простоватым по сравнению с абхазцами, народам. Но сейчас заниматься этим было неуместно.
– А сколько продлится поход? – раздался голос из толпы.
– Думаю, с месяц, – сказал оратор довольно уверенно.
– Ого! – громко удивился тот же голос, – как же я пойду, если мне через две недели кукурузу мотыжить, а там и табак подоспеет?!
– Пусть родственники… – начал было оратор, но он не договорил, потому что со стороны реки опять раздались взрывы.
– Видите, что делают! – дернулся он в сторону взрывов. – Сами нарушают, а потом сами будут говорить, что мы первые…
– Интересуюсь, – раздался голос, – до какого места будем воевать, до Гагры или до Сочи?
– До Сочи и даже дальше…
– Зачем дальше? Дальше Россия…
– Чтобы окончательно Ленина победить, надо идти и на Россию! – выкрикнул оратор. – Но для этого нам нужны три вещи…
Он замолк и, поджав губы, уставился в толпу нагловато-стекленеющими глазами, стараясь заранее внушить важность того, что он собирается сказать.
– Ленина сами русские победить не смогли, а ты что, сможешь?
– Тише, говорит, какие-то вещи нужны…
– Лошадь, седло, винтовка – вот тебе три вещи…
– Эртоба, Эртоба, Эртоба! – разрядился наконец оратор с таким видом, словно сказал что-то новое.
– Надоел со своим единством…
– Попомните мое слово, – опять заметил всадник и, деловито оглядев шелковицу, слегка сдвинул коня, чтобы достать ветку получше, – человек, который показывает на то, чего сам не видит, порченый…
– Ты хоть шелковицы налопаешься, – заметил крестьянин, что стоял слева от дяди Сандро, – а мы чего сюда притащились?
– Ша! Кто-то из наших будет говорить…
Какой-то старик пробрался в толпе, вышел из первого ряда, спокойно всадил посох в землю, положил на него обе руки и сказал, что выступит от имени многих, хотя и не всех.
Он сказал, что некоторые согласны служить в армии меньшевиков, но с тем условием, чтобы охранять склады, готовить еду, присматривать за лошадьми. Но стрелять те многие, хотя и не все, от имени которых он выступает, не согласны, потому что среди большевиков немало родственников и односельчан.
Поэтому, сказал он, если наши добровольцы сейчас начнут стрелять по большевикам, то не исключено, что кто-нибудь из них попадет в нашего, а пролитая кровь будет взывать к мести и погибнет много невинных. Особенно неприятно, сказал он, что большевики с меньшевиками или замирятся, или (добавил он с какой-то обидной непричастностью) победят друг друга, а кровная месть будет продолжаться годами.
Поэтому те многие, хотя и не все, от имени которых он говорит, решили, что нашим добровольцам можно идти в поход, но от стрельбы их следовало бы освободить. С этими словами он вытащил свой посох из земли и уважительно, но с достоинством пятясь, вошел в толпу, которая поддерживала его речь одобрительными выкриками, может быть, как раз тех многих, хотя и не всех, от имени которых он говорил.
– Когда дело касается свободы, не будем торговаться, – заметил оратор, сделав кислую мину. Видно, речь старика ему не совсем понравилась.
– Будем торговаться! – злобно выкрикнул тот, что говорил о сарае. Дядя Сандро, узнав его по голосу, удивился, что тот все еще стоит на солнце.
– …Большевики говорят, не будем торговаться, вы говорите, не будем торговаться, – окончательно закипел тот, что стоял на солнце и притом, возможно, без шапки, – а мы отрезаны от города: соли нет, мануфактуры нет!
– Вы не так поняли! – крикнул оратор, но тут другие ему не дали говорить.
– Так поняли, потому что и стекол для ламп тоже нет, – крикнул кто-то, и всем почему-то сделалось смешно. Толпа задвигалась и стала распадаться на части, и уже ни оратор, ни, как бы пораженный неуважительностью своих земляков, князь никого остановить не могли. Некоторые стали отходить к коновязи, другие, что пришли пешком, уходили, громко зовя родственников и попутчиков.
Последнее, что успел прокричать оратор, это чтобы родственники ушедших с большевиками не мешали односельчанам вступать в ряды добровольцев.
– Мы вас не агитируем, вы их не агитируйте, – прокричал он, выбросив вперед руки с выпяченными ладонями, как бы намекая на необходимость соблюдать равенство шансов.
Дядя Сандро вместе со своим другом отошел к дороге, где должен был проехать Кунта. Во время сходки он то и дело поглядывал на дорогу, чтобы не пропустить его. Наконец Кунта появился на дороге.
– Я придурился, но ничего не получается, – сказал он, поравнявшись с друзьями. Он остановил арбу и хотел сойти с нее.
– Ладно, поезжай, – сказал дядя Сандро, не давая ему сойти с арбы.
– Может, зайдешь? – неуверенно спросил Кунта, глядя в лицо дяде Сандро. – Уж цыпленочка-то для тебя отыщем…
– Спасибо, Кунта, в другой раз, – сказал дядя Сандро, думая о своем.
Кунта заскрипел дальше, поигрывая хворостиной и мурлыкая песню аробщика. Миха и дядя Сандро оглянулись на шелковицу. Там уже почти никого не было. Князь и один из офицеров сидели за столом друг против друга, расставляя фишки для нард. Вокруг собралось несколько любопытных, а может, и желающих принять участие в игре.
Из усадьбы князя, которая примыкала к площади, три женщины вытащили корзины с закусками и вином. У опустевшей коновязи двое княжеских людей, хозяйственно переговариваясь, громоздили на лошадь престарелого Нахарбея.
– Что думаешь о сходке? – спросил Миха, когда они повернули к дому. Дядя Сандро долго не отвечал, и Миха терпеливо ждал, зная, что слово дяди Сандро чего-то стоит.
– Это не власть, – сказал дядя Сандро, шлепнув камчой по голенищу, и громко, как бы стараясь преодолеть его социальную тугоухость, повторил:
– Попомни мое слово, Миха, это не власть!
– Что же делать? – спросил Миха, прислушиваясь к своему загону, хотя до дому еще было далеко и ничего не было слышно.
– Надо попробовать с большевиками, – сказал дядя Сандро и выразительно посмотрел на Миху, – но к ним с голыми руками не пойдешь…
– А как узнать? – пожал плечами Миха, все еще безуспешно продолжая прислушиваться к своему загону, – чтобы стражников купить, надо время, а завтра начнется…
– Я что-то придумал, – кивнул дядя Сандро в сторону засекреченного сарая, – попробуем…
Судя по тому, что Миха на лету ухватил мысль дяди Сандро, можно заключить, что он быстро одолел свою социальную тугоухость. Не забудем, что он при этом прислушивался, правда, безуспешно, к своему загону. Впрочем, ему даже безуспешно прислушиваться к своему загону было гораздо приятней всего, что можно было успешно услышать на митингах и сходках тех дней.
Да и вообще, если подумать, была ли свойственна социальная тугоухость человеку, который первым из абхазцев не только сделал ставку на свиней, но и первым же догадался перегонять их осенью в каштановые и буковые урочища? Нет, сдается мне, что она ему не была свойственна!
Ведь даже сейчас, возвращаясь домой, он продолжал с каким-то сердитым недоумением прислушиваться к своему загону, словно всем своим видом хотел сказать: «Да войдем мы в конце концов в зону хрюканья или все еще будем болтаться черт знает где?!»
А может, не это хотел сказать, может, хотел сказать: «А не оглох ли я на сходке, слушая эту тарабарщину, чтой-то свиней своих не слышу?!»
Нет, нет, пока существует эта самая зона хрюканья (блеяния, ржанья, мычанья), ни о какой социальной тугоухости не может быть и речи. Это потом, гораздо позже она придет вместе с: «А-а-а, гори огнем! А-а-а, в задницу!» И наконец, спокойный и потому непобедимый возглас, тихо подхваченный всей страной, как новая молитва, как буддийский призыв к самосозерцанию:
– Пе-ре-кур…
* * *
Через два часа в зарослях папоротника неподвижно лежал дядя Сандро, и в цейсовский бинокль следил за тем, что делается у засекреченного сарая.
Он видел, как время от времени к нему подъезжает арба, как она останавливается, как с нее лениво спрыгивает аробщик, отходит в сторону под жидкую тень алычи, как один из солдат залезает на арбу, а другой в это время распахивает ворота, где виднеется…
О возможности заглянуть в сарай дядя Сандро догадался, когда оглядывал его еще на площади. Но, чтобы использовать промежуток в пять – десять минут, пока арба не пройдет в открытые ворота, надо было находиться прямо напротив них, то есть на выгоне, который хорошо просматривался со всех сторон.
В конце выгона, примерно в полукилометре от сарая, начинались заросли. Часовым никак не могло прийти в голову, что на таком расстоянии кто-то наблюдает за воротами. Да и кто мог подумать, что в этом селе окажется человек с великолепным биноклем, когда-то принадлежавшим принцу Ольденбургскому, а теперь ставшим собственностью неведомого меньшевикам, впрочем, как и большевикам, дяди Сандро?
Но что же он увидел? Он увидел деревянное сооружение, чуть выше человеческого роста, гигантский ящик, слегка приподнятый колесами над землей. Колеса были закреплены изнутри и едва высовывались из-под боковой стены сооружения.
Дядя Сандро сразу же догадался, что это так сделано для того, чтобы защищать колеса от вражеских пуль, и удивился военной хитрости меньшевиков.
Продолжая наблюдать, дядя Сандро пришел к выводу, что боковые стены сооружения сдвоены, потому что на одной из них довольно свободно стоял солдат и что-то доделывал лопатой. Как только дядя Сандро догадался, что стены сдвоены и только потому солдат так свободно стоит на стене, он тут же сообразил, что солдат выравнивает и трамбует песок, насыпанный между стенами.
Тут дядя Сандро окончательно раскусил назначение этой крепости на колесах. Он понял, что меньшевики под ее прикрытием постараются переехать через мост. Вот тебе и меньшевики, подумал дядя Сандро, опуская бинокль, а мы-то считали их простаками.
Он повернулся на спину, с трудом вытянул затекшую в неудобной позе ногу и стал смотреть на синее небо. По кустам прошелестел ветерок, и дядя Сандро почувствовал запах еще влажной земли, высохших прошлогодних стеблей папоротника, услышал высоко над собой пение жаворонков и вдруг подумал: «Зачем меньшевики, зачем большевики, зачем вообще я здесь лежу и выслеживаю это деревянное чудище?»
Боясь шевельнуть затекшей ногой, он смотрел в небо и думал о бренности человеческих усилий. Да и стоит ли делать какие-то усилия, думал он, если оттуда, сверху, Главный Тамада следит в небесный бинокль за всеми людьми, чтобы каждый делал предписанное ему в согласии с Его великим замыслом?
Так думал дядя Сандро, чувствуя, что постепенно нога его отходит и начинает подчиняться ему. Дядя Сандро пошевелил ею и ощутил, как последние мурашки пробежали по ней и исчезли вместе с расслабляющими мыслями о бренности человеческих усилий.
Подобно тому, подумал дядя Сандро, как моя нога после некоторого застоя пришла в подчинение моему замыслу пошевелить ею, так и я после некоторой слабости должен подчиниться Его замыслу, который скорее всего состоит в том, чтобы мне лежать в этих кустах и следить за приготовлениями меньшевиков. Иначе, с чего бы я здесь мог очутиться, решил дядя Сандро и, перевернувшись на живот, приподнял бинокль.
Теперь одно недоумение оставалось у него: какая сила будет тащить это огромное и тяжеловесное сооружение? Мотор? Но если это мотор от автомобилей, которые, фырча и воняя, сейчас бегают по приморскому шоссе, то почему его никто не слышал? А если это мотор от парохода, то где же труба? Без трубы ни один пароход не движется. Это дядя Сандро знал точно. Правда, некоторые говорили, что деревянный броневик может двигаться на буйволах, запряженных изнутри, но дядя Сандро сомневался в этом.
…Арбы все еще подъезжали к сараю. Ворота открывались и закрывались, но увидеть больше того, что он увидел, не удавалось. Потом один из солдат вышел из сарая и ушел куда-то, а через некоторое время к сараю подошли человек сорок солдат и все они вошли внутрь. Дядя Сандро догадался, что их привел солдат, что выходил из сарая.
Часовой, что стоял у ворот, сейчас вместе со всеми вошел в сарай и закрыл за собой ворота. Дядя Сандро даже заерзал от нетерпения, до того ему было любопытно узнать, чего это они там заперлись.
Подошла арба. Один из солдат вышел из сарая и, как обычно, ввел ее внутрь. Аробщик, как обычно, отошел и присел в тени алычи. Может быть, потому, что сейчас у ворот не было часового, их забыли закрыть за въехавшей в сарай арбой.
Дядя Сандро впился биноклем в открытые ворота. Даже аробщик, который сидел в холодке, на этот раз заметив, что за ним никто не следит, а ворота остаются распахнутыми, осторожно поднялся и перешел на такое место, откуда было видно, что делается внутри.
Дядя Сандро улыбнулся. Издали в бинокль было забавно подглядывать за подглядывающим. Он опять вспомнил про Главного Тамаду и подумал, что, может быть, Ему также забавно в свой небесный бинокль следить за мной, как мне за этим аробщиком? Так вот и живем, послеживая друг за другом, подумал дядя Сандро и, уже больше не отвлекаясь, следил за тем, что происходило в сарае.
А между прочим, друзья, некоторые наблюдения дяди Сандро представляются мне довольно любопытными. Нет, я имею в виду не то, что, мол, живем, послеживая друг за другом, хотя и это достаточно любопытно, а то, что издали в бинокль было забавно подглядывать за подглядывающим. Именно издали, а не вблизи!
Вообще издали странно следить за человеком, который хитрит. Можно издали следить за человеком, когда он спит, ест, работает, целуется, и все это, друзья, не кажется чем-то особенным.
Но стоит издали увидеть, как человек хитрит, чего-то доказывает, изворачивается или, в крайнем случае, просто жульничает, как все это представляется чем-то странным, невероятным, даже как бы фантастическим. Да что ж тут невероятного, вправе вы у меня спросить? Что делает это обыкновенное зрелище из ряда вон выходящим видением?! Расстояние, даль – вот что, друзья мои! Оказывается, наше зрение так устроено, что чем дальше находится от нас наш наблюдаемый собрат, тем приятней нам его видеть в общечеловеческих, так сказать, исторически оправданных проявлениях.
Наблюдая за человеком на расстоянии и догадываясь, что он хитрит или краснобайствует, или, в крайнем случае, просто ворует стакан из выемки автомата с газированной водой, мы с особой остротой чувствуем, что это совсем не те проявления человеческих свойств, которые мы считаем исторически оправданными. Но так как эти свойства, вопреки исторической оправданности, все-таки разворачиваются на наших глазах, мы начинаем находить во всем этом мистический оттенок, я бы сказал, некоторую, хотя и вялую, связь с кознями дьявола.
А ведь те же проявления человеческих свойств в непосредственной близости представляются хотя и неприятными, но достаточно терпимыми. Вот что значит расстояние!
Кстати сказать, прямо напротив моего дома за высокой каменной стеной находится какое-то предприятие – не то мебельная фабрика, не то секретный завод. Днем там что-то визжит, а в проходной всегда стоит вахтер. Одним словом, не знаю, секретное это предприятие или полусекретное, одно знаю точно, что там днем в рабочее время пить не разрешается.
Я так думаю, потому что каждый день из окна вижу одну и ту же картину. Возвращаясь с перерыва, двое рабочих подходят к углу этой стены и один из них влезает на плечи другого. После этого оба, пошатываясь, выпрямляются, и получается довольно высокая, хотя конструктивно (морально тоже) и неустойчивая пирамида с бутылкой на вершине вытянутой руки.
Бутылка осторожно ставится на стену, после чего конструкция без всяких предосторожностей распадается и уже в виде двух отдельных, якобы не зависимых друг от друга рабочих исчезает в проходной.
Через некоторое время я вижу, как с той стороны стены появляется голова, из чего я заключаю, что с той стороны имеется земляной вал или еще какое-нибудь подобное сооружение.
Так вот, появляется голова человека, но нет чтобы сразу забрать бутылку и спрыгнуть на землю или в объятия друзей (чего не знаю, того не знаю), так он, владелец этой головы, почему-то сначала смотрит по сторонам, словно любуется неожиданно открывшимся ландшафтом, а потом, как-то рассеянно скользнув глазами по стене, обнаруживает чахлый скверик, а также окна нашего дома, словно с некоторым осуждением спрашивает: «Кто сюда поставил бутылку?» И словно получив на свой молчаливый вопрос какой-то ответ, он, как бы не вполне удовлетворенный этим ответом, исчезает вместе с бутылкой.
Теперь представьте себе положение человека, который с какого-то космического расстояния следит за всем человечеством сразу и за каждым человеком в отдельности. Я имею в виду Главного Тамаду, как сказал бы дядя Сандро.
Каково ему все это видеть? Какое трагическое противоречие в его положении! С одной стороны, согласно нашей почти доказанной гипотезе, сама огромность расстояния между наблюдателем на небесах и землей создает в душе Главного Тамады неимоверную тоску по человеку, ласкающему взор благородством своих проявлений. А с другой стороны, беспощадная острота зрения, естественная для всевидящего, не оставляет никаких иллюзий относительно характера подобных внеисторических проявлений.
Но довольно, довольно останавливать нескромный взгляд на этих чересчур интимных мелочах нашего существования. Лучше вернемся к дяде Сандро, тем более что он явно чем-то взволнован.
Вот он переставил локти поудобней и замер, наблюдая. Что же случилось?
На глазах дяди Сандро сооружение сдвинулось с места и отошло в глубь сарая. Он увидел множество ног, примерно по щиколотку торчащих из-под боковой стены. Казалось, чудище ожило и поползло, передвигая множеством коротких лап.
Потом оно в раздумье остановилось, постояло и снова двинулось вперед. Потом опять отъехало назад и наконец остановилось прямо напротив ворот. Из чудища посыпались солдаты. Они влезали на боковые стены и спрыгивали на землю. Один из них подвел арбу к задней стене и вместе с несколькими товарищами стал лопатами сыпать в нее песок.
Теперь дяде Сандро было все ясно. Он понял, что солдаты сами же и будут изнутри толкать свою крепость. Ну и эндурцы, ну и хитрецы, думал дядя Сандро, потихоньку покидая свою засаду. А все же эндурец, он и есть эндурец: голову спрячет, а хвост торчит. Ноги-то виднеются, значит, по ногам и можно будет стрелять.
В это время солдаты стали выходить из сарая, аробщик быстро отошел к алыче, а следом за солдатами выехала из сарая пустая арба. Ворота закрылись, и возле них, как обычно, стал часовой.
Дурачок, подумал дядя Сандро, теперь-то уж мог бы и не стоять. Все-таки он чувствовал некоторую ревность к аробщику, которому и без хитроумной выдумки дяди Сандро удалось узнать, что делается в сарае. Пробираясь в кустах, кружным путем, он возвращался к дому своего друга.
* * *
Ночью, дождавшись луны, дядя Сандро выехал со двора своего друга и направился в сторону Кодора. Он решил отъехать на несколько километров выше моста, чтобы не встречаться с красными часовыми, и там перейти реку. Миха сопровождал его до реки.
– Пожалуй, здесь дно получше будет, – сказал Миха, останавливаясь возле заброшенных мостков. Видно, раньше здесь был паром, но сейчас его перенесли в другое место. От парома остался ржавый железный канат, переброшенный через реку, да столбы на обоих берегах.
В призрачном лунном свете неслись к морю воды Кодора. От весеннего таяния снегов река взбухла и помутнела. Слышался беспрерывный гул воды, клацанье и глухие удары камней о камни, сносимые течением. Миха еще раз напомнил ему, как найти дом, где живет комиссар.
– Не забудь за меня словечко, – прокричал он сквозь шум воды, – с богом!
Дядя Сандро кивнул ему и ударами камчи загнал упирающуюся лошадь в воду. Миха криками и свистом взбадривал его сзади.
Дядя Сандро договорился с Михой о том, что в случае победы красных он постарается уверить комиссара в том, что Миха всегда сочувствовал красным. Кроме того, если дела пойдут очень хорошо, они договорились, что дядя Сандро прямо оттуда, с левого берега, покажет комиссару на дом своего друга, благо он стоял на возвышенном месте и возле него росли два кипариса, с тем чтобы комиссар предупредил своих бойцов, чтобы во время завтрашнего боя они стреляли поосмотрительней, оберегая дом левеющего свиновода.
Осторожно перебирая ногами, вздрагивая и останавливаясь каждый раз, когда копыта соскальзывали с камней, лошадь шла вперед.
Вдруг дядя Сандро услышал сквозь гул реки голос Михи и обернулся. Миха показывал рукой куда-то вверх по течению и что-то кричал. Грохот воды не давал расслышать слов, но дядя Сандро почувствовал опасность и посмотрел вверх по течению. Огромная коряга, то высовываясь из воды, то погружаясь, неслась вниз.
«Конец», – подумал он и в то же время сделал единственное, что мог. Он остановил лошадь и вытащил ноги из стремян. Лошадь, не понимая причины остановки, попыталась повернуть, но дядя Сандро натянул поводья и удержал ее.
Он перебросил камчу в левую руку, чтобы правая была совсем свободна. Дядя Сандро решил, что, если коряга налетит на них, он попытается оттолкнуться от нее рукой, если же она все-таки ударит лошадь и опрокинет ее, надо быть готовым к тому, чтобы бросить ее.
В эти несколько секунд решалась судьба лошади и всадника. Он навсегда запомнил эти мгновенья, когда черная коряга, мокрая и блестящая, погружаясь и выныривая, неслась на него, а рядом в мутной воде, бешено подпрыгивая, шатался блик луны, и лошадь мелко и беспрерывно дрожала под ним.
Метрах в десяти от них коряга погрузилась в воду, и дядя Сандро, замерев, сосредоточив всю свою волю, глядел в воду, чтобы успеть опередить любую неожиданность. И все-таки он ничего не успел.
Она вынырнула перед самой лошадиной мордой, со страшной силой хлестанула лошадь и дядю Сандро мокрыми тонкими ветками, так что дядя Сандро на мгновение ослеп от боли и неожиданности. Лошадь мотнула головой, дядя Сандро еле-еле успел удержать поводья, а в следующее мгновенье он увидел хвост коряги, вынырнувшей ниже по течению, и убедился, что это была не коряга, а целое дерево, подмытое водой. Если б оно напоролось на них, он, конечно, ничего бы не смог сделать.
– Чоу, аннассыни! – крикнул он и погнал лошадь. Лошадь пошла, и он почувствовал первые ожоги ледяной воды, сначала в сапогах, а потом все выше и выше.
– Чоу, аннассыни, чоу! – кричал дядя Сандро и гнал лошадь, чтобы она ни на миг не останавливалась. Теперь над водой торчали только головы лошади и всадника. Дядя Сандро чувствовал, как напрягается тело животного, скособоченное мощным течением, и все кричал и кричал на нее, чтобы перешибить властью страха перед человеческой волей власть страха перед стихией воды. И она шла вперед и вперед, и у дяди Сандро уже покруживалась голова от этого тошнотворного обилия несущихся вод и неотвязчивой пляски мутного блика луны на мутной поверхности реки.
Вдруг лошадь, екнув, погрузилась в воду, копыта потеряли дно, и дядя Сандро почувствовал, что их уносит течение. Ледовитая вода перекатилась через голову. За спиной мгновенно пузырем вздулась бурка, и этот пузырь приподнял его над лошадью и стал смывать с нее. Дядя Сандро до судороги в костях стиснул ногами лошадиный живот, и в этот миг их снова вынесло над водой.
– Чоу, аннассыни! – крикнул он что было сил. Лошадь рванулась вперед и в каком-то допотопном земноводном прыжке нащупала ногами дно и, клацая копытами о камни, все уверенней, все яростней, все победней вынесла его на мелководье того берега. Дядя Сандро оглянулся назад, махнул рукой Михе и, еще разгоряченный смертельной опасностью, погнал лошадь вверх по отлогому берегу.
Примерно через час он подъехал к дому, где остановился комиссар. Хозяин дома был еще более редкий, чем Миха, для того времени абхазец, потому что он целиком жил торговлей, держал в деревне лавку, которая стояла прямо во дворе его дома.
Абхазец этот хорошо говорил по-русски, и дом его на высоких сваях выглядел, даже на взыскательный взгляд дяди Сандро, внушительно и красиво. Так что, учитывая, что дом стоял у самой дороги на Мухус, все удобства у комиссара оказывались под рукой: и толмач рядом, и дом зажиточный, и ближе всех к проезжей дороге.
Обо всем этом думал дядя Сандро, открывая себе ворота и удивляясь, что на этом чистом дворике с голубеющей от лунного света травой не видно собаки. И еще он успел подумать, распахнув ворота и въезжая во двор, что и большевики и меньшевики, хотя по-разному относятся к богатым и бедным крестьянам, все же предпочитают жить в хорошем, сытном доме. Дядя Сандро не только не осуждал их за это, но, наоборот, радовался, находя в этом подтверждение тому, что и у тех и у других за многими странными делами нередко затаен ясный и приятный для всех смысл.
Въехав во двор, он заметил в черной, густой тени лавровишни две русские лошади под кавалерийскими седлами. Еще раньше он заметил часового, сидевшего на крыльце, и, так как тот его не окликнул, дядя Сандро догадался, что он спит.
Дядя Сандро бесшумно соскочил с седла и привязал свою лошадь рядом с этими огромными и, на его взгляд, неудобными лошадьми. Одна из них потянулась укусить его лошадь, но дядя Сандро незаметно для часового, хотя и знал, что тот спит, огрел ее камчой.
Пощелкивая камчой о голенище, стараясь этим мирным, но и достаточно независимым звуком разбудить часового, он подошел к крыльцу. На полу веранды, загородив ногами верхнюю ступеньку крыльца, обняв руками винтовку и откинувшись головой на барьер, спал боец.
Дядя Сандро, подойдя к нему совсем близко, поразился его юности, его остриженной, вытянутой кубышкой голове и тоненькой, прямо-таки замученной шее, подогнувшейся под тяжестью этой маленькой головки.
Как бы не выстрелил спросонья, подумал дядя Сандро и притронулся камчой к его плечу.
– Эй, – позвал он и осторожно добавил новое слово, – товарищ…
Часовой не просыпался. Дядя Сандро оглядел веранду, заглянул в пустые темные окна комнат, обратил внимание, что над барьером веранды висит незнакомый предмет, как догадался дядя Сандро, бачок для умывания с торчащим из него стерженьком. Рядом на гвозде висело полотенце. Дядя Сандро уже видел в богатых домах большие мраморные умывальники, а такого маленького и удобного еще не видел. Он решил, что эту умывалку с собой привез комиссар.
Чего только не напридумают эти русские, с удивлением думал дядя Сандро, оглядывая умывалку. Ему захотелось поддеть стерженек концом камчи, чтобы полилась вода, но он не решился, боясь владельца.
Дядя Сандро снова притронулся камчой к плечу красноармейца. Тот что-то промычал во сне, горло у него заходило, словно он делал над собой усилия, чтобы проснуться. Он и в самом деле проснулся и хмуро, а главное бесстрашно, что неприятно удивило дядю Сандро, оглядел его.
– Комиссара хочу, – сказал дядя Сандро просто и выразительно, чтобы боец спросонья не усомнился в его миролюбии.
– Не велено будить, – хмуро ответил боец и, поуютней обхватив винтовку, снова уснул.
Дядя Сандро вдруг почувствовал, как непривычно тяжело давит ему на плечи мокрая бурка и едва подчиняется его воле окоченевшее тело. Он снова ткнул его камчой, теперь гораздо решительней.
– Сказано, не велено, значит, все, – сказал боец сердито и тут же закрыл глаза.
Вдруг дядя Сандро заметил, что на кухне зажегся свет, оттуда донеслось какое-то перешептывание. Он понял, что там хозяин. Он уже хотел было пройти туда, но отворилась дверь и из кухни вышел человек. Почему-то прикрыв глаза ладонью, он стал неуверенно приближаться к дяде Сандро, стараясь издали его узнать, даже как бы испытывая, поддается ли этот человек узнаванию.
– По обличью вижу, что ты наш, – сказал человек, слегка сожалея, что узнавание остановилось на самой общей этнографической стадии.
– Да, – сказал дядя Сандро, – я Сандро из Чегема.
– Добро пожаловать, – сказал хозяин, радуясь родной речи и удивляясь визиту, – но что тебя пригнало в такое время из Чегема?
– Я сейчас не из Чегема, а оттуда, – сказал дядя Сандро и кивнул головой в сторону Кодора. Он покосился на бойца, но тот безмятежно спал.
– Да ты, я вижу, весь мокрый, эй! – он оглянулся в сторону кухни. – Пораздвинь головешки, человеку погреться надо. Войдем, – повернулся он к дяде Сандро. Тайный жар любопытства придавал его голосу воркующие нотки.
– Мне комиссара надо увидеть, да этот паренек не пускает, – сказал дядя Сандро.
– Эти целый день готовятся к завтрашнему, – заметил хозяин и кивнул на часового, – вот этот мальчишка сегодня два раза скакал в Мухус. Если его лошадь выживет, значит, я ничего в жизни не понимаю.
– Да, такое время, – протянул дядя Сандро неопределенно. В щелях дощатой кухонной стены посветлело, и дядя Сандро понял, что это занялся очаг. Он уже хотел было войти туда, но тут скрипнула дверь, и из комнаты на веранду вышел человек в нижней рубашке. Уверенно шлепая босыми ногами, он подошел к барьеру. Это был комиссар. Боец, как только скрипнула дверь, мгновенно вскочил и стал с винтовкой.
– Что случилось? – спросил комиссар, наклоняясь над барьером веранды и одновременно почесывая лохматую грудь.
– Я оттуда, – кивнул дядя Сандро в сторону Кодора.
– Ну и что? – спросил комиссар и, перестав чесаться, подтолкнул стерженек умывалки и провел мокрой ладонью по зашерстевшему щетиной лицу.
Дядя Сандро, ожидавший более достойного приема, обиженно молчал.
– Может, еще расскажешь про деревянный броневик? – спросил комиссар, не слишком торопясь и любуясь, как показалось дяде Сандро, его растерянностью. Комиссар еще раз подтолкнул ладонью стерженек, плеснул воду на лицо и посмотрел на дядю Сандро более осмысленно.
– Для этого приехал, – сказал дядя Сандро и, стараясь оставаться независимым (хоть и приехал), шлепнул камчой по сапогу.
– Вот люди, – усмехнулся комиссар, – шестой человек приезжает с этой чепухой да еще просит учесть его заслуги…
Дяде Сандро слышать это было очень неприятно. Мало того, что его опередили другие (чертов аробщик не только не стал держать про себя тайну, но, как выяснилось позднее, он даже слегка поторговывал ею в ту последнюю ночь), но особенно неприятно было то, что дядя Сандро в самом деле ждал от комиссара хотя бы скромного вознаграждения. Ну, скажем, хотя бы обещания оберегать во время боя дом его друга.
– …Да передай ты своим, – тут комиссар запнулся, потому что дядя Сандро особенно независимо и ловко щелкнул камчой по голенищу сапога, – что нам не страшно никакое меньшевистское пугало, и пусть больше с этим никто не приезжает, – закончил он, уже с ненавистью глядя на руку дяди Сандро, сжимающую камчу.
Возможно, от раздражения он чересчур сильно ударил ладонью стерженек умывалки и выбил его в бачок. Струйка воды безостановочно полилась. Интересно, что он сейчас будет делать, подумал дядя Сандро.
Комиссар ничего не стал делать, а неожиданно подставил голову под эту струйку, тем самым, как показалось дяде Сандро, намекая ему, что для красных никаких неожиданностей не бывает и он, комиссар, эту безостановочную струйку предвидел так же, как и деревянный броневик меньшевиков.
Дядя Сандро мог поклясться, что за мгновенье до удара по стерженьку комиссар ничего такого не предвидел, но доказать это было невозможно. Комиссар, сопя и потирая руками шею, держал голову под струей. Дядя Сандро ждал то ли конца струи, то ли когда комиссар, не дожидаясь конца, все-таки подымет голову.
– Он говорит, что они и так управятся, – пояснил хозяин по-абхазски, чтобы смягчить обстановку, и тихо прибавил: – Не щелкай камчой… Эти этого не любят…
Дядя Сандро был оскорблен приемом, но все-таки считал, что дело надо довести до конца, тем более что он еще не изложил комиссару главного, а именно как надо бороться с этой движущейся крепостью. Все же в знак обиды за плохой прием он решил с комиссаром по-русски больше не говорить.
– Скажи ему, – обратился он к хозяину, все же, несмотря на опасность, похлестывая камчой по голенищу, – чтобы они пулеметы под самый мост поставили.
Хозяин переводил и, делая страшные глаза, косился на щелкающую камчу, но дядя Сандро предпочел не заметить намека.
В это время комиссар уже поднимал голову, а юный часовой, окунув руку в бачок, шарил в нем, стараясь просунуть стерженек на место. Наконец стерженек с лязгом затвора выщелкнулся в отверстие, а комиссар, подняв голову, стал утираться полотенцем. Часовой опять отошел к крыльцу.
Комиссар, слушая перевод, все пристальней вглядывался в дядю Сандро.
– Это почему же я должен огневые точки менять? – спросил он, не спуская глаз со щелкающей камчи.
– Скажи ему, что в крепость нужно стрелять сбоку и снизу, потому что у солдат ноги высовываются по щиколотку, – сказал дядя Сандро и опять же кончиком плети провел по сапогу, показывая, до какого места высовываются ноги у меньшевистских солдат из-под деревянного броневика.
– Да припрятал бы ты свою камчу подальше, – успел проговорить хозяин дома, но было уже поздно.
– Марш отсюда! – заревел комиссар страшным голосом, и дядя Сандро услышал, как рука его зашуршала в поисках кобуры.
Кажется, дядя Сандро никогда так не пугался. Он почувствовал, что тело его все туже стягивается кожей, словно сама плоть старалась уменьшить себя, перепеленать, перетянуть, дожать себя до размеров кокона и притаиться в нем.
И в то же время он краем глаза видел, как рука комиссара продолжает шарить на боку, он успел решить, что, как только она вытащит пистолет, надо прыгать под дом (дом стоял на высоких сваях), пробежать под ним, перемахнуть через изгородь и дальше рвать огородом. Краем глаза он успел заметить огромное корыто для выжимки винограда, стоящее под домом, старую соху, прислоненную к нему, подумал, как бы не споткнуться о нее, заметил собаку, вернее, догадался, что серое бесформенное пятно, лежащее у корыта, это собака, и вдруг на долю секунды вспомнил, что в детстве вечно его чувяки из сыромятной кожи таскала собака и вот так, забравшись под дом, грызла их там часами. И вдруг это воспоминание как-то зацепило другую, более важную догадку, что комиссар без пояса и, значит, без пистолета, и сколько ни шарь он у себя на боку, все же в этот миг он выстрелить не сможет, а там видно будет.
– Товарищ комиссар, разрешите я его сниму, – сказал красноармеец и вскинул винтовку. Но тут очнулся хозяин и, бросившись вперед, загородил дядю Сандро.
– Нельзя, мальчик! Гость! Гость! – крикнул он, глядя на бойца и отчаянно махая перед лицом ладонью.
– Ладно тебе, – махнул комиссар своему часовому и обернулся на хозяина, – а своему гостю скажи, чтоб не вмешивался.
– Хорошо, дорогой, – сказал хозяин и потащил дядю Сандро на кухню.
– Плеткой играют, – вздохнул красноармеец, жалея, что не смог выразить свое возмущение более решительным способом.
В кухне у очага уже пылал большой огонь, и дядю Сандро к нему подсадили. Хозяин приказал достать водки, и через мгновенье жена его, быстрая и бесшумная, как летучая мышь, принесла бутылку розовой чачи, две рюмки и тарелку наломанных чурчхелин на закуску.
Только выпив подряд шесть-семь рюмок, дядя Сандро почувствовал, что к нему возвращается жизнь. Хозяин предложил ему дождаться мамалыги и поесть поплотней, но дядя Сандро встал.
Хозяин вывел его со двора и проводил до самого конца усадьбы. Дядя Сандро опасливо перешел двор. На веранде не было ни часового, ни комиссара, но в одном из окон горел свет.
Когда дядя Сандро сел на лошадь, он почувствовал, что хозяин как-то неловко замешкался.
– Сдается, хочешь что-то сказать? – спросил он у него.
– Ты не ошибся, – согласился хозяин и прибавил: – Сам видишь, что за время. Боюсь, что завтра здесь окажутся меньшевики… Как бы семья не пострадала за то, что у меня комиссар остановился…
Говоря это, хозяин так настойчиво заглядывал ему в глаза, что дядя Сандро понял, что тот имел в виду. А имел он в виду вот что: замолви у меньшевиков за меня словечко, а я, в свою очередь, прикушу язык, что ты сюда приезжал с военной тайной.
– С богом, – сказал хозяин и отпустил поводья лошади, которую он придерживал, пока разговаривал с гостем.
Дядя Сандро вскинул камчу и заспешил на левый берег. Луны уже не было видно, серел рассвет. Дядя Сандро шел очень быстрой рысью, потому что на этот раз не хотел рисковать переходить Кодор вброд, а решил подняться вверх по течению до парома.
Впоследствии дядя Сандро, вспоминая об этой встрече с комиссаром и не скрывая, что здорово струхнул, находил для своего состояния такое объяснение: раньше, по его словам, между гневом властей и хватанием за пистолет гораздо больше времени проходило и всегда можно было что-нибудь сообразить.
– А большевики, оказывается, с места в галоп берут, – говорил дядя Сандро, – а я тогда этого не знал и растерялся…
* * *
Следующий день выдался таким же ясным и погожим. С утра по всему селу перекликались коровы и телята, буйволицы и буйволята, овцы и ягнята, козы и козлята. И только ослы кричали сами по себе, и голос их был одинок, как голос пророка.
Многие очевидцы этого утра теперь утверждают, что скот села Анхара предчувствовал начало боя, хотя с достоверностью этого утверждения трудно согласиться, потому что он, то есть скот, по приказу командования и по собственному желанию крестьян, держался взаперти.
Если б его, как обычно, выпустили на выгон, может быть, он и не кричал бы. Но так как голодный скот, находясь взаперти, всегда дает о себе знать, теперь трудно установить, в самом деле он предчувствовал кровопролитие или нет. Тем более кровопролитие не своих собратьев, а именно людей, то есть тех, кто перерезает им глотки, сушит их шкуры на распялках и варит их мясо в огромных котлах. Так что, с какой стати он, то есть скот, должен предчувствовать человеческое кровопролитие и тревожиться по этому поводу, непонятно.
Ссылка на то, что скот перестал кричать, как только началась перестрелка, тоже ни о чем не говорит. Во-первых, после такого шумового воздействия, как перестрелка двух армий, что ни говори, скотина могла испугаться и замолкнуть. А с другой стороны, не исключено, что скотина и не замолкла, но просто ее перестали слышать за грохотом битвы. В конце концов, скотина могла замолкнуть из здравого смысла, то есть поняв, что пока люди что-то говорят друг другу своими хлопушками и трещотками, им, пожалуй, лучше помолчать, потому что все равно их никто не услышит.
По всему этому я думаю, что утверждения некоторых очевидцев, что скот села Анхара, проявляя массовое ясновидение, предсказывал бой, не имеет под собой серьезной научной почвы.
Итак, ровно в восемь часов утра меньшевики открыли сильный пулеметный и ружейный огонь по позициям красных. Наши отвечали им тем же, хотя, по скорбному наблюдению очевидцев, на этот раз их огневая мощь уступала противнику.
Через полчаса на глазах всего села Анхара из сарая выползло деревянное чудище и направилось в сторону моста. Сначала, проходя по селу, оно шло равномерно и грозно, но потом, на спуске возле моста, оно чересчур разогналось, ударилось о боковое перило и, выломав его, чуть не вывалилось в реку.
Внутри чудища, пока оно, потеряв управление, неслось на перила, говорят, раздавались вопли людей. Так что, возможно, оно, еще не успев поразить красных, покалечило кое-кого из меньшевистского отряда.
Когда чудище вышло к реке, стрельба с обеих сторон прекратилась. По-видимому, на красных произвели сильное впечатление размеры этого сооружения. Если красные перестали стрелять, изумившись этому первому и, может быть, последнему в мире деревянному танку, то меньшевики перестали стрелять, вероятно, для того, чтобы дать красным спокойно ужаснуться своему положению. Психологически это было верным шагом, во всяком случае, так находят знатоки военной тактики.
Но потом, когда танк (или чудище? или броневик? или крепость? дядя Сандро его все время называет по-разному), так вот, когда он раскатился и, проломив перила моста, чуть ли не на треть высунулся над рекой, а главное, когда послышались крики придавленных им своих же солдат, красные очнулись, и с того берега раздались довольно обидные для меньшевиков смех и улюлюканье. Для меньшевиков это было особенно обидно, потому что и то и другое было хорошо слышно жителям села Анхара.
Однако через некоторое время (переменчиво военное счастье) выяснилось, что смех и улюлюканье оказались преждевременными. Дело в том, что солдаты, находившиеся внутри крепости, сумели взять себя в руки, дать задний ход, выровнять свою машину и, помня издевательский смех и особенно улюлюканье, с удвоенной яростью ринулись на позиции красных. По словам дяди Сандро, меньшевики издевательский смех кое-как еще переносят, но улюлюканье приводит их в неимоверную свирепость.
Конечно, красные встретили приближающийся танк пулеметным и ружейным огнем, но это было все равно что по буйволу стрелять из рогатки. Наш каштан крепок, как железо. К тому же строительный материал, как мы знаем, был получен меньшевиками не по каким-то там казенным поставкам, а свеженьким, из рук в руки.
Надо сказать, что чудище не только приближалось, но и довольно густо поливало позиции красных ружейным огнем. Для этой цели между балок были проделаны смотровые щели. И когда оно стало подходить к той стороне моста, красные дрогнули, тем более что помнили свой издевательский смех и улюлюканье. Сначала побежали неопытные бойцы, по причине своей неопытности, а потом дрогнули и стыдливо побежали опытные бойцы, именно потому, что были опытны и никогда ничего такого не видели.
Правда, комиссару и командиру удалось остановить бойцов и создать новую линию обороны. Кто его знает, может, комиссар в эти минуты и жалел, что не послушался дядю Сандро, может, разговорись он с ним по-хорошему, дядя Сандро рассказал бы ему немало интересного о нравах эндурцев, в частности, дал бы ему знать, что улюлюканье в обращении с ними должно быть полностью исключено, хотя бы на время боя.
Может, теперь жалел обо всем этом комиссар, хотя, может, и не жалел, потому что в суматохе мог и не припомнить о предложении дяди Сандро, что в чудище надо было стрелять сбоку и снизу, потому что ноги солдат оставались по щиколотку открытыми.
Когда с левого берега заметили, что красные побежали, меньшевики ринулись за ними конными и пешими рядами. То ли порыв был так велик, то ли по мосту было двигаться все-таки опасно, но многие конники бросились в реку и стали переходить ее вброд, благо здесь она несколько шире и мелководней, чем там, где ее переходил дядя Сандро.
Тут кое-кого красные перебили, конечно, а кое-кого смыла вода, так что они сами захлебнулись. Все же большинство добралось до другого берега. Кстати, в самом конце моста деревянный танк одним задним колесом продавил настил и, осев, уже никак не хотел сдвинуться с места.
Именно эта заминка помогла красным укрепить новую линию обороны, но меньшевики были уже на том берегу.
Говорят, когда всадники вброд переходили Кодор, вдруг над всеми винтовочными выстрелами и трескотней пулеметов раздался страшный человеческий крик. Это кричала жена Кунты.
Сын Кунты сидел на белой лошади, и его все, кто из села следил за боем, видели. Видел его и дядя Сандро, который следил вместе с Михой за этим интересным сражением, стоя за одним из кипарисов, украшавших двор его друга. И так как дядя Сандро следил за происходящим в свой бинокль, он это видел лучше остальных.
Сын Кунты спустился вместе с остальными конниками к пойме Кодора и уже перешел один из ее мелких рукавов, как вдруг лошадь идущего впереди рванулась в сторону, сбросила своего всадника и помчалась назад.
Разгоряченный всадник вскочил и уцепился за хвост подвернувшейся ему белой лошади. Это был солдат, а не доброволец, потому что, по словам дяди Сандро, доброволец побежал бы за своей лошадью, а не стал бы цепляться за хвост чужой.
В бинокль было видно, как сын Кунты обернулся к нему и стал спорить, а лошадь, разбрызгивая гальку, крутилась между основным руслом и рукавом. Видно, они пришли к согласию, потому что Кунта остановил лошадь, солдат животом вспрыгнул на нее, лошадь пошла вперед и уже в воде солдат сумел перебросить ногу и усесться за спиной всадника.
Они прошли самую стремнину, когда вдруг лошадь и оба всадника исчезли под водой. Село ахнуло в один голос, но тут над водой, уже гораздо ниже, появилась голова лошади и две человеческие головы. Через мгновенье опять все исчезли, а потом появилась над водой одна человеческая голова. Было видно, как человек борется с течением, как его относит и относит вниз.
Он выплыл под самым мостом и, когда вылез на берег, по одежде все поняли, что уцелел солдат. Тогда-то и раздался страшный крик жены Кунты, видно, она до последнего мгновенья надеялась, что выплывет ее сын.
В тот день сражение окончательно перекинулось на ту сторону, и, когда до вечера оставалось два-три часа, жители Анхары решили выпустить на выгон проголодавшийся скот.
С неделю поблизости от этих мест шли упорные бои. Так рассказывают об этом учебники истории, ссылаясь на очевидцев, а также подтверждают очевидцы, отчасти ссылаясь на учебники истории.
Потом оборона красных была окончательно сломлена, и меньшевики прокатились по всей Абхазии. Абхазский реввоенсовет был вынужден послать Ленину телеграмму о помощи, после чего бойцы славной десятой армии разбили и отбросили противника из пределов Абхазии.
Но до этого, к сожалению, еще было далеко, как в описанный, так и на следующий день, когда дядя Сандро встретил Кунту на проселочной дороге.
Кунта шел с мокрым, разбухшим седлом за плечами. Увидев дядю Сандро, он молча остановился и уставился на него недоумевающим взглядом. Дядя Сандро и Миха, который его провожал, спешились и подошли к нему выразить соболезнование.
Кунта молчал. Дядя Сандро, глядя на его покрасневшие веки, на его большой, сейчас скорбный нос, на его жилистые кулаки, сжимавшие подпруги седла, с трудом удержался, чтобы не разрыдаться как женщина.
Оказывается, в нескольких километрах от села вынесло труп лошади. Кунта снял с него седло, чтоб не украли. Сейчас он нес его домой, откуда собирался выйти вместе с односельчанами на поиски тела сына, пойдет догонять меньшевиков, чтобы встретиться с тем парнем, что подсел к нему на лошадь.
– Зачем? – спросил дядя Сандро.
– Может, мальчик перед смертью ему что-то сказал, – проговорил Кунта и заплакал одними глазами. Слезы вместе с потом стекали по его лицу, и он время от времени утирал их кулаком, напряженно сжимавшим подпругу.
Что ему мог сказать дядя Сандро? Он молча обнял Кунту, и тот поплелся по дороге с мокрым старым седлом на плечах.
– Каким был вчера и какой сегодня! – вздохнул Миха, глядя ему вслед.
Дядя Сандро ничего не ответил, и они снова сели на лошадей.
Проводив дядю Сандро до выезда из села, Миха остановил лошадь и спросил у дяди Сандро:
– Что думаешь о красном комиссаре?
– Власть, – тихо сказал дядя Сандро и, подумав, добавил: – А другой не будет и не жди.
На этом друзья расстались. Дядя Сандро отправился к себе в Чегем, а Миха вернулся домой, удрученно думая о том, как, применяясь к новым условиям жизни, сохранить себя, свою семью и свою свиноферму.
Глава 6. Чегемские сплетни
В жаркий июльский полдень дядя Сандро лежал у себя во дворе под яблоней и отдыхал, как положено отдыхать в такое время дня, даже если ты до этого ничего не делал. Тем более сегодня дядя Сандро все утро мотыжил кукурузу, правда, не убивался, но все-таки сейчас он вкушал вдвойне приятный отдых.
Лежа на бычьей шкуре, положив голову на муртаку (особый валик, который в наших краях на ночь кладется под подушку, а днем, если захочется вздремнуть, употребляется вместо подушки), так вот, положив голову на муртаку, он глядел под крону яблони, где в зеленой листве проглядывали еще зеленые яблоки и с небрежной щедростью провисали то там, то здесь водопады незрелого, но уже слегка подсвеченного солнцем винограда.
Было очень жарко, и порывы ветерка, иногда долетавшего до подножия яблони, были, по разумению дяди Сандро, редки и сладки, как ласка капризной женщины. Разумение это было более чем неуместно, учитывая, что в двух шагах от него на овечьей шкуре сидела его двухлетняя дочка Тали, а жена возилась в огороде, откуда время от времени доносился ее голос.
Конечно, дядя Сандро мог переместиться под более мощную тень грецкого ореха, стоявшего с более подветренной стороны, куда струи далекого бриза долетали еще чаще, но зато там было больше мух и попахивало навозом по причине близости козьего загона.
Вот и лежал дядя Сандро под яблоней, пользуясь более редкими, но зато чистыми дуновениями прохлады, поглядывая то на яблоневую крону, то на собственную дочь, то прислушиваясь к редкому шелесту ветерка в яблоне, то к голосу жены с огорода, который, в отличие от скупых порывов ветерка, беспрерывно жужжал в воздухе. Жена его громко укоряла курицу, а курица, судя по ее кудахтанью, в свою очередь, укоряла свою хозяйку. Дело в том, что тетя Катя после долгих, тонких, по ее представлению, маневров выследила свою курицу, которая, оказывается, неслась за огородом, сделав себе гнездовье в кустах бузины, вместо того чтобы (по-человечески, как говорила тетя Катя) нестись в отведенных для этого дела корзинах, куда несутся все порядочные курицы.
Только что наконец застукав ее на месте преступления, если можно назвать преступлением высиживание собственных яиц, пусть даже в кустах бузины, поймав ее за этим подпольным занятием, она согнала ее с яиц, переложила все четырнадцать в подол и сейчас через огород возвращалась во двор с этим трофеем.
Придерживая одной рукой подол, она шла, приглядывая за огородом: то вырвет мощный сорняк, вдруг нахально возросший среди грядок, то изменит пагубное направление роста тыквенных или огуречных плетей, при этом продолжая главную тему, то есть разоблачение неблагодарной курицы, она и сорняку успевала бросить ехидное замечание: «Как раз для тебя я унавозила и всполола эту грядку» – и тыквенной плети указать свое место: «Нечего тянуться куда тебя не просят…»
Все это время курица шла за нею, громко и столь же бесполезно требуя вернуть ей недосиженные яйца. Когда в кудахтанье курицы появлялись особенно истерические ноты, тетя Катя прерывала свой монолог, чтобы бросить ей:
– Да… Да… Испугалась… Сейчас тебе выложу твои яйца…
Дядя Сандро, лежа под яблоней, прислушивался к ее медленно приближающемуся голосу, удивляясь неистощимой способности своей жены разговаривать с неодушевленными предметами – растениями, птицами, животными.
Сейчас по новому заходу она говорила о том, что если уж ты честная курица и не хочешь нестись так, как несутся остальные, то тогда хотя бы не беги впереди всех, когда твоя хозяйка сзывает кормить птиц, а питайся в лесу, как питаются другие дикие птицы, рискующие каждое мгновение попасть в лапы лисы, ястреба или еще кого-нибудь там. Тут она пошла по новому ответвлению темы и стала высказывать догадку, почему и каким это образом до сих пор лиса не слопала все эти яйца вместе с этой дурочкой, и пришла к выводу, что, по-видимому, лиса ждала, чтобы цыплята стали вылупляться.
Тут дядя Сандро не выдержал и, не дожидаясь еще какого-нибудь ответвления темы, прикрикнул на нее, чтобы она замолкла, а там, глядишь, и курица успокоится. Или еще лучше сходила бы к роднику за свежей водой да и увела бы эту крикунью, а там – и вы по дороге наговоритесь, и мы здесь без вас отдохнем.
Не успел он это договорить, как тетя Катя, как раз взобравшаяся на перелаз, чтобы сойти во двор, крикнула:
– Ша! Кто-то к нам идет от родника!
– Чего это ты там еще? – спросил дядя Сандро, слегка приподымая голову с валика-муртаки. Он оглядел верхнечегемскую дорогу в тех местах, где она виднелась в просветах между деревьями, но ничего там не увидел.
– Прямо от родника подымается кто-то чужой! – сказала тетя Катя и, уже сердясь на свою курицу, продолжавшую кудахтать про старое, не понимая, что хозяйка ее теперь занята совсем другим, прикрикнула на нее:
– Да замолкни ты, унеси тебя ястреб!
– Какой там еще чужой, – удивился дядя Сандро нелепости предположения, чтобы от родника подымался кто-нибудь чужой. Да такого и сроду не бывало! Чужой человек может появиться на верхнечегемской или нижнечегемской дороге, а так разве что из самой пещерки родника выскочит!
– Да ты хоть задницу подыми! – крикнула тетя Катя со своего перелаза, и тогда дядя Сандро в самом деле встал и увидел, что по тропе, идущей от родника, подымается какой-то человек.
– Кто бы он ни был, с нехорошей вестью подымается, – сказала тетя Катя, все еще стоя на перелазе и придерживая одной рукой подол. Курица уже перелетела плетень и кудахтала, глядя на тетю Катю со двора.
– Никак это племянник Щащико! – навострившись, узнал путника дядя Сандро. – Только как он оказался у родника?!
– Ну, тогда все ясно, – сказала тетя Катя, все еще стоя на перелазе, – бедный Щащико, наконец-то его подстерегли и убили!
– Да откуда ж ты знаешь, что он горевестником идет, – сказал дядя Сандро, приглядываясь к мрачной фигуре племянника знаменитого абрека Щащико. В самом деле, не с доброй вестью приближался этот парень.
– Так и будем стоять с задранным подолом? – спросил дядя Сандро у своей жены, все еще стоявшей на перелазе.
Тетя Катя быстро слезла с перелаза и, увлекая за собой квохчущую курицу, отправилась к тыльной стороне кухни, где рядком висели корзины, предназначенные яйценоскам, и выложила в одну из них подобранные в бузине яйца.
Курица еще сильней закудахтала, выражая нежелание взлетать в эту корзину.
– Взлетишь, – злорадно отвечала ей тетя Катя, – чтоб я твои крылья перебитыми увидала…
– Чтоб вас куриный мор, – отозвался дядя Сандро из-под своей яблони, голосом показывая, что не делает различия между курицей и ее хозяйкой, до того обе они ему надоели.
А между тем мрачный посланец Азраила уже проходил скотный двор, и дядя Сандро вышел ему навстречу, открыл ворота и, придав своему облику приличествующую моменту скорбь, впустил его во двор.
Тетя Катя, пересекая двор, тоже приближалась к предполагаемому горевестнику, издали репетиционно бубня обрывки надгробного плача с нарочито, по случаю полного отсутствия информации, затемненным смыслом, из которого высовывались небольшие членораздельные куски: бедный Щащико… Несчастная его мать… Прикончили его бешеные собаки…
Дядя Сандро пригласил молодого человека в дом, но тот наотрез отказался, и тогда дядя Сандро понял, что тут что-то другое, и в качестве смягченного варианта гостеприимства пригласил его под тень яблони, и тот не весьма охотно последовал туда за дядей Сандро.
Дядя Сандро усадил его на бычью шкуру, а сам, присев рядом с дочкой на овечью шкурку, стал спокойно ждать, что скажет гость. Но конечно, пока гость собирался с мыслями, тетя Катя не утерпела и спросила:
– Как же они убили нашего бедного Щащико?
– Щащико жив, – отвечал его племянник, – но я к вам по другому делу… Дай бог, чтоб оно хорошо кончилось…
– Что за дело? – скупо, как и положено, спросил дядя Сандро, потому что слишком большой интерес к неизвестному еще делу может вызвать у вестника этого дела нежелательное впечатление излишней заинтересованности.
Так оно и оказалось. Парень этот скорбным голосом сообщил, что до Щащико дошли слухи, что дядя Сандро кому-то говорил, что собирается в один из дней, когда Щащико придет к ним в дом, предать его и сдать властям живым или мертвым. Не скрою, добавил парень, Щащико страшно разгневан, и, чтобы не пролилась кровь, дядя Сандро должен найти убедительные доказательства своей невиновности.
– Что ж он, как бешеная собака, стал на своих кидаться?! – запричитала тетя Катя, забыв, что за минуту до этого образ бешеной собаки был использован ею в совершенно противоположном смысле.
– А он подумал, – добавил дядя Сандро спокойным голосом, – зачем мне надо было предавать моего родственника, самого смелого абрека Абхазии?
– Да, подумал, – отвечал племянник, – ему сказали, что власти за это предательство простят вашему дому, что вы столько раз принимали у себя его и других абреков.
– Неплохо придумано, – согласился дядя Сандро, – но ни власти мне такого не предлагали, ни я им тем более…
– Вот это ты ему и скажи, – ответил племянник, стараясь быть доброжелательным к дяде Сандро и в то же время достойно представлять интересы своего знаменитого дяди.
– …Он ждет тебя под орехом над родником, – добавил он после некоторой паузы.
– Хорошо, – сказал дядя Сандро, вставая, – иди, я вслед за тобой приду.
– Прости, Сандро, – ответил юноша, тоже вставая, – но дядя приказал нам прийти вместе.
– Ого, – сказал дядя Сандро, – выходит, он меня уже арестовал?
Племянник пожал плечами, что означало, мол, так оно и есть, но я не осмеливаюсь произнести эти слова.
– Хорошо, – согласился дядя Сандро и, показывая на свои босые ноги и слегка закатанные галифе, добавил, – сейчас переоденусь и выйду.
С этими словами он вошел в дом. Он переодел рубашку, сменил брюки и сунул в них свой старый «смит-вессон», предварительно проверив курок.
– Эй, ты, – крикнул он своей жене, высунувшись в окно, – найди-ка мне мои новые брюки!
Жена по голосу поняла, что он хитрит, и поспешила к нему.
– Неужто пойдешь на заклание к этому убийце, – шепотом запричитала она, войдя в комнату и чувствуя, что надо мужу чем-нибудь помочь.
Дядя Сандро кивком показал ей, что он одобряет ее причитания, что сейчас они полезны и могут быть даже более звучны.
– Зайдешь в сарай, – сказал он при этом тихо, – скажешь брату, чтобы он брал свою винтовку и незаметно лесом вышел напротив родника, где я буду разговаривать с Щащико… Пусть все время держит его под прицелом, а если я не смогу уговорить его и он схватится за оружие, пусть брат стреляет… Только чтобы отец ничего не знал…
– Может, лучше сказать? – вставила жена и снова запричитала.
– Все испортишь, – ответил дядя Сандро, – надо сейчас сразу все решать.
Дядя Сандро понимал, что, если отец что-нибудь пронюхает, он придет к роднику, выругает Щащико и, может быть, даже даст ему собственной винтовкой под зад, и тот ничего не посмеет ответить. Такова сила патриархального воспитания: уважение к старости. Но зато потом, когда Щащико уйдет в лес, обида его будет накапливаться, и тогда в один прекрасный день он может убить его, и без предупреждения.
Дядя Сандро вышел на крыльцо, вымыл ноги, обулся и, спускаясь с крыльца, сделанного из трех больших каменных плит, каждую щербинку которого он помнил с детства, вдруг подумал: «Неужели я всего этого больше не увижу?»
Не может быть, сказал он себе, и, легко спрыгнув с крыльца, поймал дочурку, которая сейчас бежала по двору за бабочкой, подкинул ее, поцеловал, поставил на ноги и кивнул ждущему посланцу абрека:
– Пошли!
– Валико, прошу как брата, сделай что можешь, – причитала тетя Катя, провожая их до ворот.
Племянник на мгновенье размяк и, обернувшись, сказал:
– Не беспокойся, тетя Катя, Щащико очень сердит, но он разума не потерял.
Как только они скрылись за воротами, тетя Катя, по-видимому, не очень рассчитывая на разум абрека, побежала в сарай, где старый Хабуг вместе с сыном Исой варили водку из диких груш. Старика в это время в сарае не было. Брат дяди Сандро, поклевывая носом, сидел у самогонного аппарата и следил, как по соломинке в бутылку стекает водка. Тетя Катя присела рядом с ним на корточки, тряхнула его и рассказала все, что просил ее муж передать брату.
– Чистый зверь идет, – сказал тот, выслушав тетю Катю и кивая на алкоголь, стекающий по соломинке в бутылку.
То ли от долгого дежурства у самогонного аппарата, то ли от бесконечных проб первача брат дяди Сандро как-то отупел и, кажется, не очень понял, о чем говорит тетя Катя. Он даже нацедил рюмку первача, чтобы дать попробовать.
– Да ты понял, о чем я тебе говорила?! – крикнула ему тетя Катя, отталкивая его руку с подношением.
– А что ж тут понимать, – отвечал ей Иса, – мне делишки твоего Сандро с детства надоели… Последи тут, чтобы змеевик не перегревался…
Он выпил отвергнутую тетей Катей рюмку водки, встал на ноги и вышел из сарая. Ему надо было дойти до своего дома, расположенного на вершине холма, и леском спуститься до родника. Оттуда было примерно такое же расстояние до родника, как и от Большого Дома.
Пока с одной стороны дядя Сандро вместе с племянником Щащико двигаются к роднику, а брат дяди Сандро спешит к своему дому за ружьем, чтобы спуститься туда же под прикрытием леса, мы постараемся вкратце изложить историю знаменитого абрека Щащико.
Я долго думал, стоит ли рассказывать, как и почему Щащико стал абреком. Не потускнеет ли этот романтический образ, о котором я столько слышал с детства?
И все-таки после долгих раздумий и взвешиваний я решил – пусть потускнеет его образ, но мы останемся верными правде. Но в чем же дело, почему мне так дорога правда, тем более в нашем деле, где что-то сгущается, что-то сбрасывается, а что-то обобщается?
Да, можно обобщать, и сгущать, и пропускать, но только в том случае, если живое чувство подсказывает нам, что мы этим способствуем делу правды. Но если я чувствую, что солгал хотя бы посредством умолчания, я теряю всякую охоту писать и рассказывать. Но почему?
Каждый человек, которому дано, хотя бы на мгновенье, высунуться из житейской суеты, сознает нешуточность данного ему судьбой дара жизни. Он не может не понимать, что дар этот ограничен во времени и надо использовать его наилучшим образом.
Между прочим, прожигатели жизни – это не люди, которые махнули рукой на дар жизни, а люди, которые так понимают ценность жизни и последовательно осуществляют накопление этой ценности.
И так человек, осознавший нешуточность данного ему дара жизни, ее таинственную временность, во что бы то ни стало стремится уравновесить чашу весов с тяжестью этого страшного понимания, бросая на другую чашу серьезный жизненный замысел.
Жить – это попытка осуществить серьезный замысел. Чем тяжелее на одной чаше весов тяжесть страшного понимания временности нешуточного дара жизни, тем сильнее намеренье уравновесить эту чашу самым серьезным делом жизни. И так человеку от природы дано стремление уйти от праха, от уничтожения, от небытия через серьезное дело жизни.
Но если мы взялись рассказ о жизни сделать своим жизненным делом, то правдивость этого рассказа есть самый безусловный и наглядный показатель этого намерения. Таким образом, правдивость рассказчика нужна самому рассказчику прежде всего, это форма его борьбы с собственным распадом, можно сказать, божественный эгоизм собственного бытия.
Это длинное рассуждение мне понадобилось только для того, чтобы сказать, что Щащико стал абреком, убив несчастного портного из села Джгерды, где он жил. Я сам об этом узнал гораздо позже, чем обо всех остальных его подвигах, и этот неприятный факт никак не хотел укладываться в его суровый романтический облик.
Но по причинам, которые я только что изложил, приходится говорить и об этом.
Итак, Щащико, будучи шестнадцатилетним юношей, правда, уже тогда не по годам возмужавшим, высоким и красивым, заказал себе черкеску у местного портного в селе Джгерды.
Портной этот, как потом рассказывали, зная, что с деньгами у заказчика туговато, медлил с пошивкой черкески, и после трех или четырех невыполненных обещаний вспыльчивый и самолюбивый юноша вернулся домой, взял отцовскую винтовку, пришел в дом портного и застрелил его.
С этого все началось. Он ушел в лес, где присоединился к старым опытным абрекам. Годы шли, и через несколько лет он сам превратился в опытного абрека. Несколько раз его пытались окружить полицейские наряды, но он всегда уходил от них, оставляя двух-трех раненых, а то и убитых.
От постоянной опасности и долгой жизни в дебрях лесов он одичал и сделался невероятно чутким ко всякого рода запахам и звукам. Говорят, в лесу он запах человека улавливал за двести-триста метров.
Однажды дядя Сандро вместе с ним, перевалив через Кавказский хребет, угнал большую отару овец у одного богатого адыгея. Уже на третий день, когда они выбрались в Абхазию и шли по каменистой горной тропе, Щащико вдруг остановился, к чему-то прислушался и с криком «Ложись!» сам бросился на землю. Дядя Сандро шлепнулся вслед за ним и почти одновременно услышал, как несколько пуль цвиркнули над ними, и только после этого до них донеслись выстрелы. Оказывается, преследователи их обогнали и вышли вперед. Тогда им едва удалось унести ноги и спасти часть угнанной отары.
Тот, кто думает, что человек, скрывающийся в лесу, превращается в пантеиста, глубоко ошибается. Нервное истощение, вызванное чувством постоянной опасности, пониманием, что тебя могут загнать и затравить, как зверя, развивает бешенство и беспощадность.
Однажды Щащико попал в засаду, когда тайком пришел ночью к себе домой, вымылся, переоделся и сидел за домашним ужином.
Вдруг у ворот раздался голос полицейского офицера:
– Щащико, сдавайся, дом окружен!
Дом стоял таким образом, что один конец веранды нависал над обрывом, поросшим непроходимыми зарослями ежевики и терновника. Это была единственная свободная от засады сторона дома. На это Щащико и рассчитывал.
– Щащико, сдавайся! – снова раздался зычный голос полицейского офицера. Погасив лампу, Щащико уже стоял возле дверей, держа наготове свою боевую винтовку.
Когда второй раз раздался голос офицера, он одним ударом ноги распахнул дверь, выстрелил наугад, на голос в темноту, и, пригнувшись, побежал к концу веранды и с ходу бесстрашно спрыгнул в обрыв.
Как только Щащико, распахнув дверь, выстрелил, почти одновременно раздался выстрел офицера, который, видимо, был хорошим стрелком и дверь держал под прицелом.
Пуля офицера попала Щащико в большой палец правой руки, а Щащико, оказывается, убил его своим выстрелом. Как только раздался первый выстрел, град пуль обрушился на дом, и отец Щащико, решив, что сын его убит или ранен, вышел из комнаты и был тут же убит новым залпом. А между тем Щащико, благополучно спрыгнув в обрыв, куда и днем никто не решался спускаться, выскочил из засады.
Преследователи, дождавшись утра, кружным путем спустились в обрыв, уверенные, что он там лежит изрешеченный пулями или, по крайней мере, со сломанной шеей.
Через некоторое время они напали на кровавый след и бодро пошли за ним, но довольно быстро приуныли, потому что след этот привел не к трупу абрека, а к его большому пальцу. Палец этот, перешибленный пулей и едва державшийся на кисти, Щащико отсек ножом и, обмотав кровоточащую кисть башлыком, пошел дальше.
С этим странным трофеем, явно не равноценным трупу офицера, преследователи возвратились в Кенгурск. В полицейском участке палец был опущен в бутылку со спиртом то ли для всеобщего обозрения, чтобы полицейские, глядя на мертвый палец абрека, привыкали чувствовать над ним свое живое превосходство, то ли для отчетности перед высшим начальством, как доказательство того, что хотя бы этот телесный осколок удалось отбить от неуловимого абрека.
В тот же день к вечеру, шагая сквозь самые непроходимые заросли, Щащико прошел около сорока километров и добрался до дома того самого князя, где дядя Сандро когда-то любил и был любим княгиней. К этому времени, по словам дяди Сандро, любовь его перешла в мирную дружбу.
Принять раненого абрека в те времена считалось делом чести даже для княжеского дома.
Рана быстро зажила, а княгиня так же быстро, а может, еще быстрей, приспособила молодого абрека на место дяди Сандро.
Чтобы скрыть от окружающих подозрительное пребывание в доме почтенного князя уже не раненого, а вполне здорового абрека, она посватала за него свою юную родственницу, которая страстно влюбилась в него. Была сыграна полуподпольная свадьба, после чего молодые были оставлены в доме князя для проведения медового месяца.
Неизвестно, как долго и в какой дозировке делился этот мед, но наконец беременная жена молодого абрека переехала к себе домой, а сам абрек был задержан княгиней, которая вела себя еще более неистово и неосторожно, чем при дяде Сандро, забывая, что Щащико, в отличие от дяди Сандро, государственный преступник.
Но кто знает тайны женской страсти? Может, угроза убийства, висевшая над молодым абреком, вызывала в ней волны дополнительной нежности, желание поплотнее прикрыть его своим телом от полицейских пуль, сжать, защитить и упрятать его в свое любвеобильное женское лоно.
Князю стали нашептывать. В один прекрасный день он уехал в многодневный охотничий поход, но неожиданно, ни свет ни заря, вернулся на следующий день и застал Щащико у себя в спальне.
Позже Щащико говорил, что он почувствовал опасность и за час до прихода князя хотел улизнуть из дому в свое тайное убежище в лесу, откуда он время от времени появлялся в доме князя. Но проклятущая княгиня его не отпускала, и он вынужден был, сгорая от стыда, покинуть хлебосольный и, главное, безопасный дом князя навсегда.
К тому же родственники, а именно братья юной жены Щащико, до которых, конечно, докатился слух о случившемся, были оскорблены, и к многочисленным врагам абрека прибавились эти гордые и достаточно мстительные люди.
Нет слов, чтобы передать стыд, боль, горе его юной, влюбленной в него жены. Как и всем чистым людям, не способным на коварство и вероломство, ей и в голову не приходило, что эта женщина, почти в два раза старше ее мужа, могла совратить его, да еще женить на своей родственнице, чтобы скрыть свое преступление. Между прочим, князь, как это бывает с очень миролюбивыми людьми, наконец взорвался с неожиданной силой. Он прогнал княгиню из дому, и она вынуждена была переехать в Мухус к своей сестре.
Правда, после этого она еще два-три раза возвращалась в деревню и пыталась штурмом водвориться в собственный дом, но князь при поддержке своих уже достаточно взрослых сыновей умело отбивался от этих трагикомических атак, и княгиня, порядочно избитая, каждый раз вынуждена была возвращаться в город, где в конце концов окончательно притихла. По рассказу моей матери, когда она выходила замуж и прибыла в город в сопровождении, как это у нас водится, нескольких мужчин и женщин из числа близких людей, на свадьбе в доме моего отца ее ждала княгиня, уверенная, что Щащико воспользуется этим случаем и обязательно приедет в город, чтобы увидеться с ней. По словам мамы, она прямо-таки погасла, увидев, что среди окружающих маму людей его нет.
Как же надо было любить, даже учитывая ее природное легкомыслие, чтобы ожидать появления абрека, которого ищут уже больше десяти лет, в самом центре Абхазии, в Мухусе?! Или она думала, что за пределами Кенгурийского района он уже личность неприкосновенная?
Бедная княгиня, простим ей ее грехи, ведь ради своей безумной любви она потеряла покой, и доброе имя, и высокое в масштабах нашего края общественное положение.
Впрочем, с добрым именем мы явно преувеличили, но остальное она потеряла точно.
Интересно, что дядя Сандро, вспоминая любовников княгини, в том числе и себя, всегда признавал, что Щащико она любила больше всех. Об этом он говорил с эпическим бесстрастием Гомера. Но дядя Сандро не был бы дядей Сандро, если бы тут же не вносил в свое утверждение долю сомнения. Так, отдавая должное ее бурному темпераменту, он не раз намекал, выражаясь современным языком, на ее некоторую сексуальную малограмотность. Так что в конце концов получалось: понимай все это как хочешь.
Теперь, дав некоторое представление о жизни молодого абрека, мы возвратимся к началу нашего рассказа, где он, расстелив бурку, сидит над родником у подножия огромного ореха с рукой на прикладе боевой винтовки и в этой позе, не предвещающей ничего хорошего, ожидает дядю Сандро.
Дядя Сандро вместе с племянником абрека приближался к нему, но тот, хотя и слышал их шаги, не оборачивался, может быть, лишний раз выражая этим презрение к дяде Сандро.
– Добром тебя, – сказал дядя Сандро, подходя к сидящему абреку и мысленно отмечая, где бы мог сидеть в засаде его брат, чтобы вовремя выстрелить оттуда.
Щащико сидел на зеленом холмике прямо над обрывистым склоном высотой метров пятнадцать, из-под которого вытекал родник, огороженный плетнем, чтобы скот не пил воду там, где берут ее люди. Над ним до самого дома Исы возвышался зеленый косогор, слева переходящий в густой заколюченный лес. Там-то и мог притаиться остроглазый брат дяди Сандро.
– Добром тебя, – повторил дядя Сандро приветствие и, обойдя сидящего, остановился перед ним в достаточно почтительной, но, главное, никак не заслоняющей цель в случае необходимости выстрела из лесу, позе.
– Добром или худом встречаешь гостей – узнаем, – сказал абрек, слегка косясь в его сторону и не поворачивая головы. Дядя Сандро стоял чуть ниже и чуть левее абрека и понимал, как легко будет Щащико, если дело дойдет до этого, вскинуть винтовку и убить его. Надо выиграть время, думал дядя Сандро, чувствуя, что надежда на брата укрепляет его душевные силы.
– Неужели из-за этой княжеской суки ты хотел продать меня? – наконец спросил Щащико, поглядывая на дядю Сандро снизу вверх, но с таким чувством превосходства, что, казалось, он откуда-то сверху смотрит на дядю Сандро.
– Дела мои с княгиней закончились задолго до тебя, – отвечал дядя Сандро с достоинством, – и не надо княгиню оскорблять, тем более она через тебя пострадала…
– Тогда как же ты посмел сказать то, что сказал? – спросил он, и в глазах его сверкнуло бешенство загнанного зверя.
– Я никогда такого не говорил, – отвечал дядя Сандро как можно спокойней, – тебя обманули…
– Ты говорил! – рыкнул Щащико. – Тот, кто передал мне это, не посмел бы солгать. Выходит, ты, сын Хабуга, человека, прославленного своим хлебосольством, впускал меня в свой дом, сажал меня за свой стол, чтобы потом убить меня, как убивают больную собаку, сначала накормив ее до отвала?!
– Успокойся – собрав все свои силы, сказал дядя Сандро, – это клевета.
– Клевета?! – грозно повторил Щащико и кивнул своему безмолвному племяннику: – Поди приведи его!
Племянник молча спустился с обрывистого склона и пошел по тропинке, ведущей в лес. Интересно, кого они там припрятали, подумал дядя Сандро, глядя вслед уходящему племяннику.
Минут через двадцать на тропе снова появился племянник в сопровождении местного лесника Омара, человека вздорного и дурноязыкого.
Во время Первой мировой войны Омар ушел добровольцем в Дикую дивизию, и, когда после войны приехал домой с Георгиевским крестом и умением кое-как говорить и читать по-русски, его здесь назначили лесничим.
Известен он еще был тем, что подживал с женой своего младшего брата, Кунты, глуповатого человека, у которого односельчане часто спрашивали для подначки:
– Чего это твой брат все не женится?
– На готовенькое привык, – отвечал тот охотно и громогласно, – с казенной службы, видать…
И вот теперь этот Омар идет в сопровождении племянника Щащико, подымается по обрывистому склону, и на нем лица нет, а дядя Сандро думает, что же будет, если Щащико поверит этому негодяю? А если он не поверит ему и захочет прикончить его? А если тот, на случай дурного исхода, вот так же, как и он, Сандро, предупредил своего брата и тот сейчас прячется в лесу? Не перестреляют ли они все друг друга?
Омар тихо поднялся и, опустив повинную голову, остановился возле Щащико.
– Повтори, что он говорил, – попросил Щащико. Омар, побелев, как ствол бука, опустил еще ниже голову.
– Ну?! – Щащико ерзнул на бурке, приподнял свое ружье и снова бросил на бурку.
Омар тихо замотал головой.
– Онемел?! – рявкнул Щащико.
– Прости, Щащико, – тихо сказал Омар, – мне примерещилось.
– Примерещилось?! – переспросил Щащико бешеным шепотом.
– Примерещилось, что послышалось, – пояснил Омар, не подымая головы.
– Примерещилось, что послышалось?! – повторил Щащико и, не глядя, нащупал правой рукой винтовку, перекинул ствол в левую и стал подыматься. Медленно вставая он распрямился перед маленьким лесником, воевавшим на многих фронтах мировой войны, а сейчас не имевшим сил шевельнуться перед огромным абреком с бешеными синими глазами и с австрийской винтовкой в руке, на изъеденном шашелем ложе которой было четырнадцать полос, процарапанных острым краем гильзы.
– Так ты знаешь, что тебе за это будет?
– Знаю, – прошептал Омар, не подымая глаз.
– Что? – спросил Щащико и стал медленно подымать винтовку.
– Смерть, – тихо сказал Омар, не подымая глаз.
Ну, если брат у него в засаде, подумал дядя Сандро, сейчас начнет палить да еще сдуру попадет в меня… Он незаметно сделал шаг в сторону, подальше от Щащико.
– Эй, вы! – вдруг раздался голос тети Маши. Дом ее был расположен прямо против родника на небольшой возвышенности.
Сейчас она стояла у плетня, огораживающего двор, и смотрела в сторону родника. Так как Щащико и участники этой сцены со стороны родника были прикрыты зарослями ольшаника, она их не видела, но до нее смутно доходили голоса говоривших. Щащико приходился ей довольно близким родственником, и она узнала его голос.
– Сдается, что слышу Щащико, если я не оглохла! – крикнула она, не дождавшись ответа на свой предыдущий оклик.
– Да, я! – неожиданно ответил Щащико и опустил винтовку.
– Совсем одичал в лесу, – заверещала тетя Маша, – в зверя превратился… Уж если ты вышел к нам на водопой, подымись, мы тебя угостим чем-нибудь покрепче воды.
– Сейчас подымемся, – посмотрев на дядю Сандро, вдруг сказал Щащико, – тут покончить с одним дельцем надо.
– Кончайте и подымайтесь! – крикнула гостелюбивая тетя Маша и ушла в глубь двора.
– Повернись спиной, – приказал Щащико, и Омар тихо повернулся.
– До конца дней благодари Машу за жизнь, – добавил он и неожиданно с такой силой пнул его ногой под зад, что Омар, пролетев в воздухе несколько метров, рухнул на крутой склон, крякнул, прокатился до его подножия, вскочил и, отряхнувшись, как собака, быстрыми шагами скрылся на лесной тропе.
– Однако живучий, – удивился абрек.
– Они все такие – псиный род, – пояснил дядя Сандро.
– Забыли обо всем? – повернулся к нему Щащико.
– А что помнить? – пожал плечами дядя Сандро, показывая, что не придает значения тому, что произошло между ними.
– Цып! Цып! Цып! Цып! Цып! – раздался со двора мирный и настраивающий на мир голос тети Маши, сзывающий кур, явно, чтобы поймать одну из них и зарезать по случаю приглашения Щащико.
Большой рыжий петух, поспешив из кукурузника на ее голос, вскочил на плетень, чтобы перелететь во двор, и, кажется, уже взлетал, когда Щащико вдруг, вскинув винтовку, выстрелил. Тело петуха взметнулось и, брызнув фонтаном золотистых перьев, рухнуло на землю.
И сразу же бешено закудахтали куры, забулькали индюки, залаяла собака, запричитала тетя Маша, жалея петуха, а через несколько секунд раздался из Большого Дома тревожный голос тети Кати, спрашивающей, что это за выстрел и не убил ли ее мужа Щащико.
Тетя Маша в это время подобрала убитого петуха и посмотрела в сторону родника, где один за другим спускались по тропке дядя Сандро, Щащико и его племянник.
– Жив твой петух, жив, – крикнула тетя Маша, отгоняя собаку, принюхивавшуюся к убитой птице, – вот моего петуха прикончил, дуралей…
Дядя Сандро и Щащико, слышавшие крик тети Кати и ответ тети Маши, которая с петухом в руке прошла на кухню, посмеялись и стали спускаться вниз к роднику, чтобы оттуда подняться к ее дому.
Внезапно Щащико повернулся и, подмигивая дяде Сандро, кивнул своему племяннику в сторону леса:
– Скажи его брату, пусть вылезает оттуда и принесет нам хорошего первача.
– Откуда ты узнал, что он там? – смеясь, спросил дядя Сандро.
– С мое посидишь в лесу – страх уши промоет, – отвечал абрек.
Племянник повернулся и пошел к лесу, а дядя Сандро и Щащико поднялись к дому тети Маши. Две ее богатырские девочки, выскочившие из кухни, бросились им навстречу, и Щащико, наклонившись, поднял их, и одна из них уселась ему на плечо, а другая, вцепившись крепкими ручонками ему в волосы, так и висела на нем. Слегка искаженное гримасой лицо абрека выражало не столько боль, сколько сладострастное удовольствие, вызванное, как понимал дядя Сандро, тоской по дому, по своему домашнему очагу.
Видно, он сюда захаживал и без моего ведома, подумал дядя Сандро.
– Что ж ты зовешь мужиков в дом, когда мужа твоего нету дома! – шутливо крикнул Щащико, входя в кухню, и, наклонившись, осторожно стряхнул девочку, вцепившуюся ему в волосы, и ссадил вторую. Он скинул бурку и отбросил ее в угол, после чего снял винтовку и, осторожно прислонив ее к стене, сел у окна рядом с ней. Дети снова кинулись его теребить, и дядя Сандро подумал, что дети хорошо чувствуют изголодавшихся по ним людей.
– Ничего, – помедлив, отвечала тетя Маша и, вынув из чугунка с кипятком петуха, принялась ощипывать его, – братья мужа вокруг… защитники.
И то, что водку варим, знает, и то, что мужа Маши нету дома, знает, отметил про себя дядя Сандро, усаживаясь возле огня рядом с абреком. Ай да племянничек, подумал дядя Сандро, напустил на себя важность горевестника, а сам сначала обошел все дома нашего выселка и узнал, кто из мужчин дома и что он делает.
Вскоре тетя Маша поджарила петуха, сварила мамалыги, а тут и племянничек пришел, ведя за собой несколько смущенного брата дяди Сандро, державшего в руках по бутылке грушевой водки.
Сначала смущение его было понятно, как естественное смущение человека, который сидел в засаде, ожидая удобного момента, чтобы выстрелить в человека, с которым теперь ему предстояло сидеть и пить. Однако во время застолья выяснилась более сложная причина его смущения, что на некоторое время даже как-то оскорбило дядю Сандро.
Оказывается, племянник Щащико, войдя в лес напротив родника, нашел там брата дяди Сандро, который, увы, мирно спал, положив под голову свое ружье.
Больше всего дядю Сандро взбесило то обстоятельство, что брата его не разбудил даже выстрел, убивший петуха. Этот выстрел, сложись обстоятельства похуже, мог убить и глупого лесничего, а сложись обстоятельства совсем плохо, и самого дядю Сандро.
Брат дяди Сандро в свое оправдание говорил, что сначала он осторожно следил за всем, что происходит, и все время держал на мушке (чего уж скрывать!) нашего именитого гостя, но потом, когда ушел племянник, он решил, что ничего страшного не будет, и уснул. К тому же он добавил, что сутки не смыкает глаз возле самогонного аппарата. По поводу незадачливого брата дяди Сандро долго смеялись, то так, то этак примеривая его мирный сон.
– Вот было бы смеху, – говорил Щащико, как абрек несколько раздвигая границы юмора, – если б я, убив нашего Сандро, подложил его труп рядом со спящим братом…
Дядя Сандро смеялся вместе со всеми, хотя, честно говоря, ему эта картина не казалась такой уж смешной. Не успели они отсмеяться по поводу этой мрачной шутки Щащико, как в кухню вошла жена дяди Сандро и, послушав взрыв смеха (терпеливо, но и без всякой попытки присоединиться к нему), обратилась к мужу и сказала ему постным голосом:
– Домотыжил бы тот участок, раз уж он тебя не убил…
Эти слова придали новые юмористические силы шутке Щащико, и уже дядя Сандро с полной искренностью смеялся вместе со всеми, повторяя:
– Что я вам такого сделал, что все вы моей смерти возжаждали…
Словам тети Кати особенно долго смеялись, и особенно смешно было то, что она никак не могла понять, чему они смеются, и выражение лица ее все еще оставалось сдержанно-траурным, словно то выражение, которое было принято ее лицом сразу же после выстрела, все еще не сошло с него, и в то же время это траурное выражение в свете последнего восклицания дяди Сандро можно было истолковать как сожаление по поводу того, что выстрелом был убит не тот петух. Но окончательный комизм ее позы и ее слов заключался в неуверенной попытке через минувшую угрозу смерти вернуть дядю Сандро к трудовому долгу, тогда как по всем понятиям дяди Сандро, и это было известно всем, и ей в том числе, минувшая угроза смерти как раз и располагала его к долгу жизнерадостного застолья. Смех застольцев был веселым разоблачением ее наивного лукавства.
Одним словом, в тот день они славно попили грушевой водки, и Щащико еще не раз приходил в Большой Дом поесть, сменить белье, помыться, и ему там ничего не угрожало, кроме боязни столкнуться со старым Хабугом. Отец дяди Сандро и сам недолюбливал абреков, и много лет назад, дав на сходке старшине слово не пускать к себе в дом абреков, формально придерживался его. Смысл его молчаливого уговора с домашними был такой: делайте что хотите, но чтобы они мне на глаза не попадались.
Коротко говоря, знаменитый абрек больше дядю Сандро в вероломных замыслах не подозревал. А через два года власти объявили амнистию всем абрекам с дореволюционным стажем.
И вот Щащико после пятнадцатилетней жизни в лесах вернулся к себе домой, к матери и младшему брату, который к этому времени успел жениться и завести детей.
С полгода Щащико жил у себя дома, и, по словам соседей, видевших его, не было крестьянина, такого жадного до труда. Целыми днями он возился в огороде, окапывал и подрезал фруктовые деревья, мотыжил кукурузу, щепил в лесу дрань, перекрывал ветхую крышу отцовского дома, и все говорил, если приходилось к слову, что истинное счастье – это жить у себя дома, работать у себя в поле и спать в своей постели.
Однажды он пошел в село, где жила его бедная жена, с тем чтобы просить за все прощения и вернуть ее вместе с сыном домой. Но братья ее наотрез отказались иметь с ним дело, а сына тайно увезли в другое село, боясь, что отец попытается его выкрасть. Они знали, что он очень тоскует по сыну.
Щащико настоял на том, чтобы самому встретиться с женой, но, когда вошел во двор ее родительского дома, где она жила, на него напустили собак, и он ушел, молча вытерпев это унижение.
Кто знает, что чувствовала жена его, когда он вошел во двор и на него напустили собак, и он, страшно побледнев от оскорбления, пятясь отходил к воротам?
Ведь следила она за ним откуда-то, может быть, из-за оконной занавески, ведь не может быть, чтоб не следила?
Кто знает, что она чувствовала? Утоление местью за оскорбленную любовь? Или желание броситься вслед своему все-таки, несмотря ни на что, любимому мужу и всепрощающей лаской оживить его одичавшее волчье сердце!
Но не суждено было Щащико мирно жить и умереть в своем доме. Через полгода после его возвращения домой был убит начальник кенгурийской милиции. Его убил один из абреков, все еще прятавшийся в лесу.
По поводу этого убийства многие бывшие абреки получили повестку явиться в кенгурийскую милицию. Щащико тоже получил такую повестку. Он сказал дома, что в милицию не явится, потому что, чует его сердце, живым оттуда не выйдет.
Целых два дня брат его уговаривал прийти в милицию и тем самым показать, что ему нечего бояться, что он никакого участия в этом убийстве не принимал. Брат его уверил, что власти этим призывом явиться в кенгурийскую милицию хотят установить, кто, испугавшись, не явился и, значит, каким-то образом все еще связан с несдавшимися абреками.
Наконец Щащико неохотно согласился, когда брат его обещал поехать вместе с ним с милицию, откуда их обоих больше не выпустили.
На этот раз власти решили круто расправиться с наиболее знаменитыми абреками, чтобы запугать остальных. Из кенгурийской милиции, всего их было человек пятнадцать, их перевели в тюрьму, а из тюрьмы перевезли в Мухус, где их, видимо, судили очень скорым и закрытым судом и ночью, связав попарно, привезли к морю и расстреляли у обломка Великой Абхазской стены.
Интересно, что во все времена и во всех странах, где расстреливали приговоренных к смерти, их почему-то всегда старались расстрелять у стены. Казалось бы, какая разница, где расстрелять человека, не способного к сопротивлению?
Но видно, есть разница. Видно, расстреливать человека на открытом пространстве труднее. Открытое пространство связывает приговоренного к расстрелу с идеей воли и делает убийство человека слишком откровенно разбойничьим актом.
Но человек, стоящий у стены, как бы заранее приперт к тупику, палач подготовлен к безвыходности приговоренного. Он только довершает последним огненным штрихом уже до него разыгранную сцену конца с этой стеной, воздвигнутой до него и без его ведома, и с этим человеком, стоящим у стены и как бы добровольно согласившимся играть свою роль в картине до конца.
Палачи тоже заботятся о своем душевном удобстве. Раз уж есть стена (в сущности, она главный виновник, но не мы ее строили), раз уж человек стоит у стены (не мы его приговаривали), почему бы его не расстрелять, ведь все равно ему некуда деться – стена, тупик, конец…
Человек стоит у стены, и палач подымает винтовку почти автоматически, он подготовил себя так подымать винтовку. Но притупив для себя гнев вины за нажатый курок, он для своей души ничего не изменил, он просто растянул убийство во времени, начав его с того мгновенья, когда стал искать оправдывающие обстоятельства.
А что стена для того, кого расстреливают? Не стоит рассуждать по этому поводу…
За что поплатился брат Щащико, остается неизвестным, хотя вполне возможно, что Щащико в какие-то дела его вовлекал. Точно так же не исключено, что власти решили избавиться и от второго брата, чтобы некому было мстить за Щащико. Если бы в доме оставался еще один брат, то тогда этого брата скорее всего отпустили бы, потому что убийство двух братьев слишком сильно увеличивало бы шансы на то, что третий брат возьмется за оружие.
Правосознание карающих от имени закона и мстящих по велению обычаев кровной мести мало чем отличалось друг от друга… в те времена, добавим мы, чтобы не было кривотолков.
Когда из Кенгурска в Мухус в «воронке» везли арестованных абреков, моя мама на фаэтоне ехала из Мухуса в Анастасовку, чтобы оттуда подняться в Чегем. На приморском шоссе два этих экипажа встретились.
Щащико, видимо всосавшийся глазами в какую-то щелочку, открывавшую ему кусочек воли, увидел маму и был страшно обрадован. Мама состояла с Щащико примерно в таком же родстве, что и дядя Сандро. Потом через каких-то людей, сидевших в тюрьме вместе с ним, дошло до мамы, что он ее видел уезжающей в Чегем. Можно представить, как его тоскующее сердце потянулось вслед за этим фаэтоном.
Судьбе было угодно, чтобы тень Щащико еще раз соприкоснулась с нашей семьей уже через отца.
Рядом с нашим домом жил чекист, который каждое утро, когда отец уходил из дому, стоял на крыльце и чистил сапоги. Через день после того, как привезли абреков, он остановил отца и, разогнувшись, сказал:
– У тебя из кенгурийских родственников никто не сидит?
– Вроде бы нет, – сказал отец.
– Привезли вчера дюжину абреков, – продолжал добродушный чекист, – похоже – пустят в расход… Так что, если кто из близких среди них – действуй, пока не поздно…
– Вроде бы нет, – повторил отец, мысленно перебирая родственников, которые могли бы очутиться в этой компании. По его словам, он вспомнил о Щащико, и даже в первую очередь, но он был уверен, что если бы тому грозило что-нибудь подобное, его обязательно известили бы… Ведь просили помощи и по гораздо более пустяковым делам. Но тут так получилось. Из кенгурийской тюрьмы их вывезли под большим секретом, и никто не знал, что арестованные уже в Мухусе.
– Ну нет, так тем лучше, – сказал чекист и снова взялся за сапоги, а отец пошел своей дорогой, которая обычно приводила его в кофейню.
Через два месяца после расстрела абреков, когда родственники Щащико точно узнали, что братья расстреляны, и узнали, что расстреляны они у обломков Великой Абхазской стены и там же закопаны, они с дядей Сандро верхом поехали в Мухус, прихватив пару лишних лошадей, чтобы перевезти домой трупы.
По абхазским обычаям мертвый должен быть предан земле на семейном кладбище. И если он убит или умер очень далеко от дома, его надо во что бы то ни стало перевезти домой. И если он убит властями и тело его охраняется ими, надо выкрасть или вырвать силой родной труп, даже рискуя жизнью. Таков закон гор, закон чести абхазца.
И сколько бы лет ни прошло с тех пор, как погиб или умер близкий человек, абхазец, узнав место его захоронения, даже если оно за тысячу километров, даже если ему для этого придется продать все свое имущество, должен перевезти останки своего родственника, ибо по абхазским понятиям кости абхазца в чужой земле ждут, их надо предать родной земле, только в ней они успокоятся и отпустят душу близких.
Обломок Великой Абхазской стены был расположен в нескольких километрах от города на берегу моря в тогда еще глухом, пустынном месте.
Днем они узнали, что место захоронения абреков охраняется четырьмя бойцами, к которым приставлен начальник. Все они живут в двух палатках тут же, возле крепостной стены, и попеременно охраняют место захоронения от родственников, пытающихся овладеть преступными трупами своих абреков.
План овладения трупами был такой. Ночью кавалькада родственников подъедет к окрестностям крепости, спешится, привяжет лошадей и заляжет метрах в ста от крепости. Один из родственников, джигитуя, крича и стреляя в воздух, берегом промчится мимо крепости, а залегшие невдалеке родственники будут стрелять по крепостной стене, чтобы охранники почувствовали близость пуль. По соображениям чегемцев, охранники, увидев такую массированную атаку, разбегутся, потому что, как выяснилось, они по национальности русские, а у русских не может быть слишком большого интереса рисковать жизнью, охраняя абхазских мертвецов.
Как решили, так и сделали. Но когда один из родственников Щащико, гикая, стреляя в воздух и разбрызгивая приморскую гальку, промчался мимо крепости, а залегшие в кустах остальные участники вылазки осыпали древнюю стену градом пуль, русские охранники, вместо того чтобы разбежаться, выскочили из палаток и, присоединясь к бдящему часовому, заняли круговую оборону возле Великой стены.
Охрана стойко защищала вверенные ей трупы. Произошла перестрелка, которая, к счастью, окончилась без кровопролития.
Часть родственников растерялась, почувствовав упорство охраны, а двое, наиболее пылкие, предложили идти на открытый штурм крепостной стены. Дяде Сандро это очень не понравилось. Он вспомнил, что, в сущности, Щащико ему даже не двоюродный брат, а гораздо более далекий родственник. Раньше, когда Щащико гремел по всей Абхазии как великий абрек, он свыкся с мыслью, что Щащико его двоюродный брат. И хотя он продолжал уважать память великого абрека, он теперь с необыкновенной ясностью вспомнил, что, в сущности, родство с Щащико у него очень далекое и очень относительное. И ему пришел в голову совсем другой план. Он подумал, что раз в этой стране все можно сделать за взятку, почему бы не выкупить трупы братьев?
На следующий день дядя Сандро отыскал нужного человека и через него быстро нашел общий язык с начальником охраны. Тела Щащико и его брата обошлись в пятьсот рублей денег и два хороших бурдюка вина. Договорились в следующую ночь явиться с ясаком прямо к стене, при этом было оговорено со всей строгостью, чтобы подходящие к стене заранее сдали оружие тому человеку, который останется при лошадях.
В тот же день один из родственников поскакал в Чегем за данью, и на следующую ночь дядя Сандро вместе с близкими Щащико подъехал к обломку Великой Абхазской стены. Они спешились, сдали оружие одному из парней, оставшемуся с лошадьми, и во главе с дядей Сандро, державшим в каждой руке по бурдюку с вином, подошли к крепости.
При свете электрического фонарика, которым светил один из охранников, начальник пересчитал деньги и положил их в карман. После этого он стал открывать бурдюки с вином, и дядя Сандро вдруг заметил, что и сам он напоминает огромный бурдюк!
– Ежели с нами по-человечески, – сказал начальник, приподняв один бурдюк и смачно приникнув к отверстию, сделал долгий отхлеб, проверяя качество вина, оторвался, шевеля губами и прислушиваясь к действию живительной влаги на свой рот и глотку, шумно выдохнул воздух и, поставив бурдюк на землю, добавил, приподымая второй, – то и мы по-человечески… – Снова приникнул к отверстию бурдюка и снова сделал хороший отхлеб, шумно выдохнул и, поставив бурдюк на землю, закончил свою трехступенчатую, прослоенную винными паузами мысль: – А стрельбой нас не возьмешь, мы к стрельбе привыкши…
Разговорившись с начальником охраны, дядя Сандро узнал, что уже семь трупов абреков выкуплены родственниками. Начальник охраны, поняв, что дядя Сандро свойский человек, просил передать родственникам остающихся трупов, если он с ними встретится, что они могут вот так, по-мирному, выкупить своих мертвецов. Дядя Сандро обещал.
Охранник, что стоял рядом с ними, приподнял бурдюки и бережно перенес их к палаткам, где другой охранник прямо на берегу расстилал брезент. Первый охранник, оставив оба бурдюка на брезенте, вернулся. Второй охранник притащил из палатки стаканы и расставил их на этой солдатской скатерти. В лунном свете стаканы сверкали с тусклой аппетитностью. Потом он разложил на брезенте ломти холодного мяса, хачапури, зелень – остатки предыдущего ясака – подумал дядя Сандро.
И вдруг дядя Сандро почувствовал, что не прочь у этой зловещей стены на берегу вздыхающего прохладой волн моря провести поминальный ужин с этими добрыми мошенниками, столь храбро защищавшими свой странный потусторонний доход.
Но он тут же устыдился этого кощунственного желания, смиренно погасил его (впрочем, оно еще некоторое время продолжало предательски дотлевать) и, наконец, успокоил себя мыслью о том, что он только подумал, а это в счет не идет.
Начальник охраны самолично подвел дядю Сандро и остальных родственников к подножию стены и, показав место, где надо рыть, вручил дяде Сандро свой электрический фонарик. Дядя Сандро попытался отказаться, кивнув на ясную луну, но тот сунул ему фонарик.
– Пригодится, – сказал он, и дядя Сандро догадался, что трупы, по-видимому, уже сильно испорчены временем.
– Два, – четко напомнил начальник охраны остающемуся часовому и для полной убедительности выставил ему два пальца.
– Ясно, – ответил часовой, и начальник двинулся в сторону бурдюков с вином.
Дядя Сандро лишний раз убедился, что здесь установлен строгий контроль за трупами, и никому не удастся вместе с выкупленными трупами прихватить невыкупленные. Разумеется, ни дядя Сандро, ни другие родственники Щащико этого не собирались делать.
Часовой отошел к краю стены, обросшему кустами ежевики, и, нагнувшись, вытащил из кустов две упрятанные там лопаты. Он принес лопаты и молча бросил их к ногам пришельцев.
Дядя Сандро поинтересовался, не этими ли лопатами роют яму после расстрела людей у этой стены.
– Не, – сказал часовой, мотая головой, – они ж сами ликвидуют и сами закапывают… Мы ж с военного городка, мы ж сами не связаны…
Дядя Сандро направил свет электрического фонарика на указанное начальником место, тем самым показывая, что за лопаты должны взяться другие, и родственники, то и дело меняясь и не переставая удивляться какой-то особой каменистости, какой-то неприятной чужеродности, нечегемности грунта, его подозрительной эндуристости, отрыли довольно большую яму.
Обезображенный распадом труп Щащико узнали по кисти руки, лишенной большого пальца. Трупы братьев, их так и расстреляли привязанными друг к другу, вытащили из ямы и, перерезав веревки, отъединили друг от друга.
Яму с оставшимися трупами снова завалили землей, и, пока тела братьев, обернутые в бурки, приторачивали к лошадям, часовой тщательно разровнял землю, чтобы не оставлять следов, и так же тщательно упрятал лопаты в кусты ежевики.
Когда родственники Щащико, придерживая пугающихся лошадей, приторочили завернутые в бурки тела убитых братьев к седлам, дядя Сандро вернул фонарик часовому и сел на свою лошадь. Часовой быстро направился к палаткам, где его товарищи уже расселись за поздним ужином.
Придерживая накоротке лошадей с телами убитых (пока они не освоятся со своей необычной кладью), кавалькада осторожно выбралась на дорогу. В ту же ночь останки братьев довезли до Кодора, где их тщательно промыли и на следующий день похоронили на семейном кладбище.
Жена Щащико, узнав, что его схватили, приехала в кенгурийскую тюрьму с передачей и сыном. Она надеялась на свидание, но свидания не разрешили, хотя передачу взяли.
В течение многих дней она приходила с сыном к воротам тюрьмы и терпеливо ждала, надеясь, что Щащико ее заметит из окошка. Некоторые заключенные перекликались со своими родственниками, вот так, как она, стоявшими за воротами тюрьмы.
Но Щащико не мог ни окликнуть, ни увидеть ее, потому что еще до ее приезда всех абреков переправили в Мухус.
Позже, узнав, что Щащико расстрелян, она не выдержала и повесилась. Сына ее взял на воспитание один из ее братьев, как раз тот, что непреклоннее всех отвергал попытки Щащико примириться с семьей. Но можно ли и его осуждать, оскорбленного за честь любимой сестры?
Да смягчит господь наши души, да увлажнит сухие, вечно жаждущие возмездия глаза!
Глава 7. История молельного дерева
В начале тридцатых годов волна коллективизации дохлестнула до горного села Чегем, дохлестнула, смывая амбары и загоны и швыряя в общий котел все, что подворачивалось на пути, – буйвол, так буйвола, свинья, так свинью, овца, так овцу: хватай за курдюк и швыряй туда же – в большом хозяйстве все пригодится.
Отец дяди Сандро, старый Хабуг, считался одним из самых зажиточных людей села. У него было около тысячи коз, десяток коров, несколько буйволиц, несколько верховых лошадей, четыре осла и пять мулов.
Четверо сыновей, не считая дядю Сандро, и сам старик держали в руках и вели это хлопотное и нелегко собранное хозяйство.
Как это бывает в горах во время грозы: кругом ливень, а тут, на взгорье, почему-то не задетом грозой, нет-нет да и выглянет солнце, – так и многие чегемцы надеялись, что и колхозное поветрие, дурь грамотеев в чесучовых кителях, авось как-нибудь пронесет.
Ведь пронесло коммунию, остались только воспоминания об общих обедах, похожих на ежедневные пиршества, да большие черные следы от костров во дворе сельсовета, где готовили еду, да всякие шутки по поводу этого короткого, но веселого времени. Вот и ждали чегемцы, гадали, переминались.
Но по всему было видно, что власти на этот раз шутить не собирались. Сначала в колхоз вошли самые бедные, потом стали откалываться и крепкие самостоятельные хозяйства.
Хабугу тоже предлагали, да он все отшучивался, отговаривался, делал вид, что у него на этот счет какие-то особые сведения, свои вести, свой хабар, который вот-вот подтвердится, и тогда все пойдет по-другому. Но хабар никак не подтверждался, и в конце концов председатель пригрозил, что лишит его права голоса.
– Ты бы лучше лишил голоса моего осла, а то он у меня слишком голосистый, – ответил ему Хабуг, не очень понимая, что означает это право голоса. Он решил, что председатель ему не даст говорить на сходках, да ведь и на сходках каждый может говорить, лишь бы тебя крестьяне слушать хотели.
Всякие уполномоченные, которые приезжали из города и по давней традиции останавливались у него в доме, это-то и придавало ему смелости, тоже советовали входить в колхоз, потому что податься, говорили они, все равно будет некуда.
Председатель колхоза особенно нажимал на Хабуга, потому что он пользовался у чегемцев тем ненавязанным и потому устойчивым авторитетом, которым пользуются во всех областях жизни знатоки дела.
Тем более в таком открытом деле, как ведение хозяйства, где каждый кукурузный початок старается быть похожим на своего хозяина и каждый бараний курдюк шлепает по заднице барана с той силой тяжести, которую придает ему владелец барана.
И он, председатель, знал, что многие колеблющиеся перейдут на сторону колхоза, если Хабуг вступит в него.
Слухи о том, что некоторых богатых крестьян высылают в Сибирь, уже дошли до Чегема. Таких было в Абхазии очень мало, но все-таки были, и сам Хабуг об этом знал. Знал и раздумывал, потому что многое было непонятно старику.
Так, было непонятно, где будет колхоз держать скотину, если ее соберут со всего села? Почему не строят заранее больших коровников и крытых загонов для овец и коз? Какая сила заставит крестьян хорошо работать на общем поле, когда иной и на своей усадьбе работает кое-как?
А главное, чего не выразить словом и чего никогда не поймут эти чесучовые писари, – кто же захочет работать, а может, и жить на земле, если осквернится сама Тайна любви тысячелетняя, безотчетная, как тайна пола? Тайна любви крестьянина к своему полю, к своей яблоне, к своей корове, к своему улью, к своему шелесту на своем кукурузном поле, к своим виноградным гроздьям, раздавленным своими ногами в своей давильне. И пусть это вино потом расхлещет и расхлебает Сандро со своими прощелыгами, да Тайна-то останется с ним, ее-то они никак не расхлещут и не расхлебают.
И если он выручает деньги за свой скот или табак, так тут дело не только в деньгах, которые тоже нужны в хозяйстве, а дело в том, что и на самих этих деньгах, чего никак не поймут все эти чесучовые грамотеи, на самих этих деньгах лежит сладкое колдовство Тайны, и, может, тем они и хороши, что, щупая их, всегда можно прикоснуться к Тайне.
А то, что в колхозе обещают зажиточную жизнь, так это вполне может быть, если все же и коровники вовремя построить, и к ферме приставить знающих людей, и землю вовремя обработать… И все же все это будет не то и даже как бы ни к чему, потому что случится осквернение Тайны, точно так же, как если бы по наряду бригадира тебе было определено, когда ложиться со своей женой и сколько с нею спать, да еще он, бригадир, в особую щелочку присматривал бы, как ты там усердствуешь, как они говорят, на благо отечества (доверяй, но проверяй), а потом выговаривал бы при всех или, что еще противней, благодарил бы тебя от имени трудящихся всех стран. И недаром поговаривают, мол, подождите, пока коз да коров обобщают, а там и жен ваших обобщат, будете спать, говорят, всем селом в одной казарме под одним стометровым одеялом.
И хотя, наверное, это сказка, но крестьяне ее правильно поняли, потому что не в самой жене дело, а дело в живом хозяйстве, которое любишь и с которым, как с женой, связан Тайной.
И подобно тому, как никто не ложится с женой с заносчивой мыслью догнать и перегнать по населению другое село, а то и город, крестьянину, который выходит в поле, и в голову не приходит с кем-то там состязаться, словно это скачки, или стрельбище, или еще какие-нибудь праздничные игры.
И тем более никому в голову не приходит, что он, выворачивая плугом землю, помогает каким-то там китайцам или африканцам. Да и как можно помогать чужим, незнакомым людям? Может, они-то как раз против тебя что-то задумали, а ты еще и помогаешь им. Ведь не влезешь к ним в голову, не узнаешь, чего они там задумали против тебя?!
А то, что в некоторых долинных колхозах молодежь в самом деле состязается, чтобы получить в награду патефончик или еще что-нибудь в этом роде, так это ни о чем не говорит.
Настоящего крестьянина такие ребяческие награды не могут заставить хорошо работать, потому что нельзя Тайну превратить в Игру. Игра связана с праздничным азартом и проходит вместе с ним, а Тайна связана с жизнью, и может, вместе с жизнью она покидает крестьянина, а то, может, он уносит ее с собой на тот свет, чтобы и там она его тешила, если вообще есть тот самый свет.
Кумхоз идет! Кумхоз!
Среди новшеств новой власти одно нравилось старому Хабугу, это то, что в селе Чегем, как и во многих других горных селах, открыли школу. Пусть наши дети и внуки, думал он, учат грамоту, пусть среди этих чесучовых кителей будут наши люди, которые, может быть, в конце концов откроют глаза этим горлопанам и втолкуют им самую суть крестьянского дела.
Ведь что бы ни говорили крестьяне на сходках, все же самого главного они не высказывали, потому что этого и не передать словами, потому что об этом ни с кем и не говорят, потому что своему это и так понятно, а чужому не скажешь, потому что Тайна, она потому и Тайна, что связана со стыдом.
И хотя понимал старый Хабуг, что и наши ребята, что сейчас учатся в школах, к тому времени, когда они понадобятся на чесучовых должностях, пожалуй, забудут о Тайне или сделают вид, что ее не существует, может, эти самые чесучовые кители им выдадут в самый раз, как только определится, что они окончательно оторвались от своих. И все-таки…
И все-таки надеялся старый Хабуг, что хоть один из них не забудет отцовской печали, затаит ее в самой глубине своей души, притворится ничего не помнящим, и ему по этому случаю даже раньше, чем остальным, выдадут чесучовый китель…
И может быть, он прорвется до самых верхов и однажды окажется в кабинете самого Большеусого и тут-то выворотит ему всю правду, одновременно расстегивая и скидывая чесучовый китель. И тогда задумается Большеусый и скажет:
– Пожалуй, набедокурили мы тут с этим делом… Знаешь что, надевай этот китель и занимайся своими крестьянами от нашего имени. Пусть они живут как хотят, только пусть налоги платят исправно. А я займусь своими рабочими и не будем друг другу мешать… Только бы сказал такое Большеусый, уж мы бы для него постарались, уж мы бы его завалили нашим добром до самых усов. Да разве скажет?
Да, высоко заносила мечта старого Хабуга, но, очнувшись, он возвращался к своей зубной боли: «Что делать? Кумхоз идет! Кумхоз!»
В одно летнее утро старый Хабуг поймал у себя в стаде самого пушистого, самого белого козленка, связал ему ноги, взвалил на плечи и, заткнув за пояс топор, вышел со двора.
Он договорился с домашними, чтобы они не смотрели ему вслед, но чтобы все приходили к молельному дереву часа через два, когда все будет готово.
Молельное дерево, гигантский грецкий орех, росло в котловине Сабида рядом со скотопрогонной тропой.
Летом, когда перегоняли скот на альпийские пастбища, пастухи приносили дар божеству, то есть резали козла или барана, мясо варили и ели, а голову вешали на железные крючья, вбитые в ствол. Если крючья были заняты, то головы тоже варили и ели. Было замечено, что в последние годы, когда из долин стали пригонять колхозный скот, некоторые пастухи, принося жертву, съедали жертвенные головы, даже если крючья и не были заняты. Авось обойдется, рассуждали они, да еще неизвестно, как относится божество, охраняющее четвероногих, к колхозному стаду.
Этому грецкому ореху поклонялись с незапамятных времен. Был он огромен и наполовину высохший от прожегшей его когда-то молнии. Часть веток высохла, но часть еще зеленела и продолжала плодоносить. Толстая виноградная лоза обвивалась вокруг него и расплеталась у вершины по всем веткам. Виноград на высохших ветках, словно в утешение за этот удар молнии, бывал особенно обильным и сладким.
Ствол грецкого ореха был дуплист чуть ли не до самой вершины и при сильном ударе издавал вибрирующий звон, долго не затихавший. Он звенел и гудел, как гигантская струна, протянутая от земли к небу.
Кроме крючьев из ствола торчало несколько наконечников проржавевших стрел и лезвие грубого старинного топора, всаженного на такой высоте, на какой и всадник не мог бы достать. Может быть, из-за этого лезвия жители Чегема считали, что в этих местах когда-то обитали великаны.
Внизу, в дупле, хранился котел для варки мяса. Им пользовались те, кто приходили замолить божество, да и просто пастухи, которых ночь заставала поблизости, потому что для привала место было удобное – и вода поблизости, и шатер уцелевших веток такой плотный, что дождь и в непогоду почти не просачивался сквозь него.
Старик подошел к стволу, осторожно снял с себя козленка, положил его к подножию древа, пробормотал несколько дошедших до него слов-заклинаний и, вынув из-за пояса топор, по принятому обычаю со всей силы всадил его в упругий ствол.
Странно-знакомый звук, вибрируя в полом теле дерева, добрался до вершины и растаял в небе. Старый Хабуг, потрясенный догадкой, слушал, пока звук совсем не растаял в небе. Тогда он одним сильным качком вытащил топор из ствола и снова его всадил в дерево.
– Кум-хоззз… – прозвенел ствол и, как легкий, смиренный выдох, замолк в бесконечном небе. Старик растерялся. Он ожидал более сложного, более загадочного ответа божества, которое надо было бы еще толковать и толковать, а это было слишком ясно и потому страшно. Старик вытащил топор и снова ударил по стволу.
– Кумм-хоззз, – прозвенело дерево печально и внятно.
– И ты туда же?! – взревел старый Хабуг и, вытащив топор, в ярости стал бить и бить по стволу обухом.
– Кум-хоз! Кум-хоз! Кум-хоз! – волнами прокатывалось по телу старого дерева.
Старик остановился, утер рукавом пот со лба, вонзил топор в ствол, последний раз прислушался к безнадежному туку и взялся за козленка.
Он перерезал ему ножом глотку, дал стечь крови к подножию дерева, потом подвесил его за ножку к одному из вбитых в ствол крючьев. Освежевав тушку, он снял ее с крюка и воткнул туда головку козленка с открытыми перламутровыми глазами, с рожками, как два любопытных росточка приподнявшимися над белым пушком лба.
Старик вытащил из дупла котел, вложил в него небогатое мясо козленка и, спустившись к роднику, тщательно вымыл и котел и мясо. Потом он набрал в котел воды и снова поднялся наверх, подправил камни открытого очага, поставил на них котел, набрал сухих веток и разжег огонь.
Часа через два вся семья старого Хабуга сидела на расстеленных зеленых ветках папоротника и ела дымящееся мясо козленка, разложенное на этих же ветках.
Притихший дядя Сандро сидел рядом с отцом, как недоблудивший блудный сын, загнанный обстоятельствами в родной дом и вынужденный пребывать в застольном смирении.
На следующий день, старик пришел в сельсовет и записался в колхоз. Он сдал колхозу половину своего четвероногого имущества.
Один из его сыновей, тот, что был приставлен к козам, привел все стадо во двор сельсовета и вместе с комсомольскими активистами пересчитал его и отделил пятьсот голов.
К этому времени в сельсовете собралось множество крестьян, чтобы посмотреть, как сам Хабуг будет вступать в колхоз. Старик вел себя с достоинством и ничем не выказывал своего отношения к происходящему.
Когда сын его, тот, что с отрочества был приставлен к козам, подошел к активистам, что вели учет сданному скоту, один из них зажал нос и отвернулся, потому что пастух за многие годы пастушества насквозь пропах козлом.
– Сдал бы всю скотину, Хабуг, – пошутил один из комсомольцев, – глядишь, к следующему году с твоего сына выветрился бы козлиный дух.
Многие посмеялись этой шутке, а старый Хабуг подумал и не спеша ответил:
– Придет время, будете искать, где бы понюхать козла…
Многие посмеялись его ответу, а иные и призадумались. Председателю слова Хабуга не понравились, но он промолчал.
Говорят, когда сын Хабуга выходил со двора со своим ополовиненным стадом, люди видели, как он концом башлыка утирает слезы. Так вот и удалялся, утирая слезы, что мне кажется плодом фантазии крестьянских мифотворцев, как бы подготовляющих слушателя к тому, что случилось дальше.
Как только сын Хабуга со своим облегченным стадом вышел за ворота, оставшиеся козы с блеянием ринулись за ним. Несмотря на старания активистов удержать и загнать их назад, они прорвали эту оборону и стали перемахивать через ворота, а потом и ворота проломали. По словам очевидцев, козы не то чтобы влились в стадо, а прямо-таки старались впрятаться в него, втиснуться в самую середину. Говорят, вся эта сцена произвела на собравшихся крестьян тяжелое впечатление. Они решили, что скот не хочет идти в колхоз, потому что предчувствует свою гибель.
Особенно все это не понравилось председателю. Ему показалось, что случившееся было заранее продумано и разыграно старым Хабугом по договоренности с сыном, если не с самими козами.
– Ответишь за это, – сказал он, кивнув на ворота, куда устремились козы.
– Сначала пусть он ответит, – промолвил Хабуг, глядя, как его козы проламывают ворота сельсовета.
– Кто он? – спросил председатель, насторожившись.
– Он, – сказал Хабуг и, продолжая следить за своими козами, показал пальцем в небо. Все понимали, что Хабуг имеет в виду Большеусого, хотя доказать это было невозможно.
Сыну Хабуга пришлось снова загонять стадо во двор, снова пересчитывать и половинить его, и, может быть, в том была высшая справедливость – дать каждой выделенной козе еще один шанс остаться с хозяйской половиной, разумеется, за счет остальных собратьев. На этот раз сын Хабуга остался с той половиной, которую отдавали колхозу. Криками успокаивая взволнованное стадо, он стоял перед ним, пока один из комсомольцев не отогнал половину на порядочное расстояние.
* * *
Председатель колхоза, звали его Тимур Жванба, был человек из того всероссийского типа яростных недоучек, которых тогда обильно вытягивал из толпы магнит времени.
До приезда в Чегем он работал в кенгурийской школе преподавателем ботаники, хотя по темпераменту больше подходил к зоологии. Тем не менее он успешно выступал на собраниях и откровенно, на глазах у живого завуча, правда, до смешного похожего на дореволюционного интеллигента, метил на его место и был близок к цели.
Но цели не достиг, потому что однажды на уроке он неожиданно съездил по уху ученика, спутавшего лавр благородный с обыкновенной лавровишней, что, естественно, не понравилось отцу этого мальчика, командиру погранзаставы. Последнее обстоятельство не давало возможности пренебречь ухом мальчика как классово чуждым, и над темпераментным ботаником стали сгущаться районные тучи.
Директор школы, воспользовавшись этим обстоятельством, с молчаливого согласия гороно сплавил его в Чегем как человека, близко знающего природу. Партийный актив Кенгурска, считая свой городок значительным очагом культуры, неохотно его покидал, тем более ради глухой, как они считали, горной деревушки Чегем. Так Тимур Жванба оказался председателем чегемского колхоза.
Сначала чегемцы отнеслись к нему благодушно, но потом оказалось, что он если и знает природу, то не ту, которая окружала чегемцев. А главное, выяснилось, что он страдает высотобоязнью. А выяснилось это тогда, когда он почему-то захотел спуститься на мельницу и вдруг остановился как вкопанный, когда тропа запетляла по обрывистому спуску, в глубине которого стояла мельница. Он так испугался, что уже не мог и наверх подняться, так что могучему мельнику Гераго пришлось подняться к нему, взвалить к себе на плечи и донести до такого места, где уже не видно было меловых осыпей обрыва.
Говорят, первым его увидел на тропе Хабуг, спускавшийся на мельницу со своим мулом, навьюченным мешками с кукурузой. В то время председатель сидел на тропе, вцепившись руками в кизиловый куст.
– Ты чего здесь делаешь? – спросил удивленный Хабуг.
– Да так, осматриваюсь, – сказал председатель, продолжая изо всех сил сжимать кизиловый куст. По словам Хабуга, ему сразу же не понравилась поза председателя и то, что он держался за кизиловый куст, как за узду норовистого коня.
Но он, больше ни слова не сказав, прошел вниз на мельницу. Часа через четыре, возвращаясь с мельницы с уже смолотой кукурузой, он очень удивился, увидев, что председатель продолжает укрощать свой кизиловый куст. Тут Хабуг понял, что председатель сильно струхнул.
– Так и будем сидеть? – спросил он, останавливая рядом с ним своего мула.
– Проходи, – едва прошептал председатель, бледный, как меловые осыпи обрыва, с которых он не сводил глаз.
– Держись за хвост моего мула, он тебя вынесет, – предложил Хабуг, но тот в ответ только замотал головой, как бы отказываясь принимать помощь от единоличника.
– Ну, так сиди, – сказал Хабуг и погнал вверх своего мула.
– А председатель-то порченый, – объявил он, въехав в село и рассказав о случившемся. Те, что были поблизости, побросали свои дела и пошли смотреть на председателя. Он все еще там сидел и ни на какие уговоры не поддавался, пока снизу не поднялся могучий Гераго и, взяв его в охапку, не вынес на безопасное место.
Узнав о тайной болезни председателя, чегемцы не на шутку обиделись, но не столько на него, сколько на кенгурийский райком. Они решили, что райком прислал им председателя, забракованного в других местах.
– И мы не хотим, – сказали они председателю сельсовета и велели передать свое мнение в райком.
Махты, так звали председателя сельсовета, зная таинственные оттенки упрямства чегемцев, ибо сам был чегемцем, понял, что надо ехать. Кстати, все это делалось втайне от Тимура Жванба, потому что чегемцы считали недопустимым нарушением законов гостеприимства так прямо в глаза ему и сказать, что они его не хотят.
Махты вынужден был поехать в райком и, в смягченной, правда, форме, все это там рассказать. Он все делал в смягченной форме, потому что от природы был мягким человеком и никому не хотел зла. У него была такая философия – пусть всем будет хорошо, ну а если это невозможно, пусть хотя бы мне будет хорошо.
– Политически подкованный, но нехорошую болезнь имеет, – кротко сообщил он секретарю райкома, – народ волнуется.
– Какую болезнь? – удивился секретарь.
– Стыдно сказать, но в пропасти смотреть не может, – краснея, признался Махты, – голова кружится, как у беременной женщины.
Тут он вынужден был рассказать про случай на мельнице.
– Какого черта ему на мельнице надо было? – раздраженно удивился секретарь райкома.
– Так просто, решил ноги промять, – отвечал Махты, упирая на полную невиновность председателя в случившемся.
– Ты мне скажи, с крыльца сельсовета он может сходить? – спросил секретарь, начиная терять терпение.
– Запросто! – обрадовался Махты и объяснил, что председатель легко берет и более крутые спуски, если при этом в кругозор ему не попадаются провалы, ущелья и обрывы, особенно с меловыми осыпями.
– Оказывается, эта болезнь белый камень не любит, – уточнил он, чем окончательно вывел из себя секретаря райкома.
– Хватит! – перебил тот его. – Скажи председателю, чтобы на мельнице не показывался, а чегемцам, чтоб не морочили голову, а получше работали.
– На мельнице он и так показаться не может, – продолжал Махты с кротким упрямством, – а чегемцам так говорить нельзя, надо найти форму.
– Вот и найди форму, – сказал секретарь, вставая и этим показывая, что разговор окончен, – для этого ты там и поставлен.
И Махты поехал назад, по дороге ища форму. И он ее нашел. Он сказал, что в райкоме попросили чегемцев подождать, пока они найдут подходящего человека, которого перед присылкой в Чегем как следует погоняют по самым козлиным тропам, чтобы проверить его нутро на пригодность к чегемским условиям.
– Хорошо, – сказали чегемцы, успокаиваясь, – пусть пока побудет этот бедолага.
Но председатель отнюдь не чувствовал себя бедолагой. Оказывается, он узнал о тайной жалобе чегемцев и на первом же собрании обрушился на них, исполненный ехидства и раздражения.
– Ну, чья взяла, троцкисты? – обратился он к ним, яростно улыбаясь.
Чегемцы не только не стали оспаривать свою принадлежность к этому опасному политическому течению, о существовании которого, впрочем, они и не подозревали, а просто не знали, куда деть себя от стыда.
В тот первый год чегемцы все еще воспринимали свое село как свой дом, поэтому им стало так неловко. Позже, когда они попривыкли друг к другу, а чегемцы перестали воспринимать свою землю как собственную землю, а следовательно, и председателя перестали воспринимать как гостя на этой земле, хоть и незваного, они, чегемцы, стали отвечать на его излюбленные политические ярлыки цветастыми проклятьями, где угроза кровопускания порой затейливо уравновешивается обвинением в кровосмесительстве. Я уверен, что они и эти самые политические ярлыки воспринимали, как тот же мат, только высказанный по-образованному, и, может быть, из-за своей непонятности он казался им еще более похабным, чем их проклятья, выражением смутных чернильных извращений.
Кстати, председатель этот проработал в Чегеме около тридцати лет. За это время он, правда, несколько раз отстранялся на год, на два, но тут же, не выходя из сельсоветского двора, устраивался в школу, где преподавал кроме ботаники еще и военное дело. И тут точно так же, как колхозников, он распекал учеников, заставляя их маршировать по сельсоветскому двору, время от времени переходя на русский язык и обзывая учеников новым политическим термином – бухаринцы.
Уже в наше время Тимур Жванба благополучно ушел в отставку и даже получил малоизвестный титул Почетного Гражданина Села, но тут с ним случился необычайный казус, полностью исключавший не только ношение этого высокого, хотя и малоизвестного титула, но и обыкновенной гражданской одежды. Но все это случилось гораздо позже, и мы об этом расскажем в том месте, которое сочтем наиболее подходящим.
* * *
Весть о том, что молельный орех села Чегем при каждом ударе топора отвечает: «Кумхоз!» – и не только ударе топора, а при любом ударе, и тем отчетливей, чем увесистей удар, быстро разнеслась по окрестным селам.
Верхом и пешим ходом сюда потянулись сомневающиеся, и каждый мог убедиться, что дерево честно отвечает на свербящий вопрос, хоть камнем огрей его, хоть головой бейся.
Дядя Сандро теперь целыми днями торчал возле ореха, потому что делать все равно было нечего, а в колхозе работать он все еще никак не решался. А тут крестьяне из окрестных сел стали привозить не только жертвенных козлят, но и вино в бурдюках. Жить становилось весело и любопытно.
Хотя в ответах молельного дерева трудно было усмотреть что-нибудь вредное для власти, все же председателю колхоза не нравилось это паломничество. Он чувствовал какое-то беспокойство от этого роения возле молельного ореха, от этих приездов, отъездов, разговоров и слухов.
А тут еще старый охотник Тендел подсыпал пороху. Однажды он вернулся с охоты и рассказал, что видел, как на лесной лужайке лиса, причмокивая и дергая за сосцы, сосала корову из чегемского стада. А корова при этом не только не сопротивлялась, а, как бы не замечая ее, с какой-то странной яростью щипала траву. Тендел выстрелил, но, видно, только сбил ей хвост, потому что она убежала, волоча его по земле.
– Как увидите лису со сбитым хвостом, – говорил он, – убивайте ее на месте, это она, дьяволица.
– Да где же ее увидишь, – отвечали приунывшие чегемцы. Хотя обычно они верили Тенделу не больше, чем другим охотникам, но то, что он рассказывал на этот раз, показалось зловещим предзнаменованием.
– Выходит, мы теперь будем лис кормить, – говорили они.
Чтобы ослабить впечатление от рассказа Тендела, Махты стал напоминать чегемцам о его давнем приключении с медведем.
Однажды в юности, по словам Тендела, когда он отдыхал в лесу, привалившись спиной к стволу каштана, к нему тихонько подкрался медведь. Он осторожно высунулся из-за каштана, выхватил у него ружье и разбил его одним ударом о ствол каштана. Отбросив сломанное ружье, он схватил Тендела лапой за нос и куда-то повел, а куда – Тендел не знал и спросить было не у кого.
Медведь только сопел и, время от времени поглядывая на Тендела, обдавал его зловонным дыханием. И только когда они прошли с полверсты, Тендел с ужасом догадался, что медведь ведет его к тому месту, где он два года назад убил медведицу.
По словам Тендела, он уже распрощался с жизнью, но тут медведь наткнулся на хорошие заросли лавровишни и стал, пригибая одной лапой ветки, совать в рот черные гроздья любимого лакомства. Постепенно он так увлекся, что бросил нос Тендела и даже поощрительно махнул лапой, мол, лакомься перед смертью, и стал сгребать кусты лавровишни и продвигаться вперед. Как только медведь отошел на несколько шагов, Тендел дар деру и бежал до самого Чегема, по дороге прихватив сломанное ружье.
Разумеется, этому рассказу мало кто верил. Единственное, что подтверждали и старожилы, это то, что однажды в юности Тендел ушел на охоту с целым носом, а возвратился со сломанным и носом и ружьем. С тех пор он так и остался кривоносым.
– Так что ж вы, – напоминал Махты, – тому рассказу его не верили, а этому верите?
– Так то когда было, а это когда, – отвечали чегемцы, никак не ободренные напоминанием Махты.
В конце концов все это председателю надоело, и он запросил кенгурийский райком помочь ему принять меры против рассказа охотника и молельного дерева. Кенгурийский райком отвечал, чтобы он показаниям престарелого охотника не придавал никакого значения, а насчет молельного дерева обещал прислать комиссию, чтобы на месте дать оценку ему как извращению линии, или, наоборот, случайному, но положительному явлению природы.
Через несколько дней в Чегем прибыла комиссия, состоящая из двух человек, и дядя Сандро лично ударами топора продемонстрировал единственное слово, которое из дерева можно было выбить. Больше всего сердца членов комиссии смягчило то обстоятельство, что дерево произносило чудотворное слово с чистейшим кенгурийским выговором.
– Бедняга, по-нашенски говорит, – прислушиваясь, говорили члены комиссии, радуясь, как истинные патриоты своего района.
Для членов комиссии дядя Сандро выбирал теперь одному ему известные, самые звонкие, самые, можно сказать, вкусные места. Он дал каждому из них возможность ударить по дереву самому, показал, что можно бить и обухом и в этом случае дерево все равно произносит то же слово, только несколько басовитей.
Для полноты проверки один из членов комиссии заглянул в дупло, зажег спичку и зачем-то прокричал: «Кум-хоз!» – после чего спичка потухла, но это не вызвало у членов комиссии никакого подозрения.
– А что произносил орех до коллективизации? – спросил один из них.
– Бессмысленный звон, – ответил дядя Сандро.
– Очень хорошо, – сказали члены комиссии и, довольные, переглянулись.
Дядя Сандро повел их домой обедать, где за хорошо убранным столом он продемонстрировал уже собственные таланты.
Члены комиссии в самом хорошем настроении покидали дом старого Хабуга. Проезжая сельсовет, они встретились с председателем и посоветовали ему пока воздержаться от решительных мер, поскольку орех в общем и целом делает полезное дело.
– Приезжают тут всякие, – начал было председатель подкапываться под дядю Сандро, но члены комиссии не дали ему договорить.
Они посоветовали выделить политически грамотного человека, чтобы он приглядывал за тем, что происходит возле молельного ореха и одновременно разъяснял приезжим колхозную политику партии.
Кстати, сказали они, Сандро, сын Хабуга, как раз подходит для этого дела, тем более что он ближе всех остальных живет к молельному дереву.
– Я ему не доверяю, – сказал Тимур, едва сдерживая ярость.
Двое верховых членов комиссии удивленно переглянулись. Их покачивающиеся фигуры как бы излучали марево гостеприимства Большого Дома, как называли дом отца дяди Сандро.
– Комиссия кенгурийского райкома ему доверяет, – сказал один из членов комиссии.
– А кенгурийский райком доверяет своей комиссии, – добавил второй, и они тронули лошадей.
– Теперь они не скоро обсохнут, – сказал председателю бывший писарь, а ныне секретарь чегемского сельсовета. Писарь лучше него знал привычки и нравы кенгурийцев, и председателю ничего не оставалось, как покориться, еще глубже возненавидев Большой Дом и всех его обитателей. Он не только смирился с тем, что молельный орех будет продолжать свою странную агитацию, но оформил дядю Сандро как ночного сторожа при колхозной бахче, хотя работа его проходила только в дневное время, если это можно назвать работой.
Дядя Сандро ожил и почувствовал себя при деле. Он поставил рядом с молельным орехом довольно вместительный шалаш, чтобы плохая погода не смущала приезжих из дальних мест, запасся дровами, очистил от колючих зарослей место для коновязи и стал встречать гостей, сидя в тени грецкого ореха с видом скромного дрессировщика.
В плохую погоду он сидел в своем шалаше у костра и, только услышав стук копыт, выходил из шалаша и смотрел на тропу, стараясь издали определить, кто это – сомневающийся паломник или просто мимоезжий всадник.
Однажды из села Анхара послушать говорящее дерево приехал известный острослов по прозвищу Колчерукий.
Дядя Сандро в это время сидел в шалаше и беседовал с тремя паломниками из Цебельды. Услышав стук копыт, дядя Сандро отставил свой стакан и вышел из шалаша.
Поздоровались. Хотя Колчерукий ничего не привез, дядя Сандро старался быть с ним повежливей – от Колчерукого никогда не знаешь чего ожидать, пришлепнет каким-нибудь словцом, потом с кожей не отдерешь.
– Ехал мимо, думаю, взгляну, – сказал Колчерукий, останавливая лошадь и оглядывая дерево.
– Спешься, – сказал дядя Сандро с намеком на легкое застолье в шалаше.
– Стережешь? – спросил Колчерукий, одним взглядом объединяя дядю Сандро, дерево и шалаш, и, как бы взвесив возможности этого походного гостеприимства и, по-видимому, невысоко их оценив, он отвернулся от шалаша и посмотрел на дядю Сандро.
– Не стерегу, а присматриваю, – мягко поправил его дядя Сандро, – всякие приезжают, чтоб лишнее не болтали.
– Так давай же! – нетерпеливо проговорил Колчерукий, словно он дяде Сандро делал услугу тем, что выслушивал его дерево. Да, в сущности, так оно и было, потому что слово Колчерукого могло усилить или заставить иссякнуть поток паломников.
– Чем хочешь – топором или колотушкой? – спросил дядя Сандро. К этому времени он приспособил для удара по дереву колотушку для молотьбы кукурузы.
– Да по мне хоть ломом бей! – дернулся Колчерукий.
Дядя Сандро ударил несколько раз колотушкой по стволу и обернулся на Колчерукого. Тот слушал, по-кабаньи наклонив голову.
– Хорошо говорит, – согласился Колчерукий. – Вот если б еще при каждом ударе из дупла сыпалась кукуруза…
– Какая кукуруза? – не понял дядя Сандро.
– Обыкновенная, – оживился Колчерукий. – Если к дуплу изнутри подвесить мешок с кукурузой да сделать в нем дырочку, чтобы при каждом ударе: – «Кумхоз!» – и горстка кукурузы падала…
– У меня без обмана, – сказал дядя Сандро, – комиссия из райкома смотрела…
– И сколько тебе дают за это? – перебил его Колчерукий.
– Полтрудодня, – сказал дядя Сандро.
– Да не колхоз – они! – кивнул Колчерукий вверх, в сторону всеобщего начальства.
– Они ничего не дают, – сказал дядя Сандро осторожно.
– А ты научи свое дерево говорить «заём», – начал Колчерукий, трогая лошадь, которая сразу же пошла нетерпеливой рысью, и теперь, уже давая волю собственной ярости и как бы находя для нее внешнее оправдание в увеличивающемся расстоянии, он кричал: – Заём! Заём! То-то порадуется хозяин! Растак его усатую задницу под сенью твоего молельного дерева! Разэтак его…
Голос Колчерукого утонул в буковой роще, куда он заехал, продолжая извергать уже неразличимые ругательства. Дядя Сандро послушал затихающий голос его и стук копыт, временами вспыхивающий на камнях, потом бросил колотушку возле шалаша и вошел в него.
– Кто это? – спросили удивленные гости.
– Да так, один, – сказал дядя Сандро, усаживаясь.
– Интересно, где он его имел в виду разэтак? – спросил один из гостей после некоторого раздумья.
– Думаю, что в дупле, – сказал дядя Сандро, берясь за свой стакан.
– Да, пожалуй, в дупле, – согласился второй паломник, берясь за стакан, – загнать его в дупло.
– Да уж его загонишь, – вздохнул первый паломник, – боюсь, что пока мы его словами, он нас на деле и растак и разэтак.
– А что поделаешь, если и дерево пищит про то же, – согласился третий, и они опорожнили свои стаканы.
Все лето дядя Сандро продолжал присматривать за молельным орехом. Люди все еще приходили, хотя их становилось все меньше и меньше. Председатель молчал, дожидаясь своего часа. И дождался.
В начале осени началась кампания по борьбе с религиозными предрассудками. В кенгурийской районной газете появилась статья под названием «Лишить попа трибуны», где предлагалось, в согласии с желанием большинства населения, закрыть уцелевшие церкви, что сделать было очень трудно и даже просто невозможно, поскольку в кенгурийском районе вообще никогда никаких церквей не бывало.
* * *
Я помню, как у нас в Мухусе закрывали церковь. Она была расположена недалеко от нашего дома и называлась греческой. Я смутно помню печальный, как бы бесплодно кующий воздух звон ее колокола, помню ее уютный дворик, по праздникам заполненный толпами молящихся зевак, с неизменными нищими, уютно расположившимися вдоль ограды и встречающими каждого входящего сдержанной мольбой и цепким взглядом.
Помню, как однажды на макушке ее купола сидел рабочий, обвязанный веревками, и методичными ударами тяжелого молота сбивал с купола массивный медный крест. Видно, крест не очень поддавался (старинная работа), потому что рабочий этот несколько дней возился с ним, а потом, когда креста на куполе не стало, на макушке купола можно было разглядеть выбоину, словно он его выкорчевал, вырвал с корнем, как дерево.
Церковь была занята под общежитие студентов индустриального техникума. А через год или два студенты общежития-церкви перешли в другое помещение, а церковь сдали под архивы НКВД, как, таинственно шепчась, говорили об этом жители нашей улицы.
К тому времени я уже пробегал в школу мимо нее и видел холмики папок, вернее, их вершины за стеклами витражей. Надо полагать, что это были папки с делами врагов народа, и не вполне исключено, что сам Господь Бог, слетая из-под купола, где он был запечатлен, рылся в них по ночам, чтобы разобраться в их грехах. И не разобравшись, надо полагать (иначе он принял бы какие-то меры), осторожно взлетал и снова вмазывался, вплющивался в потолок, чтоб и его самого невозможно было как-нибудь зацепить и сдернуть на землю, а там уж привлечь по какой-нибудь подходящей статье.
А потом во время войны ее снова открыли и опять стали называть греческой церковью, да ее, собственно, никогда и не переставали называть греческой церковью, но не в собственном смысле слова, а просто как привычный ориентир:
– Где дают керосин?
– Возле греческой церкви!
В один прекрасный день я снова увидел на вершине купола рабочего, обвязанного веревками, возможно, это был тот же самый рабочий, но теперь он присобачивал крест к вершине купола. Но даже и ребенку было видно, насколько этот крест не соответствует архитектуре здания. Старый крест был массивный, толстый, блестящий, а этот по сравнению с ним был как хилый росточек того мощного дерева. Нет, не на той земле он вырос! Я даже думаю, что этот крест раздобыли на Михайловском кладбище, сняли с какой-нибудь зажиточной дореволюционной могилы.
Так или иначе, церковь снова заработала, и дворик ее снова превратился в биржу нищих, и снова длинноволосые попы деловитой походкой входили в церковный двор, отстраняясь от богомолок, как чиновник райсовета, проходящий в свой кабинет, от хватающих его на ходу посетителей, и было одно непонятно, где их все это время держали и как они ухитрялись маскировать свои длинные волосы.
А церковь по-прежнему называли греческой и продолжали называть даже после того, как в 1949 году всех греков, вместе со стариками и детьми, партийцами и беспартийными, сгребли в одну кучу и переселили в Казахстан. А потом, после Двадцатого съезда, когда им разрешили вернуться, вместе с чудом уцелевшими стариками и повзрослевшими детьми, вместе с бывшими партийцами, ставшими беспартийными, те, что вернулись, а вернулось ничтожное меньшинство, так вот, те, что вернулись, могли убедиться, что в нашем городе церковь по-прежнему называют греческой, если к этому времени они не потеряли интерес к церкви, как и ко всему на свете, что, надо полагать, тоже вполне вероятно.
* * *
Но вернемся к чегемцам. По принятому у нас обычаю всякую кампанию принято поддерживать и развивать на местах. Разумеется, для антирелигиозной кампании не могло быть никакого исключения. На этот раз трудность состояла в том, что абхазцы – и те, что причисляют себя к христианам, и те, что считают себя мусульманами – не посещают ни церквей, ни мечетей по причине почти полного отсутствия их в абхазских деревнях. В кенгурийском районе никогда не было ни одной мечети и ни одной церкви. Но так как кампанию надо было проводить, каждый делал, что мог.
Председатель чегемского колхоза, посоветовавшись со своим активом, решил сжечь молельный орех как религиозный предрассудок. Комсомольцы села с радостью исполнили это решение. В тот же день в дупло наложили сухостоя и подожгли.
И все-таки могучее дерево уцелело, хотя из его обломанной вершины несколько дней продолжал идти дым, как из жерла вулкана. Часть ствола со стороны дупла почернела и обуглилась на несколько метров вверх, но другая сторона ствола почти не обгорела, пламя так и не смогло обхватить ее и задушить.
Видно, главным для чегемских комсомольцев было символическое предание огню молельного дерева, а не полное его уничтожение. Так или иначе дерево уцелело, даже виноградная лоза оказалась нетронутой.
– Кого не убил небесный огонь, того земным не возьмешь, – изрек на следующий день один из чегемцев по имени Сико. Он стоял у подножия молельного дерева и оглядывал его вместе с собравшимися земляками. Они пришли сюда с ближайшего поля, где мотыжили кукурузу.
Кунта, выгребая мотыгой золу из дупла, обнаружил в ней осколки чугунного котла, в котором пастухи варили мясо. Видно, котел не выдержал огня и лопнул.
Через некоторое время, к великому удивлению собравшихся, тот, что орудовал мотыгой, выгреб из дупла еще один котел совершенно непонятного происхождения. Этого котла никто здесь никогда не видел. Котел был покрыт толстым слоем копоти, слегка помят, но совершенно цел. Было непонятно, во-первых, как он здесь очутился, а во-вторых, как он уцелел, будучи медным, тогда как чугунный не выдержал и лопнул.
Только успели найти более или менее толковое объяснение этому чуду – было решено, что божество четвероногих подбросило этот котел, чтобы крестьяне не расстраивались и продолжали верить в защиту молельного ореха от всякой напасти. Вот оно и подбросило котел, хотя и не новый, но вполне пригодный для варки мяса.
Только успели подивиться этому достаточно пристойному чуду, как произошло нечто и вовсе не объяснимое. Неутомимый выгребальщик выгреб из дупла какие-то слегка обгорелые кости непонятного происхождения, после чего выкатил явно человеческий череп, хотя и объяснявший происхождение костей, но не объяснявший собственного происхождения.
– Откуда этот бедняга взялся? – только и повторяли чегемцы, передавая из рук в руки череп, кроме своих естественных отверстий имевший еще дополнительную дырку в самой черепной коробке. Одни из них старались проглянуть через эту дырку в глазницу, другие, наоборот, проглядывали через глазницу в эту дырку, но ни те, ни другие никак не могли объяснить происхождение этого черепа и костей.
Наконец кто-то догадался стукнуть по стволу топором, и, к еще большему недоумению собравшихся, дерево не только не ответило: «Кумхоззз!» – а издало какой-то нехороший, утробный звук. И сколько его ни били, никакого звона не получалось, а получался этот неприятный и даже как бы угрожающий звук.
– За что? – приуныли чегемцы.
– Как за что? – отвечал самый старший из них по имени Сико. – Вы его палить, а оно вам плясать?!
– Так то ж не мы!
– Надо было не пускать их сюда, – отвечал Сико, оглядывая кости и огромное выжженное дупло.
– Тогда почему оно подбросило котел? – недоумевали чегемцы. На этот вопрос даже Сико ничего им не мог ответить.
– Осторожно вложи все обратно, – кивнул он на череп и кости, – прикрой как следует золой, чтобы зверье не растащило…
Только Кунта закопал в золу таинственные останки, как из глубины котловины Сабида раздался выстрел. Всем стало не по себе.
– Неужто абреки пошаливают? – сказал кто-то.
– Я же сказал, что это просто так не кончится, – напомнил Сико, хотя он этого не говорил, а только подумал.
– Ша! Кажется, кто-то кричит, – сказал Кунта, и все прислушались. В самом деле, из глубины котловины Сабида раздавался почти беспрерывный человеческий крик. Звук как будто приближался. Наконец из зарослей появилась фигура человека.
Беспрерывно крича: «Чудо! Чудо! Светопреставление!» – человек поднимался вверх к молельному ореху. Это был знаменитый охотник Тендел. Продолжая кричать, он быстро поднимался по зеленому косогору. В руке у него телепался легкий пламень лисьей тушки.
– Да что же случилось? – спросили у него, когда он подошел к дереву.
– Чудо! – выдохнул он и, бросив к подножию ореха лисью тушку, рассказал, что случилось.
Оказывается, он увидел ее на лесной лужайке. Вытянувшись во всю длину, она лежала под камнем и следила за пасущимися поблизости лошадьми. Тенделу показалось странным, что лиса так внимательно следит за лошадьми. Тут он обратил внимание, что среди лошадей была кобылица с жеребенком. Странная догадка мелькнула в его голове. Он подумал, что это та самая лиса-дьяволица, которая когда-то сосала вымя коровы. И вот теперь она подбирается к кобылице.
Тщательно прицелившись, он выстрелил. Лиса, как лежала неподвижно, так и осталась лежать. Наповал, подумал он и подошел к добыче. Приподняв тушку, он удивился, что на ней не оказалось следов крови. А потом еще более удивился, не найдя на ее теле ни входного, ни выходного отверстия пули. Тут он окончательно убедился, что это та самая дьяволица, которая когда-то на его глазах сосала коровье вымя, нагло причмокивая и нетерпеливо дергая за сосцы.
Услышав такое, собравшиеся, в свою очередь, рассказали ему о том, что нашли в молельном дереве, одновременно щупая и осматривая лисью тушку с целью найти в ней входное или выходное отверстие пули.
– А может, она мертвая была? – сказал кто-то.
– Как бы не так, – отвечал Тендел, – она и сейчас еще теплая.
В самом деле, тушка была еще совсем свежая.
– Куда же делась пуля? – недоумевали чегемцы.
– Вошла в рот и вышла из задницы! – уверял Тендел. – Другого пути у нее не было.
– А может, внутри осталась? – спрашивали крестьяне, приподымая тушку и встряхивая ее вниз головой в надежде, что пуля выкатится.
– В том-то и дело, что не осталась! – кричал взволнованный Тендел. – Я же нашел место, где она вошла в землю. Кунта, бери мотыгу, сейчас откопаем ее.
Почему-то всем казалось естественным, что черновую работу, необходимую даже для показа чуда, должен выполнять именно Кунта. Кунта перекинул мотыгу через плечо, и все спустились вниз. Через час они возвратились с откопанной пулей Тендела.
Удивление и даже отчасти ужас охватили вернувшихся, когда они обнаружили, что тушка лисы, оставленная у подножия молельного дерева, куда-то исчезла. Тендел так и застыл со своей откопанной пулей в руке. Тут кто-то заметил, что котел, стоявший в дупле в нормальном положении, оказался перевернутым вверх дном.
– Клянусь божеством четвероногих, – воскликнул Тендел, – она его опрокинула на себя!
Он велел Кунте осторожно приподнять котел, а сам стал на изготовку, чтобы стрелять, как только она выскочит из котла. Но стрелять не пришлось, потому что под котлом ничего не оказалось. Тогда снова разгребли золу, чтобы посмотреть, на месте ли останки неизвестного. Нет, они оказались на месте, а тушка исчезла. Теперь все окончательно уверились, что это была та самая дьяволица, которая сосала у коровы молоко, причмокивая и дергая за сосцы, как телок.
– Дураки мы, дураки! – сказал Сико и ударил себя по голове в знак допущенной глупости. – Видно, пулю нельзя было откапывать. Она-то ее и прижимала к земле, делала мертвой.
Тут всем стало совершенно ясно, что пулю никак нельзя было откапывать, и все, в том числе и Тендел, с укором посмотрели на Кунту, который орудовал своей мотыгой.
Кунта смутился и предложил всем вернуться на кукурузник и домотыжить тот участок, на котором они работали с утра.
– Ты что, совсем спятил! – воскликнул Сико. – Тихонько, по одному расходитесь по домам!
Перекинув мотыги через плечо, чегемцы поднялись в деревню и с выражением оскорбленности потусторонними силами (не дают спокойно работать) разбрелись по домам.
Весть о случившемся мгновенно облетела Чегем, а через день и окрестные села. Больше всего чегемцев потрясло, что дерево перестало говорить «Кум-хоз!», и история с лисой. Появление неизвестного котла и человеческого скелета тоже поразило чегемцев, но не так сильно.
Правда, на следующий день к вечеру выяснилось, что тушку забрал Хабуг, как раз в это время проходивший мимо молельного ореха. Он возвращался из лесу, где проверял свои капканы. Может, окажись что-нибудь в его капканах, говорили чегемцы миролюбиво, он бы не взял эту лису, а так не удержался и прихватил.
Тендел прибежал к нему за своей лисой, но Хабуг ему не отдал ее, утверждая, что лису убил не Тендел, а его, Хабуга, мул. Он даже показал на не замеченную никем трещинку на черепе лисы. Тендел с ним спорил, что, имея в руках мертвую лису, Хабуг мог и вовсе расплющить ей голову.
Хабуг основывал свои доказательства на том, что мулы, как животные, не способные к воспроизводству потомства, питают самую нежную привязанность к жеребятам. Если появляется где-то поблизости жеребенок, то мул старается ни на минуту от него не отходить и с неслыханным бешенством защищает его от мнимой или настоящей опасности.
– В прошлом году двух зайцев уложил, – говорил Хабуг про своего мула, – в этом году лису.
– Тогда почему ты сразу не сказал, что это твой мул убил лису? – пытался поймать его Тендел.
– Хотел послушать, кто какие глупости будет говорить, – отвечал Хабуг.
– Проверим следы, – пригрозил Тендел.
– Проверяйте, – отвечал Хабуг.
Он настолько был уверен, что лиса попала под разъяренное копыто мула, что и спускаться не стал к тому месту, где была убита лиса, чтобы найти след от копыт своего мула. Спустились другие люди и в самом деле подтвердили, что возле камня есть следы мула. Тут чегемцы настолько разочаровались в Тенделе, что не только перестали верить в причмокивающую под коровьим выменем лису, не только в медведя, водившего его за нос, в это они и раньше не слишком верили, а перестали верить даже в то, что он однажды ушел в лес с целым носом, а возвратился со сломанным.
– Сдается мне, что он всегда был кривоносым, – первым отрекся от него Сико, как один из пожилых людей, который мог помнить лучше других о юности Тендела.
Тут сам Тендел и весь охотничий клан почувствовали как бы генетическую обиду за эту унизительную версию и потребовали от Сико пользоваться впредь более приличными формулировками.
– Обижаются?! – воскликнул Сико, услышав об этом. – Пусть посмотрят на свои носы!
Дело в том, что Сико, как очевидец истории с лисой и один из первых ее рассказчиков, сам попал впросак после того, как победила более правдоподобная версия смерти лисы под копытом мула. Этого он охотнику не мог простить, тем более что род Тендела и в самом деле отличался носатостью.
На эту его дерзкую выходку родственники охотника утверждали, что можно оказаться кривоносым и не будучи носатым от природы, что они в самое ближайшее время и постараются доказать.
На эту угрозу Сико после суточного раздумья отвечал, что, судя по стрельбе лучшего охотника их клана, пули их имеют свойство влетать в рот и вылетать из задницы, так что он уже договорился с Кунтой: тот будет ходить за ним с мотыгой и откапывать их из земли.
Тут родственники Тендела замолкли, и это было настолько плохим признаком, что в дело вмешался сам Хабуг. Он во всеуслышанье заявил, как один из самых старших жителей села, что прекрасно помнит Тендела еще в те времена, когда тот имел вполне приличный (для своего рода), ничем не поврежденный нос. Что же насчет лисы, добавил он, то и лису, если как следует вытянуть, можно прострелить хоть в том направлении, хоть в обратном, особенно если она лежит на склоне, а перед этим убита копытом какого-нибудь ревнивого мула.
Вмешательство Хабуга как будто несколько смягчило родственников охотника, хотя они были не вполне довольны некоторыми его определениями.
Пока чегемцы думали и гадали, что бы значили чудеса в дупле молельного дерева и чем окончится спор Сико с охотничьим кланом, из села Анхара, где жил Колчерукий, стали доходить слухи о таинственном исчезновении колхозного бухгалтера.
Оказывается, этот бухгалтер ехал с колхозными деньгами из райцентра к себе в село, но до села не доехал, а в райцентр не вернулся. Впрочем, в райцентр ему и незачем было возвращаться.
Может, председатель и не догадался бы сопоставить некоторые странные факты, если бы секретарь сельсовета не шепнул ему кое-что. А шепнул он ему, что за день до сожжения молельного дерева люди видели, как Сандро у себя в шалаше принимал какого-то странного человека. Людям этот человек показался странным, потому что сам он был лысым, а лошадь его, привязанная у коновязи, наоборот, была чересчур гриваста, прямо лев какой-то.
– Никому ни слова, – оживился председатель и послал его в село Анхара уточнить внешность лошади и самого бухгалтера, а заодно узнать, не брал ли он с собой из дому медный котел.
– И лошадь была гривастая, и сам он был лыс, как ладонь, – рассказал секретарь, вернувшись, – а насчет котла ничего не знают, потому что все котлы и чугунки на месте.
– Сандро нарочно подбросил этот котел, чтобы нас запутать, – сказал председатель и тут же послал его в Кенгурск за милицией.
Версия у него была такая: Сандро убил бухгалтера с целью грабежа, подвесил труп изнутри дупла, чтобы, выбрав удобный момент, вывезти его в лес и закопать. Но тут неожиданно для него на следующий день нагрянули комсомольцы и сожгли труп вместе с деревом.
В ту же ночь он приказал сторожу сельмага притаиться в зарослях ежевики возле дома Сандро и следить за тем, чтобы из дома ничего не вынесли. Он решил, что Сандро, убив бухгалтера, увел лошадь куда-то в лес и держит ее там, а седло, скорее всего, припрятал дома. А теперь, когда пошли слухи об исчезнувшем бухгалтере, он, боясь обыска, вынесет седло из дому и перепрячет его в другом месте. Рано утром, вспугнутый выстрелом Хабуга, сторож сельмага вернулся в правление колхоза. Оказывается, старик, громко крича, что проклятые зайцы ему всю фасоль потравили, дал из своего дробовика два выстрела с балкона. Видно, сторожа почуяли собаки.
– Выносили что-нибудь ночью? – спросил председатель.
– Нет, – ответил сторож и соврал, потому что жена Хабуга ночью принесла ему кусок курицы и чурек. Она умоляла его сидеть в своей засаде как можно тише, а то, не дай бог, если ее старик узнает, что за его домом следят, всех переколошматит.
– Можно, я усну? – спросил сторож.
– Лучше не придумаешь, – ответила она, и сторож тут же уснул, подчиняясь многолетней привычке спать в самых неприхотливых условиях.
В этот день почти одновременно с двух разных сторон к правлению колхоза подъехал кенгурийский милиционер и двое родственников бухгалтера во главе с Колчеруким. Один из родственников, пожилой крестьянин, был в бурке и в башлыке. Другой, как говорится, в расцвете сил, а одежда его намекала на принадлежность к партийной администрации, хотя он к ней никакого отношения не имел. Одет он был в чесучовый китель и в широкие галифе с сапогами. Так что, если судить по одежде, можно было сказать, что, начиная от головы и до пояса, он как бы представлял законодательную власть, а от пояса до сапог – исполнительную.
Председатель колхоза и председатель сельсовета, увидев гостей, вышли из правления и после некоторых колебаний, разделившись, подошли к прибывшим. Первый подошел к милиционеру, а второй – к родственникам бухгалтера.
– Бухгалтера спалили, так хоть бы лошадь назад отослали! – крикнул Колчерукий вместо приветствия и, быстро спешившись, привязал свою лошадь у коновязи.
– Подожди, Колчерукий, – заметил старший родственник, отдавая поводья председателю сельсовета.
– Не в лошади дело, – важно сказал председатель, подходя к ним и пожимая всем руки. Он это сказал скорбным голосом и при этом покачал головой с политическим намеком. Милиционер тоже качнул головой, как бы придерживая знакомую правильность направления мыслей.
– Как это не в лошади! – удивился Колчерукий. – Что ж он ее, спалил вместе с нашим бухгалтером?
– Да нет! – поморщился Тимур оттого, что Колчерукий путал высокое с низким. – Орех сожгли наши комсомольцы по решению актива…
Тут он изложил версию преступления Сандро так, как сам ее представлял себе или хотел представить другим. Он сказал, что Сандро, по-видимому, убил бухгалтера и спрятал в дупле, чтобы потом, выбрав удобное время, закопать его где-нибудь подальше, где деревенские собаки и окрестные шакалы не могли бы его откопать. А тут на следующий день комсомольцы предали огню молельный орех, и преступление обнаружилось.
– А где лошадь? – перебил его Колчерукий.
– Лошадь, я думаю, он держит где-нибудь в лесу, – сказал председатель.
– Мы так думаем, – поправил его Махты. Ему уже приходилось напоминать, что он тоже власть, но в Чегеме, как и по всей стране, это забывалось.
– Надо допросить Сандро и осмотреть место, где найдены кости бухгалтера, – подытожил милиционер.
– Поедем к ореху, а там и до Сандро рукой подать, – сказал Махты.
Председатель попрощался со всеми и ушел в правление.
Махты оседлал свою лошадь, которая паслась во дворе сельсовета, и все пятеро выехали в сторону молельного ореха.
– Об одном прошу, – сказал старший родственник, подъезжая поближе к милиционеру, – не оскверните кости нашего родственника – не надо их щупать там, мерить, лапать…
Тут милиционер опешил и остановил лошадь.
– Но я собираюсь, – сказал он, – забрать кости вместе с Сандро…
– Ты из России приехал или из Кенгурска? – спросил старший родственник и тоже остановил лошадь. К нему подъехал младший родственник и остановился рядом. Теперь все остановили лошадей.
– Из Кенгурска, – сказал милиционер, краем глаза послеживая за правой рукой младшего родственника. Тот перебросил поводья в левую руку.
– И ты не знаешь, что абхазец не разбрасывается костями родственника!
– Значит, хотите дважды нас опозорить? – спросил старший родственник.
– Трижды! – поправил его младший. – Убили – раз. Сожгли – два. Кости увозите – три.
– Да, трижды, – согласился старший родственник, выслушав младшего и посмотрев на милиционера.
– Не считая лошади, – добавил Колчерукий, оглянувшись. Он был впереди.
– Не считая, – терпеливо согласился старший.
– Суд, – сказал милиционер и развел руками.
– Да, – как бы сочувствуя родственникам, добавил Махты, – у них такой обычай, кости адвокатам показывать.
Он тронул лошадь, и все поехали.
– Неужели вы думаете, – после глубокого раздумья сказал старший родственник, – что мы допустим это?
– Что это? – спросил милиционер.
– Что ты, гремя костями нашего родственника, поедешь в район?
– Если туго завязать… – начал было милиционер.
– Ни слова! – перебил его младший родственник, слегка наезжая на него лошадью.
– И неужели вы думаете, мы допустим, – продолжал старший, – чтобы его государство судило, а не мы?
– А почему? – миролюбиво отозвался Махты. – Сейчас государство хорошо судит.
– Не спорю, – согласился старший родственник, – государство судит неплохо. Но он у нас убил родственника, а не у государства.
Они выехали из буковой рощи, и, когда тропа пошла по косогору, далеко внизу открылось рыжее кукурузное поле. Отсюда, с тропы, были видны фигурки крестьян, ломающих кукурузу.
– Э-гей, гей, Кун-таа! – крикнул Махты, остановив лошадь и страшно раздув шею.
Было видно, как запаздывает звук: люди на кукурузном ноле замерли уже после того, как Махты докричал.
– Эге-гей, чего тебе! – наконец отозвался один из них. Махты снова напружинился и, раздувая шею, закричал:
– Приходи к Большому ореху! Большому! Большо-муу!
– Зачем он нам? – спросил милиционер.
– Он разгребал дупло, – пояснил Махты.
Они стояли на тропе и смотрели, как далеко внизу фигурки остановились, видно, о чем-то переговариваясь. Потом разом все стали подниматься к тропе. Те, что работали, скинув рубахи, на ходу одевались и затягивали пояса.
– Тьфу ты! – сплюнул Махты. – Так и знал, что все попрут.
Он прочистил глотку и снова стал кричать, чтобы подымался только Кунта. Остальные после некоторого раздумья неохотно повернули обратно.
– Тронули, сам придет, – сказал Махты, и они поехали дальше.
Через час пятеро всадников подъехали к молельному ореху. Они спешились у коновязи, а Колчерукий, взяв свою лошадь под уздцы, спустился к роднику.
– Моя лошадь пить хочет, – пояснил он с нескрываемым эгоцентризмом старого лошадника.
– Вот здесь лежат его кости, – протянул Махты руку с камчой, указывая на пещеру дупла.
Оба родственника, скорбно приосанившись, тихо подошли к дуплу. Старший, молча сняв башлык с потной головы и нанося по лбу символические и потому тихие удары ладонью, репетировал будущий ритуал оплакивания. Ударяя по лбу ладонью, он пропел тихим речитативом слова скорби, отчасти прозвучавшие как обещание возмездия.
Через минуту младший родственник, стоявший за ним, слегка повернул его за плечи и отвел в сторону, где тот, отвернувшись от остальных, утер якобы повлажневшие глаза и неожиданно громко, с видимым облегчением высморкался. После этого он решительно надел на голову башлык в знак перехода из мира скорби в мир действия.
– Сейчас подойдет свидетель и покажет, как все было, – миролюбиво сказал Махты, как бы притормаживая его решительность.
– До него мы не имеем права трогать ни одной косточки, – пояснил милиционер, неустанно удивляясь сам и призывая удивляться других таинственному ритуалу следствия.
– Не пора ли мне пойти за Сандро? – спросил Махты.
– Нет, – сказал старший родственник, – мы сначала должны посоветоваться… – Он повернулся к Колчерукому: – Ты приехал лошадь поить или дело делать?
– Сейчас, – отозвался Колчерукий и, подняв лошадь к коновязи, закинул уздечку за сучок.
– А что вы хотите с ним делать? – спросил милиционер.
– Вот мы и решим, – сказал младший родственник.
– Учтите, я за него отвечаю, – сказал милиционер.
– Кровь взывает, – сказал младший родственник, пожимая плечами.
Оба родственника вместе с Колчеруким отошли шагов на двадцать и стали разговаривать, а потом спорить, время от времени поглядывая на милиционера. Видно было, что младший родственник настроен все еще воинственно. Милиционер взволнованно похаживал возле дерева, время от времени поглядывая на них.
– Клянусь аллахом, они наделают глупостей, – бормотал он, – и меня и себя загубят.
– Может, не наделают, – успокаивал его Махты.
Спорящие вошли в азарт, и Колчерукий, уже не обращая внимания на то, что их слышат, громко шлепал здоровой рукой по бедру и кричал:
– Нельзя! Тем более на глазах у милиционера!
– Клянусь Нестором Лакобой, – волновался милиционер, слушая эти разговоры, – эти люди меня загубят!
– Да, но кровь взывает! – не унимался младший родственник.
В конце концов Колчерукий сумел успокоить его, дав понять, что убить никогда не поздно, если окажется, что Сандро виноват.
– Арестуют – потом иди ищи, – сказал младший.
– Ладно, иди приведи его, – согласился старший, обращаясь к Махты.
– Я быстро, – ответил тот и заторопился вниз по тропе. Все-таки он боялся, что родственники передумают.
Через минуту он скрылся за поворотом тропы, а Колчерукий с обоими родственниками и милиционером уселись на траву у подножия ореха.
– Одно меня смущает в его пользу, – сказал старший родственник, выходя из задумчивости, – если он убил, почему не скрылся?
– Вот именно, – сказал милиционер, – возьмем в Кенгурск и все выясним.
– Его или кости? – спросил старший.
– И его и кости, – ответил милиционер.
– На кости мы не согласны, – сказал старший, подумав.
– И Сандро вам и кости – не многовато ли? – добавил младший.
– Опять двадцать пять! – хлопнул милиционер себя по колену. – Вы мне даете Сандро увезти в живом виде, почему?
– Потому что не уверены, что он убил, – сказал старший.
– Если вы не уверены, что убил Сандро, почему вы уверены, что это кости вашего бухгалтера?
– Тоже верно, – согласился старший.
– А если ваш бухгалтер сбежал куда-то с деньгами?
– Конечно, дай бог, – сказал старший.
– Эх, дуралей, – вздохнул Колчерукий, – говорил я ему – продай лошадь.
– Зачем каркаешь, Колчерукий, – сказал младший, – может, он и в самом деле сбежал.
– Тогда нам лошади никогда не увидеть, – вздохнул Колчерукий, – но если его убил Сандро, лошадь где-то поблизости.
– Нет, – снова заупрямился старший, – и Сандро и кости отдавать вам будет многовато.
– Опять двадцать пять! – хлопнул милиционер себя по колену. – Мы же договорились?
– А вдруг он убил?
– Вот там и выяснят, – сказал милиционер, – в городе сейчас такие доктора есть – посмотрят на любую кость человека и сразу говорят имя и фамилию ее бывшего владельца.
– Знаю, слыхал, – согласился старший, – но боюсь, осквернят.
– Ничего не сделается с костями твоего бухгалтера, – сказал милиционер.
– Значит, ты думаешь, все-таки это он? – встрепенулся старший.
– О, аллах, – вздохнул милиционер, – я ничего не думаю.
На тропе появились люди. Впереди шел Кунта с мотыгой на плече, за ним шел дядя Сандро, похлестывая камчой, а за ним – председатель сельсовета.
– Я их на дороге застал, – сказал он, стараясь угадать, как будут вести себя родственники бухгалтера.
Увидев Сандро, они оба встали в позу, выражающую воинственную непреклонность.
– А я решил, – сказал Кунта, добродушно улыбаясь, – все равно вам Сандро понадобится, вот и зашел.
– Остановись, Сандро, между нами – кровь! – сказал старший, а младший засунул руку в карман галифе.
– Клянусь хлебом-солью моего отца, – торжественно сказал дядя Сандро, – а хлеб-соль моего отца, как вы знаете, чего-то стоит…
– Ему цены нет, – подтвердил старший.
– …Так вот, клянусь хлебом-солью, что между нами крови нет.
Стало тихо. Все ждали, что скажет старший родственник.
– Пока верим, – сказал он. Младший вынул руку из кармана.
– Вот и хорошо, – обрадовался милиционер, – вот это по-нашему, по-советски, а ты, – обратился он к Кунте, – расскажи, как было.
Кунта, помаргивая своими птичьими ресницами над бледными голубыми глазами, все смотрел на Колчерукого.
– Сдается мне, что Кунта собирается менять свой горб на мою колчерукую, – сказал Колчерукий.
– Это от бога, это не меняют, – серьезно ответил Кунта, – но я тебя сначала не признал.
– Так я теперь кумхозник! – закричал Колчерукий. – Говорят, у меня в кумхозе рука расцветет, как ты думаешь, Кунта?
– Они говорят, к лучшему, посмотрим, – все так же серьезно ответил Кунта и снял мотыгу с плеча.
– Да ты дело рассказывай! – перебил его председатель сельсовета.
– Мы пришли сюда, – начал Кунта, положив руку на мотыгу, как на посох, – хотели посмотреть, что стало с нашим великаном. Приходим, а он еще дымит. Тут Датико садится и говорит: «Кунта, разгреби-ка золу, посмотрим, что стало с котлом: расплавился или лопнул». А Сико уселся, вот где Колчерукий сейчас стоит, и стал цигарку крутить, приговаривая: «Что мне в этом кумхозе нравится, так это перекур».
– Да ты дело говори, – снова перебил его Махты.
Продолжая рассказывать, Кунта стал мотыгой разгребать в дупле золу и выгребать попадающиеся кости. Милиционер наклонился и осторожно стал складывать из этих костей скелет, громко объясняя свои действия и иногда меняя расположение костей. Кунта осторожно выкатил черепную коробку, и милиционер приладил ее к месту.
– Похоже? – спросил он, приподымаясь и почему-то заглядывая в глаза дяде Сандро. Дядя Сандро выдержал его взгляд и пожал плечами. Родственники тоже пожали плечами.
– Не знаю, не знаю, – сказал старший, брезгливо выпятив губу в знак чужеродности скелета и в то же время, на всякий случай, скорбя глазами. Колчерукий наклонился и приподнял череп.
– Осторожно, не доломай, – сказал старший родственник.
– Куда уж доламывать, – ответил Колчерукий, вглядываясь в череп буравчиками глаз, – клянусь аллахом, кроме лысости, ничего общего с нашим бухгалтером.
– Дай бог, – сказал старший родственник.
Тут дядя Сандро рассказал по просьбе милиционера все, что он знал о бухгалтере, и всех пригласил в дом. Старший родственник заартачился было, но Колчерукий опять его переупрямил.
– Мы в дом не войдем, – сказал он, садясь на лошадь, – во дворе примем хлеб-соль и поедем дальше.
– А если кровь воззовет? – спросил старший.
– Если воззовет, услышим, – отвечал ему Колчерукий, выезжая на тропу, – не глухие, слава богу.
Теперь все подымались по тропе. Впереди Колчерукий, сзади дядя Сандро с милиционером, державшим коня под уздцы, следом остальные. Шествие замыкал Кунта. В одной руке он держал свою мотыгу, в другой плащ милиционера с вложенными в него костями неизвестного.
Милиционер для очистки совести по дороге пытался запутать дядю Сандро, но дядя Сандро не давался. На все вопросы он отвечал, спокойно пощелкивая камчой по голенищу сапога.
– Не обижайся, Сандро, – сказал ему милиционер, – я должен отвезти тебя в райцентр… Председатель тебя подозревает…
– С удовольствием поеду, – отвечал дядя Сандро, – тем более что я его тоже подозреваю.
– В чем? – спросил милиционер.
– Думаю, что это он сам или через своих комсомольцев подкинул кости.
– Сандро, – откликнулся Махты, – зачем ты при мне говоришь такое о председателе? В какое положение ты меня ставишь?
– Я и при нем скажу, – отвечал дядя Сандро и, ускорив шаги, открыл ворота во двор своего дома. Все столпились у ворот, решая, кому въехать первым. Наконец первым въехал старший родственник, потом Колчерукий, потом остальные. Председатель сельсовета было заупрямился, но потом слабость взяла верх, и он согласился. Он почувствовал, что с классовой точки зрения сейчас некрасиво принимать угощение в доме дяди Сандро, но он так за это время проголодался, а в этом доме умели угостить, и он въехал. Ничего, подумал он, в крайнем случае скажу председателю, что я хотел до конца выяснить все их планы.
Колчерукий, въехав во двор, разогнал лошадь и от избытка чувств поставил ее на дыбы. Старший родственник, глядя на него, скорбно покачал головой, давая знать, что он слишком забывает о траурно-карательном замысле, если не смысле их маленькой экспедиции.
В знак того, что трапеза принимается на ходу, стол накрыли на дворе, стульев не выносили – ели и пили стоя.
Говорят, не бойся гостя сидящего, а бойся гостя стоящего. Тем более пьющего строя, ибо желудок такого гостя, как хорошо расправленный бурдюк, делается значительно вместительней.
Солнце уже садилось за гору, когда гости отвалились от стола.
Мать Сандро выдала милиционеру хурджин, куда он выложил кости неизвестного, обмотав каждую из них клочьями сена. По предложению старшего родственника, череп не только обмотали сеном, но и плотно набили его изнутри для прочности.
– Не означает ли это, – сказал Колчерукий, имея в виду способ упаковки черепа, – что вы оскорбляете нашего бухгалтера?
– Не означает, – отвечал старший родственник, не склонный предаваться шуткам на эту тему.
Мать, сестры, двое младших братьев провожали гостей до развилья тропы, где милиционер и дядя Сандро направились по тропе, ведущей в Кенгурск, а остальные – к себе в село Анхара.
– Сандро, не забудь вернуть хурджин, когда будешь ехать обратно, – сказала мать на прощанье.
– На рысь не переходите, прошу вас! – крикнул старший родственник, поворачивая коня.
– Не бойся, – ответил милиционер, похлопав рукой хурджин, притороченный к седлу. Они уже было отъехали, когда обернулся Колчерукий.
– Сандро, – крикнул он, – по дороге, как увидишь дуплистое дерево, так стучи в него, авось что-нибудь выстучишь для начальства.
Посмеялись и разъехались в разные стороны. Стройная высокая фигура дяди Сандро, затянутая в черкеску, рядом с маленьким милиционером – это никак не выражало их истинных социальных отношений. Скорее всего, он был похож на кавалерийского офицера, может быть, из Дикой дивизии, едущего рядом со своим денщиком.
* * *
В райцентре, несмотря на устные протесты, дядю Сандро посадили в местную тюрьму, созданную на базе местной крепости. Следователь милиции несколько раз вызывал дядю Сандро на допрос, но тот ничего толком по поводу убийства бухгалтера не мог сообщить. Он упирал на то, что председатель колхоза нарушил решение райкомовской комиссии и сжег молельный орех. Вероятно, говорил он, после незаконного сожжения дерева, ночью он сам или через своих комсомольцев подбросил эти кости в дупло.
– Тогда скажи, где бухгалтер? – ловил его следователь.
– Не знаю, – отвечал дядя Сандро, – он посидел со мной часок и уехал.
– Тогда скажи, о чем он говорил? – настаивал следователь.
– Он говорил, – отвечал дядя Сандро, – что облысел на учебе, а счастья не видит.
Так следователь несколько раз допрашивал дядю Сандро и, записав все его ответы, снова отправлял его в тюрьму. Поняв, что ответы его приносят пользу только следователю, а ему самому никакой пользы не приносят, дядя Сандро замолчал.
На отказ дяди Сандро говорить с ним следователь не обиделся.
– Ну, тогда просто так посиди, – сказал ему следователь, – а я потихоньку буду собирать на тебя материал.
– А побыстрей нельзя? – спросил дядя Сандро.
– А куда спешить? – ответил следователь.
– Я-то не спешу, – сказал дядя Сандро, – но перед родственниками неудобно.
– Почему? – удивился следователь.
– Я же у них свою лошадь оставил, – разъяснил дядя Сандро, – вот они и не знают, то ли ждать меня, то ли отправлять лошадь назад.
– Хорошо, – хитрил следователь, – про бухгалтера не спрашиваю… Скажи, где его лошадь, а я скажу, как быть с твоей лошадью.
– Не знаю, – отвечал дядя Сандро, не давая себя поймать.
– Тогда посиди еще, – заключил следователь.
В те годы, по словам очевидцев, в кенгурийской районной тюрьме сиделось совсем неплохо. Правда, через несколько лет порядки в ней резко изменились, но тогда еще жить можно было.
Например, с родственниками можно было запросто переговариваться через бойницы. Близко не подпускали, а так, метров за двадцать, за тридцать, пожалуйста, говори сколько хочешь, – если, конечно, твой родственник не тугоух. Да тугоухие и сами не приходили, потому что знали об этом, а если им не терпелось поговорить со своим арестантом, они приводили с собой какого-нибудь родственника поушастей и переговаривались через него.
Передачи можно было получать, когда захочешь, потому что все надзиратели имели свою хорошую долю с этих передач. Так что передачи поощрялись. А если попадался хороший дежурный, то и вино можно было получить, но только не в бутылках, а в бурдючках. В бутылке даже молоко нельзя было получить, потому что бутылки запрещались как острые предметы.
Вообще-то, вино, конечно, запрещалось. Но начальник тюрьмы запретил его выдавать только не умеющим пить буянам. Одно время под влиянием доноса, написанного одним из буянов, он совсем запретил выдавать вино, но тогда родственники, приносившие передачи, тоже перестали приносить вино, что сильно не понравилось дежурным надзирателям, переставшим получать свою долю. Тогда начальник тюрьмы махнул на это рукой и только велел всех завистливых буянов пересадить в одну камеру, чтобы они не растравляли себя бессмысленной завистью.
Одним словом, жить тогда в тюрьме можно было. Во всяком случае, в кенгурийской тюрьме. Но все-таки через месяц дядя Сандро здорово заскучал, потому что тюрьма, хоть и с кенгурийскими удобствами, она все-таки тюрьма. К тому же товарищи по камере, в которой он сидел, стали по второму разу рассказывать случаи из своей небогатой жизни, и дядя Сандро понял, что надо что-то делать.
Но он так и не придумал, что делать, потому что в один из этих дней, когда он особенно скучал, в камеру вошел надзиратель и рассказал новость. Он рассказал, что лошадь бухгалтера вернулась домой и сейчас стоит у его родителей на привязи, и они с нее глаз не спускают.
Весть эта сильно взволновала дядю Сандро, и он потребовал свидания со своим следователем.
– Да, да, – согласился следователь, – мы об этом уже знаем, но тебя обвиняют в убийстве бухгалтера, а не его лошади.
– Раз нашлась лошадь, найдется и бухгалтер, – уверенно ответил дядя Сандро.
– Найдется, тогда посмотрим, – уклончиво обнадежил его следователь.
Дядю Сандро снова увели в камеру. На следующий день тот же надзиратель принес еще более радостную весть. Оказывается, через двое суток после прихода лошади по ее следам в деревню пришел пастух-адыгеец и стал требовать лошадь. Его заманили в правление колхоза и там разоружили и заперли, после чего он сознался, что лошадь эту он купил у лысого человека – по всем признакам, колхозного бухгалтера.
– Тогда куда делся наш бухгалтер? – спросили у него.
– Спустился в Россию, – ответил он.
Дядя Сандро опять заволновался и потребовал, чтобы его отвели к следователю. Но следователь принять его отказался, хотя велел ему передать через дежурного, что все это он уже знает.
Через неделю тот же неугомонный надзиратель, которого правильнее было бы назвать глашатаем, принес еще более замечательную весть. Оказывается, бухгалтера накрыли в ставропольском привокзальном ресторане с неизвестной женщиной, которая после допроса созналась, что она коридорная краснодарского Дома колхозников.
– Обоих везут сюда, – сказал надзиратель, – теперь твоя судьба решена.
Дядя Сандро снова затребовал встречи со следователем, но ему опять отказали в законной просьбе. Тогда он решил действовать народным средством. Он передал на волю, чтобы кто-нибудь из стоящих людей как следует пуганул следователя.
Выбор пал на Колчерукого. То ли потому, что он в самом деле был уважаемым человеком, пользующимся общественным доверием, то ли потому, что он уже принимал участие в судьбе дяди Сандро, теперь уже неизвестно. Скорее всего, и то и другое.
В один прекрасный день он появился в райцентре на лошади бухгалтера и при встрече со знакомыми людьми говорил, что ему поручено приискать нового следователя.
– А что же старый? – спрашивали у него.
– Начинает пованивать, – отвечал он, косясь на солнце, – нам бы посвежее кого.
Сначала следователь, когда ему первый раз сказали, что Колчерукий появился в райцентре и говорит такие странные слова, махнул рукой, мол, пусть болтает. Но когда ему еще несколько человек об этом же сказали, да еще прибавили, что Колчерукий приехал не на своей лошади, а на лошади арестованного бухгалтера, следователь занервничал, он понял, что это намек, и притом опасный.
– А в райкоме что говорят? – спросил он у человека, последним встречавшего Колчерукого.
– Кажется, пока еще не знают, – отвечал он.
– А сейчас где Колчерукий? – спросил следователь, все еще надеясь, что беду пронесет.
– В сторону тюрьмы поехал, – отвечал тот.
Тюрьма находилась у выезда из Кенгурска, и следователь не знал, радоваться ему или надо что-то предпринимать, то ли Колчерукий, угомонившись, выехал из Кенгурска, то ли еще что-нибудь надумал.
Тут ему позвонил начальник милиции, и следователь, взяв трубку, побледнел. Оказывается, начальнику милиции позвонил начальник тюрьмы и сказал, что Колчерукий только что проехал мимо тюрьмы и, крикнув своим громовым голосом: «Крепитесь, ребята!» – ускакал в сторону своей деревни. Начальник тюрьмы советовал начальнику милиции послать вдогон ему отряд верховых милиционеров с тем, чтобы задержать его и выяснить, что он хотел этим сказать. Начальник милиции отклонил предложение начальника тюрьмы, но, зная о том, что Колчерукий приехал на лошади бухгалтера, дал следователю нагоняй за нечеткое ведение дела.
Следователь немедленно вызвал дядю Сандро на допрос.
– Только не говори, что не ты послал Колчерукого! – в сильнейшем волнении произнес он, увидев его.
– Я пока ничего не говорю, – отвечал дядя Сандро спокойно. То ли Колчерукий его успокоил своим бодрящим лозунгом, то ли он, увидев взволнованного следователя, понял, что правда побеждает.
– Что он этим хотел сказать? – стал допытываться следователь, но дядя Сандро был спокоен и непреклонен.
– «Не падайте духом» – вот что хотел сказать, – отвечал дядя Сандро.
– А если это проходит как призыв к сопротивлению властям? – сказал следователь, удивляясь твердости и спокойствию дяди Сандро.
– Не проходит, – сухо отвечал ему дядя Сандро, и следователь понял, что надо переходить на более сговорчивый тон.
Интересно, что через множество лет, во время войны, когда Колчерукого привлекли (читай главу «Колчерукий», где, впрочем, об этом ничего не говорится) к ответственности за то, что он пересадил тунговое дерево с колхозного поля на свою фиктивную могилу, ему напомнили об этом случае, но Колчерукий сделал вид, что ничего не помнит.
– Я знаю, что ты не убивал бухгалтера, – говорил следователь дяде Сандро, перейдя на более миролюбивый тон, – но войди и ты в мое положение.
– Ты меня посадил, и я должен входить в твое положение?
– Но ведь все-таки кости нашли в твоем дупле?
– Председатель подбросил, – твердо держался дядя Сандро взятой линии, – или сам или через своих комсомольцев.
– Это еще надо доказать, – сказал следователь.
– Отпусти – докажу, – обещал дядя Сандро.
– В том-то и дело, что не могу, – вздохнул следователь, – я бы тебя отпустил, но в газете уже написали об этом… Приходил тут один из «Кенгурийской нови». Он написал, что ты убил бухгалтера, как несмирившийся сын смирившегося кулака.
– Но ведь бухгалтер жив? – удивился дядя Сандро.
– Это верно, – вздохнул следователь, – и мы его осудим как растратчика. Но если тебя сейчас отпустить, получится, что газета ошиблась.
Как ни лукав был дядя Сандро, а все-таки такие хитрости не понимал.
– Сколько штук этой газеты выходит? – спросил он.
– Десять тысяч, – ответил следователь.
– И во всех так написано? (Позже, рассказывая об этом случае, дядя Сандро говорил, что он придурялся; сейчас трудно сказать, правда ли это, во всяком случае, усердным читателем газет он и сейчас не выглядит.)
– Во всех, – отвечал следователь.
– Сколько стоит одна газета? – спросил дядя Сандро.
– Две копейки.
– Мой отец заплатит пять копеек за каждую штуку! Мы их все соберем и сожжем! – сказал дядя Сандро с большим подъемом.
– Газету сжигать нельзя, – покачал головой следователь.
– А молельный орех можно? – спросил дядя Сандро.
На это следователь ничего не ответил. Некоторое время они оба молчали, и призрак истины витал между ними. Но тут скрипнула дверь, и призрак истины исчез. Дежурный милиционер всунул голову в кабинет и, таким образом напомнив о себе, снова закрыл дверь. Это было его третье напоминание в течение допроса. Дело в том, что по принятому у нас обычаю человек, которого милиционер водит на допрос, на обратном пути должен зайти куда-нибудь и угостить его. Вот он и напоминал о себе.
– Сандро, – сказал следователь после некоторого раздумья, – ты уйми Колчерукого, а я сделаю для тебя все, что могу, как только улягутся разговоры вокруг этого дела.
– Унять, конечно, можно, – отвечал дядя Сандро, – если и ты с нами по-хорошему, почему бы не унять.
С этими словами он вышел из кабинета в коридор, где сопровождавший его милиционер встретил его протяжным вздохом.
– Сам мучаюсь и тебя замучил, – ответил ему дядя Сандро на вздох.
– Не в этом дело – закрыть могут, – скромно ответил ему милиционер, и они двинулись к выходу.
* * *
Неизвестно, чем бы все это кончилось и скоро ли вышел бы дядя Сандро из гостеприимных стен кенгурийской тюрьмы, если б не помог случай, а вернее, неутолимая любознательность Нестора Лакобы.
В этот день Нестор Аполлонович, приехав в райцентр, просматривал списки зажиточных крестьян, вступивших в колхоз в этом районе. В списках был и отец дяди Сандро. Он-то и привлек внимание Нестора Аполлоновича. По данным этого списка получалось, что Хабуг вместе со всяким другим добром сдал в колхоз четырех верблюдов. Нестор Аполлонович пытался уточнить у местного руководства, откуда у этого жителя горной Абхазии оказались верблюды. Районные руководители не могли ничего вразумительного ответить по этому поводу. Они сказали, что сами верблюдов не видели, потому что не было указания заинтересоваться ими, но чегемские списки заверены председателем колхоза и сельсовета.
Нестор Аполлонович не любил всякие неясности и велел сейчас же снарядить человека в Чегем, чтобы тот выяснил, откуда там появились верблюды, и, если можно, пригнал их в Кенгурск, с тем чтобы потом перегнать их в Мухус как необычное в наших краях животное.
Снова снарядили верхового милиционера, того, что привез дядю Сандро. Милиционер уже выехал из Кенгурска, когда его догнал родственник дяди Сандро верхом на его лошади.
– Прошу как брата, отгони мне эту лошадь, – сказал родственник, подъезжая к нему.
Милиционеру страшно неохота было отгонять лошадь дяди Сандро. Он вообще не собирался туда заезжать. Он собирался заехать в сельсовет, узнать насчет верблюдов и вернуться. А тут получалось как-то не вполне красиво – увез всадника, привез лошадь. Ему до того неохота было выполнять это поручение, что он сразу же сообразил, что делать.
– А я вообще туда не еду, – сказал он родственнику и вернулся в милицию.
Он вернулся к начальнику милиции и сказал, что раз Сандро сидит в тюрьме, можно вообще не ехать в Чегем, а спросить у него насчет верблюдов.
Начальник милиции связался с райкомом, а товарищи из райкома передали Нестору Аполлоновичу, что в местной тюрьме находится сын Хабуга, обвиненный в убийстве бухгалтера, который впоследствии оказался живым растратчиком и сейчас находится под стражей.
– Так давайте его сюда! – сказал Нестор Аполлонович. Дядю Сандро срочно привезли к начальнику милиции, выдали гражданскую одежду и объявили, что его хочет видеть сам Нестор Аполлонович. Зачем хочет видеть – не сказали, чтобы он не успел ничего придумать, если захочет соврать.
– Пока не вымою голову, не побреюсь, не приведу в порядок костюма – не явлюсь! – решительно предъявил дядя Сандро верноподданный ультиматум.
– Правильно, – согласился начальник милиции и обернулся к своему помощнику, – обслужите его.
И его обслужили. Пока дядя Сандро мыл голову под умывальником самого начальника милиции, а помощник поливал ему горячую воду, был срочно вызван лучший районный парикмахер, который брил и стриг на дому живых начальников и знатных покойников.
Через час дядя Сандро, затянутый в черкеску, в сверкающих сапогах предстал перед глазами Нестора Аполлоновича, исполненный сдержанной почтительности.
Нестор Аполлонович в это время вместе с друзьями и сподвижниками обедал в единственном кабинете единственного ресторана этого, тогда еще незначительного, райцентра. Говорят, вид дяди Сандро ему очень понравился.
– Настоящий абхазец и в тюрьме держится соколом, – сказал Нестор Аполлонович, глядя на него.
– Тем более когда невинно посажен, – вставил дядя Сандро.
Нестор Аполлонович вопросительно посмотрел на начальника милиции, и тот, быстро наклонившись, зашептал ему что-то на ухо.
– Газета… газета… – только и мог уловить дядя Сандро. Судя по выражению лица Нестора Аполлоновича и его благосклонным кивкам, ничего плохого его не ожидало.
– Я думаю, – сказал Нестор Аполлонович, отстраняясь от начальника милиции и глядя на дядю Сандро, – мы тебе поможем, если ты скажешь, откуда у тебя верблюды?
– Какие верблюды? – спросил дядя Сандро, стараясь понять, о чем идет речь.
Лакоба нахмурился. Вся эта история начинала ему не нравиться.
– Записано, что твой отец сдал в колхоз пятьсот голов мелкого рогатого скота, пять коров и четыре верблюда.
– Четыре мула! – радостно догадался дядя Сандро. – У нас было пять мулов… Отец одного оставил, потому что привык на нем ездить.
– Почему же записаны верблюды? – удивился Нестор Аполлонович.
– Наверное, – сказал дядя Сандро, – комсомолец, который записывал, не знал, как по-русски пишется «мул», и записал их как верблюдов.
– А-а, – сказал Нестор Аполлонович, – передай своему председателю, что он сам верблюд, а сейчас садись к нам обедать.
– Обязательно передам, – радостно согласился дядя Сандро и прибавил на всякий случай: – Лучше бы списки проверял, чем кости подбрасывать.
Но Нестор Аполлонович не обратил внимания на его слова, а может, и недослышал. А может, чегемские дела ему поднадоели, и он, пользуясь своей глуховатостью, сделал вид, что недослышал.
В этот вечер было порядочно выпито, было немало спето народных и партизанских песен, и, когда начались пляски, судьба дяди Сандро была решена, потому что его пригласили танцевать.
За родную советскую, за Нестора Аполлоновича, за всех дорогих гостей плясал дядя Сандро. И как плясал!
– Не мы одни, а весь народ должен наслаждаться таким талантом, – сказал Нестор Аполлонович и велел ему ехать домой, немного отдохнуть, а потом приезжать в Мухус и прямо заходить к нему. Он обещал устроить его в абхазский ансамбль песни и пляски.
На следующий день дядя Сандро оседлал своего застоявшегося коня и, подъехав к зданию милиции, постучал камчой в окно начальника. Тот выскочил на балкон, где уже стояло несколько милиционеров, и пригласил дядю Сандро спешиться.
– Спасибо, – сказал дядя Сандро, – но я заехал за хурджином.
– Вынесите, – зычно приказал начальник милиции и добавил, обращаясь к нему: – Я вообще был против твоего ареста.
– Я тоже, – сдержанно согласился дядя Сандро.
Один из милиционеров вынес хурджин и хотел передать его хозяину, но начальник его остановил.
– Приторочь сам, – приказал он ему и добавил, снова обращаясь к дяде Сандро: – Извини, что возвращаю пустой.
– Ничего, – сказал дядя Сандро, – не у тестя гостил.
По абхазским обычаям считается хорошим тоном, возвращая хозяину посуду, корзину, мешок, одним словом, тару, вложить в нее какое-нибудь угощение, а если нечего вложить, то извиниться за это. Можно назвать этот обычай благодарностью за тару или, наоборот, извинением за ненаполненную емкость. Обычай этот был принят между соседями, и начальник милиции, стараясь быть приятным, явно переборщил.
– А кости куда дели? – поинтересовался дядя Сандро, трогая лошадь.
– Пока в несгораемом шкафу, – ответил начальник милиции.
– Это хорошо, что в несгораемом, – согласился дядя Сандро, – а то второго пожара они не выдержат.
С этими словами он тронул коня и легкой рысью пошел в сторону Чегема. Через неделю дядя Сандро был уже в Мухусе, где был принят в абхазский ансамбль песни и пляски под управлением Платона Панцулая, да еще по совместительству подрабатывал в качестве коменданта местного Цика. Нестор Аполлонович умел привлечь и обогреть одаренных людей, способных украсить нашу маленькую республику. Разумеется, что именно может украсить нашу республику, решал он сам и его ближайшие сподвижники.
* * *
В ту же осень в Чегеме случилось вот что. В один прекрасный день Хабуг нашел в лесу дерево, в котором гнездились дикие пчелы. Он обрадовался этому даровому меду и решил забрать его домой, но у него не было посуды. Ему неохота было возвращаться домой за посудой, и он вспомнил, что гораздо ближе подняться к молельному ореху и вытащить там из дупла медный котел, авось божество четвероногих не обидится на него.
И вот, когда он поднялся к молельному ореху и вытащил из дупла медный котел, он, по его словам, что-то припомнил, но, что именно, никак не мог определить. Он спустился к роднику и стал отмывать внутренние стенки котла, и, когда отмыл, ему еще сильней показалось, что он должен что-то вспомнить, но он все еще никак не мог понять, что именно. Он подумал, что, если бы еще песком поскрести котел, он бы ясней припомнил то, что ему хотелось вспомнить, но ему надоело отмывать котел, и он, выплеснув из котла воду, вернулся к медоносному дереву. Хабуг развел у его подножия костер, набросал в огонь побольше гнилушек, чтобы гуще дымило, приладил к поясу котел и топор и полез на каштан.
И вот, когда он прорубил отверстие в дупле и стал ножом выскребать оттуда большие, нежные ломти свежего меда, а пчелы, выкуренные и оттиснутые дымом, с яростным гулом кружились над ним, он вспомнил то, что отец Кунты, таинственно исчезнувший двадцать лет тому назад, исчез в лето, названное чегемцами годом войны Диких Пчел со Стервятниками. В то лето чегемцы видели, как рой диких пчел, гнездившийся в самом верхнем отверстии дупла, стал воевать с неожиданно налетевшими на молельное дерево стервятниками.
Несколько трупов стервятников свалилось возле дерева, но рой не выдержал и навсегда покинул молельное дерево. Именно с тех пор пастухи стали разводить огонь в самом дупле, если их застигала здесь слишком ветреная и холодная погода: поужинают, поворошат головешки, сунут ноги в теплую золу и спят.
Теперь Хабуг был уверен, что отец Кунты пытался добраться до меда через нижнюю расщелину дупла и, по-видимому, до смерти искусанный пчелами, так и застрял там навсегда. Из всех чегемцев только он, по мнению Хабуга, как человек нечистых кровей (эндурская примесь) и мог решиться на такое святотатство. Потому-то он и исчез бесследно, что и дома никому ничего не сказал о своем преступном замысле.
И вот через множество лет его высохшие кости Сандро расшатал своей колотушкой, комсомольцы подогрели своим нечестивым огнем, и они посыпались вниз, как переспелые орехи.
В тот же день ближе к вечеру он рассказал обо всем этом Кунте, сидя у себя на кухне и топыря к очажному огню свои огромные, искусанные пчелами руки. С привычной покорностью Кунта выслушал его рассказ, время от времени поглядывая на стоящий у очага медный котел, сейчас продраенный и промытый женой Хабуга. Она тоже сидела сейчас на кухне и лущила в подол кукурузу, откуда по мере наполнения ссыпала ее в таз.
– Знай я в тот день, что это кости отца, отнес бы их домой, – вздохнул Кунта, выслушав рассказ Хабуга.
– Ну да, – кивнул ему Хабуг на котел, – сложил бы туда и отнес… А мой Сандро сидел бы дома вместо того, чтобы, как цыган, танцами зарабатывать себе на жизнь.
– При чем тут Сандро? – спросил Кунта, не понимая ход мысли Хабуга.
– При том, что через эти кости его арестовали, а там он увиделся с Лакобой, и тот его выманил в город.
– Верно, – кивнул головой Кунта в знак согласия.
Жена Хабуга, соскучившаяся по сыну, вздохнула. Помолчали. В тишине раздавался только хруст вылущиваемых зерен и хлюпанье фасолевой похлебки в глиняном горшочке, стоявшем у огня.
– Как подумаю, – сказал Кунта, глядя на огонь, – что кости моего отца двадцать лет провисели в этом треклятом дупле, чудно становится…
– Что ж чудного? – усмехнулся Хабуг.
– Я же там чуть не каждый день хожу… Божество могло бы как-нибудь намекнуть…
– Вы же его осквернили и оно же вам подсказывать?
– Тоже верно, – согласился Кунта, – а если это не отец?
– Он, – уверенно подтвердил Хабуг и кивнул на котел, – котел-то признал?
– Котел наш, – поспешно согласился Кунта.
– Может, что из одежды наверху застряло, – предположил Хабуг, но, подумав, сам отверг свою версию: – Пожалуй, нет… Птицы бы растащили…
– Да, столько времени, – вздохнул Кунта. Опять помолчали. Жена Хабуга со звоном высыпала зерна из подола в таз. Встала, отряхнула подол и, подхватив горсть кукурузных кочерыжек, сунула их в огонь. Помешала деревянной ложкой фасолевую похлебку, вынула ложку, дунула, лизнула и, положив ее сверху на горшок, села на место.
– Если на нем было какое железо… Там пуговицы, крючки… Можно в золе отыскать… – сказал Хабуг.
– Так там золы по колено, – пожал плечами Кунта и посмотрел на Хабуга своими слабыми выцветшими глазами.
Жена Хабуга перестала лущить кукурузу.
– Можно через сито просеять, – сказала она.
– Тоже верно, – согласился Хабуг, – но ты сначала поезжай в Кенгурск и отбери у них кости. Надо похоронить – стыдно перед людьми.
– Говоришь, в милиции? – справился Кунта.
– В милиции… В несгорающем сундуке, если верить моему бездельнику.
– Тебя послушать, так все бездельники, кроме тебя, – вставила жена и, сердито хрустнув початком, сразу вылущила целую горсть.
Хабуг оставил ее слова без внимания.
– Дадут? – с надеждой спросил Кунта.
– Думаю, дадут, – сказал Хабуг и добавил: – На всякий случай возьми пару индюшек и мешок орехов. Но прямо не вноси. Эти – прямо не любят. Через наших родственников передай.
– Хорошо, – сказал Кунта, вставая, – котел сейчас взять?
– Конечно, бери, – ответил Хабуг и тоже встал.
– Подожди, – сказала жена Хабуга и, отбросив кукурузную кочерыжку, со звоном высыпала зерно из подола в таз.
Она вложила ему в котел (чтобы не извиняться за ненаполненную емкость) несколько хороших ломтей свежих сот.
– Да стоит ли, – поломался Кунта.
– Стоит, – мрачно пошутил Хабуг, – может, это потомки тех пчел, которые твоего отца закусали…
– Чего не бывает, – сказал Кунта и, приподняв котел, заковылял через двор.
Хабуг, стоя в дверях, долго смотрел ему вслед.
– Говорят, ему теперь вся власть, – кивнул он в сторону уходящего Кунты, – так я и поверил…
– Кому это вся власть? – повернулась от огня жена Хабуга. Раздвинув головешки, она разгребла жар поближе к горшку с фасолевой похлебкой.
– Да про Кунту я, – сказал Хабуг, все еще стоя в дверях и глядя ему вслед.
– Он как был, бедняга, при своем горбе, так и остался, – вздохнула она и снова уселась лущить кукурузу. Хабуг все еще стоял в дверях.
– Чем торчать тут, – сказала жена, с хрустом соскребывая вылущенной кочерыжкой зерна с плотного початка, – поймал бы своего мула и поехал бы сына проведать…
– Нечего мне делать больше, как плясуна твоего проведывать, – сказал Хабуг и добавил: – Я на мельницу поеду, перекусить приготовь…
– Я бы Кунту послала на мельницу, а ты бы к сыну поехал, – снова повторила жена, но уже без всякой уверенности. Она снова встала и сняла зацепленный ножками за чердачную балку кухонный столик.
– Кунта теперь сам кого хочешь пошлет на мельницу, – усмехнулся Хабуг, усаживаясь за столик, – хозяин…
А между прочим, если бы старый Хабуг послушался свою жену и вправду, поймав своего мула, оседлал бы его и поехал бы проведать сына, может, ему удалось бы сказать свое слово в самом начале большой дискуссии, которая развернулась на страницах «Красных субтропиков» по поводу таинственных костей неизвестного, найденных в дупле молельного ореха.
Первая корреспонденция, на которую я наткнулся, просматривая подшивки тех лет, называлась «Конец молельного дерева». В ней рассказывалось о том, что молодежь села Чегем весело, с песнями (так и было написано) предала сожжению знаменитый молельный орех села Чегем. Теперь пастухи, подымаясь с колхозными стадами на альпийские луга, говорилось в ней, не будут останавливаться возле этого дерева, чтобы под видом языческого обычая прирезать козла и попировать, а будут целенаправленно двигаться к своим летним стоянкам. В конце заметки указывалось, что молельное дерево обладает уникальным дуплом, которое тянется до вершины и имеет несколько выходов. Ширина дупла у подножия дерева дает возможность двум всадникам въехать в него и, не мешая друг другу, выехать. (Кстати, я заметил, что везде, где говорится об уникальных дуплах, указывается на то, что всадник, по крайней мере один, может в него въехать, не спешиваясь. Можно подумать, что это самая пламенная мечта всякого всадника, начиная с Дон Кихота, – найти дупло, в которое можно въехать не спешиваясь, постоять там немного, может, сделать что-нибудь, не спешиваясь, и выехать обратно.)
В самом конце заметки глухо указывалось, что в дупле был найден скелет дореволюционного происхождения. (Я подозреваю, что эта фраза, скрыто полемизируя со статьей в «Кенгурийской нови», тайно рекомендовала следственным органам кенгурийского района оставить дядю Сандро в покое.)
Вот последняя фраза этой статьи, переписанная мной в блокнот: «По-видимому, мы никогда не узнаем, какому бедному пахарю или бесправному пастуху принадлежит этот скелет, но мы уверены, что это еще одно преступление местных дореволюционных феодалов».
Через некоторое время, примерно через неделю, на страницах «Красных субтропиков» выступил ученый-кавказовед из Москвы, который как раз в это время находился в Абхазии с археологической экспедицией. Он вел раскопки в двенадцати километрах от Мухуса в селе Эшеры. Газета дала его выступление под холодноватым, как мне кажется, нейтральным названием «Мнение ученого».
Он выдвинул гипотезу, что, возможно, найденный скелет – не результат убийства, а один из интереснейших древних обычаев воздушного погребения покойников, о котором с таким живым интересом рассказывал Аполлоний Родосский во втором веке до нашей эры. Оказывается, предки нынешних абхазцев считали святотатством хоронить мужчин в земле. Оказывается, их заворачивали в бычьи шкуры и вздымали на деревья при помощи виноградной лозы, чего нельзя сказать про женщин, которых предавали земле.
По-видимому, в районе Чегема было древнее поселение предков нынешних абхазцев и следовало бы тщательно изучить наиболее многолетние экземпляры деревьев этой местности.
Почему-то эта заметка вызвала гневную отповедь на страницах «Красных субтропиков». Ответ на статью знаменитого археолога назывался «Ученый копуша».
Когда я наткнулся на эту отповедь в пожелтевших подшивках «Красных субтропиков», я почувствовал, что на глаза мои наворачиваются слезы умиления. Я уловил в ней, пусть только для себя, но все-таки уловил истоки того стиля, который так прочно закрепился в последующие годы.
Автор ее начал свое выступление с того, что назвал предположение ученого неуклюжей и, по крайней мере, странной попыткой выгородить дореволюционного убийцу. После этого бойкое перо автора вонзилось в самого Аполлония Родосского и оказавшегося у него в плену нашего ученого.
Прочитав фразу про плен, я опять умилился и подумал, что, видимо, именно тогда ученые и другие общественные деятели стали попадать в плен.
Помнится, в самые ранние школьные годы это выражение было в ходу, и я довольно картинно представлял себе этих самых ученых, попавших в плен к буржуям. Я их почему-то представлял бородатыми дядьками, с завязанными назад руками, уныло бредущими под конвоем в буржуазную сторону. Я только не понимал тогда, почему вместо того, чтобы только ругать попавших в плен наших людей, не постараться неожиданным партизанским налетом отбить их от конвоиров и пустить их в нашу сторону.
Одним словом, статья эта, отвергнув Аполлония Родосского, защищала традицию общепринятого у абхазцев и многих других народов захоронения мертвецов. Особенно, как недопустимая вольность, отмечалось предположение, что трупы мужчин поднимали на деревья, тогда как женщин унизительно зарывали в землю.
Абхазцы, отмечал автор, всегда отличались рыцарским отношением к женщине, тем более сейчас, при советской власти, когда равноправные мужчины и женщины бок о бок работают на стройках и на колхозных полях.
«Пока жив Нестор Аполлонович, никакому Аполлонию Родосскому не удастся оклеветать наши народные обычаи!» – с таким несколько неожиданным пафосом заканчивал статью тогда еще молодой журналист, подписывавший свои статьи псевдонимом Леван Гольба.
Кстати, как только погиб Лакоба и абхазцев стали искусственно грузинировать, он стал выступать в печати под псевдонимом Леван Гольбидзе, иногда разнообразя его псевдонимом Леван Гольбия, а именно тогда, когда представители мингрельцев в грузинском правительстве становились наиболее сильной группировкой. Ради справедливости надо сказать, что, меняя псевдонимы фамилий, он всегда твердо оставлял за собой псевдоним первоначального имени.
Неудивительно, что именно он, столько раз перепсевдонимившийся сам, оказался в 1948 году крупнейшим мастером по расшифровке чужих псевдонимом. Правда, в начале 1953 года он написал статью под названием «Лжегорцы Кавказа» и дал маху. Статья была набрана, но он ее не успел напечатать, потому что в это время умер отец всех народов, кроме высланных в Сибирь и в Казахстан. На некоторое время он впал в немилость и даже вынужден был перейти работать в промкооперацию. В настоящее время возвращен в прессу и пока работает под первоначальным псевдонимом.
Кстати, возвратимся к временам его первоначального псевдонима. Надо отдать должное молодым тогда еще абхазским ученым, они дали отпор этой проработочной статье. Как видим, даже в те времена в отдельных случаях здравый смысл нет-нет да и прорывался на свет божий.
Так, один наш ученый, имени которого я сейчас не могу назвать, писал в тех же «Красных субтропиках», что ни московский ученый, ни, тем более, Аполлоний Родосский, живший во втором веке до нашей эры, не собирались клеветать на наши народные обычаи и нашу сегодняшнюю действительность.
Что касается обычая воздушного захоронения у колхов, предков нынешних абхазцев, то действительно указания на этот обычай имеются не только у Аполлония Родосского, но и у Николая Элиане, который уже в нашей эре писал, что «колхи хоронят покойников в кожах: зашивают их и вешают на деревья». (Я не нахожу ничего плохого в том, что молодой ученый, как это можно заметить даже в моем пересказе, слегка кокетничает эрудицией. Позже ученые стали кокетничать безграмотностью и дошли в этом деле до подозрительной естественности.)
Что характерно для всех этих и других источников, продолжал молодой ученый, это то, что все они прямо указывают на то, что речь идет о воздушном захоронении мужчин, а не женщин. Поэтому здесь нет никакой клеветы, а есть горькая научная истина.
Но, с другой стороны, добавлял он, указания античных и других источников пока не подтверждаются ни этнографическими, ни археологическими данными, если не считать более чем сомнительный чегемский случай.
Во всяком случае, неожиданно добавлял он в конце, независимо от проблемы воздушного захоронения колхов, раскопки, которые ведутся московской экспедицией в районе села Эшеры и от которых наша научная общественность так много ожидает, никакого отношения к вышеуказанной проблеме не имеют.
При чем тут раскопки? В статье Левана Гольбы о раскопках вообще ничего не говорится. Остается предположить, что после его выступления были предприняты какие-то административные попытки приостановить раскопки.
К сожалению, спросить об этом у нашего историка оказалось не так-то просто. Дело в том, что он сейчас живет в Москве, работает в Институте истории и в наших краях теперь сам бывает только с археологическими экспедициями.
В конце концов в один из приездов в Москву мне удалось увидеться с ним в его институте. Встретил он меня с истинно абхазским радушием, мы покалякали с полчаса у него в кабинете и, как всегда в таких случаях, разговор не обошелся без того, чтобы не вспомнить про Вахтанга Бочуа. Разговор этот привел нас в хорошее настроение, и тут я нашел уместным напомнить ему о его давней статье.
– Да, да, – просиял он, – тогда нам удалось отстоять раскопки… А не собираешься ли ты писать об этом? – Он как-то сразу потускнел.
– Нет, – сказал я, – а что?
– Не стоит, – посоветовал он и с некоторой вопросительной озабоченностью посмотрел на телефон, – конечно, перегибы… Далекого прошлого…
Мне показалось, что последнюю фразу он сказал не столько мне, сколько телефону. Поймав мой взгляд, вернее поняв по моему взгляду, что я понял смысл его взгляда, направленный на телефон, он решил не скрывать своих опасений и, ткнув рукой на аппарат, сделал отрицательный жест, усилив его брезгливой мимикой. Жест этот не только не оставлял сомнений, что аппарат не пользуется у него никаким доверием, но и всячески призывал меня с оттенком далеко идущего дружелюбия разделить его скептицизм.
– Неужели и вас? – спросил я, кивнув на телефон.
Тут он развел руками в том смысле, что вокруг этого вопроса сложилась обстановка удручающей неясности.
– Ну, а вообще, что слышно? – спросил я, каким-то образом чувствуя, что телефон втягивает меня в сферу своих интересов. Тут как-то само собой получается, что хочется поиграть с Великим Немым, хочется подразнить его.
– Да как сказать, – протянул он неопределенно и снова посмотрел на телефон.
– Левана вернули в газету, – сказал я.
– Неважный признак, – сказал он и как-то весь оживился. Казалось, эта маленькая, но точная информация мгновенно привела в движение хорошо налаженную, но застоявшуюся ввиду отсутствия фактов машину исторического прогноза.
Он сделал свирепое выражение лица и подкрутил обеими руками несуществующие усы. После этого он сделал этими же руками жест вверх, похожий на тот жест, которым показывают крановщику, что груз можно поднимать.
– Но ведь Левана вернули в газету под первоначальным псевдонимом, – напомнил я.
– Вообще это неплохой признак, – сказал он и замолк. Казалось, машина прогноза сделала обратное движение и осеклась на том месте, с которого она двинулась вначале.
– Кроме шуток, – спросил я, снова возвращаясь к его статье, – что вам это выступление тридцатилетней давности? Вы – профессор, да и живете в Москве?
– А раскопки? – возразил он. – Мы готовимся к интереснейшей экспедиции в районе Цебельды. Испортить ее на месте ничего не стоит… Разве что найдется молодой чудак, который выступит в мою защиту?
Мы посмеялись и, слегка растроганные взаимным либерализмом, расстались.
На этом я прерываю историю молельного дерева, щадящим движением останавливаю себя с тем, чтобы, набравшись мужества и спокойствия, вернуться к нему, и тогда не обижайтесь, друзья, ибо печален будет мой рассказ.
Глава 8. Пиры Валтасара
Хорошей жизнью зажил дядя Сандро после того, как Нестор Аполлонович Лакоба взял его в город, сделал комендантом Цика и определил в знаменитый абхазский ансамбль песни и пляски под руководством Платона Панцулая. Там он быстро выдвинулся и стал одним из самых лучших танцоров, способным соперничать с самим Патой Патарая!
Тридцать рублей в месяц как комендант Цика и столько же как участник ансамбля – неплохие деньги по тем временам, прямо-таки хорошие деньги, черт подери!
Как комендант Цика, дядя Сандро следил за работой технического персонала, получал время от времени на почте слуховые аппараты из Германии для Нестора Аполлоновича да еще распоряжался гаражом, в том числе и личным «бьюиком» Лакобы, который он называл «бик» для простоты заграничного произношения.
Разумеется, личный «бьюик» Лакобы находился в его распоряжении, когда тот уезжал в Москву или еще куда-нибудь на совещание.
В такие времена, бывало, наркомы и другие ответственные лица просили у дяди Сандро этот самый «бьюик» для того, чтобы съездить в деревню на похороны родственника, отпраздновать рождение, или свадьбу, или, в крайнем случае, собственный приезд.
Прикатить в родную деревню на личной машине Лакобы, которую все знали, было вдвойне приятно, то есть политически приятно и приятно просто так. Все понимали, что раз человек приехал на машине Нестора Аполлоновича, значит, он идет вверх, может, даже Нестор Аполлонович его приблизил к себе и знай похлопывает его по плечу или даже, дружески облапив, вталкивает в свою машину, мол, поезжай, подлец, куда тебе надо, да только не блюй на сиденье на обратном пути.
Были, конечно, и неприятности. Так, один не такой уж ответственный, но все же руководящий товарищ поехал на этом «бьюике» в свою деревню. Там он (уже за столом) на чей-то вопрос насчет «бьюика» с коварной уклончивостью ответил, что, хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали.
Не успел он выйти из-за этого пиршественного стола, а точнее сказать, досиделся он за ним до того, что из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы. Они осторожно, чтобы не побеспокоить остальных, вытащили его из-за стола и во дворе измолотили как следует.
Вдобавок ко всему они его привязали к багажнику «бьюика», чтобы в таком виде провезти его по всей деревне. Правда, провезти не удалось, потому что сами управлять машиной они не могли, а шофер сбежал в кукурузник.
В сущности говоря, иного и не следовало ожидать. Своими вздорными разговорами он оскорбил не только самого Нестора Лакобу, но и весь его род. А оскорбление рода редко в те времена оставалось безнаказанным.
После этого случая приличные люди долго удивлялись, как этот товарищ осмелился столь открыто заниматься святотатством, и при этом лживым святотатством!
Сам он говорил, что на него нашло затмение на почве выпивки, а хозяин дома, в котором он сидел, клялся всеми предками, что из-за стола никто не вставал, так что ему до сих пор непонятно, кто побежал доносить в соседнее село.
К счастью, вся эта история не дошла до ушей Нестора Аполлоновича, а то бы всем этим племянникам или однофамильцам, да и самому дяде Сандро, а уж заодно и пострадавшему святотатцу по второму заходу крепко бы досталось.
Дяде Сандро, конечно, кое-что перепадало за эти небольшие вольности с «бьюиком». Не то чтобы какие-нибудь грубые услуги, нет, но нужно устроить родственника в хорошую больницу, быстро получить нужную справку, пересмотреть дело близкого человека, который, думая, что все еще продолжаются николаевские времена, крадет чужих лошадей да еще на суде, вместо того чтобы отпираться, рассказывает все, как было, горделиво оглядывая публику…
Много хорошего сделал дядя Сандро в те золотые времена для своих близких, да не все отплатили добром за добро, многие впоследствии оказались неблагодарными.
Бывало, дядя Сандро выйдет на балкон Цика, посмотрит вниз вдоль улицы, а там в самом конце море виднеется, а если в порту стоит пароход, то с балкона можно разглядеть его трубы и мачты. Дяде Сандро бывало весело смотреть в сторону порта, приятно было думать, что можно сесть на пароход и уплыть в Батум или в Одессу. И, хотя дядя Сандро никуда не собирался уплывать, потому что от добра добра не ищут, все же ему было приятно думать, что можно сесть на пароход и куда-нибудь уплыть.
А если, стоя на балконе, смотреть в противоположную сторону, то там, кроме гор и лесов, ничего не видно, так что и смотреть туда, можно сказать, нечего.
Только изредка, когда подкатывала тоска по родным местам, дядя Сандро смотрел на горы и украдкой вздыхал. Он вздыхал украдкой, потому что считал неприличным громко вздыхать, находясь на почтенной работе при власти. Потому что, если человек вздыхает, находясь при власти, получается, что находиться при власти ему не нравится, что было бы неблагодарно и глупо. Нет, нравилось дяде Сандро находиться при власти и он, естественно, хотел как можно дольше находиться при ней.
До чего же приятно было дяде Сандро в ясный день стоять на балконе Цика и просто глядеть вниз на проходящее население, среди которого было немало знакомых людей и красивых женщин.
Те, что раньше знали дядю Сандро и продолжали его любить, подымали головы и здоровались с ним, приветливым взглядом показывая, что радуются его возвышению. Те, что раньше знали дядю Сандро, но теперь завидовали, проходили, делая вид, что не замечают его. Но дядя Сандро на них не обижался, пусть себе идут, всем не угодишь своим возвышением.
А те, что раньше его не знали, а теперь видели на балконе Цика, думали, что он ответственный работник, который вышел на балкон подышать. Дядя Сандро вежливым кивком отвечал на их приветствия не для того, чтобы содействовать невольному обману, а просто потому, что умел прощать людям маленькие человеческие слабости.
Иногда знакомые люди останавливались под балконом и знаками спрашивали, мол, как там Лакоба? Дядя Сандро сжимал кулак и, слегка потрясая им, показывал, что Нестор Аполлонович крепко держится. В ответ знакомые радостно кивали и шагали дальше с некоторой дополнительной бодростью.
Иногда эти знакомые, зная, что Лакоба куда-то уехал, знаками спрашивали, мол, куда? В ответ дядя Сандро рукой показывал на восток, что означало – в Тбилиси, или более значительным жестом на север, что означало – в Москву.
Иногда они спрашивали, опять же чаще всего знаками, мол, не приехал еще Лакоба? В таких случаях дядя Сандро утвердительно кивал или отрицательно мотал головой. В обоих случаях знакомые удовлетворенно кивали и, радуясь, что мимоходом приобщились к делам государственным, шли дальше.
Цокая каблуками, проходили мухусские модницы, и дядя Сандро, встречаясь с ними глазами, подкручивал ус, намекая на веселые помыслы. Многие свои хитроумные романы он начинал с этого балкона, хотя со сцены театра или клубной эстрады, где, бывало, выступал ансамбль, тоже нередко завязывались знакомства.
Некоторые женщины посмеивались над его заигрываниями с балкона. Дядя Сандро на них не обижался, просто он к ним быстро охладевал:
– Ах, я вам не нравлюсь, так и вы мне не нравитесь…
Гораздо больше ему нравились те женщины, что краснели, встречаясь с ним глазами, и, опустив голову, быстро проходили мимо. Дядя Сандро считал, что стыд – это самое нарядное платье из всех, которые украшают женщину. (Иногда он говорил, что стыд – это самое дразнящее платье, но, в сущности, это одно и то же.)
Порой, стоя на балконе Цика, дядя Сандро видел своего бывшего кунака Колю Зархиди. Он всегда с ним сердечно здоровался, показывая, что нисколько не зазнался, что узнает и по-прежнему любит старых друзей. По глазам Коли он видел, что тот не испытывает к нему ни злобы, ни зависти за то, что дядя Сандро хозяйствует в отобранном у него особняке или стоит себе на балконе, как в мирные времена.
– Ты попробуй на лошади туда подымись, – кивал ему Коля, напоминая о его давнем подвиге.
– Что ты, Коля, – отвечал ему дядя Сандро с улыбкой, – сейчас это нельзя, сейчас совсем другое время.
– Э-э, – говорил Коля и, словно услышав печальное подтверждение правильности своего образа жизни, шел дальше в кофейню.
Дядя Сандро смотрел ему вслед, немного жалея его и немного завидуя, потому что сидеть в кофейне за рюмкой коньяку и турецким кофе было приятно и при советской власти, может быть, даже еще приятней, чем раньше.
Абхазский ансамбль песен и плясок уже гремел по всему Закавказью, а позже прогремел в Москве, и даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет.
В описываемые времена он уже набирал скорость своей славы, которую в первую очередь ему создали – Платон Панцулая, Пата Патарая и дядя Сандро. В дни революционных праздников после торжественной части ансамбль выступал на сцене областного театра. Кроме того, он выступал на партконференциях, на слетах передовиков промышленности и сельского хозяйства, не ленился выезжать в районы республики, а также обслуживал крупнейшие санатории и дома отдыха закавказского побережья.
После выступления на более или менее значительном мероприятии участников ансамбля приглашали на банкет, где они продолжали петь и плясать в доступной близости к банкетному столу и руководящим товарищам.
Дядя Сандро, как я уже говорил, шел почти наравне с лучшим танцором ансамбля Патой Патарая. Во всяком случае, он был единственным человеком ансамбля, который усвоил знаменитый номер Паты Патарая: разгон за сценой, падение на колени и скольжение, скольжение через всю сцену, раскинув руки в парящем жесте.
Так вот, это знаменитое па он так хорошо усвоил, что многие говорили, что не могут отличить одного исполнителя от другого.
Однажды один участник ансамбля, танцор и запевала по имени Махаз, сказал, что если нахлобучить башлык на лицо исполнителя этого номера, то и вовсе не поймешь, кто скользит через всю сцену: знаменитый Пата Патарая или новая звезда Сандро Чегемский.
Возможно, Махаз, как земляк дяди Сандро по району, хотел ему слегка польстить, потому что отличить все-таки можно было, особенно опытному глазу танцора, но главное не это. Главное то, что своими случайными словами он заронил в голову дяди Сандро идею великого усовершенствования и без того достаточно сложного номера.
На следующий же день дядя Сандро приступил к тайным тренировкам. Пользуясь своим служебным положением, он их проводил в конференц-зале Цика при закрытых дверях, чтобы уборщица не подсматривала.
Кстати, это был именно тот зал, где когда-то дядя Сандро скакал на своем незабвенном рябом скакуне, чем спас своего друга и заставил разориться эндурского скотопромышленника.
Около трех месяцев тренировался дядя Сандро, и вот наступил день, когда он решился показать свой номер. Сам он считал, что номер недостаточно отшлифован, но обстоятельства вынудили его рискнуть и бросить на сцену свой тайный козырь.
Накануне лучшая часть ансамбля в составе двадцати человек уехала в Гагры. Ансамбль должен был выступить в одном из крупных санаториев, где в эти дни проводилось совещание секретарей райкомов Западной Грузии. Совещание, по слухам, проводил сам Сталин, отдыхавший в это время в Гаграх.
По-видимому, мысль собрать секретарей райкомов возникла у него здесь во время отдыха. Но почему он созвал совещание секретарей райкомов только Западной Грузии, дядя Сандро так и не понял.
По-видимому, секретари райкомов Восточной Грузии в чем-то провинились, а может, он им хотел дать почувствовать, что они еще не доросли до этого высокого совещания, чтобы в будущем работали лучше, соперничая с секретарями райкомов Западной Грузии.
Так думал дядя Сандро, напрягая свой любознательный ум, хотя это, собственно говоря, не входило в его обязанности коменданта Цика или тем более участника ансамбля.
И вот лучшая часть ансамбля выехала, а дядя Сандро остался. Дело в том, что у дяди Сандро в это время тяжело болела дочь. Все об этом знали. Перед самым отъездом группы дядя Сандро попросил Панцулаю оставить его ввиду болезни дочери. Он был уверен, что Панцулая всполошится, будет упрашивать его поехать вместе с группой, и тогда, поломавшись, он даст свое грустное согласие.
Так было бы прилично по отношению к родственникам, мол, не сам кинулся плясать, а был вынужден, и, кроме того, участники ансамбля еще раз почувствовали бы, что без Сандро танцевать можно, да танец будет не тот.
И вдруг руководитель ансамбля сразу дает согласие, и дяде Сандро ничего не остается, как повернуться и уйти. В тот же день управляющий Циком делает ему оскорбительное замечание.
– По-моему, у нас крадут дрова, – сказал он, указывая на огромный штабель дров, распиленный и сложенный во дворе Цика еще в начале лета.
– Садятся, – небрежно ответил ему дядя Сандро, чувствуя скуку из-за своего артистического одиночества.
– Я что-то не слыхал, чтобы дрова садились, – сказал управляющий с намеком, как показалось дяде Сандро.
– А ты не слыхал, что вокруг Чегема леса сгорели? – вкрадчиво спросил дядя Сандро.
Это был знаменитый чегемский сарказм, к которому далеко не всякий мог приспособиться.
– При чем тут Чегем и его леса? – спросил управляющий.
– Вот я и вожу в горы циковские дрова, – ответил дядя Сандро и отошел от управляющего. Тот только развел руками.
Эшеры уже проехали, думал дядя Сандро, подымаясь по лестнице особняка, наверное, сейчас приближаются к Афону. Сквозняк, тронувший его лицо прохладой, показался ему дуновением опалы. Видно, управляющий что-то знает, видно, Лакоба от меня отступился, думал дядя Сандро, сопоставляя оскорбительный тон управляющего с еще более оскорбительной легкостью, с какой Платон Панцулая согласился на его просьбу.
Особенно было обидно, что на банкете, как предполагали, будет сам товарищ Сталин. Правда, точно никто не знал. Да это и не полагалось точно знать, даже было как-то сладостней, что точно никто ничего не знал.
На следующий день дядя Сандро сидел у постели своей дочки, тупо глядя, как жена его время от времени меняет на ее головке мокрое полотенце.
Девочка заболела воспалением легких. Ее лечил один из лучших врачей города. Он уже сомневался в благоприятном исходе, хотя и надеялся, как он говорил, на ее крепкую чегемскую природу.
Четверо чегемцев, дальних родственников дяди Сандро, тут же сидели в комнате, осторожно положив руки на стол. В последние годы они стали все чаще и чаще выезжать в город и, надо сказать, слегка поднадоели дяде Сандро.
Чегемцы проходили ускоренный курс исторического развития. Делали они это с некоторой патриархальной неуклюжестью. С одной стороны, у себя дома в полном согласии с ходом истории и решениями вышестоящих органов (в сущности, сам ход истории тогда был предопределен решениями вышестоящих органов) они строили социализм, то есть вели колхозное хозяйство. С другой стороны, выезжая в город торговать, они впервые приобщились к товарно-денежным капиталистическим отношениям.
Такая двойная нагрузка не могла пройти бесследно. Некоторые из них, удивленные, что за такие простые продукты, как сыр, кукуруза, фасоль, можно получать деньги, впадали в обратную крайность и, заламывая неимоверные цены, по несколько дней замкнуто простаивали возле своих некупленных продуктов. Иногда, уязвленные пренебрежением покупателей, чегемцы увозили назад свои продукты, говоря: ничего, сами съедим. Впрочем, таких гордецов оставалось все меньше и меньше, деспотия рынка делала свое дело.
К одному никак не могли привыкнуть чегемцы – это к тому, что в городских домах нет очажного огня. Без живого огня дом казался чегемцу нежилым, вроде канцелярии. Беседовать в таком доме было трудно, потому что непонятно было, куда при этом смотреть. Чегемец привык, разговаривая, смотреть на огонь, или, по крайней мере, если приходилось смотреть на собеседника, огонь можно было чувствовать растопыренными пальцами рук.
Вот почему четверо чегемцев молчали, осторожно положив руки на стол, чем вызывали у дяди Сандро дополнительное раздражение.
Сегодня, думал дядя Сандро, наши, может быть, будут танцевать перед самим Сталиным, а я должен сидеть здесь и слушать молчание чегемцев. Оказывается, на базаре им предложили остаться в Доме колхозника, но они с возмущением отвергли этот совет, ссылаясь на то, что здесь в городе живет дядя Сандро и он может обидеться, как родственник. Нельзя сказать, что такая верность родственным узам взволновала дядю Сандро. Пожалуй, он ничуть не обиделся бы.
– Слава богу, наш Сандро выбился в присматривающие, – сказал один из чегемцев, с трудом преодолевая отсутствие в доме живого огня.
– Железные колени сейчас властями ценятся, как никогда, – после продолжительного раздумья объяснил второй чегемец причину успеха дяди Сандро.
– Князь Татырхан, помнится, тоже ценил хороших танцоров, – провел историческую параллель третий чегемец.
– Все же не настолько, – после долгого молчания добавил четвертый чегемец. Он долго думал, потому что хотел сказать что-нибудь свое, но, не найдя ничего своего, решил подправить сказанное другим.
Скупо переговаривались чегемцы. Жена, сидя возле больной девочки, обмахивала ее опахалом. Муха жужжала и билась о стекло. Дядя Сандро терпел.
И вдруг распахнулась дверь, а в ней – управляющий. Дядя Сандро вскочил, чувствуя, что остановившийся мотор времени снова заработал. Что-то случилось, иначе управляющий не пришел бы сюда.
Управляющий поздоровался со всеми, подошел к постели больной девочки и сказал несколько слов сочувствия, прежде чем приступить к делу. Дядя Сандро рассеянно выслушал его слова, нетерпеливо ожидая, что тот скажет о причине своего визита.
– Что легко пришло, то легко уходит, – ответил дядя Сандро на его сочувственные слова, не вполне уместно употребляя эту турецкую пословицу.
– Не хотел тебя беспокоить, – сказал управляющий и, вздохнув, вынул из кармана бумажку, – тебе телеграмма.
– От кого?! – выхватил Сандро свернутый бланк.
– От Лакобы, – сказал управляющий с уважительным удивлением.
«Приезжай если можешь Нестор», – прочел дядя Сандро расплывающиеся от счастья буквы.
– «Если можешь»?! – воскликнул дядя Сандро и сочно поцеловал телеграмму. – Да есть ли что-нибудь, чего бы я не сделал для нашего Нестора! Где «бик»? – уже властно обратился он к управляющему.
– На улице ждет, – ответил управляющий. – Не забудь прихватить паспорт, там с этим сейчас очень строго.
– Знаю, – кивнул дядя Сандро и бросил жене: – Приготовь черкеску.
Минут через двадцать, уже стоя в дверях с артистическим чемоданом в руке, дядя Сандро обернулся к остающимся и сказал с пророческой уверенностью:
– Клянусь Нестором, девочка выздоровеет!
– Откуда знаешь? – оживились чегемцы.
Жена ничего не сказала, а только, продолжая обмахивать ребенка, презрительно посмотрела на мужа.
– Чувствую, – сказал дядя Сандро и закрыл за собой дверь.
– Именем Нестора не всякому разрешают клясться, – услышал дядя Сандро из-за дверей.
– Таких в Абхазии раз-два и обчелся, – уточнил другой земляк дяди Сандро, но этого, припустив к машине, он уже не слышал.
Кстати, забегая вперед, можно сказать, что пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть.
…Через три часа бешеной гонки «бьюик» остановился в Старых Гаграх перед воротами санатория на одной из тихих и зеленых улочек.
Вечерело. Дядя Сандро нервничал, чувствуя, что может опоздать. Он забежал в помещение проходной, подошел к освещенному окошечку, за которым сидела женщина.
– Пропуск, – сказал он, протягивая паспорт в длинный туннель оконной ниши.
Женщина выписала пропуск. Дядя Сандро все больше и больше волновался, чувствуя, что за этой строгой проверкой скрывается тревожный праздник встречи с вождем.
С пропуском и паспортом в одной руке, с чемоданом – в другой он быстро перешел пустой дворик санатория и остановился у входа, где его встретил дежурный милиционер. Тот почему-то долго и недоверчиво смотрел на его пропуск, сверяя его с паспортом.
– Абхазский ансамбль, – намекнул дядя Сандро на мирный характер своего визита.
Тот на это ничего не сказал, но, продолжая держать в руке паспорт, перевел взгляд на чемодан.
Дядя Сандро в ответ ему радостно закивал, показывая полное понимание ответственности момента. Он быстро раскрыл чемодан и, поставив у ног, стал вынимать из него черкеску, азиатские сапоги, галифе, кавказский пояс с кинжалом. Дядя Сандро, вынимая каждую вещь, честно встряхивал ее, давая возможность выскочить любому злоумышленному предмету, который мог бы там оказаться.
Когда дело дошло до пояса с кинжалом, дядя Сандро, улыбаясь, слегка выдвинул его из ножен, как бы отдаленно намекая на полную его непригодность в цареубийственном смысле, даже если бы такая безумная идея и возникла бы в какой-нибудь безумной голове.
Милиционер внимательно проследил за его жестом и коротко кивнул, как бы признавая сам факт непригодности и отсекая всякую возможность рассуждений по этому поводу.
Дядя Сандро заложил все вещи в чемодан, закрыл его и уже протянул было руку за паспортом и пропуском, но милиционер опять остановил его.
– Вы Сандро Чегемба? – спросил он.
– Да, – сказал дядя Сандро и вдруг догадался: – Но для афиши я прохожу как Сандро Чегемский!
– Афиши меня не интересуют, – сказал милиционер и, не предлагая дяде Сандро пройти, снял со стены новенький телефон и стал куда-то звонить.
Дядя Сандро пришел в отчаянье. Он вспомнил о телеграмме, как о последнем спасительном документе, и стал рыться в карманах.
– «Бик», Цик, Лакоба, – словами-символами заговорил он от волнения, безуспешно роясь в карманах.
И вдруг дядя Сандро заметил, что сверху по широкой лестнице, устланной ковром, спускается участник ансамбля Махаз. Дядя Сандро почувствовал, что сама судьба посылает ему земляка по району. Он отчаянно зажестикулировал, подзывая его, хотя тот и так спускался к ним, слегка обгоняя отвевающиеся полы черкески.
– Его спросите, – сказал дядя Сандро, когда Махаз, топыря грудь и невольно раздуваясь, остановил себя возле них. Милиционер, не обращая внимания на Махаза, продолжал слушать трубку. Шея Махаза стала наливаться кровью.
Между тем, если бы дядя Сандро прислушался к телефонному разговору, ему не пришлось бы так волноваться, а земляку по району не пришлось бы утруждать грудные силы, необходимые для предстоящего пения.
Дело в том, что дежурная в проходной по ошибке вместо Чегемба сначала на пропуске написала Чегенба, а потом исправила букву. Вот это исправление буквы, по-видимому, неположенное в таких местах, и вызвало подозрение милиционера. Сейчас по телефону, уточняя это недоразумение, он убедился, что исправила букву она сама, а не кто-нибудь со стороны.
Хотя телефон был новенький, может быть, только сегодня поставленный, было плохо слышно, и милиционеру приходилось то и дело переспрашивать.
– Участник ансамбля известный Сандро Чегемский, – заявил Махаз, выставив вперед перетопыренную грудь, когда милиционер положил трубку.
– Знаю, – просто сказал милиционер, – проходите.
Дядя Сандро и Махаз подымались по лестнице, устланной красным ковром. Оказывается, руководитель ансамбля уже несколько раз посылал Махаза встречать его.
Дядя Сандро теперь не испытывал к милиционеру никакой враждебности. Наоборот, он чувствовал, что в этой строгости прохождения в санаторий залог грандиозности предстоящей встречи. Дядя Сандро, пожалуй, согласился бы и на новые препятствия, только бы знать, что в конце концов он их одолеет.
– Он будет? – спросил дядя Сандро тихо, когда они поднялись на третий этаж и пошли по коридору.
– Почему будет, когда есть, – сказал Махаз уверенно. Он уже чувствовал себя здесь как дома. Махаз открыл одну из дверей в коридоре и остановился, пропуская вперед дядю Сандро. Дядя Сандро услышал родной закулисный гул и, очень возбужденный, вошел в большую светлую комнату.
Участники ансамбля, уже переодетые, разминаясь, похаживали по комнате. Некоторые, сидя на мягких стульях, отдыхали, вытянув длинные, расслабленные ноги.
– Сандро приехал! – раздалось несколько радостных голосов.
Дядя Сандро, обнимаясь и целуясь с товарищами, показывал им найденную телеграмму Лакобы.
– Управляющий принес, – говорил он, размахивая телеграммой.
– Быстро переодевайся! – крикнул Панцулая.
Дядя Сандро отошел в угол, где на стульях были развешаны вещи участников ансамбля, и стал переодеваться, прислушиваясь к последним наставлениям руководителя хора.
– Главное, – говорил он, – когда пригласят, не набрасывайтесь на закуски и вино. Ведите себя скромно, но девочку строить тоже не надо. Если кто-нибудь из вождей предлагает тебе выпить – выпей и отойди к товарищам. Не стой рядом с вождем, тем более жуя, как будто ты с ним Зимний дворец штурмовал.
Танцоры, слушая Панцулая, похаживали по комнате, переминались, перетягивали пояса. Некоторые становились на носки и вдруг, приподняв ногу, затянутую в мягкий, как перчатка, азиатский сапог – скок, скок, скок! – делали несколько прыжков на одной ноге, одновременно прислушиваясь к ровному, успокаивающему голосу руководителя.
Пата Патарая несколько раз разгонялся, готовясь к своему знаменитому номеру, но не падал на колени, а просто скользил, чтобы как следует почувствовать пол. Проскользив, он останавливался, осторожно поворачивался и, прикладывая пятку одной ноги к носку другой, измерял пройденный путь.
Дядя Сандро занялся тем же самым. Теперь он мог соразмерить силу разгона с расстоянием скольжения с точностью до длины своей ступни. Правда, Пата Патарая это делал с точностью до ширины ладони, но у дяди Сандро был в запасе секретный номер и это сейчас опаляло его душу тревожным ликованием: «Получится ли?»
– Помните, что сцены никакой не будет, – говорил Панцулая, в своей белой черкеске похаживая среди питомцев, – танцевать будете прямо на полу, пол там такой же. Главное, не волнуйтесь! Вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше…
Но вот открылась дверь, и в ней показался пожилой человек в чесучовом кителе. Это был директор санатория. Он грозно и вместе с тем как бы испуганно за возможный провал кивнул Панцулае.
– За мной, по одному, – тихо сказал Панцулая и мягко выскользнул за дверь вслед за чесучовым кителем.
За руководителем двинулся Пата Патарая, за Патой – дядя Сандро, а там и остальные, рефлекторно уступая дорогу лучшим.
Бесшумными шагами дворцовых заговорщиков они прошли по коридору и стали входить в комнату, в дверях которой стоял штатский человек.
Директор санатория кивнул ему, тот кивнул в ответ и стал всех пропускать в дверь, всматриваясь в каждого и считая глазами. Комната эта оказалась совершенно пустой, и только в дальнем ее конце у окна сидело два человека в таких же штатских костюмах, как и тот, что стоял у дверей. Они курили, о чем-то уютно переговариваясь. Заметив участников ансамбля, один из них, не вставая, кивнул, дав знать, что можно проходить.
Директор открыл следующую дверь, и сразу же оттуда донесся гул застольных голосов. Не входя внутрь, он остановился возле дверей и молча отчаянным движением руки: давай! давай! давай! – как бы вмел всех в банкетный зал.
В несколько секунд участники ансамбля впорхнули в зал и выстроились в два ряда, оглушенные ярким светом, обильным столом и огромным количеством людей.
Банкет был в разгаре. Все произошло так быстро, что в зале их не сразу заметили. Сначала одинокие хлопки, а потом радостный шквал рукоплесканий приветствовал двадцать кипарисовых рыцарей, как бы выросших из-под земли во главе с Платоном Панцулая.
Чувствовалось, что аплодирующие хорошо поели и выпили и теперь с удовольствием продолжают веселье через искусство, чтобы, может быть, потом снова возвратиться к посвежевшему веселью застолья.
Участники ансамбля, придя в себя, стали искать глазами товарища Сталина, но не сразу его обнаружили, потому что они смотрели в глубину зала, а товарищ Сталин сидел совсем близко, у самого края стола. Он сидел, слегка отвернувшись к соседу, который оказался всесоюзным старостой Калининым.
Аплодисменты продолжались, а Панцулая, склонив голову, стоял перед кипарисовым строем как мраморное изваяние благодарности. Но вот, почувствовав, что рукоплескания не иссякают и потому дальнейшее молчание ансамбля становится нескромным, он приподнял голову и, покосившись на участников ансамбля, ударил в ладони. Так всадник, приподняв камчу, прежде чем огреть скакуна, слегка оглядывается на его спину.
Участники ансамбля стали рукоплескать, прорываясь шумом своей любви к самому источнику любви сквозь встречный шум правительственной симпатии. Неожиданно поднялся Сталин, и за ним с грохотом вскочил весь зал, стараясь догнать его до того, как он распрямится.
С минуту длилась эта бескровная борьба взаимной привязанности, как бы дружеская возня приятелей, похлопывающих друг друга по спине, дурашливая схватка влюбленных, где побежденный благодарил победителя и тут же любовно побеждал его, новой шумовой волной опрокидывая его шумовую волну.
Танцоры по привычке, продолжая рукоплескать, переговаривались, не поворачиваясь друг к другу.
– Вон товарищ Сталин!
– Где, где?
– С Калининым говорит!
– Оказывается, Ворошилов тоже маленький!
– А это кто?
– Жена Берии!
– Вообще вожди маленького роста – Сталин, Ворошилов, Берия, Лакоба…
– Интересно, почему?
– Ленин был маленький – так и пошло…
– Маленькие, они вообще более устойчивые…
– Тебе бы, Сандро, за таким столом тамадой…
– Тамада наш Нестор!
– А может, Берия?
– Нет, видишь, Нестор во главе стола сидит.
– Сталин его всегда выбирает… Он его любимчик…
Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очарования эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извинясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, потому что он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий.
Появление этих стройных танцоров, затянутых в черные черкески, обрадовало его. В такие часы он любил все, что несло в себе очевидную и безотносительную к надоедавшей порой политике ценность. Вернее, как бы безотносительную, потому что он незримо соединял эту очевидную ценность и законченность с тем громоздким и расползающимся, во что превращается всякая политическая акция, и воспринимал ее как пусть маленькое, но вещественное доказательство его правоты.
Так двадцать стройных танцоров превращались в цветущих делегатов его национальной политики, точно так же, как дети, бегущие к Мавзолею, где он стоял по праздникам, превращались в гонцов будущего, в его розовые поцелуи. И он умел это ценить, как никто другой, поражая окружающих своей неслыханной широтой – от демонической беспощадности до умиления этими маленькими, в сущности, радостями. Замечая, что он поражает окружающих этой неслыханной широтой, он дополнительно ценил в себе это умение ценить маленькие внеисторические радости жизни.
Так или иначе, один из ликующих делегатов его национальной политики, а именно дядя Сандро, насмотревшись на вождей, продолжая аплодировать, перевел взгляд на стол.
Стол, вернее, столы пересекали банкетный зал и в конце раздваивались на две ломящиеся плодами ветки. На прохладной белизне белых скатертей блюда выделялись с приятной четкостью.
Горбились индюшки в коричневой ореховой подливе, жареные куры с некоторой аппетитной непристойностью выставляли голые гузки. Цвели вазы с фруктами, конфетами, печеньем, пирожными. Треснувшие гранаты, как бы опаленные внутренним жаром, приоткрывали свои преступные пещеры, набитые драгоценностями.
Сверкали клумбы зелени, словно только что политые дождем. Юные ягнята, сваренные в молоке по древнему абхазскому обычаю, кротко напоминали об утраченной нежности, тогда как жареные поросята, напротив, с каким-то бесовским весельем сжимали в оскаленных зубах пунцовые редиски.
Возле каждой бутылки с вином стояли, как бдительные санитары, бутылочки с боржоми. Бутылки с вином были без этикеток, видно, из местных подвалов. Дядя Сандро по запаху определил, что это «изабелла» из села Лыхны.
Большая часть закусок еще оставалась нетронутой. Некоторые давно остыли – так жареные перепелки запеклись в собственном жиру. Сталин не любил, чтобы за столом сновали официанты и другие лишние люди. Подавалось все сразу, навалом, хотя кухня продолжала бодрствовать на случай внезапных пожеланий.
За столом каждый ел, что хотел и как хотел, но, не дай бог, сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравновешивалась деспотией выпивки.
Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним, как жезл застольной власти.
Направо от него сидел Сталин, дальше Калинин. Налево от Лакобы сидела жена его, смуглянка Сарья, рядом с ней красавица Нина, жена Берии, а дальше сидел ее муж, энергично посверкивая стеклами пенсне. За Берией сидел Ворошилов, выделяясь своей белоснежной гимнастеркой, портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и за Калининым по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам.
Все остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии с бровями, так и застывшими в удивленной приподнятости. Между ними кое-где были рассыпаны товарищи из охраны. Дядя Сандро их сразу узнал, потому что они, в отличие от секретарей райкомов, ничему не удивлялись и тем более не подымали бровей.
Нестор Лакоба, сидевший во главе стола, сейчас, круто обернувшись, смотрел на ансамбль и, как хозяин, соблюдая приличия, аплодировал гораздо сдержанней остальных.
Когда Сталин опустил руки и сел, аплодисменты замолкли. Но не сразу, потому что те, что сидели подальше, этого не заметили. Они замолкли, как замолкает ветерок, прошелестев в листве большого дерева.
– Любимый вождь и дорогие гости, – начал Панцулая, – наш скромный абхазский ансамбль, организованный по личной инициативе Нестора Аполлоновича Лакобы…
Дядя Сандро заметил, что в это мгновение Сталин посмотрел на Лакобу и плутовато улыбнулся в усы, на что тот ответил ему застенчивым пожатием плеч.
– …Исполнит перед вами несколько абхазских песен и плясок, а также песни и пляски дружной семьи кавказских народов.
Панцулая низко наклонил голову, как бы заранее извиняясь, что ему придется сейчас повернуться спиной к высоким гостям. Не подымая головы, плавным движением, стараясь избегнуть хотя бы оскорбительной неожиданности предстоящей позы (раз уж, так или иначе, она необходима), одновременно скорбя лицом за то, что поворачивается спиной, он совершил свой многозначительный поворот, приподнял голову, взмахнул руками, окрыленный рукавами белой черкески, и замер на взмахе.
– О-райда, сиуа-райда, эй, – как бы из глубины узкого ущелья вытянул Махаз.
И вот уже хор по взмаху окрыленных рукавов подхватывает древнюю песню. Не все вернутся с набега, без слов рассказывает она… Не всем суждено увидеть пламя родного очага… И когда поперек седла мертвый юноша въедет во двор отцовского дома, от крика матери вздрогнет конь и шевельнется мертвец.
Но не вскрикнет отец и не заплачет брат, потому что, только отомстив, мужчина получает право на слезы.
- Такова воля судьбы и судьба мужчины.
- Женщина зреет, чтобы родить мужчину.
- Мужчина зреет, чтобы родить мужество.
- Виноград зреет, чтобы родить вино.
- Вино зреет, чтобы напомнить о мужестве.
- А песня зреет, чтобы пляской напомнить поход.
Постепенно мелодия переходит в энергию ритма. Песня сжимается, она отбрасывает лишние одежды, как борец отбрасывает их перед тем, как приступить к схватке.
Дядя Сандро чувствует подступающее опьянение, чувствует, как песня переливается в его кровь и теперь хочет стать пляской, выполнением клятвы, заложенной в ней.
Участники хора уже бьют в ладони, хотя все еще продолжают напевать сжатый до предела мотив. Вся энергия теперь в ритме хлопающих ладоней, но пляска должна дозреть, дойти и поэтому ее продолжают подогревать на маленьком огне мелодии.
– О-райда, сиуа-райда! – повторяет хор.
Тащ-тущ! Тащ-тущ! – хлопают ладони, продолжая вытягивать пляску из песни.
Кто-то из зрителей не выдерживает и тоже начинает бить в ладони, стараясь ускорить явление пляски. Весь зал вместе с товарищем Сталиным хлопает в ладони.
Тащ-тущ! Тащ-тущ! И тут вырывается Пата Патарая! Безумный бег коня, сорвавшегося с привязи, и вдруг замер!.. Вытягивается, выструнивается на носках, показывая готовность взмыть, как стрела, врезаться во вражеские ряды, но в последний миг меняет решение и в бешеном вращении утоляет ненасытную жажду воина куда-то прорваться и во что-то врезаться.
В круг вбрасывается Сандро Чегемский! И вот уже все танцоры взвились черными вихрями черкесок, показывая древнюю готовность мужчины стать воином, а воину – врезаться, взмыть, прорваться… Но в последний миг выясняется, что приказа врезаться, взмыть, прорваться все еще нет.
«Ах, так?!» – словно говорят танцоры и, грозно топнув ногой, кружатся. «Ах, так? Ах, все еще?» – И снова: «Ах, так? Ах, так? Ах, так?»
Кружась, они тончают, расслаиваются и в конце концов делаются полупрозрачными, как пропеллеры. Оказывается, вращаясь вокруг себя, можно утолить ненасытную жажду боя.
– О-райда-сиуа-райда! Тащ-тущ! Тащ-тущ!
Танцоры, умело и вовремя заменяя друг друга, влетают в круг, и уже кажется, что карусель танца движется сама по себе, по древнему замыслу, суть которого отчасти заключается в желании ошеломить невидимого врага (в далекие времена, когда князья приглашали друг друга на пиршества, враг был видимым), так вот ошеломить его неистощимостью своей свирепой энергии.
С короткими перерывами для песен ансамбль танцует абхазские, грузинские, мингрельские и аджарские танцы.
И вот коронный, свадебный танец. Наступает долгожданный миг. Внезапно вскрикнув, Пата Патарая разлетается и, еще в прыжке подогнув ноги, шлепается на колени и, раскинув руки, скользит и замирает у ног товарища Сталина.
Для гостей это случилось так неожиданно, что некоторые, особенно те, что сидели далеко, вскочили на ноги, не понимая, что случилось. Берия вскочил раньше всех и, сверкнув стеклами пенсне, воинственно замер над столом.
Но не было злого умысла, и товарищ Сталин улыбнулся. И в тот же миг грянул шквал рукоплесканий, а Пата Паратая, словно подброшенный этим шквалом, разогнулся и влетел в круг танцующих.
Теперь была очередь за дядей Сандро. Уловив необходимое ему музыкальное мгновенье, он гикнул и, выскочив из-за спин хлопающих в ладони, повторил знаменитый номер Паты Патарая, но остановился гораздо ближе, у самых ног товарища Сталина. Дядя Сандро провел глаза от хорошо начищенных сверкающих сапог вождя к его лицу и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз.
Снова рукоплескания.
– Они состязаются! – крикнул Лакоба Сталину, стараясь перекричать шум и собственную глухоту. Сталин кивнул головой и улыбнулся в знак одобрения.
И снова Пата Патарая, вскрикнув как ужаленный, шмякается на колени, скользит и, раскинув руки, замирает у самых ног товарища Сталина в позе дерзновенной преданности.
– Чересчур, – покачал головой Берия.
– А по-моему, здорово! – воскликнул Калинин, всматриваясь из-за плеча товарища Сталина.
Шквал рукоплесканий, и Пата Патарая пятится в вихрь танцующих. То, что ему удалось остановиться примерно на расстоянии ладони от ног вождя, почти предрешало его победу.
Но не таков чегемец, чтобы сдаваться без боя! Сейчас должна решиться судьба лучшего танцора, и он кое-что приберег на этот случай. Зорко всматриваясь в пространство от ноги товарища Сталина до того места, где он стоял, стараясь почувствовать миг, когда Сталин и Лакоба не будут менять позы, он движением рыцаря, прикрывающего лицо забралом, сдернул башлык на глаза, гикнул по-чегемски и ринулся в сторону товарища Сталина.
Этого даже танцоры не ожидали. Хор внезапно перестал бить в ладони, и все танцоры, за исключением одного танцевавшего с противоположного края, остановились. Бесплодно простучав несколько раз, ноги танцора испуганно притихли.
И в этой тишине, с лицом, прикрытым башлыком, с распахнутыми руками, дядя Сандро стремительно прошуршал на коленях танцевальное пространство и замер у ног товарища Сталина.
Сталин от неожиданности нахмурился. Он даже слегка взмахнул сжатой в кулак трубкой, но сама поза дяди Сандро, выражающая дерзостную преданность, и эта трогательная беззащитность раскинутых рук и слепота гордо закинутой головы и в то же время тайное упрямство во всей фигуре, как бы внушающее вождю, мол, не встану, пока не благословишь, заставили его улыбнуться.
В самом деле, положив трубку на стол и продолжая улыбаться, он с выражением маскарадного любопытства стал развязывать башлык на его голове.
И когда повязка башлыка соскользнула с лица дяди Сандро и все увидели это лицо, как бы озаренное благословением вождя, раздался ураган неслыханных рукоплесканий, а секретари райкомов Западной Грузии еще более удивленно приподняли брови, хотя казалось до этого, что и приподымать их дальше некуда.
Сталин, продолжая держать в одной руке башлык дяди Сандро, с улыбкой показывал его всем, как бы давая убедиться, что номер проделан чисто, без всякого трюкачества. Он жестом пригласил дядю Сандро встать. Дядя Сандро встал, а Калинин в это время взял из рук Сталина башлык и стал его рассматривать. Неожиданно Ворошилов ловко перегнулся через стол и вырвал из рук Калинина башлык. Под смех окружающих он приложил его к глазам, показывая, что в самом деле сквозь башлык ничего не видно.
– Кто ты, абрек? – спросил Сталин и взглянул на дядю Сандро своими лучистыми глазами.
– Я Сандро из Чегема, – ответил дядя Сандро и опустил глаза. Взгляд вождя был слишком лучезарным. Но не только это. Какая-то беспокойная тень мелькнула в этом взгляде и тревогой отдалась в душе дяди Сандро.
– Чегем… – задумчиво повторил вождь и сунул в руку дяде Сандро башлык. Дядя Сандро отошел.
– Какая точность, – услышал он голос Калинина. Поглаживая бородку, Калинин ласково кивнул в сторону дяди Сандро.
– Солнце видно и сквозь башлык, – важно заметил Ворошилов, отрезая ухо жареного поросенка. Покамест он возился над ухом, поросенок выпустил изо рта зажатую в нем редиску, и она покатилась по столу, что очень удивило Ворошилова. Он настолько удивился, что, оставив вилку в недорезанном ухе поросенка, стал искать закатившуюся между блюдами и бутылками редиску.
Тут только дядя Сандро обратил внимание на то, что сидящие за столом уже порядочно выпили. Теперь он присмотрелся к ним своим наметанным глазом и определил, что выпито уже по двенадцать-тринадцать фужеров.
Дядя Сандро говаривал, что умеет определить по внешности застольцев, сколько они выпили с точностью до одного стакана. При этом он пояснял, что, чем больше людей за столом и чем больше они пьют, тем точнее он мог это определить. Но это еще не все. Оказывается, точность определения повышается с выпитым вином не беспредельно. После трех литров, говаривал дядя Сандро, точность определения снова падает.
…Платон Панцулая стоял перед сдвоенным кипарисовым строем своих питомцев. Сейчас они должны были спеть песню о красных партизанах «Кераз». Все шло как нельзя лучше, поэтому Панцулая не спешил, давая танцорам отдышаться.
– Тебе хорошо, – говорил дяде Сандро земляк по району, – теперь ты обеспечен на всю жизнь…
– Да брось ты, Махаз, – скромничал дядя Сандро.
– Да ты что? – не глядя на него, распалялся Махаз. – Подкатить к самому Сталину, да еще прикрыв лицо башлыком! Да такое и немец не придумает!
Да, дядя Сандро прекрасно понимал, что этот блестящий номер не только выдвигает его на первое место в ансамбле, но и окончательно укрепляет его комендантские полномочия. Теперь-то управляющий, конечно, не посмеет лезть к нему с дурацкими расспросами насчет дров.
Когда начали петь партизанскую песню «Кераз», дядя Сандро только делал вид, что поет, слегка открывая и закрывая рот по ходу мелодии. Это была первая, маленькая, дань за его подвиг. Пока они пели, Лакоба, наклонившись к Сталину, что-то ему рассказывал, и, судя по тому, что он и Сталин несколько раз бросали взгляд в его сторону, дядя Сандро, сладко замирая, почувствовал, что говорят о нем.
А когда Нестор Аполлонович сжал кулак и взмахом руки что-то показал, дядя Сандро догадался, что он рассказывает ему о молельном дереве и жест его означает, что по дереву надо было ударить чем-нибудь, чтобы оно прозвенело: «Кум-хоз…» Во всяком случае, Сталин в этом месте рассказа откинулся и стал хохотать, за что Калинин его слегка толкнул, показывая, что он мешает ансамблю. Тогда Сталин перестал смеяться и, наклонившись к Калинину, стал ему, как догадался дядя Сандро, пересказывать эту же историю. Дойдя до места, где надо было показать, что дерево ударяли, он несколько раз рукой, сжимающей трубку, сделал энергичное движение. Тут Калинин не выдержал и, тряся бородкой, зашелся в хохоте, после чего уже Сталин пригрозил ему, показывая, что он своим хохотом мешает ансамблю.
Взяв в одну руку рог, а в другую бутылку с вином, Сталин встал и пошел к танцорам.
Нестор Аполлонович что-то шепнул жене и она, подхватив со стола блюдо с жареной курицей, поспешила за Сталиным. Не успел Сталин подойти к танцорам, как тут же очутился директор санатория. Он попытался помочь Сталину, но тот отстранил его плечом и сам, налив полный рог вина, подал его Махазу.
Тот приложил одну руку к сердцу, другой принял рог и осторожно поднес его к губам. И пока он пил, приложившись к рогу, Сталин с удовольствием следил за ним и методично говорил ему, рубя маленькой, пухлой ладонью воздух:
– Пей, пей, пей…
Это был литровый рог. Директор, приняв у Сталина пустую бутылку, поставил ее на стол и прибежал с новой. Он взял у Сарьи блюдо с курицей, чтобы придерживать его, пока она будет разрезать курицу. То ли от смущенья, то ли от того, что блюдо покачивалось в руках у директора, Сарья неловко орудовала вилкой и ножом. На смуглых щеках Сарьи проступил румянец, директор начал задыхаться.
Между тем Махаз опорожнил рог, перевернул его, чтобы показать свою добросовестность, передал дяде Сандро. Сталин, заметив, что закуска запаздывает, махнул рукой и, решительно, обеими руками взяв курицу за ножки, с наслаждением, как заметил дядя Сандро, разорвал ее на две части. Потом каждую из них разорвал еще раз. Жир стекал по его пальцам, но он на это не обращал внимания…
Дяде Сандро показалось, что левая рука вождя двигается не совсем ловко. Уж не сухорук ли, подумал дядя Сандро и, осторожно присматриваясь, решил: да, немного есть… Вот бы его свести с Колчеруким, подумал он без всякой видимой причины. Вообще дядя Сандро почувствовал, что эта небольшая инвалидность как-то снизила образ вождя. Чуть-чуть, но все-таки.
Взяв мокрой рукой куриную ножку, Сталин подал ее Махазу. Тот опять склонился, принимая ножку и пристойно надкусывая ее.
Директор попытался было налить в рог, но Сталин опять отобрал у него бутылку и, обхватив ее скользящими от жира пальцами, наполнил рог и отдал пустую бутылку директору. Тот побежал за новой.
– Пей, пей, пей, – услышал дядя Сандро над собой, как только поднял рог. Дядя Сандро пил, плавно запрокидывая рог с тихой артистической бесчувственностью, с какой должен пить настоящий тамада – не пьет, а переливает драгоценную жидкость из сосуда в сосуд.
– Пьешь, как танцуешь, – сказал Сталин и, подавая ему куриную ножку, посмотрел ему в глаза своим лучезарным женским взглядом, – где-то я тебя видел, абрек?
Рука Сталина, подававшая куриную ножку, вдруг остановилась, и в глазах у него появилось выражение грозной настороженности. Дядя Сандро почувствовал смертельную тревогу, хотя никак не мог понять, чем она вызвана. Он понимал, что Сталин ошибается, что он-то, Сандро, запомнил бы, если бы видел его где-нибудь.
Ансамбль, и без того молчавший, окаменел. Дядя Сандро услышал, как челюсти Махаза, жующие курицу, остановились. Надо было отвечать. Но нельзя было отрицать, что Сталин его видел, и в то же время еще страшнее было согласиться с тем, что он его видел не только потому, что дядя Сандро этого не помнил, но главным образом потому, что Сталин приглашал его принять участие в каких-то неприятных воспоминаниях. Это он сразу почувствовал.
Могучий аппарат самосохранения, отработанный на многих опасностях, провернул за одну-две секунды все возможные ответы и выбросил на поверхность наиболее безопасный.
– Нас в кино снимали, – неожиданно для себя сказал дядя Сандро, – там могли видеть, товарищ Сталин.
– А-а, кино, – протянул вождь, и глаза его погасли. Он подал куриную ножку: – Держи. Заслужил.
Снова забулькало вино, переливаясь в рог.
– Пей, пей, пей, – раздалось рядом.
Дядя Сандро надкусил куриную ножку и слегка зашевелил шеей, чувствуя, что она омертвела, и по этому омертвению шеи узнавая, какая тяжесть с него свалилась. Ну и ну, думал дядя Сандро, как это я вспомнил, что нас снимали в кино? Ай да Сандро, думал дядя Сандро, хмелея от радости и гордясь собой. Нет, чегемца не так легко укусить! Неужели мы с ним где-то встречались? Видно, с кем-то спутал. Не хотел бы я быть на месте того, с кем он меня спутал, думал дядя Сандро, радуясь, что он – Сандро Чегемский, а не тот человек, с кем его спутал вождь.
Сталин уже подавал рог последнему танцору в первом ряду, когда к нему подошел Нестор Аполлонович.
– Может, пригласим их за стол? – спросил он.
– Как скажешь, дорогой Нестор, я только гость, – ответил Сталин и, приняв у Сарьи салфетку, стал медленно и значительно, как механик, закончивший работу, вытирать руки. Бросив салфетку в опустошенное блюдо, он пошел рядом с Лакобой к столу упругой, легко несущей свои силы походкой.
Участников ансамбля рассадили за банкетным столом. Тех, что получше, рядом с вождями, тех, что попроще, рядом с секретарями райкомов Западной Грузии. Над банкетным столом уже подымался довольно значительный шум. Островки разнородных разговоров начинали жить самостоятельной жизнью.
Вдруг товарищ Сталин встал с поднятым фужером. Грянула тишина, и через миг воздух очистился от мусора звуков.
– Я подымаю этот бокал, – начал он тихим внушительным голосом, – за эту орденоносную республику и ее бессменного руководителя…
Он замер на долгое мгновение, словно в последний раз стараясь взвесить те высокие качества руководителя, за которые он однажды его удостоил сделать бессменным. И хотя все понимали, что он никого, кроме Лакобы, сейчас не может назвать, все-таки эта длинная пауза порождала азарт тревожного любопытства: а вдруг?
– …моего лучшего друга Нестора Лакобу, – закончил Сталин фразу, и рука его сделала утверждающий жест, несколько укороченный тяжестью фужера.
– Лучшего, сказал, лучшего, – прошелестели секретари райкомов, мысленно взвешивая, как эти слова отразятся на тбилисском руководстве партией, а уж оттуда возможным рикошетом на каждом из них. При этом брови у каждого из них продолжали оставаться удивленно приподнятыми.
– …В республике умеют работать и умеют веселиться…
– Да здравствует товарищ Сталин! – неожиданно вскрикнул один из секретарей райкомов и вскочил на ноги.
Сталин быстро повернулся к нему с выражением грозного презрения, после чего этот высокий и грузный человек стал медленно оседать. Словно уверившись в надежности его оползания, Сталин отвел глаза.
– Некоторые товарищи… – продолжал он медленно, и в голосе его послышались отдаленные раскаты раздражения. Все поняли, что он сердится на этого секретаря райкома за его неуместное прославление Сталина.
Берия заерзал и, на мгновение сняв пенсне, бросил на него свой знаменитый мутно-зеленый взгляд, от которого секретарь райкома откачнулся, как от удара.
Сидевшие рядом с ним секретари райкомов как-то незаметно расступились, образовав между ним и собой просвет с идеологическим оттенком. Все секретари райкомов смотрели на него, удивленно приподняв брови, как бы силясь узнать, кто он такой и откуда он вообще взялся.
Тот продолжал, опираясь руками о стол, глядя на Берию, медленно оседать, стараясь незаметно войти в застолье и в то же время сдерживая себя на тот случай, если ему будет приказано удалиться.
– …некоторые грамотеи там, в Москве… – продолжал Сталин после еще более длительной паузы, и в голосе его еще более отчетливо прозвучали нотки угрозы и раздражения. И сразу же всем стало ясно, что он решает про себя что-то очень важное, а про этого неловкого секретаря райкома давным-давно забыл.
Берия отвел от него взгляд, и тот словно обвалился под собственным обломанным костяком, радостно рухнул – пронесло!
– …Бухарина… – услышал дядя Сандро шепот одного из второстепенных вождей, незнакомых ему по портретам.
– …Бухарина, Бухарина, Бухарина… – прошелестело дальше по рядам секретарей райкомов.
В самом деле, в партийных кругах было известно, что Сталин так называет Бухарина. В дни дружбы: «Наш грамотей». Теперь: «Этот грамотей».
– …думают, что руководить по-ленински, – продолжал Сталин, – это устраивать бесконечные дискуссии, трусливо обходя решительные меры…
Сталин опять задумался. Казалось, он с посторонним интересом прислушивался к этому шелесту и доволен им. Он любил такого рода смутные намеки. Фантазия слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очертаниями границ зараженной местности. В таких случаях каждый отшатывался с запасом, а отшатнувшихся с запасом можно было потом для политической акции обвинить в шараханье.
– …но руководить по-ленински – это значит, во-первых, не бояться решительных мер, а во-вторых, находить кадры и умело расставлять их, куда надо… Небольшой пример.
Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа его плавно опустилась вниз, при этом сам он, не мигая, продолжал смотреть на вождя.
– …Нестор нашел этого абрека в далеком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием, – продолжал Сталин. – Раньше он танцевал для узкого круга, а теперь танцует на радость всей республике и на нашу с вами радость, товарищи.
…Так выпьем за моего дорогого друга, хозяина этого стола Нестора Лакобу, – закончил товарищ Сталин и, стоя выпив бокал, добавил: – Алаверды Лаврентию…
Он прекрасно знал, что Берия и Лакоба не любят друг друга, и сейчас забавлялся, заставляя Берию первым выпить за Лакобу.
Поддев ножом, он достал из солонки шматок аджики, переложил его к себе в тарелку и, густо обмазав пурпурной приправой кусок ягнятины, отправил его в рот, хрустнув молочным хрящом.
– Не слишком дерет? – спросил Калинин, опасливо проследив, как Сталин мазал мясо аджикой.
– Нет, – сказал Сталин, мотнув головой, – думаю, что эта абхазская аджика имеет большое будущее.
Многие из тех, кто слышал слова Сталина, потянулись к аджике. Впоследствии это предсказание вождя, в отличие от многих других, в самом деле подтвердилось – аджика распространилась далеко за пределы Абхазии.
Между тем Берия произнес тост и, ничем не выдавая своих чувств, выпил за Лакобу. Лакоба, который тост вождя слушал со слуховым аппаратом, сейчас снял аппарат и слушал Берию, приставив ладонь к уху. Он тоже ничем не выдавал своих чувств, время от времени кивая головой в знак благодарности и того, что расслышал слова.
После Берии слово взял Калинин и, выпивая за Лакобу, сказал несколько слов о грамотеях, давно оторвавшихся от народа. Сталину тост его понравился, и он потянулся, чтобы поцеловать его. Калинин неожиданно отстранился от поцелуя.
Сталин нахмурился. Дядя Сандро опять удивился, как быстро меняется у него настроение. Только что лучезарно сиял глазами Калинину и вдруг потускнел, съежился. Берия оживленно сверкнул пенсне, а секретари райкомов с удивленно приподнятыми бровями уставились на Калинина.
«Значит, он с ними, а не со мной, – испуганно подумал Сталин, – как же я его проморгал?..» Он испугался не самой измены Калинина, раздавить его ничего не стоит, а того, что чутье на опасность, которому он верил, ему изменило, и это было страшно.
– А что с тобой, конопатым, целоваться, – сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина, – вот если б ты был шестнадцатилетней девочкой (он собрал пальцы правой руки в осторожную горстку, слегка потряс ими, словно прислушиваясь к колокольцу нежной юности), тогда другое дело…
Лицо Сталина озарилось, и вздох облегчения прошелестел по залу. «Нет, не изменило чутье», – подумал Сталин.
– Ах ты, мой всесоюзный козел, – сказал он, обнимая и целуя Калинина, в сущности обнимая и целуя собственное чутье.
– Ха! Ха! Ха! Ха! – рассмеялись секретари райкомов, радуясь взаимной шутке вождей. С некоторым опозданием к ним присоединился Лакоба, которому дядя Сандро, он теперь сидел рядом с ним, пояснил недослышанную шутку. Запоздалый смех Лакобы прозвучал несколько странно, и Берия, не удержавшись, двусмысленно хохотнул, хотя его хохоток можно было принять и за отголосок еще того смеха.
Но Сталин почувствовал издевательский смысл его смеха. Этот смех ему сейчас был неприятен, и он сказал, посмотрев на Берию:
– Лаврентий, попроси жену, пусть потанцует…
– Конечно, товарищ Сталин, – сказал Берия и посмотрел на жену.
– Но я не умею, товарищ Сталин, – сказала она, краснея.
Сталин знал, что она не умеет танцевать.
– Вождь просит, – грозно шепнул Берия.
– Зачем вождь, мы все просим, – сказал Сталин и, собирая глазами участников ансамбля, добавил: – Давайте, ребята.
На ходу хлопая в ладони и подпевая, участники ансамбля образовали полукруг, открытой стороной обращенный к основанию стола.
– Я не ломаюсь, я в самом деле не умею, – говорила жена Берии, стараясь перекричать шум рукоплесканий. Но теперь ее просили все. Подталкиваемая мужем, она, робко упираясь, шла в круг. На мгновенье, когда Берия повернулся спиной к столу, дядя Сандро заметил, что его искривленные губы шепчут жене непечатные слова.
Раскинув руки, она сделала два неловких круга и остановилась, не зная, что делать дальше. Ясно было, что она и в самом деле не умеет танцевать.
– Молодец, – сказал Сталин, улыбаясь, и похлопал ей. Все похлопали жене Берии.
– Сарью, просим Сарью! – раздались голоса. Сейчас Сарья сидела между дядей Сандро и Лакобой. Сверкнув темными глазами, она посмотрела на мужа.
– Иди же, – сказал Лакоба по-абхазски. Она взглянула на Сталина. Тот ласково ей улыбнулся. Все шло, как он хотел.
Сарья вошла в круг. Смуглянка, с головой, слегка запрокинутой тяжелым узлом волос, сделала несколько плавных кругов и вдруг остановилась возле Паты Патараи, вызывая его на танец. Сдержанно улыбаясь, Пата проплыл рядом с ней.
Берия сидел за столом, не глядя на танцующих, тяжело опершись головой на руку. Жена его, растерянная, стояла возле участников ансамбля, видимо, не решаясь сесть на место.
– Лаврентий, – тихо сказал Сталин. Тот, выпрямившись, посмотрел на вождя. – Оказывается, Глухой не только в кадрах лучше разбирается…
Берия развел руками, мол, ничего не поделаешь – судьба. Дяде Сандро стало неприятно, он почувствовал, что здесь таится опасность для Лакобы. Ох, не надо бы вождю так растравлять его, подумал дядя Сандро.
– Потом скажешь, что они говорили, – шепнул дяде Сандро Лакоба, когда раздался последний взрыв рукоплесканий и все посмотрели на Сарью, обнявшую жену Берии. Лакоба заметил, что Сталин что-то сказал Берии, и тот развел руками. Видимо, он почувствовал, что речь идет о нем.
Почти одновременно со словами Лакобы раздались три пистолетных выстрела. Дядя Сандро вскочил на ноги. Ворошилов вкладывал в кобуру дымящийся пистолет. Растроганный танцем Сарьи и особенно ее благородным порывом, он не удержался от маленького салюта. Все радостно зашумели и стали смотреть на потолок, где возле люстры чернели три маленькие дырочки, соединенные между собой молнийкой трещины.
Штукатурка, осыпавшаяся вниз после выстрелов, покрыла белым налетом стынущую индейку. Сталин посмотрел на слегка припудренную индейку, подняв голову, посмотрел на черные дырочки в потолке, потом перевел взгляд на Ворошилова и сказал:
– Попал пальцем в небо.
Ворошилов густо покраснел и опустил голову.
– Среди нас, – сказал Сталин, – находится настоящий народный снайпер, попросим его.
Он посмотрел на Лакобу и, положив трубку на стол, начал аплодировать. Все дружно зааплодировали, присоединяясь к вождю, хотя почти никто толком не знал в чем дело.
Лакоба понял, о чем его просят, и, склонив голову, смущенно пожал плечами.
– Может, не стоит? – сказал он, взглянув на Сталина. Тот подносил к трубке огонь.
– Стоит! Стоит! – закричали вокруг. Сталин, прикуривая, остановился и кивнул на крики: мол, глас народа, ничего не поделаешь.
Смущаясь от предстоящего удовольствия, Нестор Аполлонович развел руками. Он стал искать глазами директора санатория, но тот уже быстрой рысцой бежал к нему.
– Позови, – кивнул Лакоба склонившемуся директору.
– Переодеть? – спросил директор, все еще склоненный.
– Зачем? – сморщился Лакоба. – Проще, проще…
Нестор Аполлонович налил себе фужер вина и знаком показал, чтобы всем налили. Все наполнили свои бокалы.
– Я хочу поднять этот бокал, – начал он своим дребезжащим голосом, – не за вождя, но за скромность вождя.
Нестор Аполлонович рассказал по этому поводу такой случай. Оказывается, в прошлом году он получил записку от товарища Сталина, в которой тот его просил выслать ему мандарины, строго наказав сопроводить посылку счетом, который вождь оплатит с первой же получки.
Сталин задумчиво покуривал трубку, слушая рассказ Нестора. Все это правда, думал он, Глухой не льстит. И деньги выслал с получки… Хороший урок всем этим секретарям, которые только и знают, что весь вечер задирают брови.
Ему было приятно, что все, о чем говорит Нестор, правда, но, заглядывая в себя глубже, он находил еще один источник более скрытой, но и более тонкой радости. Источник этой радости заключался в том, что и тогда, когда он писал записку, он помнил – рано или поздно она вот так вот выплывет и сыграет свою маленькую историческую роль… Так кто умеет заглядывать в будущее, он или эти грамотеи?
– …Кажется, неужели наша республика обеднеет, если мы пошлем товарищу Сталину эти несчастные мандарины? – продолжал Нестор Лакоба.
– Не мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор, – ткнул Сталин трубкой в его сторону, – народ сажал…
– Народ сажал, – прошелестело по рядам.
Народ сажал, повторил Сталин про себя, еще смутно нащупывая взрывчатую игру слов, заключенную в это невинное выражение. Впоследствии, когда отшлифовалась его великолепная формула «враг народа», некоторые пытались приписать ее происхождение Великой французской революции. Может, у французов и было что-нибудь подобное, но он-то знал, что здесь, в России, он ее вынянчил и пустил в жизнь.
(Подобно поэту, для которого во внезапном сочетании слов вспыхивает контур будущего стихотворения, так и для него эти случайные слова стали зародышем будущей формулы.
Ужасно подумать, что механизм кристаллизации идеи один и тот же у палача и поэта, подобно тому, как желудок людоеда и нормального человека принимает еду с одинаковой добросовестностью. Но если вдуматься, то, что кажется равнодушием природы человека, может быть следствием высочайшей мудрости его нравственной природы.
Человеку дано стать палачом, так же как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами.
И если бы желудок людоеда просто не принимал человечины, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечивания людоеда. Неизвестно, куда обратилась бы эта его склонность.
Нет человечности без преодоления подлости и нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан. Да мы и говорим о том, что нет выбора, потому что почувствовали гнет вины за сделанный выбор. Если бы выбора и в самом деле не было, мы бы не чувствовали гнета вины…)
…Под гром рукоплесканий Лакоба выпил свой бокал. И не успел замолкнуть этот гром во славу скромности вождя, как в дверях появился повар в белом халате, а за ним директор санатория с тарелкой в руке.
Услышав рукоплескания, повар сделал попытку шарахнуться, но директор слегка подтолкнул его и отвел от двери.
Это был среднего роста пожилой полнеющий мужчина с нездоровым цветом лица, какой часто бывает у поваров, с тяжелой шапкой курчавых волос на голове.
Жестом приказав ему стоять, директор, стараясь неподвижно держать тарелку, подошел к Лакобе.
– Нестор Аполлонович, повар здесь, – сказал он, склонившись над ним и показывая содержимое тарелки. В тарелке, слегка перекатываясь, лежало с полдюжины яиц.
– Хорошо, – сказал Лакоба и хмуро посмотрел в тарелку.
Тут только дядя Сандро догадался, что Нестор Аполлонович будет стрелять по яйцам. Этого он еще не видел.
– Индюшкины яйца? – вдруг спросил Берия и, протянув руку, вытащил из тарелки яйцо.
– Куриные, Лаврентий Павлович, – подсказал директор, поближе подсовывая ему тарелку.
– Тогда почему такие большие? – спросил Берия, с любопытством рассматривая яйцо. Яйца и в самом деле были довольно крупные.
– Сам выбирал, – хихикнул директор, кивнув головой в сторону повара, стараясь обратить внимание Берии на тайный комизм этого обстоятельства. Но Берия, не обращая внимания на тайный комизм этого обстоятельства, продолжал рассматривать яйцо. Директор встревожился.
– Может, заменить, Лаврентий Павлович? – спросил он.
– Нет, я просто так говорю, – опомнился Берия и быстро положил яйцо в тарелку.
– Ревнует к Глухому, – шепнул Сталин Калинину и беззвучно рассмеялся в усы. Калинин в ответ затряс бородкой.
– В этом углу, по-моему, лучше, – сказал Лакоба, оглядывая люстру и кивая в противоположный тому, где стоял повар, угол. Так фотограф перед началом съемки старается найти лучший эффект освещения.
– Совершенно верно, – подтвердил директор.
– Волнуется? – кивнул Лакоба на повара.
– Немножко, – сказал директор, низко склонившись к уху Лакобы.
– Успокой его, – сказал Нестор Аполлонович, слегка отстраняясь от директора, поза которого слишком назойливо подчеркивала его глухоту.
Повар все еще стоял у дверей с безучастным подопытным выражением на лице. Дядя Сандро только сейчас заметил, что он в одной руке сжимает колпак. Пальцы этой руки все время шевелились.
Директор подошел к повару, что-то шепнул ему, и они оба направились к противоположному углу. Директор важно нес впереди себя тарелку с яйцами.
Стало тихо. Смысл предстоящего теперь был всем ясен. Прохрустев накрахмаленным халатом, повар остановился в углу, повернувшись лицом к залу.
– Если б ты только знала, как я ненавижу это, – шепнула Сарья, поворачиваясь к Нине. Та ничего не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела в угол. Сарья больше ни разу не посмотрела туда, куда смотрели все.
Повар стоял, плотно прислонившись к стене. Директор ему беспрерывно что-то говорил, а повар кивал головой. Лицо его приняло мучной цвет. Директор выбрал из тарелки яйцо, и повар, теперь не шевеля головой, а только скосив на него белые, как бы отдельно от лица плавающие глаза, следил за его движениями. Директор стал ставить ему на голову яйцо, но то ли сам волновался, то ли яйцо попалось неустойчивое, оно никак не хотело становиться на попа.
Нестор Аполлонович нахмурился. Вдруг повар, продолжая неподвижно стоять, приподнял руку, нащупал яйцо, прищурился своими белыми, отдельно плавающими глазами, поймал точку равновесия и плавно опустил руку.
Яйцо стояло на голове. Теперь он, вытянувшись, замер в углу и, если б не выражение глаз, он был бы похож на призывника, которому меряют рост.
Директор быстро посмотрел вокруг, не находя, куда поставить тарелку с яйцами, и вдруг, словно испугавшись, что стрельба начнется до того, как он отойдет от повара, сунул ему в руку тарелку и быстро отошел к дверям.
Лакоба вытащил из кобуры пистолет и, осторожно опустив дуло, взвел курок. Он оглянулся на Сталина и Калинина, стараясь стоять так, чтоб им все было видно. Дяде Сандро пришлось сойти с места. Он встал за стулом Сарьи, ухватившись руками за спинку. Дядя Сандро очень волновался.
Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной, и вдруг дядя Сандро заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня.
Повар внезапно побелел, и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелке, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Сандро заметил, как по лицу повара брызнуло что-то желтое и только потом услышал выстрел.
– Браво, Нестор! – закричал Сталин и забил в ладони. Гром рукоплесканий прозвучал, как разряд облегчения. Директор подбежал к повару, выхватил у него из рук колпак, вытер щеку повара, облитую желтком, и сунул колпак в карман его халата.
Он оглянулся на Лакобу, как оглядываются на стрельбище, чтобы показать, куда попал стрелявший, или спросить, надо ли подготовить мишень к очередному выстрелу.
– Давай, – кивнул Лакоба.
Директор на этот раз быстро поставил яйцо на голову повара и, хрустнув скорлупой разбитого яйца, отошел к дверям. И снова лицо Лакобы превратилось в кусок камня, вытянутая рука окаменела, и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз.
И опять на этот раз дядя Сандро заметил сначала, как желтый фонтанчик яйца выплеснул вверх и только потом раздался выстрел.
– Браво! – и взрывы рукоплесканий сотрясли банкетный зал. Улыбаясь бледной, счастливой улыбкой, Лакоба прятал пистолет. Повар все еще стоял в углу, медленно оживая.
– Посади его за стол, – бросил Лакоба жене по-абхазски.
Сарья схватила салфетку и подбежала к повару. Вслед за нею подбежал и директор, которому повар теперь сердито сунул тарелку с яйцами. Сарья стояла перед ним и, вытирая ему лицо салфеткой, что-то говорила. Повар с достоинством кивал. Директор, присев на корточки и поставив рядом с собой тарелку с яйцами, подбирал скорлупу разбитых яиц.
Сарья стала уводить повара, но тот вдруг остановился и, сбросив халат, кинул его директору. По-видимому, случившееся на некоторое время давало ему такие права, и он явно показывал окружающим, что он недаром рискует, а имеет за это немалые выгоды.
Когда директор с халатом, перекинутым через плечо, и с тарелкой в руке быстро проходил к дверям, дядя Сандро с удивлением подумал, что повар и директор могли бы заменить друг друга, потому что многое в этой жизни решает случай.
Сарья посадила повара между последним из второстепенных вождей, незнакомых дяде Сандро по портретам, и первым из секретарей райкомов.
Сарья налила повару фужер коньяку, придвинула тарелку, плеснула в нее ореховой подливы и положила кусок индюшатины. Повар сразу же выпил и сейчас, оглядывая стол, важно кивал на какие-то слова, которые ему говорила Сарья.
Бедная Сарья, думал дядя Сандро, она сейчас пытается замолить грех за эту стрельбу, которую она так не любила и которая, кстати, однажды закончилась неприятностью.
Дело происходило в одной абхазской деревне. После большого застолья началась стрельба по мишени. Может, именно потому, что стреляли по мишени и Лакоба был не очень внимателен или еще по какой-нибудь причине, но он ранил деревенского парня, который то и дело бегал смотреть на мишень. Рана оказалась неопасная, и парня тут же на «бьюике» Лакобы отправили в районную больницу.
Лакоба обратно ехал вместе с другими членами правительства на второй машине. И вот тут-то, на обратном пути, один из членов правительства сильно повздорил с Лакобой и даже ссадил его с машины посреди дороги.
– Мне надоели твои партизанские радости, – говорят, сказал он ему тогда. Трудно сейчас установить, почему Лакоба согласился сойти с машины. Возможно, он сам был так подавлен случившимся, что не нашел возможным сопротивляться такой оскорбительной мере. Я думаю, скорее всего, человек, который его ругал, был старше его по возрасту. И если тот ему сказал что-нибудь вроде того, что или ты сейчас сойдешь с машины, или я сойду, то Лакоба, как истый абхазец, этого допустить не мог и, вероятно, сам сошел с машины.
…Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял на ногах, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб.
– Мой Вилгелм Телл, – сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову: – А ты кто такой?
– Я – Ворошилов, – сказал Ворошилов довольно твердо.
– Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок? – спросил Сталин, и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, подумал он, растравлять Ворошилова против нашего Лакобы.
– Конечно, он лучше стреляет, – сказал Ворошилов примирительно.
– Тогда почему ты выпячиваешься, как ворошиловский стрелок? – спросил Сталин и сел, предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства.
Секретари райкомов, с трудом подымая отяжелевшие брови, начинали удивленно прислушиваться. Лакоба потихоньку отошел и сел на место.
– Ну, хватит, Иосиф, – сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами.
– Хватит, Иосиф, – сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова, – говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь?
Ворошилов, опустив голову, краснел и надувался.
– Скажи, чтоб начали его любимую, – шепнул Нестор жене.
Сарья тихо встала и прошла к середине стола, где сидел Махаз. Лакоба знал, что это один из способов остановить внезапные и мрачные капризы вождя.
Махаз затянул старинную грузинскую застольную «Гапринди шаво мерцхало» («Лети, черная ласточка»). В это время Ворошилов, подняв голову, попытался что-то сказать Сталину. Но тот вдруг поднял руки в умоляющем жесте: мол, оставьте меня в покое, дайте послушать песню.
Сталин сидел, тяжело опершись головой на одну руку и сжимая в другой потухшую трубку.
Нет, ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песня эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности. Но не так освобождала, как освобождал азарт страсти и борьбы, потому что как только азарт страсти кончался гибелью врага, начиналось похмелье, и тогда победа источала трупный яд побежденных.
Нет, песня по-другому освобождала его душу. Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический свет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело Судьбы, где нет ни палачей, ни жертв, но есть движение Судьбы, История и траурная необходимость занимать в этой процессии свое место. И что с того, что ему предназначено занимать в этой процессии самое страшное и потому самое величественное место.
- Лети, черная ласточка, лети…
но вот постепенно эта траурная процессия Судьбы уходит куда-то, становится далеким фоном сказочной картины…
Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в давильню. Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.
На деревенской улице у плетня остановился всадник, которого он впервые видит, но почему-то признает в нем гостя из Кахетии. Всадник пьет воду из кружки, которую протягивает ему через плетень местный крестьянин. У самого плетня колодец, потому-то и остановился здесь этот всадник.
Проезжая мимо всадника и односельчанина, он сердечно кивает им, мимолетно улыбается всаднику, который, вглядываясь в него, за скромным обликом виноградаря правильно угадывает его великую сущность. Именно этой догадке и улыбается он мимоходом, показывая всаднику, что он сам не придает большого значения своей великой сущности.
Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахетии.
– Слушай, кто этот человек? – говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.
– Это тот самый Джугашвили, – радостно говорит хозяин.
– Неужели тот самый? – удивляется гость из Кахетии. – Я думаю, вроде похож, но не может быть…
– Да, – подтверждает хозяин, – тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина.
– Интересно, почему не захотел? – удивляется гость из Кахетии.
– Хлопот, говорит, много, – объясняет хозяин, – и крови, говорит, много придется пролить.
– Хо-хо-хо, – прицокивает гость из Кахетии, – я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался.
– А зачем ему Россия, – поясняет хозяин, – у него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети…
– Что за человек! – продолжает прицокивать гость из Кахетии, глядя вслед арбе, которая теперь сворачивает к дому. – От целой страны отказался…
– Да, отказался, – подтверждает хозяин, – потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина…
– Дай бог ему здоровья! – восклицает всадник. – Но откуда он знает, что будет с крестьянами?
– Такой человек, все предвидит, – говорит хозяин.
– Дай бог ему здоровья, – цокает гость из Кахетии… – Дай бог…
Иосиф Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, едет себе на арбе, мурлычет песенку о черной ласточке. Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но, в сущности, правдивый рассказ односельчанина.
И вот он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо, приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжают… Может, все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтобы сразу всем помогать советами?
Куры, пьяные от виноградных отжимок, ходят по двору, прислушиваясь к своему странному состоянию, крестьянин, дожидаясь его, почтительно кланяется, мать, услышав скрип арбы, выглядывает из кухни и улыбается сыну. Добрая, старая мать с морщинистым лицом. Хоть в старости почет и достаток пришли наконец… Добрая… Будь ты проклята!!!
Тут, как всегда, видение обрывается. Он никогда не мог провести его дальше, всегда спотыкался на этом месте, потому что кровь давней обиды ударяла в голову. Нет ей прощения даже за то, что она каждый раз портила этот сон наяву, этот милый вариант судьбы, который сладко было себе позволить во хмелю, слушая любимую песню. Нет ей прощения, нет. Как он помертвел однажды, как помертвел, когда, играя с мальчиками на зеленой лужайке, вдруг услышал (срыть лужайку!), как двое взрослых мужчин, похабно похохатывая, стали говорить о ней.
Они сидели в десяти шагах от него в тени алычи (срыть алычу, чтоб она высохла) и говорили о ней. А потом один из них вдруг остановился и, кивнув в его сторону, сказал другому, чтобы потише говорил, потому что, кажется, ее мальчик тут крутится.
Они заговорили тише, а он, раздавленный унижением, должен был продолжать игру, чтобы товарищи его ничего не заметили и ни о чем не догадались. Как он ненавидел их тогда, как мечтал отомстить, особенно почему-то этому, второму, который сказал, чтобы первый говорил потише. Нет ей прощения за самую ее позорную нищету и за все остальное…
- Лети, черная ласточка, лети…
Он поднял голову и, оглядывая теперь поющих секретарей райкомов, постепенно успокоился. С каждым накатом мелодии песня смывала с их лиц эти жалкие маски с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все отчетливей, все самостоятельней проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов.
- Лети, черная ласточка, лети…
Они думают, власть – это мед, размышлял Сталин. Нет, власть – это невозможность никого любить, вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, никого не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить.
Вот я уже полюбил Глухого, и я знаю, что Берия его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть – это когда нельзя никого любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но, раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину.
Да, да, я это знаю. И меня любили, и получали за это рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если б можно было любить и не доверять одновременно. Но это невозможно.
Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама справедливость требует расправляться с теми, кого не любишь, с врагами Дела.
Да, Дела, подумал он. Конечно, Дела. Все делается ради Дела, думал он, удивленно вслушиваясь в полый, пустой звук этой мысли. Это от песни, подумал он. Вообще, надо бы запретить эту песню, она опасна, потому что я ее слишком люблю. Глупость, подумал он, она была бы опасна, если бы другие ее могли так же глубоко чувствовать, как я… Но так ее никто не может чувствовать…
Продолжая слушать песню, он налил себе фужер вина и молча, ни на кого не глядя, выпил. Поставив фужер, он взял со стола давно потухшую трубку и несколько раз безуспешно попытался затянуться. Заметив, что трубка потухла, он уже нарочно тянул, словно продолжая оставаться в глубокой задумчивости. Спички лежали рядом, но он ждал – кто-нибудь догадается или нет подать ему огня.
Вот так, будешь умирать – стакан воды не подадут, подумал он, жалея себя, но тут Калинин зажег спичку и поднес ее к трубке. Оставаясь в глубокой задумчивости, он ждал, пока пламя спички доберется до пальцев Калинина, и только тогда потянулся к огню и, прикуривая, наблюдал, как легкое пламя касается дрожащих пальцев Калинина. Ничего, подумал он, не одному мне мучиться.
Он с удовольствием затянулся и откинулся на стуле. Взгляд его упал на Ворошилова. Тот все еще сидел за столом, опустив голову и насупившись, с выражением обиженного ребенка. И вдруг острая жалость к нему пронзила Сталина. Он тоже загубил душу, подумал Сталин.
– Клим, – сказал он глухим от волнения голосом, – где Царицын, где мы, Клим?
– За что обидел, Иосиф? – поднял голову Ворошилов и посмотрел на Сталина горьким преданным взглядом.
– Прости, Клим, если обидел, – сказал Сталин, раскаиваясь и любуясь своим раскаянием, – но они нас с тобой еще хуже обижают…
– Ничего, Иосиф! – воскликнул Ворошилов, потрясенный тем, что вождь не только понимает его обиды, но и ставит их рядом со своими. – Ты им еще покажешь, где раки зимуют…
– Думаю, что покажу, – сказал Сталин скромно и пыхнул трубкой. Песня кончилась, и рой смутных, нетвердых мыслей схлынул из его отрезвевшей головы.
Да разве на него можно обижаться, думал Ворошилов, веселея и незаметно оглядывая вождей, чтобы убедиться в том, что они слышали, как его только что возвысил Сталин. И как он точно понимает, думал Ворошилов восторженно, что мои враги в руководстве армией – это продолжение враждебной Сталину линии в руководстве государственным аппаратом.
– Товарищ Сталин, что делать с этим Цулукидзе? – спросил Берия, внимательно прислушивавшийся к словам Сталина. Он давно хотел спросить об этом и решил, что сейчас самое подходяще время.
Дело в том, что этот старый большевик, еще ленинской гвардии, хотя давно уже был отстранен от всяких практических дел, продолжал язвить и ворчать по всякому поводу. В свое время это он бросил подхваченную грузинскими коммунистами реплику, что Берия с маузером в руке рвется к партийному руководству Закавказья. («А что, сволочи, с Эрфуртской программой я должен был рваться к руководству? Разве вы с ней в говне не очутились?»)
Другого человека за такие слова (теперь, когда уже прорвался к руководству) он давно бы подвесил за язык, но этого тронуть опасался. Не было полной ясности в этом вопросе. Многих старых большевиков Сталин сам уничтожал, но некоторых почему-то придерживал и награждал орденами.
– А что он сделал? – спросил Сталин и в упор посмотрел на Берию.
– Болтает лишнее, выжил из ума, – сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу, раньше, чем он выскажется.
– Лаврентий, – сказал Сталин, мрачнея, потому что он не находил сейчас нужного решения, – я приехал использовать законный отпуск, почему ты мне задаешь такие вопросы?
– Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел, – быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачнение Сталина, голосом показывая, что извиняется и сам не придает большого значения вопросу. Хорошо, что не ликвидировал, с радостным испугом мелькнуло у него в голове.
– …Болтунов Ленин тоже ненавидел, – сказал Сталин задумчиво.
– Может, выгнать из партии к чертовой матери? – спросил Берия, оживляясь. Ему показалось, что Сталин все-таки не прочь как-то наказать этого сукиного сына.
– Из партии не можем, – сказал Сталин и вразумляюще добавил: – Не мы принимали, Ленин принимал…
– А что делать? – спросил Берия, окончательно сбитый с толку.
– У него, по-моему, был брат, – сказал Сталин, – интересно, где он сейчас?
– Жив, товарищ Сталин, – сказал Берия, покрываясь холодным потом, – работает в Батуме директором лимонадного завода.
Сталин задумался. Берия покрылся холодным потом, потому что раньше не знал о существовании брата Цулукидзе и только в прошлом году, собирая материал против видного в прошлом большевика, узнал о его брате. Материалы о брате, запрошенные из Батума, ничего полезного в себе не заключали, он даже ни разу не проворовался на своем лимонадном заводе. Но то, что он знал о его существовании, знал, что он делает и как он живет, сейчас работало на него. Сталин это любил.
– Как работает? – спросил Сталин строго.
– Хорошо, – сказал Берия твердо, показывая, что свою неприязнь к болтуну никак не распространяет на его родственников, а знание деловых качеств директора лимонадного завода – простое следствие знания кадров со стороны партийного руководителя.
– Пусть этот болтун, – ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна, – всю жизнь жалеет, что загубил брата.
– Гениально! – воскликнул Берия.
– У вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи, – объяснил Сталин ход своей мысли, – пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания.
Почувствовав, что Сталин своими словами отделил себя от Кавказа, некоторые секретари райкома стали смотреть на него с грустным упреком, словно спрашивая: «За что осиротил?»
– Век живи, век учись, – сказал Берия и развел руками.
– Но только не за счет отпуска, Лаврентий, – строго пошутил Сталин, чем обрадовал Лакобу. Он считал нетактичным, что Берия здесь, за пиршественным столом в Абхазии, выклянчивал у Сталина санкцию на расправу со своими врагами. Вечно этот Берия лезет вперед, и сам же я виноват, что познакомил его со Сталиным, думал Лакоба. Сейчас самое время поднять тост за старшего брата, за великий русский народ. Недаром Сталин сказал: мол, у вас на Кавказе… Значит, он уже чувствует себя русским…
Он знаками показал на тот конец стола, чтобы всем разлили.
– Я хочу поднять этот тост, – сказал он, вставая со своего места, бледный, упрямо не поддающийся хмелю на исходе ночи, – за нашего старшего брата…
Пиршественная ночь набирала второе дыхание. Снова пили, ели, плясали, и уже даже у дяди Сандро, величайшего тамады всех времен и народов, покруживалась голова. Увидеть за одну ночь столько грозного и прекрасного даже для него было многовато.
Лакоба приспустил поводья тамады, чувствуя, что вождю строгий порядок кавказского застолья начинает надоедать.
– Прекрасную Сарью, просим, просим! – кричал Калинин, хлопая в ладони и любовно склоняя бородатую голову.
– «Мравалджамие»… «Мравалджамие»! – просили на том конце стола и затягивали ее.
– «Многие лета»! – кричали другие и затягивали абхазскую застольную.
– Теперь ты на коне, – кричал с того конца стола Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро, – благодать снизошла на тебя, благодать!
– У меня волос курчавый, как папоротник, – рассказывал повар одному из секретарей райкома, давая ему пощупать свои волосы, – яичко, как в гнездышке, лежит.
– Все же риск, – сказал секретарь, угрюмо щупая волосы повара.
– У людей жёны, – бормотал Берия, тяжело опустив голову на руки.
– Но, Лаврик, пойми… Мне было стыдно, и он совсем не рассердился.
– Дома поговорим…
– Но, Лаврик…
– Я для тебя больше не Лаврик…
– Но, Лаврик…
– У людей жёны…
– Какой же риск, мил-человек, у меня один волос на три пальца возвышается, – радостно разуверял повар недоверчиво косящегося на его голову секретаря райкома.
– А в голову не попадал?
– Конечно, нет, – радуясь его наивности, говорил повар, – риску тут мало, страху много.
– Все же риск, человек выпивший, – угрюмо придерживался своей версии секретарь райкома.
– Говорит «у вас на Кавказе», – качал головой другой секретарь, – а что мы ему сделали?
– Шота, прошу как брата, не обижайся на вождя, – утешал его товарищ.
– Я за него жизнь готов отдать, но у меня душа болит, – отвечал тот, бросая осиротевший взгляд на тот конец стола.
– Шота, прошу, как брата, не обижайся на вождя…
– Везунчик! Везунчик! – кричал захмелевший Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро. – Теперь вся Абхазия у тебя в кармане!
Дядя Сандро укоризненно качал головой, намекая на непристойность таких криков, тем более направленных в самую гущу правительства. Но Махаз не понимал его знаков.
– Не притворяйся, что не в кармане! – кричал он. – Не притворяйся, везунчик!
– Что это он все кричит? – даже Лакоба обратил внимание на Махаза.
– Глупости, – сказал дядя Сандро и подумал: «Хорошо, хоть по-абхазски кричит, а не по-русски».
– Это что! – пытался повар развлечь угрюмистого секретаря. – Я еще во времена принца Ольденбургского здесь, в Гаграх, учеником повара начинал. Принц, как Петр, с палкой ходил. Обед для рабочих сами пробовали. Случалось, поваров палкой бивали, но всегда за дело.
– Все же риск, – угрюмо качал головой секретарь. Он чувствовал себя перебравшим, и мысль его застряла на стрельбе по яйцам.
– Это что! – пытался отвлечь его повар удивительными воспоминаниями. – Сюда приезжали государь император…
– Зачем выдумываешь? – неохотно отвлекся секретарь.
– Крестом клянусь, на крейсере! Сам крейсер остановился на рейде… Государь на катере причалили, а государыня не пожелали причалить, чем обидели принца, – рассказывал повар.
– Придворные интриги, – угрюмо перебил его секретарь.
…Рано утром, когда по велению Лакобы директор санатория раздвинул тяжелые занавески и нежно-розовый августовский рассвет заглянул в банкетный зал, он (нежно-розовый рассвет) увидел многих секретарей райкомов спящими за столами – кто откинувшись на стуле, а кто прямо лицом на столе.
Одному из них, спавшему, откинувшись на стуле, друзья сунули в рот редиску, что могло вызвать у нежно-розового рассвета только недоумение, потому что поросят, держащих в оскаленных зубах по редисинке, на столе не оставалось, а шутливая аналогия была понятна лишь посвященным.
Участники ансамбля один за другим подходили к Сталину. Сталин сгребал со стола конфеты, печенье, куски мяса, жареных кур, хачапури и другую снедь. Приподняв полу черкески или подставив башлыки, они принимали подарки и, поблагодарив, отходили от вождя.
– Марш, – говорил Сталин, накидав очередному танцору гостинцев. Он старался всем раздавать поровну, приглядывался к кускам мяса, к жареным курам и если в чем-то одном недодавал, то старался побольше наложить другого. Так деревенский патриарх, Старший в Доме, после большого пиршества раздает гостям дорожные и соседские паи.
– Все равно все на Сталина спишут, – шутил вождь, накладывая снедь в растопыренные полы черкески, все равно скажут – Сталин все скушал…
Некоторые участники ансамбля, раз такое дело, перемигнувшись, прихватывали с собой бутылки с вином.
* * *
На трех переполненных легковых машинах ансамбль возвращался в Мухус. Когда садились в машины, произошло любопытное замешательство. Рядом с шофером первой машины сел, конечно, руководитель ансамбля Платон Панцулая. Рядом с шофером второй машины должен был сесть, как обычно, Пата Патарая. Он уже занес было голову в открытую дверцу, но потом вытащил ее оттуда и предложил сесть дяде Сандро, случайно (будем думать) оказавшемуся рядом.
Дядя Сандро стал отказываться, но после вежливых пререканий ему все-таки пришлось уступить настояниям Паты Патарая и сесть рядом с шофером во вторую машину.
Было решено доехать до реки Гумисты, выбрать там место поживописней и устроить завтрак на траве. Ехали весело, с песнями. Нередко по дороге попадались ребятишки, и тогда им из машины бросали конфеты и печенье. Дети кидались собирать божий дар.
– Знали бы, с какого стола, – устало улыбались танцоры.
За Эшерами, там, где дорога проходила между зарослями папоротников, ежевики и дикого ореха, внезапно машинам преградило путь небольшое стадо коз. Машины притормозили, а козы, тряся бородами и пофыркивая, переходили дорогу. Пастушка не было видно, но голос его доносился из зарослей, откуда он выгонял отставшую козу.
– Хейт! Хейт! – кричал мальчишеский голос, волнуя дядю Сандро какой-то странной тревогой. Время от времени мальчик кидал камни, и они, хрястнув по густому сплетению, глухо, с промежутками падали на землю. И когда камень мальчика попал в невидимую козу, дяде Сандро показалось, что он за миг до того угадал, что именно этот камень в нее попадет. И, когда коза, крякнув, выбежала из-за кустов и вслед за ней появился подросток и, увидев легковые машины, смущенно замер, дядя Сандро, холодея от волнения, все припомнил.
Да, да, почти так это и было тогда. Мальчик перегонял коз в котловину Сабида. И тогда вот так же одна коза застряла в кустах, и он так же кидал камни и кричал. Вот так же, как сейчас, когда он попал в нее камнем, она крякнула и выскочила из кустов, и следом за ней выскочил мальчик и замер от неожиданности.
В нескольких шагах от него по тропе проходил человек и гнал перед собой навьюченных лошадей. Услышав треск кустов, человек дернулся и посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, с какой на него никогда никто не смотрел.
В первое мгновенье мальчику показалось, что ярость человека вызвана неожиданностью встречи, но и успев разглядеть, что перед ним только мальчик и козы, человек еще раз бросил на него взгляд, словно какую-то долю секунды раздумывал, что с ним делать: убить или оставить. Так и не решив, он пошел дальше и только дернул плечом, закидывая карабин, сползавший с покатого плеча.
Человек шел с необыкновенной быстротой, и мальчику почувствовалось, что он оставил его в живых, чтобы не терять скорость. В руках у человека не было ни палки, ни камчи, и мальчику показалось странным, что лошади без всякого понукания движутся с такой быстротой.
Через несколько секунд тропа вошла в рощу, и человек вместе со своими лошадьми исчез. Но в самое последнее мгновенье, еще шаг – и скроется за кустом, он опять вскинул карабин, сползавший с покатого плеча, и, оглянувшись, поймал мальчика глазами. Мальчику почудился отчетливый шепот в самое ухо:
– Скажешь – вернусь и убью…
Стадо уже было далеко внизу, и мальчик побежал по зеленому откосу, подгоняя козу. Он знал, что роща, в которую вошел человек со своими лошадьми, скоро кончится, и тропа их выведет на открытый склон по ту сторону котловины Сабида.
Когда он добежал до стада и посмотрел вверх, то увидел, как там, на зеленом склоне, одна за другой стали появляться навьюченные лошади. Восемь лошадей и человек, отчетливые на зеленом фоне травянистого склона, быстро прошли открытое пространство и исчезли в лесу. Даже сейчас, на расстоянии примерно километра, было заметно, что лошади и человек идут очень быстро. И тут мальчик догадался, что этому человеку и не надо никакой палки или камчи, что он из тех, кого лошади и безо всякого понукания боятся.
Перед тем как исчезнуть в лесу, человек снова оглянулся и, тряхнув покатым плечом, поправил сползающий карабин. Хотя лица его теперь нельзя было разглядеть, мальчик был уверен, что он оглянулся очень сердито.
Через день до Чегема дошли слухи, что какие-то люди ограбили пароход, шедший из Поти в Одессу. Грабители действовали точно и безжалостно. Мало того, что их возле Кенгурска ждал человек с заранее купленными лошадьми, они сумели склонить к участию в грабеже четырех матросов. Ночью они связали и заперли в капитанской каюте самого капитана, рулевого и нескольких матросов. Спустили шлюпки, на которые погрузили награбленное, и отплыли к берегу.
К вечеру следующего дня трупы четырех матросов нашли в болоте возле местечка Тамыш. Через день нашли еще два трупа, до полной неузнаваемости изъеденные шакалами. Было решено, что грабители поссорились между собой, и двое, оставшиеся в живых, увезли груз неизвестно куда или даже погибли в болотах. И все-таки еще через несколько дней, уже совсем недалеко от Чегема, нашли труп еще одного человека, убитого выстрелом в спину и сброшенного с обрывистой атарской дороги чуть ли не на головы жителям села Наа, упрямо расположившимся под этими обрывистыми склонами. Труп сохранился, и в нем признали человека, месяц назад покупавшего лошадей в селе Джгерды.
Чегемцы довольно спокойно отнеслись ко всей этой истории, потому что дела долинные – это чужие дела, тем более дела пароходные. И только мальчик с ужасом догадывался, что он видел того человека в котловине Сабида.
Дней через десять после той встречи к их дому подъехал всадник в абхазской бурке, но в казенной фуражке, издали показывающей, что он, как нужный человек, содержится властями.
Всадник, не спешиваясь, остановился возле плетня, поджидая, пока к нему подойдет отец мальчика. Потом, вытащив ногу из стремени и поставив ее на плетень, всадник разговаривал с отцом мальчика. Отгоняя собак, мальчик вертелся возле плетня, прислушиваясь к тому, что говорили взрослые.
– Не видел кто из ваших, – спросил всадник у отца, – чтобы кто-нибудь с навьюченными лошадьми проходил по верхнечегемской дороге?
– Про дело слыхал, – ответил отец, – а человека не видел.
– Да не по верхней, а по нижней! – чуть не крикнул мальчик, да вовремя прикусил язык.
Человек, продолжая разговаривать, нашел ногой стремя и поехал дальше.
– Кто это, па? – спросил мальчик у отца.
– Старшина, – ответил отец и молча вошел в дом.
И только глубокой осенью, когда они с отцом, нагрузив ослика мешками с каштанами, подымались из котловины Сабида, а потом присели отдохнуть на той самой нижнечегемской тропе, чуть ли не на том же месте, он не удержался и все рассказал отцу.
– Так вот почему ты перестал сюда коз гонять? – усмехнулся отец.
– Вот и неправда! – вспыхнул мальчик: отец попал в самую точку.
– Что ж ты молчал до сих пор? – спросил отец.
– Ты бы только видел, как он посмотрел, – сознался мальчик, – я все думаю, как бы он не вернулся…
– Теперь его сюда на веревке не затащишь, – сказал отец, вставая и погоняя ослика хворостиной, – но если бы ты сразу сказал, его еще можно было поймать.
– Откуда ты знаешь, па? – спросил мальчик, стараясь не отставать от отца. С тех пор как он встретился с этим человеком, он не любил эти места, не доверял им.
– Человек с навьюченными лошадьми дальше одного дня пути никуда не уйдет, – сказал отец и взмахнул хворостинкой: ослик то и дело норовил остановиться, подъем был крутой.
– А ты знаешь, как он быстро шел! – сказал мальчик.
– Но никак не быстрее своих лошадей, – возразил отец и, подумав, добавил: – Да он и убил этого последнего, потому что знал – один переход остался.
– Почему, па? – спросил мальчик, все еще стараясь не отстать от отца.
– Вернее, потому и оставил его в живых, – продолжал отец размышлять вслух, – чтобы тот помог ему навьючить лошадей для последнего перехода, а потом уже прихлопнул.
– Откуда ты знаешь это все? – спросил мальчик, уже не стараясь догнать отца, потому что они вышли на взгорье, откуда был виден их дом.
– Знаю я их гяурские обычаи, – сказал отец, – им лишь бы не работать, да я о них и думать не хочу.
– Я тоже не хочу, – сказал мальчик, – но почему-то все время вспоминаю про того.
– Это пройдет, – сказал отец.
И в самом деле это прошло и с годами настолько далеко отодвинулось, что дядя Сандро, иногда вспоминая, сомневался – случилось ли все это на самом деле или же ему, мальчишке, все это привиделось уже после того, как пошли разговоры об ограблении возле Кенгурска парохода.
Но тогда, после знаменитого на всю его жизнь банкета, который произошел в одну из августовских ночей 1935 года или годом раньше, но никак не позже, все то увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил бога за свою находчивость.
Об этой пиршественной ночи дядя Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после Двадцатого съезда и просто знакомым людям, добавляя к рассказу свои отроческие не то виденья, не то воспоминания.
– Как сейчас вижу, – говаривал дядя Сандро, – все соскальзывает с плеча его карабин, а он все его зашвыривает на ходу, все подтягивает не глядя. Очень уж у Того покатое плечо было…
При этом дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае не нижнечегемским путем.
И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды от не слишком благодарных потомков. Скорее всего по взгляду его можно было сказать, что он, жалея, что не сказал, не прочь получить награду.
Впрочем, эта некоторая двойственность его взгляда заключала в себе дозу демонической иронии, как бы отражающей неясность и колебания земных судей в его оценке.
Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на религиозную мысль, что бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью.
Глава 9. Рассказ мула старого Хабуга
В то утро я ел траву в котловине Сабида, когда на гребне холма, разделяющего котловину на две части, появился мой старик. Рядом со мной паслось несколько лошадей и ослов, поодаль паслись коровы. Лошадь одного из наших соседей, вздорного и глупого лесника Омара, была с жеребенком, и я, конечно, старался держаться поближе к нему. Мы, мулы, вообще обожаем жеребят, а я в особенности. Тем более этого жеребенка я дней сорок тому назад спас от волков. Но об этом я расскажу как-нибудь потом, хотя на случай, если потом рассказать забуду, кое-что расскажу и сейчас.
В тот раз мы так же паслись в котловине Сабида, только были гораздо ниже, в лощине. Я, как всегда, старался держаться возле жеребенка, потому что я от нежности схожу с ума, когда слышу запах жеребенка или вижу его длинноногую неуклюжую фигуру.
Два волка неожиданно выскочили из ольшаника, и все лошади и ослы бросились наутек. Я, конечно, тоже бросился бежать, но все-таки, несмотря на страх, я о жеребенке не забывал. И, когда на подъеме он начал отставать, я сам сбавил ход. Я понял, что оба волка стараются отрезать жеребенка от остальных лошадей и ослов. Ну, нет, решил я, пока я жив, вам не перегрызть его тонкую шею.
И вот все лошади и ослы уже впереди, а волки с обеих сторон настигают жеребенка. А я бегу рядом, и один волк уже между нами. Шерсть на шее вздыбилась, пасть оскалена, чувствую, выбирает мгновение, чтобы изловчиться и прыгнуть на шею жеребенка.
А на меня, между прочим, совсем не обращает внимания. Этим я и воспользовался. Как только он изловчился для прыжка, я примерился к нему, слегка развернулся и лягнул его правым задним копытом. После такого удара можно не оглядываться. Я с наслаждением почувствовал, как череп волка хрустнул под моим копытом.
Да, скажу я вам, это был толковый удар. Как потом оказалось, волк замертво свалился, и его в тот же день подобрал пастух Харлампо. Ударив этого волка, я, не оглядываясь, припустил за вторым. Я снова догнал жеребенка и обошел его с той стороны, где был второй волк. Но он, то ли заметив, что я сделал с его товарищем, то ли испугавшись, с какой неимоверной яростью я мчался на него, затрусил в сторону и скрылся в зелени рододендрона.
А между прочим, все остальные лошади и ослы, в том числе и кобыла этого жеребенка, были далеко впереди на гребне холма. Я бы тоже сейчас там мог быть, но ведь жеребенок сильно отстал на подъеме, не мог же я его оставить волкам. Правильно люди говорят, не та мать, которая родила, а та, которая воспитала.
Мы, мулы, вообще тем отличаемся, что очень любим жеребят. Ну, то, что мы умнее всех остальных животных, это всем давно известно. Но не все знают, что мы обожаем жеребят. И надо же, что именно мы их не можем иметь. Очень уж это несправедливо. Правда, до меня доходили слухи, что иногда мулицы рожают. Но сам я такого не видел. И потом непонятно, от кого они рожают, от мулов или от жеребцов.
Лично я даже среди мулов отличаюсь особенной любовью к жеребятам. Ослята и человеческие дети мне тоже нравятся, ну, конечно, все-таки с жеребятами их не сравнить.
Так вот, если я чувствую, что жеребенку что-то угрожает, я прихожу в неслыханную свирепость. За свою жизнь, спасая жеребят, я убил двух волков, четыре лисы и затоптал восемь змей. Зайцев я даже не считаю. Могут мне сказать, что лиса не нападает на жеребенка. Правильно, в спокойном состоянии я сам это понимаю. Но когда я пасусь рядом с милым, беззащитным жеребенком, и вдруг между нами пробегает лиса, я теряю голову от бешенства. Если я пасусь рядом с жеребенком – не подходи и все! Что тебе, места мало, что ли?!
Больших, злых собак я тоже лягаю, когда они нападают на меня. Но людей – никогда. Правда, один раз я лягнул одного дурака, но за что? Я стоял себе привязанный к мельнице, а он подошел сзади и ни с того ни с сего поднял мой хвост. До сих пор не пойму, зачем ему нужно было подымать мой хвост. Одно дело, когда мой старик моет меня в ручье и подымает мой хвост, чтобы, плеснув туда воду, отодрать проклятых мух. Другое дело, когда к тебе подходит незнакомый человек и ни с того ни с сего задирает тебе хвост. Среди людей, между прочим, очень много глупцов попадается.
Вообще, по моим долгим наблюдениям, ум среднего мула гораздо выше ума среднего человека. И это понятно – почему. Человек, как хищное животное, в основном из мяса делает свое мясо. А мул из травы делает мясо. Из мяса сделать мясо каждый дурак сможет. А вот ты попробуй из травы сделать мясо – это, братец, куда сложней.
Вот как дело обстоит. Но надо быть до конца справедливым. И эта справедливость велит мне признаться в том, что, хотя ум среднего мула гораздо выше ума среднего человека, все-таки ум самых умных людей выше ума самых умных мулов. Это я вижу, когда честно сравниваю свой ум с умом моего хозяина. Да, мой старик в основном умнее меня, хотя и он иногда делает глупости.
И в том-то обида, что я редко могу поправить моего старика, когда он делает или говорит глупость. Понимать-то я прекрасно понимаю абхазскую речь, но сказать ничего не могу, потому что мул бессловесное животное.
Некоторые недалекие люди могут сказать, якобы поймав меня на слове:
– Как же ты все это рассказываешь, если ты бессловесное животное?
Поясняю для недалеких людей, как это происходит. Дело в том, что все, что я говорю, я мысленно рассказываю ангелам, а они все это заставят увидеть и услышать во сне одного из наших парней. А он уже, в свою очередь расскажет об этом остальным людям. Ничего, ничего, не беспокойтесь, он это сделает как надо. Это уж точно, что он пограмотнее ваших писарей в чесучовых кителях.
Теперь, когда всем ясно, что и как получается, сразу же перехожу к рассуждению о собаках, чтобы потом не забыть. Дело в том, что у многих людей существует глупейшее заблуждение, что собака самое умное животное.
Просто людям приятно думать, что их имущество охраняет очень умное животное. Им так спокойней. Я об этом говорю не потому, что собаки часто бросаются на нас, хотя это тоже кое-что говорит о их недалеком уме. Я же, например, не оспариваю, что собаки преданы своим хозяевам. Да, это и в самом деле так. Но то, что эту преданность они все время тычут в глаза, забывая о собственном достоинстве, тоже не признак ума.
Но главное не это. Если спокойно обдумать и взвесить все причины, по которым собака лает в течение одного дня, то невольно приходишь к мысли: а в порядке ли вообще у нее мозги?
Если, допустим, собака лаяла в день сто раз, хотя они обычно лают гораздо больше, так вот, если разобрать причины, по которым она лаяла сто раз, то окажется – только в одном случае ей надо было в самом деле лаять. А в остальных случаях ей вообще надо было спокойно сидеть или спать. А теперь представьте мула, который сто раз пошел на мельницу, чтобы один раз принести мешки с мукой, и сразу станет ясно, чего стоит ум собаки. Я думаю, теперь этот вопрос всем ясен, и дальше об этом говорить было бы все равно, что подражать бессмысленному собачьему лаю.
Так вот, мой старик появился на склоне котловины Сабида, где я ел траву с другими лошадьми и ослами, и стал спускаться ко мне, громко крича:
– Арапка, Арапка!
Так он меня называет, хотя я не такой уж черный. Но я не обижаюсь, само по себе имя еще ни о чем не говорит. Между прочим, своего осла он тоже называет Арапкой. Но одно дело Арапка я – мул, и другое дело Арапка он – осел. Одно и то же имя, а звучит совсем по-разному.
Так вот, значит, мой старик приближался ко мне, громко зовя меня по имени, чтобы я обратил на него внимание. Но я сначала сделал вид, что не слышу его. Я всегда сначала так делаю, потому что раз уж он меня ищет, все равно мимо не пройдет.
Наконец я поднял голову и посмотрел на него. В одной руке он держал горсть соли, чтобы приманить меня, а в другой уздечку. Я понял, что предстоит дальняя дорога. Я это понял по тому, что его лицо было очищено от щетины. Всегда, когда предстоит дальняя дорога, он очищает свое лицо от щетины таким острым особым ножичком. Когда надо поехать в сельсовет, или на мельницу, или куда-нибудь к близким соседям, он лицо свое не очищает от щетины. А когда предстоит дорога в другое село или в город, он всегда очищает лицо. Так я понял, что предстоит дальняя дорога.
Мой старик осторожно подошел ко мне, словно я могу от него убежать куда-нибудь. Да куда я от тебя убегу, чудак. Не убегу я от тебя никуда, потому что ты мой хозяин, и я не хочу иметь никакого другого хозяина.
Он подошел ко мне, и я, подняв голову, но и не проявляя излишней жадности, ждал, когда он протянет мне ладонь с горстью крупной соли. И он протянул мне ладонь, и я выбрал оттуда вкуснейшую в мире соль, и, когда все прожевал и проглотил, он сунул мне в рот удила, перекинул уздечку над холкой и влез мне на спину.
Мы пошли к дому. Я в последний раз оглянулся на жеребенка, и, когда мы тронулись, он поднял голову и посмотрел мне вслед. О, если б я почувствовал в его глазах сожаление, что я покидаю его. Но нет, милый длинный рыжик равнодушно опустил голову и стал спокойно щипать траву. Неблагодарный, я же тебя спас от смерти, я же готов за тебя жизнь отдать, а ты ничего этого не понимаешь. Но кто его знает, может, он все-таки любит меня и только внешне не может это показать. Ведь разрешил он мне дважды подходить к нему и положить голову на гривку его трепещущей шеи. Что это были за сладчайшие минуты! Я шеей чувствовал, как под нежной шкуркой его шеи струится теплая кровь. Эта теплота передавалась моему телу, и я ощущал, как по нему растекается неслыханное блаженство. Правда, все это длилось не очень долго. Глупышка внезапно прервал то, что я считал нашим общим блаженством, и, фыркнув, отбежал от меня.
А второй раз, когда мы так стояли, он не прерывал блаженство, я думаю, все-таки почувствовал сладость нашей близости, но тут подошла его мать и отогнала меня. Я не стал сопротивляться, чтобы не обижать жеребенка, а то бы мог ее так укусить, что она взвыла бы на всю котловину Сабида. Взревновала, старая дура! Если ты так любишь своего жеребенка, почему ты оставила его позади и первая удирала от волков!
Мы подошли к дому моего старика. Он, наклонившись, толкнул калитку, и мы вошли во двор. Возле кухни мой старик спешился, вытащил удила из моего рта и привязал меня к перилам веранды. Я стал сильно волноваться. Дело в том, что обычно перед большой дорогой мне выносят в тазу кукурузные початки, чтобы я подкрепился.
Но иногда не выносят, потому что просто забывают. И именно это ужасно обидно. Если бы они не выносили початки, потому что им жалко, было бы не так обидно. Но оттого, что они просто иногда забывают это сделать, бывает очень обидно.
Мой старик зашел в кухню и стал разговаривать со своей старухой. Из их разговора я понял, что мы идем к его сыну в город, где тот сейчас живет. Этот сын его, Сандро, живет в городе и зарабатывает на пропитание танцами. В жизни не слыхал, чтобы за танцы человека кормили, поили и держали бы его под крышей. Никак этого понять не могу. Так каждому захочется танцевать, и тогда кто же будет пахать, сеять, собирать урожай?
Из разговоров моего старика со старухой я понял, что Сандро собирается покупать дом, но хочет, прежде чем купить его, посоветоваться со своим отцом. Вот старик и собрался в город. Старуха все время уговаривала моего старика склонить своего сына вернуться в Чегем, потому что в городе сейчас страшные дела происходят.
Я об этом слыхал много раз: и когда был привязан возле сельсовета, и когда мы ездили на поминки в соседнее село, и на мельнице об этом же говорили, и я все расслышал, несмотря на шум мельничного жернова.
Там, в городе, одни люди хватают других людей и отправляют в холодный край, название которого я забыл. А иногда просто убивают. А за что – никто не знает. Вроде бы думают, что они колодцы отравляют. Но что-то мне не верится. Мы со своим стариком много раз бывали в дальних дорогах и по пути нередко пили из колодцев и ни разу не отравились.
Я одного не пойму, почему все эти люди, прежде чем их схватят, никуда не бегут. Да что они, стреножены, что ли? Раз такое дело – бегите в горы, в леса, кто вас там отыщет?! Я и то в свое время сбежал от злого хозяина и пришел к своему старику. И ничего – обошлось.
Так вот, значит, старуха стала нудить моего старика, чтобы он уговорил сына вернуться в Чегем, а старик стал уверять, что такой бездельник, как Сандро, никогда не захочет менять свою дармовую городскую жизнь на сельскую. Тут они сильно повздорили, и я затосковал, решив, что теперь-то, конечно, забудут дать мне кукурузу.
Ай да мой старик, и тут про меня не забыл. Старуха, продолжая ругаться, что через него может погибнуть ее сын, вынесла мне целый тазик кукурузных початков. Штук десять, не меньше. Я стал отгрызать от кочерыжек вкусные, золотистые зерна. Тут, как всегда, куры и петухи приблизились ко мне, ожидая, когда от початков будут отскакивать отдельные зерна. Я, конечно, старался так аккуратно отгрызать зерна, чтобы от початков ничего не отскакивало. Да разве за всем уследишь. Все равно зерна иногда нет-нет и отскочат в сторону, и эти пустоголовые куры и петухи тут же склевывали их.
Я поел всю кукурузу, так что одни голые кочерыжки остались в тазу, а старик мой тоже поел и, выйдя на веранду, вымыл руки и рот. Он почему-то после еды всегда полоскает рот, чтобы отмыть его от остатков пищи. Странная привычка. Мне, наоборот, приятно, когда после вкусной еды во рту остаются кусочки пищи, тогда дольше помнишь ее приятность. Но мой старик всегда так делает. Видно, ему нравится забывать то, что он ел. А мне, наоборот, нравится помнить то, что я ел. Например, как сейчас кукурузу.
Вымыв руки и сполоснув рот, мой старик оседлал меня. Когда он начал натягивать подпруги, я, как всегда, раздул живот, а он, как всегда, ткнул меня кулаком, чтобы я выпустил воздух, а он как следует затянул подпруги. И что интересно – ни я никогда не забываю раздуть живот, ни он никогда не забывает ткнуть меня кулаком. Я все жду, забудет ли он когда-нибудь, что я раздул живот, но пока что не получается. Он все замечает.
Оседлав меня, мой старик в последний раз оглядел двор, чтобы убедиться, все ли на местах, не надо ли чего подправить или дать какой-нибудь наказ домашним. Убедившись, что здесь все как надо, он посмотрел на взгорье, где стоял дом его сына охотника Исы. Оглядев дом Исы и его двор и не найдя там никаких признаков бесхозяйственности, он посмотрел вниз, где недалеко от родника стоит дом его сына пастуха Махаза. И тут он обнаружил непорядок.
Дело в том, что мой старик терпеть не может, когда в его собственном доме или в домах его сыновей закрыта кухонная дверь. Он считает, что по абхазским обычаям, если хозяева – дома, дверь кухни должна быть целый день распахнута.
Распахнутая дверь кухни означает, что хозяева всегда готовы принять мимоезжего всадника или прохожего, если ему захотелось напиться или поесть. А закрытая дверь кухни, особенно если над крышей подымается дым, означает, что тут живут скупые хозяева, которые боятся случайного гостя.
И вот старик мой, если он находится дома, без устали подслеживает за кухнями своих сыновей, чтобы они были все время распахнуты, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не подумал, что у него негостеприимные сыновья.
Но мало ли чего не бывает. То ли хозяйка за водой пошла, то ли на огород за зеленью или прополоть овощи, так она прикрывает дверь на кухню, чтобы туда куры или собаки не вошли. А мой старик, как увидит закрытую кухонную дверь, так и начинает кричать.
И сейчас он заметил, что у Маши, жены его сына Махаза, дверь на кухню закрыта.
– Эй, вы, там у Маши, – закричал он вниз, – от кого это вы заперлись на кухне!
– Мама купается, дедушка, – закричала в ответ одна из дочерей тети Маши, – потому она закрылась!
– Чтоб ее водяной употребил, – пробормотал мой старик, – слыхано ль, чтобы женщина целыми днями плескалась.
Нет, конечно, Маша не имеет привычки целыми днями купаться. Просто старик терпеть не может, чтобы дверь какой-нибудь кухни была закрыта.
Наконец он взгромоздился на меня, и мы пошли.
– Верни моего сына! – крикнула ему вслед старуха.
– Чтоб язык твой отсох, – бормотнул мой старик и, наклонившись, открыл калитку, и мы вышли со двора.
Перед крутым склоном, выходящим к реке Кодор, мой старик остановил меня у дома своего дружка. Тот мотыжил кукурузу на своем приусадебном участке. Звали его Даур. Этот Даур оказался еще упрямей моего старика. На весь Чегем он единственный, кто еще не вступил в колхоз. Мой старик ревниво к нему приглядывается, все не может понять, правильно ли он сделал, что вступил в колхоз или лучше бы держался, как этот Даур.
– Хороших тебе трудов! – крикнул мой старик.
– Добро тебе, Хабуг, – ответил Даур и, бросив мотыгу, пошел в нашу сторону. Он перелез через плетень и, подойдя к нам, поздоровался с моим стариком за руку.
– Спешься, выпьем по рюмке, – сказал Даур.
– Нет, нет, – ответил мой старик, – я так, мимоездом.
– Куда путь держишь? – спросил Даур.
– К сыну в город еду, – ответил мой старик.
– Все на своем муле, – вдруг сказал Даур, – я уж думал, тебя на лошадь пересадят, раз уж ты кумхозником стал.
И далась им эта лошадь. Вот люди, кто ни встретит, удивляются, почему мой старик ездит на мне, а не на лошади. Никак, болваны, не поймут, что потому-то он на мне и ездит, что я удобней и приятней лошади во всех отношениях.
– Я уж так на своем муле до смерти проезжу, – сказал мой старик и, вздохнув, добавил: – А кумхоз, что поделаешь, время заставило.
– Да, время, – вздохнул Даур в ответ.
– Ну, а что тебя, не теребят? – спросил мой старик.
– Опять вызывали в сельсовет, – сказал Даур, – сдается – новый налог придумали.
– Нет уж, от тебя не отстанут, – сказал мой старик.
– Эй, ты! – крикнул Даур в сторону дома. – Вынеси нам чего-нибудь горло промочить!
Я понял, что теперь они будут долго разговаривать, и стал потихоньку пощипывать траву возле приусадебного плетня.
– Ну, а что у вас в кумхозе? – спросил Даур.
– Эти болваны, – сказал мой старик, – придумали дурость под названием план. Табак еще не дошел, а по плану они его приказывают ломать. Сколько я им ни говорил – не слушаются. Попомни мое слово – гиблая это затея. Весной я им говорил: не надо спешить засевать низинку, надо дать земле просохнуть. Опять не послушались. Теперь там кукуруза не больше моей ладони.
– Я-то пока, слава богу, хозяин на своей земле, – угрюмо сказал Даур.
Тут его старуха принесла графинчик чачи, две рюмки и очищенных орехов в тарелке. Они выпили и закусили. Старик мой, выпив рюмку и наглядно запрокинув ее, сказал свою обычную присказку:
– Чтобы этот кумхоз опрокинулся, как эта рюмка.
– Да прислушается аллах к словам твоим, – поддержал его Даур.
Они выпили по три рюмки, и хозяин упрашивал моего старика выпить еще, но мой старик наотрез отказался, говоря, что он и так задерживается в дороге.
В самом деле, солнце уже поднялось на высоту дерева, а мы только до конца своего села дошли. Мне самому не терпелось идти, потому что траву возле забора я всю общипал, а когда попробовал прихватить кукурузный листик, высунувшийся между прутьями плетня, так этот единоличник стукнул меня рукой по голове. Не очень больно, но обидно. Что ему этот листик кукурузы? Жадные они все-таки, единоличники.
Честно скажу, в этом отношении колхоз мне больше нравится. Возьмем такой пример. Однажды соседский буйвол прорвал изгородь одного крестьянина, и мы за этим буйволом вошли в поле. Нас было три коровы, два осла и я. Мы совсем недолго лакомились кукурузными стеблями. Мы объели участок поля совсем небольшой, ну не больший, чем занимает обычный крестьянский дом. И вдруг нас обнаружил хозяин. Что тут было! Он чуть не убил нас! Он такой дубиной колошматил нас, что я чуть разум не потерял. Главное, всех бил, кого попало, хотя легко было догадаться, что только буйвол мог прорвать эту изгородь.
А в другой раз мы славно потравили колхозное поле. Между прочим, тот же буйвол прорвал забор. У него была такая привычка, если уж он подымает голову и в глаза ему попадаются сочные кукурузные стебли, он так и прет на них, и уже его никакая ограда не удержит. Ну, так вот, мы там славно попировали, может быть час, может быть больше. И только тогда нас заметил один колхозник. Правда, прогнать прогнал, а бить не бил. Так, только комья земли бросал в нашу сторону, чтобы мы ушли. Так, где же после этого, я спрашиваю, более доброе, более сердечное отношение к животному? Конечно, в колхозном поле, а не на приусадебном участке. Вообще-то, честно говоря, в колхозе много глупостей делается, и мой старик прав. Но у них есть и хорошие стороны, и надо быть к ним справедливым.
Мой старик распрощался с Дауром, и мы стали спускаться вниз к Кодору. Я очень осторожно переступал ногами, чтобы не споткнуться самому или, не дай бог, не сбросить вниз моего старика. Мелкие камушки так и сыпались из-под ног, и надо было следить в оба, чтобы каждый раз ставить ногу в надежное место.
Справа и слева от этого очень крутого спуска шли крестьянские дома, и оттуда беспрерывно нас облаивали большие и маленькие собаки. Хотя я на них совсем не обращал внимания, все-таки меня раздражал этот почти беспрерывный злобный лай. Хоть бы он имел какой-нибудь смысл! Мы ведь к вам во двор не заворачиваем, безмозглые твари, мы ведь только мимо, мимо проезжаем! Ведь можно же было понять, живя возле такой дороги, что здесь много народу проходит и всадников проезжает! Так нет, они каждый раз делают вид перед своими хозяевами, что им с большим трудом удалось отогнать грабителей от своего дома.
Несмотря на трудную дорогу и этот раздражающий лай, я все-таки успевал оглядеть дворы, надеясь увидеть, не мелькнет ли где-нибудь жеребенок. Но так и не заметил ни одного жеребенка. Такое пренебрежение жеребятами, я думаю, не только преступно, но и глупо. Скажем, вы не любите жеребят, но ведь из них вырастают лошади, об этом вы подумали? На чем вы будете ездить через несколько лет, если такое отношение к жеребятам продлится?
На середине спуска к реке Кодор нам повстречался странствующий еврей по имени Самуил. Он ехал на ослике сам и впереди погонял ослика с поклажей. Этот странствующий еврей из Мухуса привозит в Чегем разные городские товары и меняет их на деньги или деревенские продукты.
Поравнявшись с Самуилом, мой старик остановился. Тот тоже остановил своего ослика.
– Добром тебе, – сказал мой старик.
– Добром тебе тоже, Хабуг, – приветливо ответил Самуил.
– Что везешь к нам? – спросил мой старик.
– Ткани для женских платьев и мужских рубашек, – сказал Самуил, – галоши с загнутыми носками, какие обожают абхазцы, стекла для ламп, иголки для швейных машин, нитки, пуговицы, чуму, холеру и другую всякую всячину.
– Зайди к нашим, может, что-нибудь возьмут, – сказал мой старик, подумав.
– Обязательно зайду, – сказал Самуил.
– А что слышно в городе, куда я еду? – спросил мой старик.
– Лучше не спрашивай, Хабуг, – всплеснул руками Самуил, – в городе, куда ты едешь, людей берут каждую ночь, а иногда даже днем.
– Какую нацию сейчас больше всех берут, Самуил? – спросил мой старик.
– Что ты говоришь, Хабуг, – снова всплеснул руками Самуил, – разве сейчас есть такая нация, какую меньше берут?! Если была бы такая нация, я бы купил документ и вступил в эту нацию. А сейчас я хотел бы со своей семьей скрыться в Чегеме.
– Плохи дела, – сказал мой старик, – если ты, Самуил, торгующий человек, хочешь скрыться в Чегеме.
– Дела даже хуже, чем мы с тобой думаем, Хабуг, – сказал Самуил.
– Как ты думаешь, – спросил мой старик, – чего добивается Большеусый?
– Ни один человек в мире не знает, – ответил Самуил, – чего он этим добивается. Ученые люди голову ломают, чтобы понять это, но никто понять не может.
– Ученые люди не знают, – сказал мой старик, – зато я знаю, чего он добивается.
– Я знаю, что ты скажешь, – воскликнул Самуил, – есть люди, которые говорят, что он сошел с ума. Это не я так говорю, это люди так говорят.
– Нет, – твердо сказал мой старик, – он не сошел с ума.
– Я знаю, что ты думаешь, Хабуг, – воскликнул Самуил, – но умоляю, не говори об этом никому! Особенно в городе, куда ты едешь! Сейчас никому нельзя доверять. Даже собственному мулу не доверяй своих мыслей!
Ну уж такой глупости я от Самуила никак не ожидал. Я не то чтобы предать своего хозяина, я жизнь готов за него отдать. Да если ты хочешь знать правду – животные вообще никого не предают. Предают только люди.
– Знаю, – спокойно сказал мой старик, – не то что в городе, я даже за Кодором не могу так сказать, потому что среди долинных абхазцев уже появились доносчики.
Так они поговорили еще немного и разъехались. Самуил – вверх, мы – вниз. Меня очень встревожил тот Самуил. Я даже стал опасаться за своего старика. После Кодора он обычно держит язык за зубами, но очень уж он уверен, что доносчики на эту сторону Кодора не перебрались.
Этот странствующий еврей Самуил впервые появился в Чегеме пять лет назад. До этого в Чегеме не было ни одного еврея, и многие чегемцы даже не подозревали о существовании такой нации. И они стали приходить в Большой Дом, чтобы поглазеть на Самуила, поговорить с ним, подивиться его знанию абхазского языка.
И только вздорный человек, лесник Омар, не ходил смотреть на Самуила и пытался отговорить остальных, чтобы они не ходили смотреть на него. Во время николаевской войны с Германией Омар служил в Дикой дивизии и любил рассказывать о том, как они там в этой Дикой дивизии рубили людей от плеча до седла. Но чегемцам давно надоели его рассказы, и никто не хотел его слушать. И теперь ему было обидно, что все бегут в Большой Дом послушать Самуила и посмотреть на него.
– Куда прете, куда, куда! – кричал он чегемцам с веранды своего дома, когда они шли знакомиться с Самуилом. – Вы здесь козий помет месили, когда я уже видел евреев!
– В Польше! В Польше! – надрывался он. – Страна такая! Там я видел их! Ничего особенного! Вроде армян! В Польше! В Польше!
Но чегемцы, не желая связываться со вздорным лесничим, молча проходили мимо его дома. И только один обернулся и спросил:
– А эндурцев ты там не видел?
– Эндурцев не видел, – ответил ему Омар, – врать не буду.
– Хорошо им там без эндурцев, – сказал этот чегемец и пошел дальше.
К эндурцам у абхазцев очень сложное отношение. Главное, никто не знает точно, как они появились в Абхазии. Сначала выдвигалось предположение, что их турки насылают на абхазцев. Считалось, что турки по ночам на своих фелюгах подплывают к берегу, высаживают их и говорят:
– А теперь идите!
– Куда идти? – как будто бы спрашивают эндурцы.
– Вон туда, – вроде бы говорят им турки и машут рукой в сторону Абхазии.
И вроде бы с тех пор эндурцы идут в Абхазию и идут, и конца и края им не видно. Но некоторые абхазцы оспаривают такую версию. Они ссылаются на то, что эндурцы не знают турецкого языка, а если бы они были из Турции, то даже при всей своей дьявольской хитрости хоть один из них проговорился бы.
И чегемцы выдвинули другую версию. Они выдвинули такую версию, что эндурцы где-то в самых дремучих лесах между Грузией и Абхазией самозародились из древесной плесени. Вроде в царские времена это было возможно. А потом доросли до целого племени, размножаясь гораздо быстрей, чем хотелось бы абхазцам. А некоторые самые старые чегемцы говорят, что помнят времена, когда эндурцы в Абхазии не жили, а только иногда появлялись маленькими стайками, нанимаясь к абхазцам то дом построить, то поле промотыжить.
– Вот тогда они и приглядывались, где, что и как у нас, – отвечали им более молодые чегемцы, – а вы думали – поле промотыжить…
Честно говоря, сам я не знаю, кто прав, но мне кажется, во всем этом есть некоторое преувеличение. Но я отвлекся от странствующего Самуила. Больше всего он поразил чегемцев тем, что говорил по-абхазски.
– Ты абхазский еврей, – спрашивали у него чегемцы, – или ты еврейский абхаз?
– Нет, – отвечал им Самуил, – я еврейский еврей.
– Тогда откуда ты знаешь наш язык? – удивлялись чегемцы.
– Я двадцать лет торговал в абхазских долинных селах, – сказал Самуил, – но мне там сейчас запретили торговать. Потому что большевики там открыли магазины и хотят, чтобы люди покупали в этих магазинах то, чего люди не хотят покупать. А того, что они хотят покупать, в магазинах нету.
– Это мы знаем, – сказали чегемцы, – но ты нам объясни, Самуил, где находится родина вашего народа?
– Наша родина там, где мы живем, – отвечал Самуил. Этот ответ Самуила показался чегемцам чересчур простоватым, и они решили его поправить.
– Уважаемый Самуил, – сказали ему чегемцы, – ты наш гость, но мы должны поправить твою ошибку. Родина не может быть в любом месте, где человек живет. Родина – это такое место, по нашим понятиям, где люди племени твоего сидят на земле и добывают свой хлеб через землю.
– У-у-у, – промолвил тогда Самуил (так рассказывают чегемцы) и закачался, сидя на стуле, – такая родина у нас была, но у нас ее отняли.
– Кто отнял, – спросили чегемцы, – русские или турки?
– Нет, – отвечал Самуил, – не русские и не турки. Совсем другая нация. Это было в незапамятные времена. И это все описано в нашей священной книге Талмуд. В этой книге описано все, что было на земле, и все, что будет.
Чегемцы никогда не думали, что есть такая книга. И они сильно заволновались, узнав об этом. И они сразу же решили узнать у Самуила о своей будущей судьбе.
– Тогда не мучь нас, Самуил, – взмолились чегемцы, – скажи нам, что написано в этой книге про эндурцев.
– Я не читал, – сказал Самуил, – я торгующий еврей, но есть евреи ученые, у них надо спросить.
Тут чегемцы слегка приуныли, понимая, что ученый еврей навряд ли до них когда-нибудь доберется. И они стали задавать Самуилу разные вопросы.
– Ответь нам на такой вопрос, Самуил, – спросили чегемцы, – еврей, который рождается среди чужеродцев, сам от рождения знает, что он еврей, или он узнает об этом от окружающих наций?
– В основном от окружающих наций, – сказал Самуил и добавил, удивленно оглядывая чегемцев: – Да вы совсем не такие простые, как я думал?
– Да, – закивали чегемцы, – мы не такие простые. Это эндурцы думают, что мы простаки.
Чегемцы задавали Самуилу множество разных вопросов, и он наконец устал. И он им сказал:
– Может, вы у меня что-нибудь купите или будете все время задавать вопросы?
– Мы у тебя все купим, раз ты к нам поднялся, – отвечали чегемцы, – по нашим обычаям было бы позорно ничего у тебя не купить.
И они у него все купили, и Самуил был вполне доволен чегемцами. Но на обратном пути у него получилась осечка. Оказывается, Самуил, большой знаток торговых дел, ничего не знал о том, как распределяются блага чегемских гор и лесов. И этим воспользовался Сандро, который провожал его из села.
Была осень, и Самуил сказал, что хотел бы заготовлять чегемские каштаны и продавать их в городе.
– Пожалуйста, – сказал ему Сандро и показал на каштановую рощу в котловине Сабида, – вот эта роща до самой речки в глубине лощины моя, а за речкой уже чужая. Я тебе свою рощу продам, а ты найми греков в селе Анастасовка, и они приедут со своими ослами, соберут тебе каштаны и довезут до самой машины, идущей в город.
И тогда они стали торговаться, но Сандро его и тут перехитрил.
– Что ты со мной торгуешься, – сказал он Самуилу, – я тебе за эти же деньги не только продам рощу, но буду и сторожить ее до твоего приезда. А то сейчас самый сезон. Того и гляди налетят греки и армяне, и от твоих каштанов ничего не останется.
– Тогда согласен, – сказал Самуил, – сторожи мои каштаны, а я дней через десять приеду.
– Будь спокоен, – отвечал Сандро, – я даже ни одного дикого кабана не подпущу к твоей роще.
– Не подпускай, – сказал Самуил, – а я найму греков с их ослами и приеду.
– Только ни одному человеку не говори, что я тебе продал каштановую рощу, – попросил его Сандро, – потому что у нас ужасно не любят, когда чужакам продают каштановые рощи.
– Кому ты это говоришь, Сандро, – удивился Самуил, – торговый человек умеет хранить секреты.
Через десять дней Самуил приехал с греками, и они стали ему собирать каштаны, и он им платил за каждый мешок. И когда они, обобрав всю рощу, спустились до речки, Самуил спросил у них, не знают ли они, где сейчас находится хозяин каштанов, растущих по ту сторону речки.
Греки, услышав слова насчет хозяина каштанов, бросили свои мешки и стали смеяться над Самуилом. И Самуилу это очень не понравилось.
– Мне удивительно слышать ваш смех, – сказал Самуил, – интересно, вы меня наняли работать или я вас?
– Хозяин, – сказали греки, наконец перестав смеяться, – конечно, ты нас нанял работать и платишь нам за это деньги. Но нам смешно слышать, что каштаны по ту сторону речки кому-то принадлежат. По местным обычаям это считается лес, лес! А то, что человек собрал в лесу, оно ему и принадлежит.
– А по эту сторону речки, – встревожился Самуил, – каштаны тоже никому не принадлежат?
– Да, – радостно подтвердили греки, – и по эту сторону речки каштаны никому не принадлежат, и сама речка никому не принадлежит… Хочешь, ставь на ней мельницу…
– Мельницу мне незачем ставить, тем более в таком диком месте, – сказал Самуил задумчиво, – но я считал, что каштаны кому-то принадлежат, раз их продают на базаре.
Так Сандро его обманул когда-то, но Самуил ему простил этот обман, потому что все равно выручил за каштаны хорошие деньги, да и привык во время приездов в Чегем останавливаться в доме моего старика.
…Одним словом, расставшись с Самуилом, мы продолжали свой спуск к реке Кодор. Наконец, когда этот крутой склон мне здорово надоел, мы выбрались на ровное место, где уже хорошо был слышен шум реки. Но тут мы подошли к дому одного грузина, тоже дружка моего старика. Мой старик остановил меня и заглянул во двор. Я тоже заглянул во двор в надежде увидеть жеребенка, но никакого жеребенка во дворе не оказалось. Двор был полон индюками и поросятами.
Под тенью лавровишни на коровьей шкуре лежал дружок моего старика. Увидев нас, он встал и, громко поздоровавшись, стал приближаться к нам. Я понял, что опять начнутся разговоры, и, не теряя времени, стал есть траву на обочине дороги. Хозяин вышел из калитки и, подойдя к моему старику, поздоровался с ним за руку. После этого он довольно насмешливо оглядел меня, и я понял, что он сейчас что-нибудь про меня скажет. Так оно и оказалось.
– Мир перевернулся, – сказал, улыбаясь, хозяин дома, – а ты, Хабуг, как сидел на своем муле, так и сидишь.
– Как сидел, так и буду сидеть, – отвечал мой старик твердым голосом.
Молодец мой старик. Что мне в нем нравится, так это то, что никто его не может сбить с толку. Если уж он что-то сам решил, так пусть хоть всем селом навалятся на него, но все равно будет делать по-своему. И главное, все знают, что он самый умный в Чегеме старик, все знают, что он своими руками нажил самое большое хозяйство, все знают, что у него была дюжина лошадей, но он выбрал меня.
Так неужели вам не ясно, что если человек во всем умнее вас, так, значит, и в том, что он мула предпочел лошади, проявился его ум. Этим болванам кажется, что, если абхазец сидит на муле, а не на лошади, он себя унижает. Но мой старик лучше всех знает цену любому животному. Другой бы на его месте, если б ему столько говорили против мула, послушался людей и, расставшись со мной, отбивал себе печенку на тряской лошади.
Ну, так вот. Дружок моего старика предложил ему спешиться и посидеть у него в доме за столом. Мой старик опять отказался, сказав, что он торопится в город. Тогда хозяин окликнул свою хозяйку и та принесла чайник вина, два стакана и чурчхели на закуску.
И они, конечно, стали пить и закусывать. Честно говоря, в моем старике тоже немало смешных странностей. И тут и там он наотрез отказался зайти в дом, ссылаясь на спешку, а сам пьет и закусывает, сидя верхом на мне. Это называется – он спешит. Раз уж ты решил перекусить, так сойди с меня, дай и мне передохнуть.
– Как дела в вашем кумхозе? – спросил мой старик.
– Да вот все эвкалипты сажаем, – отвечал хозяин.
– Что это еще за эвкалипты? – удивился мой старик.
– Это заморское дерево такое, – отвечал хозяин, – на дрова не годится, а плодов от него не больше, чем приплода от твоего мула.
Опять меня задел.
– Так зачем же вы его сажаете? – спросил мой старик.
– Велят, – отвечал хозяин, – они говорят, что эвкалипт будет комаров отпугивать.
– Да зачем же их отпугивать? – спросил мой старик.
– Они так считают, что от укусов комаров человек малярией болеет.
– Вот бараньи головы, – удивился мой старик, – что ж они не знают, что малярию гнилой туман нагоняет?
– Не знают, – сказал хозяин, разливая вино по стаканам, – да ведь против них не попрешь: власть…
– Да, не попрешь, – согласился мой старик и, выпив вино, наглядно опрокинул стакан.
– Чтоб этот кумхоз опрокинулся так, как я опрокинул этот стакан, – сказал мой старик.
– Дай тебе бог, – согласился хозяин и снова налил вино в стаканы.
Ладно, думаю, отведи душу, поговори, пока мы не доехали до Кодора, если уж ты уверен, что доносчики все никак не решаются переправиться через Кодор. Но страшно подумать, если доносчики уже на этой стороне Кодора, а мой старик все еще мелет, что ни придет на язык.
На той стороне Кодора он ведет себя потише. Нет, он и там запрокидывает стакан, но говорит при этом не прямо, а намеком. Но я-то знаю, что он то же самое имеет в виду.
Они выпили еще по два стакана, и хозяин спросил у моего старика, как идут дела в их колхозе. Тут мой старик, чтобы быть понятней ему, перешел на грузинский язык, который я почти не понимаю. Но мне и так ясно было, про что он будет говорить.
Между прочим, мой старик кроме абхазского языка знает еще грузинский, турецкий, греческий. С армянами он разговаривает на турецком языке. Он только не знает русского языка, потому что русские живут в городе, а мы там редко бываем. По-русски он знает только одно слово: дуррак. По-абхазски это слово означает – никчемный, жалкий человечишко. Иногда, когда мой старик злится на кого-нибудь, он вставляет это слово, и люди, которые спорят с ним, теряются, не зная, что ему ответить.
Наконец они попрощались, и мы пошли дальше.
– Эвкалипт, – бормотал мой старик, вспоминая это чудное слово, – они думают, лучше бога знают, где какому дереву расти положено.
От возмущения мой старик сплюнул и даже выпустил задом лишний воздух. Интересно, что, когда я выпускаю лишний воздух, он всегда недовольно ворчит, а когда он это делает, я совсем не обижаюсь. Я никак не пойму, что тут обидного для него. Зачем я лишний воздух должен держать при себе, он же мне мешает дышать? Смешных странностей у моего старика до черта.
Мы стали подходить к реке. Шум ее с каждым мгновеньем усиливался, и я почувствовал, что начинаю волноваться. Дело в том, что я терпеть не могу переходить через всякие там мостки, мосты, стоять на досках парома, когда знаешь, что под этими досками проносится бешеная вода.
Если бы мне дали проходить по мосту или вброд через ледяную воду, то я бы выбрал брод, если, конечно, вода не слишком большая. Насколько я знаю, лошади и ослы тоже так устроены. Мы любим всегда под ногами чувствовать твердую землю. А когда нет под ногами твердой земли, у меня какое-то неприятное чувство. Душа обмирает, а тело сопротивляется, оно не доверяет вещам, которые стоят на воде или висят в воздухе.
Когда мы подошли к реке, там уже стояли какой-то крестьянин с нагруженным ослом и еще два человека. Одним из них был охотник с собакой. Но эта собака меня не тревожила, потому что охотничьи собаки довольно разумные существа, они почти не лают и совсем не кусаются.
Меня немного успокоило, что на берегу стоял ослик с поклажей. Все же как-то легче, когда ты не один должен взбираться на паром. От волнения у меня пересохло в горле, и я потянулся к воде, чтобы напиться. Мой старик отпустил поводья, и я нарочно отошел подальше от этих людей, которые ждали паром. Я боялся, что старик мой воспользуется последней возможностью почесать язык на этом берегу и заговорит с кем-нибудь из них о колхозе. А вдруг кто-нибудь из них доносчик с того берега, а только делает вид, что собирается переправляться туда? Чтобы подольше отвлекать моего старика, я долго-долго пил холодную мутную воду Кодора. Ослик, увидев, что я пью воду, тоже вспомнил, что ему хочется пить и потянулся к воде. Но хозяин его не пустил. Я-то понимал, что ослик волнуется, как и я, но его глупый хозяин этого не понимал.
А между тем с той стороны реки паром уже приближался. К слову сказать, сколько я ни напрягал свой ум, а у меня, слава богу, есть что напрягать, я никак не мог понять, какая сила движет паром поперек реки. Ведь вода его толкает по течению, а он прет против течения. По-моему, это самая удивительная загадка. Я так думаю, что люди тоже не понимают, почему паром движется против течения, но делают вид, что это им давно известно. И что я еще заметил – в середине реки, где течение сильнее всего толкает его вперед, он именно там быстрее всего движется против течения.
Паром все приближался и приближался, и я чувствовал волнение не только оттого, что предстояло перейти в него. Меня еще волновало, кто первый взойдет на паром, я или ослик. Мне, конечно, не хотелось идти первому. По справедливости, раз ослик сюда пришел первым, он первым и должен взойти на паром.
Я чего боялся больше всего – это выдержат ли мостки, ведущие от берега к парому. Я, конечно, тяжелее ослика. Но ослик с поклажей пудов на шесть будет потяжелее меня. И я решил, что если мостки выдержат ослика с поклажей, то они выдержат и меня.
Меня беспокоило еще вот что. Я заметил, что одна доска на мостках треснула как раз там, где был вбит гвоздь в перекладину. Так что гвоздь этот с одной стороны ее совсем не держал. При переходе на паром эта доска вполне могла соскользнуть с перекладины, и тогда ослик или я обязательно сломали бы ногу. И главное, столько мужчин стоит тут в ожидании парома, и ни один из них не обратил на это внимания. И конечно, в конце концов только мой остроглазый старик, как всегда, заметил непорядок. Мой старик слез с меня, взял хороший камень, отодвинул треснутую доску, вытащил из перекладины гвоздь, выпрямил его, поставил доску на место и там, где она была целой, вбил гвоздь по самую шляпку.
Но вот послышался скребущий звук железной веревки, на особом колесике скользящей по перекинутой через реку другой железной веревке, и паром боком уперся в мостки. Там было человек восемь людей и ни одного животного, так что непонятно было, выдержат меня мостки или нет.
Как я надеялся, первым пустили ослика. Но хозяин ослика перепутал все мои расчеты. Он сначала снял с ослика оба мешка и перетащил их на паром. Мостки под ним слегка прогибались, но выдержали. К сожалению, он перетаскивал мешки по одному. Если бы он сразу перетащил оба мешка, я бы меньше волновался. Ведь такой солидный упитанный мул, как я, весит гораздо больше человека с одним мешком.
Перетащив мешки, человек взял под уздцы своего ослика и стал тянуть его на мостки. Ослик стал изо всех сил упираться, очень уж он не хотел идти. Но ведь все равно идти надо, никуда не денешься. Хозяин его упрямо тянул, а тут еще охотник несколько раз огрел ослика прикладом своего ружья. Наконец бедняга осторожно взошел на мостки, а потом срыгнул на паром.
Теперь была очередь за мной. Я собрал все свое мужество, и, когда мой старик, взойдя на мостки, слегка натянул поводья, я поставил ногу на доску и, не ждя, чтобы какой-нибудь бродячий охотник бил меня сзади прикладом, взошел на мостки и тихонько спрыгнул на паром. Все стали хвалить меня за ум и смелость. Мне, конечно, приятно было это слышать. Ну, ум мне дала сама природа, тут особой моей личной заслуги нет, а вот чтобы мужественно держать себя, пришлось напрячь всю свою волю.
Паромщик оттолкнулся багром, и наша посудина медленно, а потом все быстрей и быстрей пошла на тот берег. Я стоял на дне парома, стараясь не шевелиться и не переступать ногами, чтобы доски днища не обломились подо мной. Старик мой расплатился с паромщиком, мы кое-как вышли на берег и пошли дальше.
Мы прибыли в село Анастасовка. Там у сельсовета стояла железная арба под названием машина. На ней многие люди ездят в город и обратно. Я раньше никак не мог понять, на какой силе двигаются эти машины. Но потом догадался. Однажды мы с моим стариком проходили через село Джгерды. И там я увидел одну машину, стоявшую на улице у ручья. Хозяин ее набрал из ручья полное ведро воды и влил в машину. Потом сел в нее и поехал. Я понял, что эти машины двигаются на водяной силе, как мельничные жернова.
Когда мы проходили мимо машины, старик мой взглянул на нее и сказал:
– Железа-то у вас будет много, а вот откуда вы мясо возьмете, хотел бы я знать…
Это больное место моего старика. Дело в том, что он был лучший скотовод Чегема. Сейчас у нас тоже кое-что есть, но раньше было очень много скота. В лучшие времена, говорят чегемцы, у моего старика было столько коз и овец, что, когда их перегоняли на летние пастбища, бывало, головные уже за три километра на чегемском хребте, а задние еще топчутся в загоне. Вот сколько у него было скота.
А ведь начинал он с одной-единственной козы. В Чегеме тогда еще никто не жил. Он первым приехал в Чегем, попробовал местную воду, и она ему так понравилась, что он решил здесь поселиться.
Он тогда только вернулся из Турции, куда многих абхазцев загнали, кого силком, кого обманом. И у него ничего не было. Только юная жена, один ребенок и эта коза. Ее одолжил ему какой-то родственник, чтобы ребенка можно было поить молоком.
В первый же год он на жирной чегемской земле собрал такой урожай кукурузы, что купил на нее небольшое стадо овец и коз. А через двадцать лет упорных трудов мой старик уже имел все – и детей, и хозяйство, и огромный загон для скота. И дом его был полная чаша, и гостей, бывало, полон двор, так что жена его и пять дочерей едва успевали их обслуживать. А молока было столько, что его обрабатывать на сыр не успевали и сливали собакам.
Да, да, держал пастухов! Ну и что?! За три года работы пастух получал тридцать коз, после чего мог уйти и заводить собственное хозяйство. А у вас колхозник за три года и трех коз не заработает. Вот как!
Иногда я вижу своего старика совсем молоденьким, только-только испившим ледяную чашу чегемского родника, утирающимся рукой и решающим: здесь буду жить! Так и стоит он передо мной: небольшого роста, широкоплечий, горбоносый, упорный, с могучей неукротимой мечтой в глазах.
А теперь что? А теперь всем колхозом они не имеют столько скота, сколько он один тогда имел. Пустомели, все по ветру пустили! То-то же моему старику и обидно. И теперь иногда на лице моего старика бывает такая горечь, что у меня душа разрывается от жалости к нему. Эта горечь на лице его означает: кончилось крестьянское дело. Но иногда он все же надеется, что эти безумцы образумятся и снова каждый крестьянин заживет сам по себе.
Мы продолжали идти по дороге. Я поглядывал по сторонам, где виднелись зеленые дворики, в надежде увидеть какого-нибудь жеребенка. Во дворах паслись телята, свиньи, куры, индюшки, а жеребят не было видно.
Попомните мое слово. Если с жеребятами дальше так пойдет дело, Абхазия останется без лошадей. Или они думают готовых лошадей привозить из России? Не верится что-то. Да и не годятся громоздкие русские лошади для наших гор. Все же я надеюсь, что на такой длинной дороге нам где-нибудь встретится жеребеночек.
Вдруг из одной проселочной дороги выехал на улицу всадник. Остановив свою лошадь, он из-под руки оглядел нас, как бы силясь узнать, кто мы, хотя я могу поклясться всеми жеребятами, которых я любил в своей жизни, что он сразу нас узнал. Это был известный лошадник из села Анхара по прозвищу Колчерукий.
Старик мой поравнялся с ним, они поздоровались и поехали рядом. От Колчерукого я ничего хорошего не ожидал. Так оно и получилось.
– До чего ж тебя кумхоз довел, – закричал Колчерукий, хотя мы от него были в двух шагах и мой старик, слава богу, прекрасно слышит, – что ты на муле стал разъезжать.
Нарочно так говорит, хотя прекрасно знает, что старик мой всегда ездит на муле.
– Я, – спокойно ответил ему мой старик, – и до кумхоза сидел на муле, и, бог даст, после кумхоза буду сидеть на муле.
– Знаю, знаю, – засмеялся Колчерукий, – просто так, к слову сказал.
– Хороша под тобой лошадка, – вдруг ни с того ни с сего брякнул мой старик.
– Да уж, – отвечал Колчерукий хвастливо, – еще не настолько мне задурили голову, чтобы я в лошадях перестал разбираться.
Я как услышал слова моего старика насчет этой лошадки, так сразу почувствовал, что у меня горло перехватило. Да что хорошего в ней, я спрашиваю?! Все крутит головой, все норовит куда-то в сторону зарысить, якобы от избытка сил и нетерпения. Да это же сплошное притворство и обман! Пусть она, как я, пройдет от Чегема до Мухуса, простоит там голодная всю ночь, а на следующий день вернется обратно. Вот тогда бы вы посмотрели, рысит она в сторону от нетерпения или шатается, как чучело под ветром!
Горько все-таки. Если ты ведешь себя как солидный мудрый мул и не беспокоишь хозяина дерганьем и кривляньем, так они считают, что в тебе лихости мало. Но ничего не поделаешь, так устроен этот мир – мудрость всегда обречена на неблагодарность окружающих.
– Ну, а как дела у вас в кумхозе, – спросил мой старик, – эвкалипты еще не сажают?
– Нет, – сказал Колчерукий, – что это еще за эвкалипты?
– Это такое заморское дерево, – ответил мой старик, – сейчас его всюду сажают, чтобы комаров отпугивать.
– А чего это комаров отпугивать, – удивился Колчерукий, – уж лучше пусть они мух отпугивают, а то совсем мою лошадь заели.
– Они так считают, что комары плодят малярию, – сказал мой старик, – хотя каждый знает, что малярию плодит гнилой туман. В низинных селах, где бывает гнилой туман, там и болеют малярией. А комаров и у нас в горах полно, а малярией никто не болеет. Такой простой вещи уразуметь не могут, а берутся перевернуть всю нашу жизнь.
– Это и ребенку ясно, – согласился Колчерукий, – нет, у нас эвкалипты не сажают. У нас с ума сошли на чае. Чай повсюду разводят.
– Чай? – удивился мой старик. – Наши отцы и деды отродясь чай не пили. Чай пьют русские. Вот пускай они его и разводят себе.
– Говорят, у русских для чая земля не годится, – отвечал Колчерукий, – вот они и решили приспособить нашу землю для чая.
– А где же они его брали раньше? – спросил мой старик. – Ведь русские без чая и дня прожить не могут.
– А разве ты не знаешь? – ответил Колчерукий. – Они его у китайцев покупали.
– Так что ж, китайцы теперь перемерли, что ли? – спросил мой старик.
– Нет, китайцы не перемерли, – отвечал Колчерукий, – но это целая история. Но я тебе, так и быть, расскажу, потому что ты преданный нашему народу человек, хоть и сидишь верхом на муле.
Опять Колчерукий попытался меня задеть. Но мой старик ничуть не смутился.
– Еще бы, – сказал мой старик, – рассказывай, а мы, слушая тебя, глядишь, скоротаем дорогу.
– Так вот, – повторил Колчерукий, – китайцы не перемерли. Скорее весь мир перемрет, чем китайцы перемрут, до того они живучие. Но китайский царь передал нашему Большеусому, что больше не будет русских поить чаем, потому что они убили царя Николая вместе с женой и детьми.
– Что ж китайский царь, – удивился мой старик, – только опомнился? Русского царя в-о-н когда еще убили.
– Ты что ж, не знаешь шайтанскую хитрость Большеусого? Он же китайского царя все время обманывал. Он говорил ему, что русский царь вместе со своей семьей живет у него в Кремле и получает наркомовскую пенсию. То в Кремле живет, то на курорте. А больше нигде не живет.
Но тут вмешались англичане. Они сказали китайскому царю: «Ты что, не видишь, что Сталин тебя обманывает. Ты пошли в Россию доверенного человека, и, если русский царь жив, пусть они покажут ему».
И тогда китайский царь написал Большеусому, что он посылает к нему доверенного человека. И если этот человек увидит живого царя Николая, тогда он, китайский царь, снова будет посылать русским чай – пусть пьют, пока не лопнут.
«Хорошо, – отвечал Большеусый китайскому царю, – присылайте человека, хотя мне обидно, что вы мне не верите».
И вот приезжает доверенный китаец и его приводят в Кремль, где как будто рядом с домом Большеусого стоит дом царя Николая. И как будто Николай ему рассказывает, как прежняя власть управляла людьми, а Большеусый ему рассказывает, как теперешняя власть управляет людьми. И как будто они так сдружились между собой, что их дети целыми днями вместе играют и бегают внутри Кремля. И вроде бы они уже сами путают, где чей ребенок. Вроде дело до того дошло, что Большеусый, когда у него хорошее настроение, подзывает к себе своего ребенка, чтобы дать ему конфету. А тот оборачивается и оказывается сыном царя Николая. Но он все равно дает ему конфету.
«Да подойди ты, – говорит ему Большеусый, – не бойся, она не отравленная».
Вот до чего как будто бы они сроднились. Вводят, значит, этого китайца в кремлевский дом и показывают на какого-то человека, точка в точку похожего на царя Николая. А рядом с ним вроде сидят жена и дети.
Китаец долго на них смотрит, а они на него. А помощники Большеусого ждут, что скажет китаец.
«Ты царь Николай?» – спрашивает китаец у этого человека.
«Да, я царь Николай», – довольно бодро отвечает этот человек.
«А это твоя жена?» – спрашивает китаец, показывая на женщину.
«Да, – так же бодро отвечает этот человек, – она и есть моя жена».
«А это твои дети?» – спрашивает китаец и почему-то пристально оглядывает детей.
«Да, – уверенно отвечает этот человек, – это мои дети».
«Ты точно знаешь, что это твои дети?» – снова спрашивает китаец и снова пристально смотрит на детей.
«Что я, не знаю своих детей, что ли?» – вроде бы обижается этот человек, точка в точку похожий на царя Николая.
Тогда китаец, глядя на помощников Большеусого, говорит:
«То, что царь Николай за пятнадцать лет не постарел, вы можете объяснить тем, что Сталин ему устроил хорошую жизнь. Но чем вы объясните, что за пятнадцать лет дети царя не выросли?»
Тут помощники Большеусого растерялись, покраснели, побледнели, не знали, что сказать. Тут-то они докумекали, что второпях дали маху, забыли, что дети растут, но было уже поздно. Тык-мык, а сказать нечего.
«Сами удивляемся, – говорят они, – мы их кормим, поим, а они почему-то не растут».
«Выходит, царские дети, – говорит китаец, – при советской власти не растут?»
«Выходит», – соглашаются помощники Большеусого.
«Выходит, они превратились в лилипутов?»
«Выходит», – подтверждают помощники Большеусого.
«Нет, – говорит китаец, – не выходит. Вы – плохие. Вы – мошенники. Вы убили царя Николая и его детей».
«Как же так, – возмущаются помощники Большеусого, – мы ничего не понимаем. Тогда объясни нам, кто этот человек и его дети?»
«Это не царь, – говорит китаец, – это переодетый чекист. А это не царские дети, это дети чекистов».
Тогда помощники Большеусого говорят китайцу:
«Ну, хорошо. Возможно, получилась ошибка. Ты посиди пока в другой комнате, а мы между собой посоветуемся, как быть».
Китайца отвели в другую комнату, а эти начали между собой советоваться. И вот что они решили. Они решили дать китайцу тысячу золотых николаевских десяток, чтобы он своему царю сказал, что видел настоящего царя Николая. И они вошли в комнату, где сидел китаец, и сказали ему об этом.
«Вы дураки, – ответил им китаец, – вы даже до сих пор не знаете, что китайцы взяток не берут».
Тут Колчерукого перебил мой старик:
– Неужто не берут?
– Да, – говорит Колчерукий, – оказывается, китайцы взяток не берут.
– Как же они свои дела устраивают? – удивился мой старик.
– Никто понять не может, – отвечает Колчерукий, – вот такие они, китайцы. Упрямые!
– Ну, а дальше что было? – спрашивает мой старик.
– А дальше было вот что. Помощники Большеусого опять вышли и стали между собой советоваться. Правда, я не знаю, звонили они Большеусому или сами между собой решили. Тот, кто рассказывал эту историю, сам об этом не знает, а я ничего прибавлять не хочу. И так они, значит, снова входят к китайцу в комнату и говорят:
«Если ты не скажешь китайскому царю, что видел настоящего русского царя, мы тебя убьем. А к твоему царю пошлем нашего советского китайца, и он ему скажет все, как мы хотим. И китайский царь ему поверит, потому что все вы, китайцы, на одно лицо».
«Ничего не выйдет, – отвечает им китаец с улыбкой, – потому что мой мудрый китайский царь все предвидел. И когда он посылал меня к вам, он сказал мне тайное слово, которое я должен повторить, когда приеду к нему во дворец. И это слово вы никакими пытками меня не заставите сказать. Поэтому мой царь изобличит вашего фальшивого китайца».
Тут помощники Большеусого совсем приуныли и пришлось им обо всем рассказать хозяину. Большеусый пришел в неслыханную свирепость, а сделать ничего не может. Потому что убить доверенного китайца нельзя – придется воевать с Китаем. А воевать нельзя, потому что китайцев, оказывается, даже больше, чем русских.
– Неужто больше, чем русских? – подивился мой старик.
– Да, – уверенно сказал Колчерукий, – сами русские это признают.
– Чем только они кормятся? – проговорил мой старик.
– А у них все в ход идет, – сказал Колчерукий, – жучки, паучки, червячки. Они все едят, а потом все это чаем запивают, и ничего.
– Так чем же кончилась эта история с китайцем? – спросил мой старик.
– А вот чем кончилась, – отвечал Колчерукий. – Большеусый вызвал этого доверенного китайца и говорит ему: «Страна у меня большая, и не всегда знаешь на одном конце ее, что делается на другом. А помощники у меня глупые, что им ни скажешь, все перепутают. Я им сказал: “Берегите царя и его семью, а они все перепутали и расстреляли их”».
«Они мне фальшивого царя показали», – сказал китаец.
«Насчет фальшивого царя не беспокойтесь, – отвечал ему Большеусый, – я прикажу его расстрелять вместе с его фальшивой женой. Можешь так и передать своему царю».
«Это хорошо, – сказал китаец, – но мой царь больше не будет поить русских чаем, потому что он будет горевать за русского царя и его семью».
С тем, значит, доверенный китаец и уехал. Вот с тех пор и решил Большеусый разводить чай на нашей земле, чтобы от китайцев больше не зависеть.
– Это все политика, – сказал мой старик.
– Да, да, политика, – согласился Колчерукий.
Тут Колчерукий стал заворачивать на проселочную дорогу и очень удивился, что мы туда не заворачиваем.
– Ты что, разве не туда едешь? – спросил Колчерукий.
– Я еду в город, – отвечал мой старик, – а ты куда едешь?
– Я еду на оплакивание Карамана, – ответил Колчерукий, – я думал и ты туда едешь.
– Как, злозадый Караман умер? – удивился мой старик. Похотливых людей наши абхазцы называют злозадыми.
– Да, умер, – отвечал Колчерукий, – и умер через свою злую задницу.
– В последний раз он вроде бы привел какую-то русскую в дом? – сказал мой старик.
– Точно, – ответил Колчерукий, – прямо на ней и умер.
– Да откуда ты знаешь, – удивился мой старик, – неужто она сказала?
– Нет, – ответил Колчерукий, – она только ночью прибежала к сыновьям и сказала, что отец их умер. А сыновья рядом живут. Они пришли в дом и увидели, что отец их ничком лежит на постели в таком виде, что стало ясно, чем он занимался в свои последние минуты.
– Тьфу! – сплюнул мой старик. – Умереть ничком, как бешеная собака, убитая выстрелом?! Может, у других народов и принято умирать ничком, но только не у нас. Настоящий абхазский старик лежа ничком никогда не умирает. Настоящий абхазский старик умирает лежа на спине, в чистой рубашке, окруженный близкими. А этот жил, как кобель, и умер, как кобель. Что ж меня горевестники не известили?
– Видно, не поспели, – ответил Колчерукий, – его только послезавтра хоронят.
– Все же я его оплачу, – решил мой старик, – хоть и порченым он был человеком.
Тут мой старик повернул меня на проселочную дорогу, и мы пошли к дому этого Карамана. Мне это дело очень не понравилось. Если мой старик так будет останавливаться всю дорогу, мы никогда до города не доедем.
– Я тебе скажу, Колчерукий, – продолжал мой старик, – мужчина после семидесяти лет должен забыть про женщину. А самые мудрые еще раньше забывают. Мужчина после семидесяти лет считается по нашим обычаям стариком. А старик должен блюсти чистоту. Он не должен грязнить свою постель женщиной. Дело старика следить за честью семьи, честью рода, честью села и честью племени своего. Тем более в наше время, когда бесчестие нависло над нашим домом и грозит очумить нас позором. Говорят, среди долинных абхазцев уже появились доносчики, которые рассказывают властям то, о чем мы говорим в нашем доме, на нашем поле, на нашей сходке. Куда подевались абхазские мужчины, я спрашиваю, почему по нашему славному древнему обычаю доносчикам не отрезают уши и языки?!
– Ого-го, – сказал Колчерукий, – слишком многие остались бы без языка и ушей. Но вот ты, Хабуг, говоришь, что после семидесяти мужчина грязнит постель женщиной. Так ведь все от природы зависит. Иной как раз в старости делается особенно злозадым. Что ж такому делать, если ему невтерпеж?
– Чушь! – сказал мой старик и опять сплюнул. – Пусть в руки возьмет топор или мотыгу, и быстро забудет про женщину. У некоторых стариков протухают мозги, кровь плохо движется в теле и застревает в паху, а он, дурак, думает, что у него молодость наступила.
И потом – это грех. Грех вливать в женщину прокисшее стариковское семя, грех против будущего ребенка. Если от дурного зерна на поле вырастет хилый стебелек кукурузы, ты его срежешь мотыгой. А ведь ребенка не убьешь. К слову, выродили они чего-нибудь или нет?
– Сын, говорят, – отвечал Колчерукий, – но сам я его не видел. Он эту молодку подобрал пять лет назад, когда начался голод на Кубани, и оттуда хлынули люди, чтобы спастись от голода. Вот тогда он ее и приманил в свой дом за пару помидоров и кусок чурека. А потом, откормившись, отмывшись, она ему так приглянулась, что он ее сделал своей женой. Сыновья пытались стыдить и отговаривать его от женитьбы. Они даже пугали его, говорили, что это женщина без роду, без племени, может отравить его, чтобы прибрать к рукам хозяйство. Да разве злозадого Карамана кто остановит! «Молчите, – отвечал он им, – выблядки! Я трех жен затоптал и эту затопчу!»
Да не тут-то было. Эта русская молодка, как только отъелась, оказалась до того злозадой, что сама затоптала его. Вот он и вытянул ноги, кое-как продержавшись пять лет.
– Жил, как скотина, и умер, как скотина, – сказал мой старик.
И вот что удивительно. Мой старик презирает этого Карамана, а все-таки едет на его оплакивание. Так уж он устроен. Очень уважает обычаи. Но, слава богу, дом этого Карамана оказался недалеко. Вскоре мы к нему подошли. Ворота были распахнуты, а во дворе толпилось множество пароду. Гроб с покойником стоял возле дома под небольшим навесом. С той стороны гроба выглядывали ближайшие родственницы и плакальщицы. Справа возвышалось помещение, крытое огромной плащ-палаткой. В нем устраивают поминальное застолье для приехавших оплакивать покойника.
Нас встретил молодой парень, по-видимому, один из сыновей этого Карамана. Он провел нас к коновязи. Мой старик и Колчерукий спешились. Парень этот хотел взять у моего старика поводья, но мой старик их не дал ему и, вынув изо рта у меня удила и прикрепив поводья к седлу, сказал:
– Пусть мой мул попасется… У меня дальняя дорога…
– Хорошо, – сказал этот парень и, привязав лошадь Колчерукого, повел его вместе с моим стариком на оплакивание.
Недалеко от гроба стоял столик, на котором оставляют тапки, папахи и башлыки. Мой старик и Колчерукий положили свои шапки на столик и, стоя возле него, дожидались своей очереди. У наших такой обычай, что в шапке нельзя оплакивать покойника, как будто бы покойнику не все равно, в шапке ты или не в шапке. Но таков обычай, и все блюдут его.
Дождавшись, когда оплакивающий у гроба был отведен в сторону, мой старик, ударяя себя руками по голове, двинулся к покойнику. Сзади его слегка придерживал за бока особый человек, приставленный для этого дела. Вообще, как я понимаю, смысл такого сопровождения заключается в том, чтобы удерживать оплакивающего от слишком буйных и опасных для его жизни проявлений горя. Ну, например, чтобы он не бился головой о гроб. И это, конечно, понятно, когда умирает хороший человек и оплакивают его близкие люди. Но дело в том, что ко всякому покойнику всякого оплакивающего сопровождает такой человек. В том числе и к такому несолидному покойнику, как этот Караман. И вот, зная все, что мой старик говорил о нем, не смешно ли думать, что мой старик может покалечить себя в приступе отчаянья при виде трупа Карамана?
– Ох! Ох! Ох! – стонал мой старик, продолжая бить себя по голове и стоя у гроба. – Зачем ты нас покинул, Караман?
Женщины, родственницы покойного, торчавшие из-за гроба, отвечали на слова моего старика дружным рыданием, я думаю, таким же искренним, как и рыдания моего старика. Нет, мой старик не обманщик. То, что он думал о Карамане, он уже сказал, а теперь он просто выполняет обряд оплакивания. Такой уж он – чтит обычаи.
– Ты видишь, Караман, – рыдая, говорили плакальщицы, – старый Хабуг пришел проститься с тобой, даже не дождавшись горевестника…
– Ох! Ох! Ох! Бедный Караман, – довольно глупо повторял мой старик, видно, ничего больше из себя не мог выдавить, – отчего ты покинул нас?
А то ты не знаешь, отчего он вас покинул? Что ж ты забыл, что он через свою злозадость и вытянул ноги?!
Так мой старик, не слишком убиваясь, поплакал с минуту, а потом был отведен приставленным к нему человеком к своей шапке, а оттуда, уже нахлобучив ее на голову, он бодро отправился в поминальное помещение выпить свои несколько стаканов и закусить.
Я чего боюсь. Как бы он там не начал опрокидывать свой стакан и показывать, что будет с колхозом, забыв, что мы уже по эту сторону Кодора.
Я, конечно, пользуясь тем, что меня не привязали, ел траву. Десяток лошадей, стоящих у коновязи, косились на меня и умирали от зависти. Еще бы! Ведь ни одной из них не позволили вольно попастись в этом углу двора. Мой старик мне доверяет, и недаром. Я ведь, в отличие от некоторых глупых лошадей, не стану бродить между людьми и не выйду за ворота. Я буду здесь пастись, объедая каждый клочок травы, пока за мной не придет мой старик.
Пока я ел траву, рядом со мной прошла большая хозяйская собака, но я не стал за ней следить, потому что собаки, когда во дворе собирается много людей и животных, падают духом и не решаются ни лаять, ни кусаться. А меня, между прочим, обилие людей никогда не смущает. Но, с другой стороны, у меня вообще нет такой глупой обязанности, как облаивать живые существа. Слава богу, мои обязанности значительно сложней и почетней.
Возле меня появился белоголовый мальчик лет четырех с большим куском хачапури в руке. Я догадался, что это сын Карамана от русской. Абхазские дети такими белоголовыми не бывают. Видно, кровь у этой русской оказалась посильней, чем у этого Карамана, потому что мальчик пошел в нее.
За этим мальчиком присматривала девочка лет двенадцати, явно из наших. Я понял, что это, скорее всего, внучка Карамана присматривает за его сыном. Ну разве это не смешно? Получается, что внучка в три раза старше сына. Ни одно животное, скажу я вам, не способно так запутать законы природы, как человек. Этот мальчонка долго и внимательно наблюдал за тем, как я ем траву. Видно, впервые видел мула. Ну что ты любуешься мулом, белоголовый русачок, подумал я, ты ведь сам муленок. Ты ведь сын старого абхазского осла и молодой русской кобылицы. Вот и получается, что ты сам муленок.
Малыш продолжал молча смотреть на меня. А потом, – видно, я ему очень понравился – подошел ко мне и протянул мне свой кусок хачапури. Я не стал ломаться и, осторожно взяв у него из руки этот кусок, съел его. Хачапур оказался очень вкусным, и я был от всей души благодарен мальчику. До этого я несколько раз видел хачапур, но никогда не пробовал. Надо же, чтобы я впервые попробовал хачапур во дворе этого злозадого Карамана из рук русского мальчика. Как говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Между прочим, после этого я внимательно пригляделся к мальчику и не заметил в нем никакой худосочности или уродства. Мальчик как мальчик, только головенка беленькая. Или мой старик погорячился насчет прокисшего старческого семени, или это скажется потом. Будем надеяться, что мой старик ошибся на этот раз. Надо сказать, что мать этого мальчика я нигде не углядел. Сдается мне, что сыновья Карамана, стыдясь людей из-за ее молодости, припрятали ее куда-нибудь на время оплакивания и похорон.
Наконец мой старик, довольно хорошо взбодрившись поминальными стаканами, подошел ко мне, освободил поводья и взгромоздился на меня. Мы вышли за ворота. Люди продолжали подходить, а из поминального помещения доносился гул возбужденных голосов, доходящих по нашим понятиям до неприличия. Не знаю, может, у других народов на поминках принято петь и плясать, но только не у наших. У наших принято пить поминальные стаканы в тишине, слушая мудрую речь того, кому предоставлено говорить. А эти разгуделись. Но, с другой стороны, если подумать, разве этот старый похотливец заслужил почтенные поминки?
Мы прошли проселочную дорогу, вышли на улицу и двинулись дальше. Мы долго шли по улице, и несколько раз навстречу нам ехали машины, а некоторые из них, обдавая нас клубами пыли, обгоняли нас. Я все время озирался по сторонам, стараясь разглядеть на улице или где-нибудь во дворе жеребенка. Но жеребята не попадались. Вдоль улицы паслись ослы, свиньи в большом количестве, иногда коровы и буйволы, а жеребята не попадались.
Несколько раз навстречу нам показывались верховые, и к моему большому удовольствию, ни один из них не оказался знакомым моего старика, и он ни разу не остановил меня. О том, что нас ни один всадник не обогнал, не может быть и разговоров, я бы этого никогда не позволил. Мой старик меня любит не только за плавный ход, но также за очень бодрый шаг. Ну, разумеется, если кто-нибудь пустится сзади галопом, он нас опередит. Но это не в счет. Верховое животное ценится за бодрый и плавный шаг. А бег – это забава для людей, и при этом довольно грубая. Видывал, бывал со своим стариком на скачках. Очумелые ребятишки верхом на своих лошадях носятся по кругу. Дикость и больше ничего.
Мы проехали село под названием Эстонка. Здесь живет национальность под названием эстонцы, а кто они на самом деле, никто не знает. Но живут тихо, нашим не мешают. Вообще, о них мало что известно.
Одно только известно, что они разводят огромных коров, которые дают в день по двадцать литров молока. Но нашим абхазцам такие коровы ни к чему. Нашему абхазцу неприятно возиться с такой коровой. Она его унижает своей несамостоятельностью. Эти эстонские коровы по горам ходить не могут и сами себя не прокармливают. То и дело приходится их кормить, подмывать, держать в чистом сухом помещении.
Нет, нашим такие коровы ни к чему. У абхазца совсем другой подход. Скажем одна эстонская корова дает двадцать литров молока, а абхазская корова, скажем, два литра, хотя на самом деле она может дать до четырех литров. Но будем считать два, это яснее покажет глупость другого понимания выгоды. Эстонец от одной коровы имеет двадцать литров, а абхазец заводит десять коров и имеет те же двадцать литров. Эстонец целый день крутится возле своей коровы, а у абхазца всех-то дел – утром открыть ворота скотного двора и выпустить их, а вечером, когда они придут, снова впустить их.
Так что же выгодней – целый день возиться с одной коровой и иметь двадцать литров или то же молоко получать от десяти коров и не иметь с ними никакой возни? А теперь возьмем со стороны мяса. Ясно, что тому, кто имеет десять коров, проще прирезать телка, чем тому, кто имеет одну корову.
Но теперь пришел колхоз, и абхазцам не разрешают держать больше трех коров. Ну, наши, конечно, пока исхитряются там, где живут подальше от начальства. Но сколько ни хитри, а власть тебя все равно перехитрит, на то она и власть. И никто понять не может, кому мешает скотина, почему ее не дают разводить. Ведь ясно же каждому, чем больше у крестьян скотины, тем больше мяса в город попадет. Им же выгодно, а они этого почему-то не понимают. Потому-то и говорит мой старик: «Железа-то у вас будет много, а вот откуда вы мясо возьмете, хотел бы я знать…»
Становилось жарко. Солнце приближалось к середине неба. Я это понимал и не подымая головы, потому что тень моя топталась подо мной. В одном месте возле развесистого куста ежевики мой старик спешился и ушел за кусты. Я понял, что вино прошло сквозь него и ему захотелось помочиться. Я тоже помочился, воспользовавшись тем, что он отошел. Обычно ему почему-то неприятно, если я на ходу мочусь. Поэтому я на ходу стараюсь сдерживаться, если не слишком сильно подпирает. Когда я на ходу освобождаюсь от навоза, ему тоже бывает неприятно, но совсем по другой причине.
Дело в том, что люди очень ценят наш навоз. Нет, нет, не только мулов, хотя у мулов, конечно, навоз получше, но и других животных. Для людей это почти золото. От нашего навоза земля жиреет и передает свой жир растениям полей и огородов. Крестьяне были бы счастливы, если бы мы только ночью на скотном дворе освобождались от навоза. Так ведь не подгадаешь, чтобы тебе захотелось только на скотном дворе, хотя и там мы им оставляем немало добычи.
В одном месте возле калитки выскочила мерзкая собачонка и с визгливым лаем долго бежала за мной. Ей очень хотелось укусить меня за заднюю левую ногу, но она и не решалась укусить и не отставала, подлая тварь. Конечно, я бы мог ее одним ударом копыта отбросить в сторону, но это означало бы признаться, что она выводит меня из себя. А это унизительно для такого солидного мула, несущего на себе такого человека, как мой старик.
Пришлось сдерживаться изо всех сил, пока эта собачонка не отстала от меня. Я почувствовал, что мои нервы перенапряглись, а сердце закололо. Вот так ничтожная тварь может вывести из равновесия. Когда настоящая, большая собака лезет на тебя, хоть это и неприятно, но это борьба. Тут – кто кого. Подойдет слишком близко – садану копытом. И она это знает, и я это знаю. А эта зудит, зудит, зудит за тобой, и связываться с ней унизительно и терпеть ее невозможно.
Видно, господь бог решил вознаградить меня за мои страдания. Не успели мы отъехать от этой собачонки на сто шагов, как из проселочной дороги выехала телега, запряженная кобылой, рядом с которой бежал ослепительной красоты жеребенок. Он был белый, как облачко, с длинными, разъезжающимися ногами и чудной гривкой, которую так и хотелось прикусить и потрепать, но, разумеется, не больно.
Телега выскочила на дорогу впереди нас, и я незаметно ускорил шаг, чтобы быть все время рядом с жеребенком. Я постарался ускорить шаг незаметно, чтобы мой старик ни о чем не догадался. Он, конечно, знает о моей страсти к жеребятам, но я стараюсь, чтобы это не бросалось в глаза. Наверно, ему обидно думать, что я еще кого-то люблю, кроме него. Понимает ли он, чудак, что это разная любовь?
Моим стариком я горжусь, а к жеребятам испытываю сумасшедшую нежность. Я купаюсь в наслаждении, когда глаза мои смотрят на них, а ноздри, процедив все остальные запахи, доносят их аромат до самого дна моей души.
Этот чудный, этот потешный жеребенок то шел рядом со своей матерью, то отставал, принюхиваясь на дороге к чему-то непонятному. Потом вдруг, опомнившись и взбрыкнув на несуществующего врага, бежал вперед, развевая хвост и обгоняя телегу.
В одном месте, когда он обогнал телегу, через улицу переходило стадо гусей. Жеребенок, увидев их, так и застыл от изумления. Видно, он впервые увидел гусей. Одна гусыня проходила совсем близко от него и он, наклонив голову, хотел поближе рассмотреть ее, может быть, даже понюхать, чем она пахнет. Он же не знал, дурачок, что гусыня ничем хорошим пахнуть не может. То, что жеребенок наклонился к гусыне, страшно не понравилось одному гусаку. Гусак, вытянув шею, как змея, ринулся на жеребенка. Бедняга от неожиданности так перепугался, что вспрыгнул на месте на всех четырех ногах, а потом развернулся и дал стрекача к матери. Ну чего ты испугался, дурошлеп!
Удрав от гусака, жеребенок подбежал к матери с нашей стороны, так что я его видел теперь совсем близко, и меня так и обволокло его сладким запахом. То ли с испугу, то ли еще отчего, он стал на ходу тыкаться в соски кобылы. Наверное, от волнения или потому, что мешала телега, он никак не мог поймать губами сосцы, хотя очень старался, вытянув свою длинную шею. Кобыле, конечно, тоже трудно было подставить ему сосцы (я ее ни в чем не виню), она все старалась не ударить его ногой по мордочке, а он все тыкался, и в конце концов она сбилась с ноги, и тогда человек, сидевший на телеге, гаркнул:
– Ну, ты!
С этими словами он изо всех сил хлестнул кнутом жеребенка! Я увидел своими глазами тонкую полоску, след от кнута на нежной спине жеребенка. Он взвизгнул от боли и помчался вперед. Растерявшаяся кобыла тоже понеслась. А я, потеряв голову от гнева, рванулся за ними, чтобы закусать и затоптать этого живодера.
– Ты что, сбесился! – крикнул мой старик, и сам огрел меня кнутом по спине.
Я не почувствовал боли, но опомнился, и мне стало стыдно, что я потерял голову. Да ведь я все равно не смог бы достать зубами этого негодяя.
– Старый мул, – пробормотал мой старик, – так и будешь до смерти бегать за жеребятами?!
Я почувствовал, как от стыда кровь ударила мне в голову. Да, мне стыдно за свою страсть, но ведь мне от этих жеребят ничего не надо. Только любоваться ими, только слышать их запах. Если б этот живодер не ударил кнутом жеребенка, мой старик не догадался бы, за кем я, тайно наслаждаясь, слежу.
Телега, пылившая впереди, снова свернула на проселочную дорогу, и в последний раз мелькнул беленький жеребенок. Я вздохнул и отвернулся. Да, да, конечно, моя страсть не по возрасту. Мул моего возраста и, смело добавлю, моего ума, конечно, должен держаться солидней. Я дал себе слово, чтобы угодить моему старику, больше не обращать внимания ни на одного жеребенка, если они попадутся на нашем пути. Конечно, если хватит сил. Во всяком случае, я постараюсь.
То, что я в порыве гнева рванулся за этим негодяем, напомнило мне другой мой порыв. В отличие от этого, хоть и бессмысленного, но доброго, тот был порывом дикого страха, который привел меня к самым черным дням моей жизни.
В тот пригожий осенний день мы со своим стариком возвращались с мельницы. Мой старик из любви и уважения к моей мудрости никогда не нагружал меня мешками. Так что впереди нас топал ослик, навьюченный мешками с мукой, а старик мой сзади ехал на мне и погонял ослика.
Мы уже взяли самый изнурительный напскальский подъем и шли по ровной тропе, проходившей сквозь каштановую рощу. Изредка, наклоняя голову, я успевал хватать попадавшиеся каштаны. Я это старался делать, не замедляя хода, чтобы не раздражать моего старика. Отчасти из-за этих каштанов все получилось. Из-за них и из-за ослика, хотя главную вину я с себя не снимаю.
Дело в том, что ослик шел впереди, и он подбирал самые лучшие и самые близко от тропы лежавшие каштаны. В сущности, он подбирал почти все каштаны, а мне оставались только случайные. И это вызывало во мне зависть и дурной азарт. Я от этого забылся, а только думал, как бы не пропустить какой каштан.
Слева от нас вдруг послышался сильный треск в кустах черники, и я мгновенно почему-то решил, что там медведь. Он же очень любит чернику. От ужаса, сломя голову, я пустился по тропе. Старик мой вскрикнул и от неожиданности свалился с меня. От этого я окончательно потерял голову и бежал, и бежал, и бежал. Так я пробежал с километр и наконец опомнился и остановился. Только теперь я осознал, что я наделал.
Вспоминая, что случилось, я содрогался от стыда, раскаяния и позора. Медведь? Какой медведь?! Разве я видел медведя?! И как я, старый болван, забыл, что в это время года никакой ягоды нет и медведю в кустах черники нечего делать. Может, чья-то корова заблудилась или, в крайнем случае, косуля хрястнула веткой. А я бежал, сбросив с себя своего старика. Ужас! Ужас! И что еще дополнительно обжигало меня мучительным унижением, это то, что все это произошло на глазах у ослика, который не поддался страху и никуда не убежал.
В самом мрачном состоянии души, не зная, что случилось с моим стариком, я стал возвращаться. Я решил, что, если обнаружу труп моего старика, брошусь со скалы и разобьюсь. Как раз тут рядом напскальский спуск и там обрыв метров на сто. Но если он остался жив, думал я, пусть он меня три дня бьет палкой, и пусть я до конца своей жизни не увижу ни одного жеребенка.
И вот я вернулся и увидел, что мой старик сидит на земле, а ослик (Позор! Позор! Он все видел!) спокойно похаживает возле него и осторожно, чтобы не уколоться о колючие коробочки, из которых каштаны еще не выскочили, вытаскивает их оттуда и ест.
– А-а-а, вернулся, волчья доля, – сказал мой старик, заметив меня.
Понурив голову, я подошел к нему и стал рядом с ним. Он с большим трудом встал, и я понял, что он повредил ногу. Проклиная меня на все лады, он кое-как взобрался на меня, согнал ослика на тропу, и мы двинулись домой. Я чувствовал перед своим стариком ужасную вину и готов был нести любую кару. Меня как-то тревожило, что мой старик меня ни разу не ударил.
И вот мы дома. Старик мой остановил меня у самой кухни. Кряхтя, он слез с меня и крикнул домашним:
– Расседлайте эту волчью долю!
Сильно хромая, он вошел в кухню. С ослика сняли мешки, расседлали его, а потом расседлали и меня. Нас пустили пастись во двор, но мне трава в горло не лезла, и я так уж, по привычке, через силу ел ее.
На другое утро ослика выпустили со двора, и он вместе с другим скотом ушел пастись в котловину Сабида, а меня оставили во дворе. Я чувствовал, что это знак какого-то предстоящего наказания, но какое наказание предстоит, я не знал. И от этого было очень тоскливо. Если бы мой старик меня побил или, лишив еды, запер в сарай, было бы не так тоскливо.
Так три дня в полном неведение я проторчал во дворе. Мой старик ко мне не подходил. Только внуки его, мальчик и девочка, дети его сына Кязыма, пытались иногда меня утешать. Но у меня было такое плохое настроение, что я ничем не мог ответить на их доброту и ласку.
На четвертый день на некрасивой кобыле в наш двор въехал знакомый моего старика. Он жил совсем в другой деревне. Меня охватило самое зловещее предчувствие. Я живо вспомнил, как этот человек встречался в прошлом году с моим стариком и упрашивал его продать меня. Тогда мой старик, конечно, наотрез отказался продавать меня.
И вот почему-то именно этот человек сейчас приехал к нам. Он спешился, привязал лошадь, и они вместе с моим стариком вошли в кухню. Все-таки у меня еще была маленькая надежда, что этот человек приехал сюда случайно. Я не слышал, чтобы мой старик за ним кого-нибудь посылал. Они долго оставались в кухне, и я сильно волновался от неизвестности.
Но вот они вышли из кухни и стали подходить ко мне, и сердце у меня замерло. Они подошли ко мне и остановились возле меня. Мой старик сказал, что я во всех отношениях великолепный мул. Что ход у меня ровный и быстрый, а выносливость выше всяких похвал. И он сказал, что продает меня только потому, что сильно осерчал на меня за то, что я сбросил его по дороге с мельницы.
Как ни горько мне было слышать это, все-таки я не мог не подивиться его гордости. Ведь мог скрыть, что я его сбросил, но не захотел. Гордый. Через эту проклятую гордость, я думаю, он и продать меня решил. Как это так, он упал с мула, да еще на глазах у ослика. Может, не окажись этого дрянного ослика, он бы меня не так страшно наказал.
Не знаю, за сколько они сговорились, но мой старик продал меня. Шею мне обвязали веревкой, человек этот взял за конец ее и сел на свою кобылу.
Все домашние вышли провожать меня, и старуха, жена моего старика, столько раз кормившая меня кукурузой, причитала по мне, как по мертвому:
– Бедный Арапка, бедный Арапка!
И жена Кязыма, сына моего старика, говорила:
– Бедный Арапка, неужели мы тебя больше не увидим?!
А дети ее, милые дети, обнимали меня, целовали и плакали. И только мой старик не посмотрел на меня, и я старался не смотреть в его сторону, потому что сердце мое разрывалось от горя и обиды.
Моему новому хозяину открыли ворота, и он выехал на своей кобыле, ведя меня за собой на веревке. Мы долго шли к нему домой. Я знал, что счастья в моей жизни больше не будет никогда. Но живое существо, пока оно живет, будь то человек или животное, ищет себе какое-нибудь утешение. И я, шагая за этой тряской, низкозадой кобылой, думал, что, может быть, у нее есть дома жеребенок. И этот жеребенок, думал я, будет последним утешением в моей горестной судьбе.
Часов через десять мы въехали во двор моего нового хозяина. Он отвязал от моей шеи веревку и пустил пастись. Я быстро оглядел двор. Тут было полно кур, паслась пара телят, но никакого жеребенка не оказалось. Я тайно следил за кобылой, не ищет ли она кого глазами, но кобыла никого не искала, и было неясно, есть у нее жеребенок или нет. Но я все еще не терял надежды. Я думал, что жеребенок может пастись на выгоне с домашним скотом.
Кобылу расседлали и выпустили на волю. Меня оставили во дворе. До вечера я пасся во дворе, ожидая, что, когда вечером скотина вернется домой, жеребенок придет вместе со своей матерью.
Но вот пришел вечер, коровы подошли к воротам скотного двора и, мыча, стали просить выпустить к ним телят. Телята тоже своим матерям отвечали мычанием. Рядом с коровами у ворот стояла кобыла без всякого жеребенка, и душу мою окончательно заела тоска. Господи, и откуда только взялась такая надежда! Как я мог подумать, что найдется жеребец, который покроет эту вислозадую уродку!
На следующее утро хозяйка вынесла мне несколько початков кукурузы и бросила их передо мной на грязную землю. А ведь жена моего старика всегда в тазике выносила мне кукурузу. Я, конечно, съел початки, хотя прекрасно понимал, что угощают меня не от большой доброты. Меня собирались отправить пастись с местным стадом, чтобы я, помня об этой кукурузе, вечером снова подошел к дому своего нового хозяина.
Ну что ж, бежать я никуда не собирался. А куда побежишь, если твой хозяин сам от тебя отказался. Не бежать же в лес к медведям. Меня выпустили вместе с хозяйским скотом и этой кобылой, утроба которой ничего, кроме навоза, не способна была выродить. Мы вышли на выгон, и я огляделся. Здесь было около дюжины соседских коров, примерно столько же ослов и лошадей и ни одного жеребенка.
И тут черная туча отчаянья окончательно заволокла мою душу. Внешне я жил, но внутренне чувствовал себя мертвецом. Через несколько дней хозяин оседлал меня, и мы пошли в соседнюю деревню. Все в нем мне было неприятно – и его запах, и его тяжесть, и его привычка грубо одергивать поводья. Я старался идти как можно хуже. Конечно, как я ни старался плохо идти, хуже его кобылы я просто при всем желании не мог шагать.
Но он все-таки был очень удивлен. Несколько раз он сходил с меня рассматривал мои копыта и бабки и никак не мог понять, что со мной случилось. Он был очень недоволен и все время бормотал проклятья моему старику за то, что тот якобы обманул его.
Пять-шесть раз он выезжал на мне в соседские деревни, и я старался так его трясти, что, думаю, у него селезенка с печенкой поменялись местами. Кончилось это тем, что он перестал на мне ездить и снова перешел на свою вислозадую кобылу.
Меня теперь использовали только для переноски мешков на мельницу или в город на базар. Мой старик использовал меня только для того, чтобы ездить на мне верхом. Теперь на мне перевозили груз, но это меня нисколько не унижало. Я же сказал, что я жил только внешне, внутренне я умер. А мертвому мулу нечего стыдиться. Раз я потерял своего старика, мне все было безразлично.
Меня могут спросить: «Ну хоть что-нибудь тебе понравилось в новом месте?»
Отвечаю: «Ничего!»
Ни дом, ни двор, ни хозяин, ни жена его, ни дети, ни скот, ни выгон. Само это низинное село мне было глубоко противно с его обилием мух, с его болотцами, наполненными черепахами, с его вечным ночным воем шакалов.
Однажды на рассвете я из скотного двора перемахнул через плетень и вдосталь потравил кукурузу на приусадебном участке моего хозяина. Сколько мог кукурузных стеблей съел, а что не мог съесть – топтал ногами. Мне было все равно, что бы со мной ни сделали. Я даже хотел, чтобы меня убили.
Утром, конечно, меня обнаружили в кукурузе. Подняли крик, хозяин меня загнал в сарай, надел на шею крепкую веревку и привязал ее к стене. Потом он вышел из сарая, принес колотушку, которой молотят кукурузу, и, ухватившись за нее обеими руками, стал меня бить.
Он бил меня изо всех сил, он бил меня, кряхтя, он бил меня, время от времени поплевывая на ладони. Он бил меня, может быть, больше часу, потому что весь вымок, и перестал бить только после того, как колотушка сломалась о мою спину. Ненависть, ярость и отчаяние мои были так велики, что я ни разу не охнул, пока он меня бил. Я не доставил ему этого удовольствия, и именно это его больше всего разозлило. И конечно, ему еще было жалко сломанную колотушку.
– Будешь глодать доски, богом проклятая тварь, – сказал он, уходя из сарая.
Я понял, что мне не будут давать есть. Пускай я умру, думал я, но никогда не унижусь до того, чтобы жалобными криками напомнить о себе или начать глодать доски сарая. Три дня без капельки воды, без клочка травы простоял я в сарае, а хозяин каждый день приходил смотреть на меня. Видно, он ждал от меня жалобных стонов и виноватых взглядов, молящих о милосердии.
Так ничего и не дождавшись, на четвертый день он вывел меня из сарая, снял с шеи веревку и отпустил на волю. Через неделю я пришел в себя. Люди давно заметили, как вынослив мул, но не все знают, что у мула есть своя гордость и свое достоинство.
Жить я продолжал с местной скотиной, а хозяин мой и его домашние больше меня не трогали. Утром я уходил вместе с хозяйской скотиной на выгон, а вечером вместе со всеми приходил к их постылому дому. Но, между прочим, на скотный двор меня больше не выпускали. Остальные животные там зимой получали свою вязанку кукурузной соломы. Я ничего не получал, ел только то, что сам добывал в поле. Как я сказал, по ночам я стоял у ворот рядом с вонючим свинарником. Но меня уже ничто не могло унизить, я был мертв изнутри.
И все-таки, как я уже, кажется, говорил, пока живое существо дышит, к нему рано или поздно приходит надежда. Так и ко мне весной пришла надежда. И пришла она очень просто. Я увидел, как на выгоне эту никчемную вислозадую хозяйскую кобылу покрыл великолепный местный жеребец. Я-то думал, что эта кобыла не только такого могучего жеребца, но и обыкновенного осла не сможет привлечь. Однако привлекла, и я все это видел своими глазами. Пожалуй, дело это настолько неясное, что ничего заранее нельзя сказать.
И я тогда подумал, что если кобыла хозяина забеременела, так она обязательно родит жеребенка. А я буду рядом с ним, я буду наслаждаться его близостью, буду любить его и охранять от всевозможных врагов.
И я начал ждать, и я почувствовал, что душа моя, кровоточащая тоской и отчаяньем, стала тихо-тихо заживать.
Да, я любил и люблю моего старика, думал я. Но что делать! Это счастье кончилось, и надо скорее о нем забыть. Вот родится жеребенок, которого я буду любить больше жизни, и ради этого жеребенка я должен примириться с домом моего нового хозяина и со всеми его обитателями.
И тогда я подумал трезво, что они мне такого плохого сделали? За что я их всех возненавидел? Ничего особенного. Да, хозяин меня здорово избил и три дня держал без еды. Но ведь мало того, что я потравил и потоптал ему кукурузу, я ведь и до этого ему порядочно крови испортил. Ведь я нарочно коверкал свою походку, чтобы ему неповадно было на мне ездить. Так ведь он, бедняга, не виноват, что у него запах не такой уютный, как у моего старика, голос не такой приятный, повадки не такие мудрые?
А уж хозяйку-то его за что я возненавидел? Подумаешь, бросила кукурузу мне на землю. Ведь она меня не думала этим оскорбить. И я сказал себе: «Арапка, будь терпимей. Не везде живут так умно и сложно, как в доме твоего старика. Может, они сами тарелок не знают, а ты обижаешься, что тебе кукурузу подали не в тазу».
И душа моя стала теплеть к моему новому хозяину, к его домашним, не говоря о кобыле, которая явно понесла же ребенка. Я это чувствовал по ее притихшему поведению. Она даже трясти задом стала гораздо меньше. Теперь я старался на выгоне есть траву рядом с ней, чтобы кто-нибудь ее невзначай не напугал и не повредил жеребенка в ее животе.
Я уже сам хотел, чтобы мой новый хозяин снова меня оседлал, и я бы ему наконец показал свою настоящую походку. Кроме того, я хотел, чтобы беременная кобыла таскала его по соседним селам. Мало ли что – испугается чего-нибудь, поскользнется, а жеребенок в животе может пострадать. Но он меня не взнуздывал. Я терпеливо ждал, теплея душой к нему и ко всем его домашним, а жеребенок, надо думать, рос себе в животе у кобылы.
И вот что удивительно; как меняется отношение к тому, что человек делал, когда меняется отношение к самому человеку. Теперь, когда я вспоминал то, что было в сарае, я не ощущал ни того ожесточения, ни той обиды. Я даже ощущения боли не мог припомнить. Мне все время припоминалась одна и та же картина, которая казалась мне довольно смешной. Мне вспоминалось выражение лица хозяина, когда у него сломалась колотушка, и он от неожиданности растерялся и, взяв в руки оба обломка, все пытался их сложить, словно они могли прирасти друг к другу. И на лице у него проступала какая-то детская обида, он вроде бы говорил: «Я хотел мула наказать, а наказал себя».
И вот однажды хозяин мой пришел на выгон и, поймав меня, надел на меня уздечку. Он повел меня к дому. Я шел гарцующей походкой, радуясь, что наконец-то я ему понадобился. Нет, думал я, больше я никогда не буду таить от него свой знаменитый, свой бодрый и плавный шаг.
Он привел меня во двор, привязал к забору, и тут к нему подошел совсем незнакомый мне человек. Хозяин стал этому человеку нахваливать мой добрый характер, мою прекрасную походку и неслыханную выносливость. Хотя все это было правдой, мне все-таки стыдно было его слушать. Ведь сам он, мой хозяин, не имел случая насладиться моим мирным характером и великолепной походкой. Единственное, в чем он мог убедиться, так это в моей выносливости.
И вдруг они заговорили о деньгах, и я понял, что он меня собирается продавать, а вся его похвала – это бесстыдное вранье, которому он сам не верит.
Он сказал этому человеку, что раньше всегда ездил на мулах, но потом, когда у него умер мул, он вынужден был перейти на лошадь, хотя продолжал мечтать о муле. И вот он приобрел прекрасного мула у такого солидного человека, как Хабуг из Чегема. Но, оказалось, что он уже отвык сидеть на муле и теперь решил до конца жизни не сходить с лошади.
Невыносимая боль снова обожгла мою душу. А как же мой жеребенок, который еще не родился и которого я уже успел полюбить? Значит, я его так и не увижу никогда в жизни? Боже, боже, и этому человеку я готов был все простить!
Душа моя снова омертвела. Мой новый хозяин надел на меня свою уздечку и, сев на мою неоседланную спину, повел меня в свое село. Мы шли целый день и только к вечеру пришли к нему домой. Я был настолько оглушен горем, что шел, не замечая дороги и не пытаясь ухудшить свою походку.
Мы вошли к нему во двор. Чтобы снова не растравлять себе душу, я даже не думал о возможной встрече с жеребенком на этом новом месте. Но я не мог закрыть глаза и не видеть, что во дворе, куда привел меня новый хозяин, жеребенком и не пахло. Утром вместе с домашней скотиной меня пустили на выгон, и я совсем не думал о возможной встрече с каким-нибудь жеребенком. Я решил больше никого в жизни не любить. Впрочем, никакого жеребенка все равно на выгоне не оказалось.
Не скажу, что новый хозяин со мной обращался хорошо, не скажу, что он со мной обращался плохо. Просто в этой деревне царили грубые нравы, как среди людей, так и среди животных. Вот пример.
Однажды мой хозяин привел меня на мельницу, нагрузив меня тремя огромными мешками. Для тутошних мест это обычное дело, здесь никто не сообразует вес поклажи с возможностями животного. Мой хозяин заставлял меня таскать из лесу такие неимоверные вязанки драни, которую он там расщеплял, что только благодаря моей выносливости я тогда выжил. Но животные в этой деревне такие же грубые, и об этом речь.
Так вот, мы пришли на мельницу, хозяин разгрузил меня и привязал к тыльной стороне мельницы. Тут уже привязана была одна ослица и одна лошадь. Потом пришел еще один крестьянин и привез на осле огромные мешки кукурузы. Он разгрузил осла, привязал его рядом с ослицей и отнес мешки на мельницу.
Я думал, что после этих мешков не скоро отдышится этот осел. Но не тут-то было! Как только его хозяин отошел, он стал выказывать явные признаки желания овладеть рядом стоящей ослицей. Его неимоверный детородный орган вышел из него, как зверь из норы.
Я понял, что сейчас произойдет что-то ужасное. Стараясь дотянуться до ослицы, этот чудовищный похотливец порвал уздечку и взгромоздился на ослицу. Ослица заорала от ужаса и боли.
Тут из мельницы стали выходить люди и смеяться, глядя на забавы этого осла, чем доказывали собственную склонность к этим забавам. Вышел и хозяин этого осла и сперва вместе со всеми хохотал, возможно гордясь мощью своего животного. Видно, он сначала не догадался, что его осел порвал уздечку. Наверно, он подумал, что его осел ее просто сдернул. Потому что, заметив порванную уздечку, он пришел в неописуемую ярость, схватил валявшееся тут же полено и, придерживая своего осла за порванную уздечку, стал изо всех сил колошматить его по спине. Наконец хозяин перестал бить осла, кое-как починил уздечку и привязал свое животное подальше от ослицы. Я понял, что хозяин этого осла не первый раз таким образом избавляет его от похоти. Какие грубые страсти и какие грубые способы избавления от них!
Ни животные, ни люди у нас в Чегеме так не поступают. Сколько раз я стоял на нашей мельнице, привязанный вместе с лошадьми и ослами, но никогда ничего подобного не видел. В поле, в лесу – пожалуйста, сколько твоей душе угодно. Чегемские животные стараются это делать красиво, не на глазах у людей. Уж, во всяком случае, не на мельнице и не у коновязи сельсовета, где полно людей. И вот с такими грубыми людьми и грубыми животными мне пришлось прожить почти год.
Однажды мой хозяин оседлал меня и поехал в гости в одну далекую деревню. Через полчаса я почувствовал, что спина у меня невыносимо горит. Этот болван даже не удосужился оседлать меня как следует. Потник со страшной силой ерзал по моей спине, доставляя мне неимоверную боль. Беда наша в том, что мы, мулы, человеческий язык хорошо понимаем, но сказать ничего не можем.
От боли я пришел в неистовство. Несколько раз я пытался зубами схватить его за ногу и один раз мне это удалось. Но он даже не слишком быстро отдернул ногу. Местные животные и люди к боли не очень чувствительны, что лишний раз говорит о грубости их натуры.
В ответ на мой укус он изо всех сил ударил меня кнутовищем по голове, при этом, конечно, так и не понял, почему я себя плохо веду. Несколько раз я взбрыкивал, не в силах вынести боль, лягал воздух задними ногами, потом понес, но этот олух так ничего и не понял.
Любой хозяин в Чегеме в таких обстоятельствах почувствовал бы что-то неладное, слез бы с лошади или с мула, осмотрел бы его, переседлал бы. А этот так и ехал.
То, что я ему выдал самую безобразную походку, и говорить нечего. Думаю, я перемолотил ему внутренности, если они у него не из камней сделаны. Да что толку-то! Я попал в край грубых, недоразвитых людей, у которых чувствительности не больше, чем у бревна.
Одним словом, когда мы возвратились из этого села, и он меня расседлал, оказалось, что спина у меня протерта до крови.
– Ты смотри, – сказал мой хозяин, – оказывается, у него спина стерлась.
А ты, дубина, не подумал, почему я всю дорогу выходил из себя. Он палец о палец не ударил, чтобы как-нибудь полечить мою рану. Всю ночь спина у меня горела, и я не находил себе места. Утром рану мою облепили гроздья мух, и к невыносимому жжению прибавилась невыносимая чесотка.
И я принял отчаянное решение. Я решил смирить свою гордость, бежать от этого урода и вернуться к своему старику, а там будь что будет. В моем безумном решении была и доля разумной догадки. Ум-то свой я все-таки не потерял, несмотря на долгое общение с недоразвитыми людьми и животными.
Мой старик всегда хорошо понимал животных и не выносил неумелого обращения с ними. Вот на это я и надеялся. Я не мог рассказать ему, как меня били, как я три дня без еды и без питья стоял в сарае, что за целую зиму мне не подбросили и вязанки кукурузной соломы, но он мог увидеть своими глазами мою стертую до крови спину и все понять.
Как только меня выпустили на выгон, я ушел. Точной дороги в Чегем я не знал, но я хорошо помнил, что от Чегема до первого села мы шли в сторону восхода и от этого села до того мы опять шли в сторону восхода. Нетрудно было сообразить, что на обратном пути надо держаться в сторону заката.
И я двинулся в путь. Где по дороге, где сквозь леса и горы, где сквозь заросли съедобных и несъедобных растений – на третий день я пришел в Чегем, весь в репьях, опавший, одичалый, с роем мух на кровоточащей спине.
Я толкнул головой калитку Большого Дома и вошел во двор. Дверь в кухню была прикрыта, и я очень удивился этому. Неужто нравы старика изменились за время моих скитаний? Ведь он терпеть не может, чтобы дверь в кухню была прикрыта. Но потом я сообразил, что идет дождь и дует сильный порывистый ветер в сторону Большого Дома. Они прикрыли дверь от ветра.
Собака, увидев меня, залаяла, но потом узнала и завиляла хвостом. Нет, все-таки собаки не совсем лишены разума, подумал я мимоходом. Все, что я пережил, стояло поперек моего горла, и я в отчаянье пересек двор, вошел на веранду и, головой распахнув дверь в кухню, остановился в дверях.
В ноздри мне ударил самый сладкий в мире запах, запах родной кухни, откуда мне столько раз выносили кукурузу и другие вкусные вещи. В кухне вовсю пылал очаг, и на большой скамье возле него, глядя на огонь, сидел мой старик, и я увидел его родное, горбоносое лицо. Рядом с ним сидел его сын, добрая душа, охотник Иса. А у самого огня, склонившись к котлу с мамалыгой и помешивая ее лопаточкой, стояла жена Кязыма. А в стороне от дверей на кушетке сидела с веретеном старуха, и тут же возились дети Кязыма, мальчик и девочка, которых я не раз катал на себе.
– Арапка пришел! Арапка! – первыми увидев меня, закричали дети и, спрыгнув с кушетки, подбежали ко мне.
– Что я вижу! – закричала жена Кязыма и, бросив свою лопаточку, тоже подбежала ко мне. – Лопни мои глаза, если это не Арапка!
Старуха, бросив свое веретено, тоже подошла ко мне. А Иса, милый Иса, простая душа, увидев меня, прослезился.
– Как он только дорогу нашел! – сказал Иса.
Дорога моя была куда длинней, чем ты думаешь, Иса. Я никогда твоих слез не забуду, Иса. Ты благодарный, ты помнишь, что, когда убил медведя в лесу, две лошади и два осла отказались везти его домой. Они хрипели и в ужасе пятились от этой страшной поклажи. И только я, собрав все свои силы и преодолев отвращение, согласился дотащить его тушу до дому.
Да, все они собрались вокруг меня, и лишь мой старик продолжал сидеть у огня и, только повернув голову, сурово смотрел в мою сторону. Нет, нет, я не верил в его равнодушие, я не верил, что все это время он не думал обо мне, не скучал по мне. Но таков мой старик. Ни один человек в мире не умеет так себя в руках держать, как он.
– Арапка вернулся! Арапка! – только и раздавалось вокруг меня. Да, говорил я про себя, вернулся к вам ваш Арапка, вернулся в родной дом после неисчислимых страданий, все так же любящий и преданный своему хозяину.
– Дедушка! Дедушка! – вдруг закричали дети, взглянув на мою спину. – У него рана на спине!
Тут старик мой встал, все расступились, и он подошел ко мне. Молча и внимательно он рассматривал рану. Да, да, говорил я про себя, смотри, что со мной сделали.
– Оказывается, этот гяур даже не умеет седлать мула, – с тихой ненавистью сказал мой старик и прибавил. – Иса, поедешь к нему и вернешь ему деньги. Я Арапку беру назад, раз ему невтерпеж там жить.
Тут старуха вынесла мне кукурузу и подала мне ее в тазу, как положено у порядочных людей, а не бросила в грязь. Господи, подумал я, все как прежде, как будто не было долгой разлуки и невыносимых страданий. И опять, как прежде, куры и петухи окружили меня в надежде поклевать отскакивающие зерна. Клюйте, милые, клюйте, думал я, Арапка добрый, он снова дома, он снова счастлив.
Мой старик достал из лампы горящую воду под названием керосин, облил ею чистую тряпку и протер рану на моей спине. Сначала сильно жгло, но потом стало гораздо легче, потому что мухи перестали донимать.
В тот же день Иса уехал к моему первому хозяину с деньгами. Я был сильно обеспокоен, что деньги моего старика пропадут. Ведь сказать, что этот хозяин меня уже продал в другое место, я не мог, потому что понимать-то я понимаю абхазскую речь, а сказать ничего не могу.
Но, слава богу, на следующий день Иса вошел во двор и сказал моему старику, что этот хозяин давно продал меня и даже слышать не хочет об этом непотребном муле. Видно, мошенник, не сообразил сразу, что может за меня дважды деньги получить, а когда сообразил, уже было поздно, проговорился. Я прислушивался к Исе не для того, чтобы услышать мнение этого живодера обо мне. Нет. Я прислушивался к Исе, чтобы узнать, не заметил ли он случайно кобылу с жеребенком. Видно, не заметил. Странно, как можно было не заметить жеребенка, если кобыла в самом деле ожеребилась.
Примерно через месяц рана на моей спине совсем зажила, и старик мой оседлал меня и поехал в село Атары. С тех пор мы с ним неразлучны, и время, когда он меня продал, я вспоминаю, как дурной сон.
Живем мы душа в душу. Ну, конечно, бывают и у нас небольшие стычки. То он мной не совсем доволен, то я настаиваю на своей правоте. То он на меня поварчивает, то я заупрямлюсь, защищая достоинство солидного, знающего себе цену мула. Вот так и живем с тех пор, и другой жизни я себе не желаю.
Но хватит вспоминать. Я возвращаюсь к нашей дороге. Мы со своим стариком продолжали бодро идти вперед, когда вдруг услышали страшный визг свиньи. Это был какой-то скрежещущий, раздирающий душу визг. Через некоторое время я увидел, что в пятидесяти шагах от нас выволокли из калитки свинью. Двое держали ее за ноги, третий держал за уши, а четвертый шел рядом. Свинью явно собирались зарезать, а она об этом знала и визжала с неимоверной силой.
Свинью положили на траву возле калитки. Те двое продолжали держать ее за ноги, один за передние, другой за задние, а третий, оттянув ей голову к спине, за уши. Четвертый, вынув большой нож, склонился над ней, но почему-то нож не вонзал в нее, а что-то обсуждал с остальными. Свинья, понимая, что надвигается смерть, продолжала визжать изо всех сил. Я почувствовал, что мой старик начал раздражаться. Он терпеть не может, когда кто-то какое-то дело делает нечисто.
А эти явно не могли справиться со свиньей, то ли были пьяные, то ли просто неумехи. Наконец, когда мы поравнялись с ними, тот, что держал нож, сунул его в свинью, и она замолкла. Те, что держали свинью, отпустили ее и немного отошли, довольные сделанным делом.
И вдруг мы со своим стариком увидели страшное зрелище. Свинья, которая казалась убитой, встала на ноги с торчащим по рукоять из груди ножом и, шатаясь, пошла. Видно, тот, кто убивал, не попал ей в сердце.
– Растак вашу мать, дармоеды! – крикнул мой старик, спрыгивая на землю. – Разве можно мучить животное, даже если это свинья!
С этими словами он с необыкновенным проворством погнался за свиньей, догнал ее, схватил за одно ухо, вывернул ей голову, выхватил нож, всаженный ей в грудь, и с силой вонзил его снова. И конечно, попал ей в самое сердце. Свинья замертво свалилась на траву.
Молодец мой старик. И что особенно интересно, это то, что он, конечно, немало нарезал всякой живности, но свинью он резал в первый раз. Вообще он только в последние годы стал разводить свиней и продавать, но сам он их никогда не резал и свинину не ел.
Воинственно поглядывая на этих примолкших людей и что-то бормоча насчет кривоглазых и криворуких, мой старик взгромоздился на меня, и мы пошли дальше. А эти все продолжали стоять, смущенно переминаясь, то глядя на мертвую свинью, то на моего старика, словно все еще пораженные неожиданным воскрешением свиньи и ее невесть откуда взявшимся забойщиком.
Снова перед нами появился Кодор. Но здесь через него пролегал огромный железный мост. Проходить по нему было неприятно, и я был рад, когда мост кончился.
Над нами с грохотом пролетел аэроплан, и мой старик, остановив меня, из-под руки долго глядел ему вслед.
– Железо-то вы летать научили, – пробормотал он, пустив меня вперед, – посмотрим, как вы мясо научите летать, чтобы вам оставалось только хватать его и швырять в котел.
Что удивительно в моем старике – это то, что его ничем не возьмешь: ни аэропланами, ни машинами, ни конторами, ни большими городскими домами. Он всегда уверен, что внутри у него есть что-то такое, что в тысячу раз важнее всех этих аэропланов, машин и контор. Такая внутри у него есть сила, но объяснить эту силу я не могу. Я ее только чувствую. И не только я. Все ее чувствуют. Ее чувствует даже наше чегемское начальство, и они стараются особенно с моим стариком не связываться. Они даже сквозь пальцы смотрят на то, что он все еще держит пастуха Харлампо.
Все чаще стали попадаться эндурцы. В сущности, кругом были одни эндурцы. Мы въехали в село абхазских эндурцев. Старик мой спокойно озирался и никак не показывал, что такое большое скопление эндурцев в одном месте действует ему на нервы. Днем с огнем не сыщешь другого такого человека, который умел бы так держать себя в руках.
Самое смешное, что мой старик спокойно проехал эндурское село, а, когда мы въехали в село чистокровных абхазцев, нервы у него не выдержали из-за наших же абхазцев. Мы проезжали мимо большого кукурузного поля, которое мотыжили десяток колхозников. Старик мой остановился и, видно, захотел прополоскать горло родной речью. Он стал с крестьянами говорить о том, о сем. Конечно, спросил у них насчет эвкалиптов, и они ему ответили, что насчет эвкалиптов у них все тихо.
Разговаривая с моим стариком, они продолжали мотыжить кукурузу и время от времени, подымая голову, спрашивали сами у него насчет чегемских дел. Мой старик сначала охотно с ними говорил, а потом стал сердиться, и я это понял, потому что он стал дергать за поводья так, словно я пытался идти, а он хотел меня остановить. Но ясное дело, что я стоял на месте, а это он начинал беситься.
– Слушайте, – крикнул мой старик, – как это вы мотыжите?!
– Как мотыжим? – спросил у него один мужчина, выпрямляясь над мотыгой. – Как надо, так и мотыжим!
– Не по-людски вы мотыжите! – крикнул мой старик. – Вы мотыжите по-гяурски!
– Езжай-ка, старик, куда ехал, – сказал этот мужчина, снова берясь за свою мотыгу, – тоже мне учит… да еще верхом на муле…
Нехорошо это он сказал моему старику. Дело не в том, что он глупо упомянул меня. Но он гораздо младше моего старика по возрасту, а по абхазским обычаям так со старшими разговаривать не положено.
– Дуррак! – крикнул старик мой по-русски, и я понял, что он в сильном гневе. – При чем тут мой мул, если вы оскотинились!
С этими словами он соскочил с меня, как мальчишка, перелез через плетень, спрыгнул на поле и, наклоняясь к стеблям кукурузы, стал разгребать землю из-под них. Попутно он выдергивал стебли, слишком близко росшие друг от друга, которые надо было срезать мотыгой.
– Совсем оскотинились?! – повторял он, продолжая разгребать землю под стеблями кукурузы. И каждый раз видно было, как из-под них высовываются сорняки, слегка заваленные землей. Дело в том, что эти колхозники ленились выполоть сорняк из-под каждого стебля, а чаще всего просто заваливали корни кукурузы землей. Они это не нарочно делали, а просто ленились. Если было удобно выполоть сорняк одним ударом мотыги, они его выпалывали, а если было неудобно – заваливали землей. Снаружи получалось, что поле нормально промотыжено. Но ясно, что невыполотый сорняк через неделю прорастет.
– Где ваша совесть, – кричал мой старик, – вы что, не в Абхазии родились?!
Колхозники, слегка смущенные правотой моего старика, помалкивали. Старик мой стоял, побледнев, и я видел, что кадык его так и ходит ходуном, словно у него в горле доклокатывают невысказанные им слова.
– Так это ж колхозное, – наконец миролюбиво сказала одна крестьянка, – чего ты убиваешься, старый…
Я почувствовал, что старик мой так и опал.
– Ну и что ж, что кумхозное, – тихо сказал мой старик, – грех так работать… Кукурузу жалко…
Старик мой разжал руку, и несколько кукурузных стеблей, вырванных им, упали на землю. До этого я, честно говоря, надеялся, что он их перебросит мне на улицу. Но теперь у меня так горло перехватило, что я бы, наверное, не смог сделать и глотка. До того мне жалко его стало. Он и ругает колхоз, и в то же время видеть не может нечистую работу даже на колхозном поле. И терпеть все это невмоготу и податься ему некуда, вот какие дела.
Старик мой повернулся, и, сопровождаемый молчаливыми взглядами крестьян, перелез через плетень, и тяжело, ох, как тяжело, взгромоздился на меня, и мы пошли дальше.
Вот так мы шли и шли, а мимо нас пробегали машины то в одну, то в другую сторону, а иногда проходили арбы, запряженные буйволами, а иногда проскакивали нарядные коляски, запряженные двумя лошадьми. В этих краях такие коляски называют фаэтонами. И это уже признак, что близится город.
Постепенно старик мой пришел в себя. Я это почувствовал, потому что ноги его расслабились и перестали сжимать мой живот. Конечно, до конца улучшить настроение ему теперь ничего не сможет. Вскоре старик мой свернул с дороги и подъехал к крестьянскому дому, стоявшему неподалеку. Видно, он решил, что мне пора отдохнуть и чего-нибудь пожевать, да и ему перекусить не мешает.
– Эй, Батал! – крикнул он, подъехав к воротам.
В глубине двора стоял дом, а рядом с ним виднелась кухня. Дверь в кухне отворилась, и оттуда вышел человек. Когда я стал переходить двор, я разглядел его и обмер. Такое чудо я видел впервые в жизни. К нам приближался человек, черный, как обугленная головешка. Нет, слыхать-то я о таких слыхал. Слава богу, я – кое-что повидавший на свете мул. Но я думал, что такие живут только в заморских землях. И после этого мой старик называет меня Арапкой? Я – арап? Нет! Он – арап!
Не успели мои глаза привыкнуть к этому арапу, как из кухни высыпала почти дюжина арапчат и побежала в нашу сторону. У меня в глазах так и замелькали черные пятна. Тут из-под дома с лаем выбежала собака, и тоже черная, без единой светлой шерстинки. Господи, подумал я, что же это здесь творится! И вдруг, видно, взволнованный собачьим лаем, на плетень вскочил петух, весь черный, как ворон, и сердито заклокотал – я почувствовал – дурею. Что же это за чертов край, подумал я, что здесь и люди, и животные, и птицы – все в одну масть! Но тут, слава богу, рыжий телок вышел из-за дома, и куры показались, хоть и не белые, но все же с пестринкой. Чувствую, как-то легче стало.
Старый арап отогнал собаку и, улыбаясь белозубым ртом, подошел к воротам. Только я подумал: на какой же тарабарщине мой старик будет разговаривать с ним, как хозяин поздоровался на чистейшем абхазском языке. Откуда же взялся этот абхазский арап? Сначала, когда я увидел этих арапов, у меня сразу же мелькнула мысль: эндурцы нам их подбросили! Но теперь, когда он заговорил на чистейшем абхазском языке и детки затараторили по-абхазски, я решил: нет, эндурцы тут ни при чем. Не стали бы они так хорошо говорить по-абхазски, если б их чернаки нам подкинули. Значит, каким-то другим путем они к нам попали, придется, видно, крепко поработать головой, чтобы разгадать эту тайну.
Старый арап открыл нам ворота и впустил нас во двор.
– Ты все на том же муле, Хабуг, – сказал он с улыбкой, оглядывая меня.
– Нет, это уже другой мул, – сказал мой старик, слезая с меня.
Трудно даже сказать, до чего мне неприятно было слышать эти слова. Я уже восемь лет ношу своего старика, и мне кажется, что мы всегда были вдвоем. Но, когда я такое слышу, мне становится ужасно тоскливо.
Это так горько думать, что у твоего хозяина и до тебя был какой-то мул и, вероятно, после тебя будет. Такова жизнь, я знаю, но так не хочется думать об этом и знать это.
Мой старик спешился, вынул удила из моего рта, приторочил поводья к седлу и пустил меня пастись во дворе.
– Смешная лошадь! Смешная лошадь! – кричали арапчата, петляя вокруг меня и подо мной, так что я боялся невзначай отдавить кому-нибудь из них ногу. Видно, они в первый раз видели мула. Глупышки, думал я, кто из нас смешней, я или вы?
Я хоть и здорово проголодался, но сначала с опаской попробовал траву во дворе этого арапа. Но с первым же клочком убедился, что по вкусу, это настоящая абхазская трава и по цвету она вполне зеленая.
Тут из кухни вышли две женщины. Одна была старая и черная, а другая средних лет и белая, как обычная абхазки. Она стала отгонять от меня детей, чтобы они не мешали мне спокойно есть траву, и я понял, что она жена сына старого арапа. И я подумал: вот она белая абхазка, а дети все у нее черные, без единого белого пятнышка. Что же что делается, подумал я. Здесь арапская кровь оказалась сильней абхазской, и все дети получились один другого черней, там русская кровь оказалась сильней абхазской, и ребенок оказался чересчур белым. Если абхазская кровь будет так слабеть, эндурцы совсем на голову сядут.
А при чем тут эндурцы, вдруг подумал я. Я чувствую, что, кажется, заразился от своих абхазцев, и все наши беды готов свалить на других. Я же слышал, что сегодня чистокровнейший абхазец оскорбил моего старика, сказав, что нечего, мол, учить нас, сидя верхом на муле.
А я говорю: «Нечего свою дурость сваливать на эндурцев! Слушайтесь во всем таких мудрых людей, как мой старик, и вы никогда не погибнете».
Моего старика пригласили на кухню, но он, ссылаясь на жару, сказал, что посидит на веранде. Вместе со старым арапом они уселись за столом, а белая абхазка и старая арапка стали приносить из кухни и ставить им на стол угощения.
Я ел траву, изредка поглядывая на них и прислушиваясь к их речам. Видя черноту старого арапа и слыша его абхазскую речь, я все никак не мог их соединить и мне все казалось, что внутри этого арапа сидит белый абхазец и говорит за него. Однако постепенно я привык к этому чудному сочетанию абхазской речи и арапской черноты и стал более спокойно слушать, о чем они говорят.
Мой старик, конечно, стал расспрашивать абхазского арапа насчет колхозных дел. Первым долгом он у него спросил, не заставляют ли их сажать эвкалипты. Старый арап отвечал, что эвкалипты их заставляли сажать в прошлом году, а в этом году их заставляют сажать тунгу.
– Это что еще за тунга? – подивился мой старик.
– Это такое растение, – отвечал старый арап, – у которого страшно ядовитый сок. От него мгновенно умирает что человек, что скотина…
– Зачем же им этот ядовитый сок, – встревожился мой старик, – кого они собираются травить?
– Нет, – успокоил его старый арап, – травить они никого не собираются – ни людей, ни скотину. Этот сок им нужен для аэропланов. Аэропланы без этого сока взлететь не могут, могут только ехать по земле, как машины.
– Час от часу не легче, – сказал мой старик.
Тут они выпили вина, и старик мой, опрокинув выпитый стакан, намеком сказал, чтобы дела их врагов также опрокинулись, как этот стакан. Они продолжали есть и пить, и старик мой стал рассказывать о делах чегемского колхоза. Он рассказал и про низинку, и про табак и еще про колхозную ферму, заведывать которой приставили никудышного человека. Про ферму он говорил с большой горечью, и только я один знал о ее причине. Дело в том, что мой старик надеялся, что именно его, как лучшего чегемского скотовода, попросят заведовать фермой. Но его никто об этом не попросил, а сам он из гордости себя ни за что не предложит.
– Этот человек, – сказал мой старик, – даже при Николае не мог завести пару овец. Что же он сможет сейчас? Он же загубит всю скотину!
– Точно, загубит, – согласился старый арап.
– Если так пойдет дальше, – сказал мой старик, – в деревнях из четвероногих разве что собаки останутся.
– Собаки останутся, – согласился старый арап, – потому что власти к собакам интереса не имеют.
– Попомни мое слово, – сказал мой старик, – будет много железа и мало мяса.
– Это точно, – опять согласился старый арап, – к ним недавно трактор пригнали. Так он с головы до хвоста весь железный…
Они поговорили еще с полчаса, выпили по нескольку стаканов вина, и мой старик стал собираться в дорогу. Старый арап со своими арапчатами проводил нас до калитки. Мой старик попрощался с хозяином дома, сел на меня, и мы пошли дальше.
Я успел хорошо отдохнуть, подкрепиться, и мой шаг был легким и бодрым. Не прошли мы от дома этого арапа и одного километра, как вдруг на небольшой лужайке возле улицы я увидел рыжего жеребенка, стоявшего возле своей матери. Вот это да! Оказывается, встреча с арапом – это хорошая примета. Надо запомнить на будущее.
Меня так и обдало нежностью. Но я сказал себе:
– Держись, Арапка, не позорься перед своим стариком, следи за своим шагом, не выдавай дрожи в ногах.
Я шел, стараясь не смотреть в сторону жеребенка. Но не мог же я нарочно закрыть глаза, чтобы не видеть его. Это было бы просто глупо. Когда мы проходили мимо него, он стоял, забавно раздвинув свои шаткие ноги, и, весь изогнувшись, покусывал себя под лопаткой. Ох, изведут меня эти жеребята, чувствую, изведут.
Когда мы прошли мимо него, у меня появилось ужасное желание оглянуться. Но я сдержал себя и не повернул головы. Правда, в это мгновенье какая-то наглая муха села мне на веко, и я вынужден был изо всех сил мотнуть головой. И снова на короткое мгновенье я увидел его. Теперь он перестал чесаться и, сияя белым пятнышком на лбу, удивленно смотрел в мою сторону. Видно, что-то в моем облике заинтересовало его. Довольный этой встречей и собственной сдержанностью, я шагал и шагал по дороге.
Часа через два, пройдя еще один мост через неизвестную мне реку, мы вступили в город. Мимо нас беспрерывно пробегали большие и маленькие машины, и я стал невольно привыкать к их неприятному запаху. Теперь вся дорога была выстлана черной смолой. Ходить по ней было хуже, чем по земле, но приятней, чем по камням.
Множество людей проходило взад и вперед, и то и дело слышались слова на разных языках. Когда раздавались знакомые слова, я узнавал грузинскую речь, мингрельскую речь, армянскую речь, турецкую речь и греческую. А когда я не встречал ни одного знакомого слова, я понимал, что говорят по-русски. Я, как и мой старик, по-русски не понимаю ни одного слова, потому что по-русски говорят только в городах, а мы в них очень редко бываем.
Мы подошли к большому дому, где жил Сандро. На вид-то дом большой, да я знаю, что у Сандро здесь только одна комнатушка. Мой старик спешился, ввел меня во двор и привязал к штакетнику забора. Я стал ждать. Городские мальчишки, игравшие во дворе, окружили меня, восхищаясь мной и по неопытности принимая меня за лошадь. Вообще, меня часто принимают за лошадь, а за осла никогда не принимают.
Вскоре из дому вышел Сандро вместе с моим стариком и золотистой длинноногой девчушкой, дочкой Сандро. Мой старик вел ее за руку. Я знал, что он обожает эту свою внучку, да я и сам не мог отвести от нее глаз. Пожалуй, она единственное человеческое дитя из тех, что я видел, которое по красоте облика я бы сравнил с жеребенком.
– Дедушкина маленькая лошадь! – крикнула девчушка и подбежала ко мне.
Мой старик подсадил ее в седло и, взяв меня за уздечку, вывел на улицу. Я понял, что мы идем рассматривать дом, который собирается купить Сандро. Между прочим, я сразу почувствовал, что он чем-то смущен и что-то хотел бы скрыть от моего старика. Конечно, я был уверен, что он собирается просить у него деньги на покупку дома. Думаю – старик мой тоже был в этом уверен. Я знал, что он сперва немного поупрямится, а потом даст.
Но в том-то и дело, что смущение Сандро никак не было связано с этим. Да мало ли он в своей жизни у него денег вытянул! Нет, нет, я чувствовал, что здесь что-то другое. Пусть с меня шкуру сдерет медведь, подумал я, если тут что-то не скрывается.
Не знаю, почувствовал ли мой старик то, что почувствовал я. Так ведь его сразу не поймешь. Ни один человек в мире не умеет так держать себя в руках, как мой старик. Все же сдается мне, что мой старик на этот раз ничего не заподозрил. Иногда мой ум работает быстрее, чем ум моего старика.
Мы прошли несколько улиц и подошли к калитке какого-то дома. Сандро открыл калитку и пропустил нас во двор. Это был очень маленький дворик с очень сочной травой, с несколькими хорошо ухоженными фруктовыми деревьями и цветами перед крыльцом. Домик был небольшой, но тоже хорошо ухоженный.
Я почувствовал, что дом старику понравился. Особенно он ему понравился, потому что был с участочком земли. Так я думаю.
– Хороший дом, – сказал мой старик, кивнув головой, – вызывай хозяина, поговорим, поторгуемся…
– Хозяина нет, – сказал Сандро, – дом продает горсовет.
– А хозяин что, умер? – спросил мой старик и, вынув у меня изо рта удила, прикрепил поводья к седлу, чтобы я мог попастись на этой жирной, не видавшей скотины траве. Теперь я окончательно убедился, что старик мой ничего особенного в облике Сандро не заметил. Он только думал, что Сандро станет у него выклянчивать деньги, а больше ни о чем не думал.
– Не то, чтобы умер, – сказал Сандро и, замявшись, добавил: – Здесь жил один грек. Так его вместе с женой арестовали и в Сибирь отправили…
– Вот оно как, – сказал мой старик и замолчал. Сандро тоже молчал. Я же сразу почувствовал, что здесь что-то не то!
– А детей у него не было, что ли? – спросил мой старик, прерывая молчание. Он взглянул на меня рассеянным взглядом, и я почувствовал, жалеет, что вытащил у меня изо рта удила. И напрасно. Потому что я все равно не мог есть траву, зная, какой ураган надвигается.
Я посмотрел на Сандро и, хотя он был немного смущен, но не понимал, что нависло над ним.
– Были двое, – отвечал Сандро, – их забрали в Россию родственники.
– Вот как, – сказал мой старик, все еще сдерживаясь, – значит, родителей сослали в Сибирь, детей забрали в Россию, а дом тебе продают. За какие такие заслуги, интересно?
– Я же сейчас лучший танцор ансамбля, – сказал Сандро. – Сейчас же многих арестовывают, а дома их продают самым заслуженным людям города. Я тебя понимаю, отец. Но не мы же их арестовали. Не я – так другой купит…
– Сдается, что не понимаешь, – отвечал мой старик, все еще сдерживаясь, – и за сколько же тебе продают этот дом с землей?
Он снова оглядел участок. Мимоходом он взглянул и на меня и, мне кажется, остался доволен, что я неподвижно стою и не ем эту кладбищенскую траву. Мне бы в горло она сейчас не полезла. Я же знал, какой ураган вырвется сейчас из груди моего старика, но он его все еще удерживал.
– За две тысячи рублей! – воскликнул Сандро, стараясь обрадовать моего старика выгодностью покупки.
– Две тысячи рублей, – усмехнулся мой старик, – в наше время это стоимость двух хороших свиней. Вот уж небывалое дело, чтобы за две свиньи человек мог купить приличный дом.
– Так горсовет назначил, – разъяснил Сандро, – что ж мне увеличивать цену?
И тут старик мой сказал:
– Сын мой, – начал он тихим и страшным голосом, – раньше, если кровник убивал своего врага, он, не тронув и пуговицы на его одежде, доставлял труп к его дому, клал его на землю и кричал его домашним, что бы они взяли своего мертвеца в чистом виде, не оскверненном прикосновением животного. Вот как было. Эти же убивают безвинных людей, и, содрав с них одежду, по дешевке продают ее своим холуям. Можешь покупать этот дом, но – ни я в него ни ногой, ни ты никогда не переступишь порога моего дома!
С этими словами мой старик подошел ко мне, вдвинул мне в рот удила с такой силой, что чуть зубы мне не выбил (я при чем?!), сгреб девчушку с седла, чтобы сесть на меня и уехать из города.
Тут-то Сандро опомнился и подскочил к отцу.
– Отец! – закричал он. – Не горячись, прошу тебя! Я ведь для этого тебя и вызвал, чтобы посоветоваться. Я и сам чувствовал, что тут что-то нечисто. Что я, две тысячи рублей не мог достать? Мне бы друзья одолжили!
– А-а-а, – сказал мой старик, помедлив, и снова посадил девчушку на меня, – посоветоваться… Так вот мой совет: возвращайся в деревню. Мать твоя голову мне продырявила своими причитаниями. Время такое, и тебя забрать могут. Или плясуны у них неприкасаемые?
– Ну да, неприкасаемые – ответил Сандро, вздохнув. – Платона Панцулая уже взяли…
– Чего ж ты ждешь? – спросил мой старик.
– В том-то и дело, отец, – ответил Сандро, помрачнев, – и оставаться страшно, и уходить страшно. Уйду – скажут, испугался, потому что был любимчиком Лакобы. А с Лакобой знаешь, что они сделали…
– Прямо уходить не надо, – сказал мой старик, подумав, – я тебе все устрою. Я найму хорошего доктора, он временно испортит тебе колено, тебя выбракуют, и ты вернешься домой.
С этими словами мы покинули этот выморочный дом и пошли к Сандро. Старик мой явно успокоился. Он был доволен, что и сына не потерял, и совесть свою не осквернил. Ночью старик мой переночевал у Сандро, а утром мы двинулись обратно.
Мой старик как обещал, так и сделал. Он нанял хорошего, доверенного доктора из села Атары, тот так подпортил Сандро колено, что он еще месяца два хромал после того, как его выбраковали и отпустили в деревню.
В ту же осень мой старик нанял четырех греков, и они выстроили Сандро дом так, чтобы он стоял на виду, и мой старик со своего двора мог видеть, всегда ли открыта дверь в его кухне, и если не открыта, то криком напомнить ему или его жене, что такая забывчивость позорна.
Теперь после всего, что я рассказал, я хочу спросить: есть ли у вас на примете старик, подобный моему? Если есть – покажите. В том-то и дело, что показать вам нечего.
Сейчас я расскажу про знаменитые огурцы Сандро. На следующий год Сандро взялся возле своего дома выращивать для колхоза огурцы. И он получил неслыханный урожай огурцов. Сколько ни шарили в кустах колхозники, проходившие мимо его бахчи, огурцов осталась тьма-тьмущая. Слух об этих огурцах прошел по всему району, и из Кенгурска приезжала комиссия за комиссией, и все они пробовали огурцы и уносили с собой в мешках, а огурцов все равно было полным-полно.
И начальство, приезжавшее пробовать огурцы, говорило, что Сандро вывел новый сорт, который сначала надо распространить по району, а потом по всей стране. А самого Сандро, говорило начальство, будем выдвигать в депутаты.
– Болваны! – кричал мой старик. – Я раньше в этом месте загон держал, там навозу на полметра!
Но его все равно никто не слушал. В середине лета сорвали огуречную плеть, на которой насчитывалось до ста огурцов, и снарядили четырех чегемцев, чтобы они ее отвезли в Мухус на сельскохозяйственную выставку. Сандро хотел с ними поехать, но ему сказали, что теперь он почти депутат, а для перевозки плети с огурцами можно использовать людей и попроще.
Сначала эти четверо чегемцев осторожно, не осыпав огурцы, донесли плеть до Анастасовки. Но когда они сели в машину, пассажиры стали удивляться их необычайной ноше, и они, хвастаясь неслыханным урожаем огурцов, стали всех угощать. Правда, они хитроумно, по их разумению, от плети отрезали огурцы ножом, а не обрывали. Так что на месте отрезанного плода оставался пятачок, чтобы было видно, что огурец там в самом деле рос.
К тому же один из пассажиров машины оказался с большой бутылью чачи, и он стал всех угощать чачей, а наши давай им подсовывать огурцы, аккуратно отрезая их от плети так, чтобы оставались пятачки. Так что, когда они приехали в Мухус, на плети оставалось около двадцати целых огурцов и великое множество пятачков.
Посланцы Чегема пришли со своей плетью на выставку, но там у них ее не приняли. Смотритель выставки сказал, что на плети маловато огурцов.
– Так видно же, сколько было, – отвечали чегемцы, показывая на пятачки.
– Мало ли, что видно, – сказал смотритель, – люди будут думать, что я или мои помощники съели эти огурцы.
– Ну и пускай себе думают, – уговаривали его чегемцы, – главное – видно, сколько на ней огурцов было выращено.
– Нет, нет, – наотрез отказался смотритель, отпихивая от себя плеть, которую чегемцы пытались разложить на его столе, – это проходит как вредительство.
Удрученные упорством смотрителя, посланцы Чегема вышли из помещения выставки и стали раздумывать, как быть дальше и что делать с оставшимися огурцами. И тут один из них заподозрил, что смотритель выставки, скорее всего, эндурец армянского происхождения.
– А-а-а, – сказали остальные, – тогда все ясно. Разве эндурец когда-нибудь будет способствовать нашей славе?
И тогда они зашли в винную лавку и стали там пить вино, закусывая оставшимися огурцами.
Чегемцы, узнав о неудаче с выставкой, до того озлились на смотрителя, что окончательно распотрошили бахчу Сандро. А в райцентре, между прочим, ничего не слыхали обо всем этом. Осенью из района приехала новая комиссия, чтобы взять огурцы на семена для других колхозов. Но им не удалось нашарить в кустах ни одного плода. И комиссия очень обиделась на Сандро, хотя он ни в чем не был виноват.
– Такой депутат нам не нужен, – сказали члены комиссии, уезжая в Кенгурск с пустыми мешками.
На этом закончилась история со знаменитыми огурцами Сандро.
Мне часто снится один и тот же сон. Мне снится, как будто я на гребне холма, разделяющего котловину Сабида на две части, купаюсь с жеребенком в пыли. Там есть такое место, облысевшее под спинами лошадей, мулов, ослов. Трепыхаясь спинами в теплой пыли, мы их сладостно почесываем, почесываем, а ноги наши весело бьют по воздуху, и кажется, что мы бежим по небу, и мы смеемся, смеемся от счастья, а потом мы вскакиваем на ноги и отряхиваемся от пыли.
И тут я вижу, что мой старик спускается за мной в котловину Сабида, и в руке у него горсть соли, а лицо у него такое, какое редко теперь бывает. По лицу его видно, что крестьянское дело не погибло. И справа по склону холма пасутся его козы и овцы, и слева по склону холма пасутся его коровы и буйволы, и он знает, что крестьянское дело будет вечно и никогда не кончится, и я буду вечно, и он будет вечно, и трудно даже сказать, до чего в такие мгновенья мне неохота просыпаться.
Глава 10. Дядя Сандро и его любимец
С Тенгизом я познакомился в доме дяди Сандро во время скромного пиршества, устроенного по случаю благополучного выздоровления хозяина дома, который, по его словам, уже одной ногой был там, но вторая оказалась крепче, и он удержался на этом берегу.
Во время одного довольно незначительного застолья, что было особенно обидно, дядя Сандро почувствовал себя плохо. Он почувствовал, что сердце его норовит остановиться. Но он не растерялся. Он ударил себя кулаком по груди, и оно снова заработало, хотя не так охотно, как прежде.
И после этого оно всю ночь время от времени норовило останавливаться, как тяжело навьюченный ослик на горной тропе, но дядя Сандро каждый раз ударом кулака по груди заставлял его двигаться дальше.
Так или иначе, по словам очевидцев, в ту ночь у него хватило мужества и сил в качестве тамады досидеть за столом до утра.
Ранним утром он вышел из-за стола, распрощался с хозяевами и пошел домой. Говорят, он упал, открывая калитку собственного дома. Кто-то из соседей увидел распростертого дядю Сандро (поза неслыханная для великого тамады), поднялся переполох, собрались люди, и его внесли в дом.
Весть о случившемся через полчаса облетела жителей этого пригородного поселка и распространилась по городу. Сочувствующие толпились во дворе и в доме. Все предлагали свои услуги, а безутешный Тенгиз привез к нему тайного светилу закрытой поликлиники, именуемой в наших краях лечкомиссией.
Позже Тенгиз рассказывал, что ему пришлось минут пятнадцать шелестеть двумя новенькими двадцатипятирублевками, положив их между ладоней, прежде чем двери закрытой поликлиники осторожно отворились и оттуда высунулась голова знаменитого доктора, которого Тенгиз, надо полагать, продолжая шелестеть, и привез к дяде Сандро.
Через несколько часов после падения дядя Сандро пришел в себя и увидел склоненное над ним лицо тайного светилы.
– Не обижайся, не узнаю, – оказывается, сказал дядя Сандро, довольно долго вглядываясь в него уже видавшими тот свет глазами. Обрадовались близкие разумности его слов и правильности догадки.
– Где ж тебе его узнать, – отозвался Тенгиз, – под фатой держим, как невесту.
Эта шутка окончательно вернула дядю Сандро к жизни. Он сразу же счел своим долгом объяснить окружающим, что упал не оттого, что был пьян, а оттого, что споткнулся о корень, высовывавшийся из-под земли у входа в его калитку.
– Ну, если дело в нем, я его сейчас вырублю, – сказал Тенгиз и вышел из комнаты. Он вытащил из кухни топор, спустился к калитке и вскоре возвратился с корявым куском корня, похожим на отрубленную лапу дракона.
В последующие дни этот корень, слегка обструганный и вымытый, дядя Сандро, лежа в кровати, держал в руках и показывал навещающим его лицам как вещественное доказательство его падения под воздействием внешних сил, а не алкогольных паров.
Когда через два дня я его навестил, он лежал в кровати, держа в высунутых из-под одеяла руках этот узловатый, загнутый кусок корня, величиной с хороший бумеранг.
Дядя Сандро молча указал им на стул и, когда я сел у его изголовья, он и мне, несмотря на протесты тети Кати, повторил версию своего падения, добавив, что ночью был ливень и корень сильно подмыло. Дав мне его понюхать, он вдруг спросил с хитроватой улыбкой, не попахивает ли корень шелковицей.
– Вроде, – сказал я, – а что?
– А ты пораскинь умом, – сказал он, отбирая у меня корень и внюхиваясь в него.
– Опять за свои глупости, – отозвалась тетя Катя и, сунув в пузырек с валерьянкой сломанную спичку, стала капать ему в рюмку, губами считая капли.
– У меня на участке нет шелковицы, – сказал он, лукаво поглядывая на меня с подушки, – ближайшая – через дорогу у соседа… Соображаешь?
– Нет, – сказал я, – а что?
– Там абхазский эндурец живет, – проговорил дядя Сандро и кивнул с подушки в том смысле, что не все может сказать в присутствии жены.
Я рассмеялся.
– Совсем с ума сошел старый пьяница, – заметила тетя Катя ровным голосом, стараясь не сбиться со счету и не переплеснуть капавшее лекарство. Она подошла к нему и осторожно подала рюмку.
– Ишь ты, первача нацедила, – сказал дядя Сандро и, привстав с подушки, взял рюмку, сморщился, проглотил, еще раз сморщился, откинулся на подушку и выдохнул: – Если кто меня убьет, то это она… А ты напрасно смеялся, доживем до весны, увидим…
– Почему весной? – не понял я.
– Увидим, как дерево начнет усыхать, – приподняв корень одной рукой, он обхватил его в самом толстом месте другой, – дерево, потерявшее такой корень, не может не высохнуть хотя бы наполовину… Тут-то вы, ротозеи, и поймете, что эндурцы повсюду свои корни протянули…
Я подумал, что дядя Сандро, стыдясь этого неприятного случая, а главное, стараясь отвести многолетние попытки тети Кати разлучить его с любимой общественной должностью, придал этому корню смысл мистического страшилища (подобно тому, как нас когда-то пугали колорадским жуком).
– В следующее воскресенье приходи, – сказал он мне на прощанье, – люди хотят отметить мое выздоровление.
– Клянусь богом, я пальцем не пошевельну ради этой бесстыжей затеи, – сказала тетя Катя, скорбно замершая на стуле у его ног. Она это сказала, не меняя позы.
– А ты можешь и не шевелиться – люди все сделают, – сказал дядя Сандро и, сам шевельнувшись под одеялом, принял более удобное положение и понюхал корень, словно через этот запах прослеживал за степенью опасности эндурских козней.
В воскресенье на закате теплого осеннего дня я снова поднимался к дому дяди Сандро. След вырубленного корня в виде глубокой выемки все еще оставался у калитки. Куда ведет эта оставшаяся часть корня, трудно было понять, потому что корень пролегал вдоль забора и с обеих сторон уходил в глубь земли. Разумеется, если разрыть улицу, можно было бы проследить, куда он ведет, но пока никто не догадался это сделать.
Еще внизу на тропинке я услышал сдержанный гомон голосов – гости были в сборе. Я поднялся.
Перед домом возвышался шатер, покрытый плащ-палаткой, для проведения в нем праздничного пиршества.
У входа в дом стоял брат дяди Сандро, тот самый старик Махаз, который когда-то поручил передать брату жбан с медом. Рядом с ним, опершись на посох, стоял старый охотник Тендел, все еще глядевший пронзительными ястребиными глазами.
Махаз меня сразу узнал и, пожимая руку, поблагодарил, что я не отказался прийти и отметить это радостное событие.
– И ты в свое время потрудился на него, – сказал он, напоминая про жбан с медом, в целости доставленный адресату, – и ты сделал что мог, как и все мы, – продолжал он, присоединяя меня к людям, которые честно исполнили свой долг перед дядей Сандро, как если бы дядя Сандро превратился в символ воинского или еще какого-нибудь общепринятого долга.
– Не узнал, не взыщи! – крикнул мне Тендел, сверля меня своими ястребиными глазками.
Махаз объяснил ему мое чегемское происхождение и дал знать, что я здесь в городе при должности, из Присматривающих.
– Небось деньгами подтираешься? – крикнул тот, радостно сверля меня своими желтыми ястребиными глазами.
Я засмеялся.
– Подтираешься, – повторил он уверенно и неожиданно добавил: – А вот то, что вы Большеусого сверзили, это вы неплохо придумали.
Я пожал плечами, чувствуя, как трудно ему объяснить неимоверность расстояния между мной и теми, кто его в самом деле сверзил. Но, с другой стороны, главное он определил точно – Присматривающие свергли Большеусого, а на каком расстоянии тот или иной из Присматривающих, или, как они еще говорят, Допущенных к Столу, от тех, кто его в самом деле сбросил, это и вправду не имеет никакого значения. Важно то, что не он, охотник Тендел, не он, пастух Махаз, и не все они, чегемцы или подобные чегемцам, это сделали, а люди совсем другого сорта, то есть Присматривающие сверзили Присматривавшего над всеми Присматривавшими, и теперь вроде всем полегчало (оттого так весело об этом), но главную выгоду все равно заберут Присматривающие, иначе и не могло быть, для этого и было все затеяно. Вот как можно было понять его слова в сочетании с зычным голосом и сверлящими ястребиными глазами.
…Перед домом, чуть левее шатра, был разведен костер, на котором в огромном средневековом котле уже закипала мамалыжная заварка. Мужчины хлопотали вокруг огня. Рядом к инжировому дереву был привязан довольно упитанный телец. В нескольких шагах от него молодой парень, видимо один из соседей, точил на точильном камне большой охотничий нож. Время от времени парень пробовал его, подымая рукав рубахи и сбривая с руки волосы. Бычок угрюмо косился на него, словно догадываясь о назначении ножа. Бычка, конечно, пригнал брат дяди Сандро.
Я присоединился к тем мужчинам, которые спокойно и радостно дожидались ужина, живописно расположившись на бревнах.
Есть какой-то особый смак в принятых в наших краях ночных бдениях у постели больного или даже в ожидании поминального пиршества (не к ночи будь сказано!), когда поминки связаны со смертью достаточно пожившего человека. Нигде не услышишь столько веселых и пряных рассказов о всякой всячине, как на таких сборищах. По-видимому, близость смерти или смертельной опасности обостряет интерес к ярким впечатлениям жизни.
Вероятно, влюбленным вот так бывает особенно сладостно целоваться на кладбище среди могильных плит. Я-то никогда этого не испытал, если не приравнять к могильным газовые плиты коммунальных кухонь, где в студенческие времена перед экзаменами случалось поздней ночью сиживать с подружкой за учебниками в смутном страхе, усиливающем сладость объятий, перед командорскими шагами ее папаши в коридоре или, наоборот, перед тихими призрачными шагами любопытствующей соседки.
Меня всегда потрясала в таких случаях ураганная быстрота и точность преображения милого облика, не оставляющего никаких улик, кроме полыхающих губ и тупенького взгляда, устремленного в книгу!
Впрочем, я зарапортовался, потому что к этому дню ни о какой смертельной опасности не могло быть и речи. Дяде Сандро запретили вставать, но он настоял на том, чтобы находиться среди пирующих, и после небольшого совещания самых близких людей его решили вынести из дома и внести в шатер.
По этому случаю некоторые предложили кровать, ввиду ее громоздкости, заменить раскладушкой, а там уж, если иначе нельзя, перенести его на кровать.
Тетя Катя с ними согласилась, и сторонники раскладушки, может быть боясь, что она передумает, стали поспешно перетаскивать дядю Сандро с кровати на раскладушку.
Сторонники цельнокроватного переноса дяди Сандро несколько растерянно следили за действиями сторонников раскладушки, время от времени переводя потухший взгляд на значительно обесцененную отсутствием дяди Сандро кровать.
Тетя Катя еще во время совещания по поводу способа перенесения дяди Сандро успела надеть на него чистую верхнюю рубашку и подала ему брюки, которые он сам надел под одеялом. Но сейчас, когда его перенесли на раскладушку и накинули на него сверху верблюжье одеяло, и уже нетерпеливые сторонники раскладушки подхватили его и стали выносить, обнаружилось, что из-под одеяла высунулись большие голые ступни дяди Сандро.
– Что ж ты лежишь, как мертвец, – всплеснула руками тетя Катя. – Мог бы сказать, если я забыла…
Она велела поставить раскладушку, что, кстати, очень не понравилось тем, кто собирался ее нести, и засуетилась в поисках носков. Она нашла носки и стала надевать их на упрямо негнущиеся ноги дяди Сандро, что могло означать и недовольство ее забывчивостью и желание взбодрить сторонников цельного переноса, дать им возможность выиграть время.
Дело в том, что, когда обнаружились голые ступни дяди Сандро и раскладушку пришлось поставить на пол, сторонники кровати оживились и решили хотя бы из дому выйти впереди раскладушки, чтобы перед теми, кто сейчас столпились во дворе, не выглядеть слишком смехотворно, спустившись во двор с пустой кроватью, уже после того, как пронесут раскладушку с дядей Сандро.
И вот они ринулись с кроватью, пока тетя Катя надевала на негнущиеся ноги дяди Сандро наконец-то найденные носки. Чтобы дойти до веранды, надо было пройти сквозь три двери, что оказалось делом нелегким, учитывая громоздкость этого никелированного сооружения и сравнительную узость дверей, не говоря о довольно слабой конструктивной сообразительности несущих, усугубленной волнением, что идущие следом с раскладушкой попросят уступить им дорогу и выйдут вперед.
Все это не могло не отразиться на обращении с самой кроватью, особенно с ее решетчатыми никелированными спинками, которые вместе со скрипом колыхающейся сетки издавали жалобные звуки.
Бедная тетя Катя сразу же отозвалась на эти звуки и, оставив раскладушку с дядей Сандро, присоединилась к несущим кровать, вскрикивая и причитая при каждом болезненном соприкосновении ее с дверными косяками. В конце концов причитания ее вызвали в дяде Сандро, которого несли следом, ревнивую досаду и он пробормотал что-то вроде того, что он вот, мол, не железный, а тем не менее никто не заботится о том, чтобы его несли поосторожней.
– Помнил бы об этом, когда пьешь, – ответила тетя Катя не оглядываясь.
Было забавно видеть, как выносили его с крыльца, а он важно лежал под живописно свисающим одеялом, важно прислушивался к нежелательной тенденции соскальзывания своего тела и, не придавая ей никакой личной заинтересованности, давал мелкие наставления несущим его четырем парням.
– Ну, теперь напоследок не опозорьтесь, – сказал он, когда несущие его дошли до середины крыльца, а наклон раскладушки принял характер, угрожающий оползнем ее верхнему, наиболее плодотворному слою.
– Господи, хоть бы корень свой оставил, – сказала тетя Катя, теперь уже отставшая от несущих кровать и сейчас следившая снизу, как спускают дядю Сандро с крыльца, а он лежит и руками, высунутыми из-под одеяла, сжимает свой корень, как штурвал управления.
Дядю Сандро внесли в шатер и донесли до его середины, где уже стояла кровать, а у кровати тетя Катя, наклонившись, сбивала ему подушку. Пожурив ее за то, что она делает это тут, где люди будут есть, а не раньше, он дал перенести свое тело на кровать, а раскладушку велел сложить и приставить к спинке кровати, где она и стояла, как шлюпка, причаленная к большому кораблю на случай мелководных надобностей.
Мы расселись на длинных скамьях, а точнее, на обыкновенных досках, подпертых кирпичами. Более широкие доски, наскоро приколоченные к подпоркам, служили столами.
Женщины стали раздавать тарелки с горячей мамалыгой, раскладывать из больших мисок куски дымящегося мяса, разливать алычовую подливу.
Высокий тонкий парень, не обращая внимания на шум готового вот-вот начаться ужина, стоя на табуретке, заканчивал электрификацию шатра. Это и был Тенгиз.
Минут десять – пятнадцать, пока мы рассаживались, он протягивал шнур, прикреплял к нему патрон и наконец ввинтил в него последнюю лампочку.
Рядом с ним возле табуретки стояла черноволосая миловидная девушка с ярким румянцем на щеках, как потом выяснилось, вызванным ее смущением. Время от времени Тенгиз брал у нее из рук какой-нибудь инструмент, который она доставала из ящика, стоявшего у ее ног, или передавал ей сверху тот, что держал в своей руке.
Чувствовалось, что он все время подшучивает над ней, одновременно легко, с артистической небрежностью делая свое дело. Слов не было слышно, но атмосфера чувствовалась. Когда он ей сверху подавал щипцы, или кусачки, или молоток, он так вкрадчиво улыбался ей, так многозначительно задерживал руку, словно подсовывал не слишком благопристойную открытку или, подавая инструменты, намекал на вездесущий фрейдистский символ.
Кстати, глядя на него, я вспомнил глупую молву о том, что он якобы незаконный сын дяди Сандро. Как и всякий человек, не верящий сплетне, я мысленно все-таки сравнивал внешность этого парня с внешностью дяди Сандро.
Разумеется, ничего похожего, кроме высокого роста, между ними не было. Парень этот был чернявый, худой, даже несколько инфантильного сложения, тогда как во внешности дяди Сандро стройность сочеталась с мягкой мощью.
Наконец Тенгиз ввинтил в патрон вспыхнувшую лампочку и уже без всякого заигрывания сам отбросил отвертку в ящик, словно энергия заигрывания переключилась в электрическую и, став общим достоянием, потеряла интимный смысл. Он соскочил с табурета и сразу же посыпалось со всех сторон:
– Тенго, сюда!
– Тенгиз, к нам!
Тенгиз развел руками и посмотрел на дядю Сандро, возлежавшего на кровати и оттуда благостным взором оглядывающего столы. Слегка улыбаясь, он протянул руку с корнем и указал ему на место рядом с молодыми женщинами, откуда он мог хорошо его видеть и слышать.