Читать онлайн Колеса бесплатно
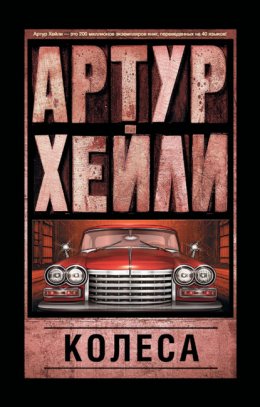
Arthur Hailey
WHEELS
Печатается с разрешения издательства Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday Publishing Group, a division of Random House LLC
© Arthur Hailey, 1971
© Перевод. Т. А. Кудрявцева, наследники, 2014
© Перевод. В. П. Котелкин, 1993
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
***
Артур Хейли (1920–2004) – один из самых популярных американских писателей XX века. В чем секрет успеха романов Артура Хейли? Почему совокупный тираж его книг превышает 200 млн экземпляров и они переведены на 40 иностранных языков? Времена меняются, а механизм работы отеля, аэропорта, несмотря на технический прогресс, остается тем же. Хейли описывает этот механизм в мельчайших подробностях, причем описывает просто, понятно и очень увлекательно. Он рассказывает буквально обо всем и обо всех – от мусорщиков до генеральных директоров. Добавьте к этому увлекательный, подчас детективный сюжет, драматические коллизии, любовные переживания героев – и вы поймете, почему у Хейли столько почитателей.
***
Отныне – с восхода солнца и до наступления темноты – ни единой повозке не разрешено будет въезжать в черту Города… Тем же, что въедут в Город ночью и еще будут находиться в нем на заре, надлежит разгрузиться и стоять порожняком до указанного выше часа…
Советы Юлия Цезаря Сенату, 44 г. до н. э.
В Городе совершенно невозможно спать… Грохот повозок на узких, извилистых улицах такой… что мертвый проснется…
Сатиры Ювенала, 117 г. н. э.
1
Настроение у президента «Дженерал моторс» было преотвратительное. Ночью он плохо спал: электрическое одеяло то включалось, то выключалось, и он без конца просыпался от холода. Сейчас, все еще в пижаме и халате, он разложил инструменты на своей половине двухспальной кровати, стараясь не потревожить спавшую рядом жену, и принялся разбирать регулятор. Он почти сразу обнаружил дефектный контакт, из-за чего ночью и получилась такая петрушка. Ворча по поводу того, как плохо контролируется качество изделий фирмы, производящей электрические одеяла, президент «Дженерал моторс» вынул регулятор и направился в подвал, где у него была мастерская, чтобы заняться починкой.
Его жена Корали повернулась во сне. Через несколько минут прозвонит будильник, и она, еще не вполне проснувшись, встанет, чтобы приготовить им обоим завтрак.
На улице – а жили они в Блумфилд-Хиллз, в двенадцати милях к северу от Детройта, – еще стоял в этот час серый полумрак.
У президента «Дженерал моторс», человека обычно уравновешенного, хотя и отличавшегося стремительной легкостью и порывистостью движений, была еще одна причина для раздражения – Эмерсон Вэйл. Несколько минут назад, тихонько включив приемник, стоявший у кровати, глава «Дженерал моторс» прослушал «Новости» и среди прочих голосов узнал знакомый, пронзительный, ненавистный голос Эмерсона Вэйла, этого критикана, возомнившего себя специалистом по автомобильным делам.
Вчера на пресс-конференции в Вашингтоне он снова дал очередь по трем своим излюбленным мишеням – компаниям «Дженерал моторс», «Форд» и «Крайслер». И телеграфные агентства, по-видимому, из-за отсутствия других, более важных новостей широко осветили нападки Вэйла.
Он обвинял Большую тройку автомобильных гигантов в «алчности, преступном сговоре и злоупотреблении доверием общественности». «Преступный сговор» заключался в том, что, по утверждению Вэйла, они ничего не предпринимают для замены бензиновых двигателей – иными словами, для создания электрических и паровых двигателей, а это, как считает Вэйл, является «уже вполне реальным делом».
Обвинение было не новым, однако Вэйл, человек опытный, умевший воздействовать на публику и на прессу, включил в свое выступление самые последние данные о достижениях науки и техники и таким образом придал ему злободневность.
Президент крупнейшей в мире корпорации, доктор инженерных наук любил делать дома мелкий ремонт, когда позволяло время, и легко починил регулятор электрического одеяла. Затем принял душ, побрился, оделся и вышел в столовую, где его жена Корали уже накрыла стол к завтраку.
На обеденном столе лежала «Детройт фри пресс». Увидев фамилию и огромный снимок Эмерсона Вэйла на первой странице, президент «Дженерал моторс» со злостью швырнул газету на пол.
– Надеюсь, теперь тебе станет легче, – заметила Корали, подавая мужу противохолестериновый завтрак: вареный белок на поджаренном хлебе, помидоры и творог. Жена президента всегда готовила завтрак сама и завтракала с мужем, как бы рано он ни уезжал. Сейчас, сев напротив, она подняла с пола газету и принялась читать.
– Эмерсон Вэйл пишет, – сказала она, – что, если нашей технике по плечу космические корабли для полета человека на Луну, а со временем и на Марс, автомобильная промышленность уж наверняка могла бы создать гарантированно прочную и безупречную машину, которая не отравляла бы воздух.
Муж ее положил на стол нож и вилку.
– Неужели ты не можешь не портить мне завтрак – я и так почти ничего не ем!
– У меня такое впечатление, что тебе его испортил кто-то еще до меня. Кстати, – продолжала она, – мистер Вэйл по поводу загрязнения воздуха цитирует Библию.
– О Господи! Да где же в Библии говорится об этом?!
– Об этом говорится в Ветхом завете, дорогой мой.
Это пробудило его любопытство.
– Ну-ка прочти, – буркнул он. – Ты ведь все равно собиралась.
– Это из пророка Иеремии, – сказала Корали. – «Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а не вошли и осквернили землю мою и достояние мое сделали мерзостью». – Она налила еще кофе себе и ему. – Неглупо он это придумал – процитировать Библию.
– А никто и не говорит, что этот мерзавец глуп.
– «Автомобильная и нефтяная промышленность, – продолжала читать Корали, – совместными усилиями тормозят технический прогресс, который уже давно мог бы привести к созданию полноценного автомобиля с электрическим или паровым двигателем. Их резоны весьма просты. Появление такой машины заморозит огромные капиталы, вложенные ими в автомобиль с отравляющим воздух двигателем внутреннего сгорания». – Она опустила газету. – Это хоть в какой-то степени правда?
– Вэйл явно считает, что это так на все сто.
– А ты этого не считаешь?
– Естественно.
– Значит, все-все неправда?
– Иной раз в самом возмутительном заявлении бывает доля истины, – раздраженно сказал он. – Потому-то утверждения таких, как Эмерсон Вэйл, и выглядят правдоподобно.
– Значит, ты будешь отрицать то, что он сказал?
– По всей вероятности, нет.
– Почему же?
– Потому что, если «Дженерал моторс» обрушится на Вэйла, нас могут обвинить в том, что этакая махина решила раздавить маленького человека. Если же мы промолчим, нас все равно будут поносить, но по крайней мере никто не исказит наших слов.
– А не стоит кому-то все-таки ответить на это?
– Если какой-нибудь шустрый репортер доберется до Генри Форда, то получит ответ. – Президент «Дженерал моторс» улыбнулся. – Беда лишь в том, что Генри любит сильно выражаться и газеты всего не напечатают.
– Будь я на твоем месте, – сказала Корали, – думаю, я что-то сказала бы. То есть если, конечно, я была бы убеждена в своей правоте.
– Спасибо за совет.
Президент «Дженерал моторс» быстро покончил с завтраком, стараясь больше не попадаться на приманку, брошенную женой. Но этот обмен репликами с Корали, явно стремившейся раззадорить мужа, благоприятно подействовал на него, помог выпустить пар.
Сквозь неприкрытую дверь он услышал на кухне шаги горничной: значит, его уже ждет на улице шофер с машиной, который заезжал за девушкой по дороге из гаража. Президент поднялся из-за стола и поцеловал жену.
А через несколько минут – на часах было начало седьмого – его «кадиллак» выехал на Телеграф-роуд и помчался в направлении шоссе Лоджа и нового центра Детройта. Стояло холодное октябрьское утро, в хрустком воздухе, в порывах северо-западного ветра чувствовалось приближение зимы.
Детройт – город моторов, автомобильная столица мира – просыпался к жизни.
Там же, в Блумфилд-Хиллз, в десяти минутах езды от дома президента «Дженерал моторс», первый вице-президент компании «Форд» готовился выехать в Детройтский аэропорт. Он уже позавтракал. Экономка принесла ему еду на подносе в его неярко освещенный кабинет, где он с пяти утра читал докладные записки (преимущественно на особой голубой бумаге, которой вице-президенты «Форда» неизменно пользовались, давая указания) и диктовал на пленку краткие распоряжения. Почти не поднимая глаз от стола – и когда появилась экономка, и во время еды, – он провернул за час кучу дел, на что у других ушел бы целый день, а то и больше.
Большинство принятых им решений касалось строительства новых заводов или расширения уже существующих и влекло за собой затраты в несколько миллиардов долларов. Дело в том, что в число его обязанностей входили одобрение или отклонение проектов и расстановка их по степени важности. Однажды его спросили: не трудно ли принимать решения, связанные с такими огромными средствами? Он ответил: «Нет, потому что я всегда мысленно зачеркиваю последние три нуля. Тогда это не труднее, чем принять решение о покупке дома».
Столь прагматический мгновенный ответ был типичен для этого человека, взлетевшего с быстротой ракеты по социальной лестнице – от безвестного торговца автомобилями до одного из десятка людей, решающих судьбы автомобильной промышленности. Попутно он, кстати сказать, стал мультимиллионером – тут, правда, невольно напрашивается вопрос: не должен ли человек расплачиваться за такой успех и такое богатство?
Первый вице-президент работал по двенадцать, а иногда и по четырнадцать часов в день, всегда в бешеном темпе и, как правило, семь дней в неделю. Сегодня, когда многие все еще будут спать, он уже будет лететь в Нью-Йорк на самолете компании и во время полета проведет с подчиненными совещание по сбыту. По прибытии на место он будет председательствовать на встрече представителей компании в различных районах страны, посвященной этому же вопросу. Сразу после этого ему предстоит непростой разговор с двадцатью торговцами автомобилями в Нью-Джерси, у которых есть серьезные претензии по части гарантийного ремонта и обслуживания. Затем он будет присутствовать в Манхэттене на обеде, устраиваемом съездом банкиров, и выступит сам с речью. А потом из него будут вытягивать потроха корреспонденты на пресс-конференции.
К вечеру тот же самолет компании примчит его назад в Детройт, где он будет принимать посетителей у себя в кабинете и заниматься текущими делами. В какую-то минуту к нему явится парикмахер, и он, не отрываясь от дел, даст себя подстричь. За ужином, который будет подан на крыше, этажом выше его кабинета, разгорится жаркая дискуссия с начальниками отделов по поводу новых моделей машин.
А потом он заедет в часовню при Похоронном бюро Уильяма Р. Хэмилтона отдать последнюю дань коллеге, умершему накануне от коронарной недостаточности – следствие перегрузки. (Похоронное бюро Хэмилтона de rigueur[1] обслуживает верхушку автомобильной иерархии – тех, кто, до конца сознавая свое социальное превосходство, проходит через него на пути к закрытому Вудлоунскому кладбищу, именуемому подчас «Валгаллой[2] менеджеров».)
Наконец вице-президент отправится домой – с портфелем, полным бумаг, которые он должен просмотреть к завтрашнему утру.
А сейчас, отодвинув поднос с завтраком и отложив в сторону бумаги, он встал из-за стола. Вокруг него вдоль стен кабинета высились полки с книгами. Иной раз – но не сегодня – он с тоской окидывал их взглядом: в свое время, довольно уже давно, он много читал – причем интересовали его вещи самые разные – и вполне мог бы стать ученым, не сложись его жизнь иначе. Но сейчас у него не было времени для книг. Даже ежедневной газете придется подождать, пока он улучит минутку пробежать ее глазами. Он взял газету, которую так и не успел развернуть, и сунул в портфель. Лишь позже он узнает о последних выпадах Эмерсона Вэйла и выругается про себя, как и многие другие, кто работает в автомобильной промышленности.
В аэропорту, в зале ожидания при ангаре компании «Форд», уже собрались те, кому предстояло сопровождать вице-президента. И он, не теряя времени, сказал:
– Поехали.
Моторы реактивного самолета взревели еще прежде, чем все восемь пассажиров взошли на борт, и они не успели пристегнуть ремни, как самолет уже катил по полю. Только те, кто летает нерейсовыми самолетами, знают, сколько на этом экономится времени.
Несмотря на скорость, с какой бежал самолет, все тотчас достали чемоданчики и, еще прежде чем он вырулил на взлетную полосу, уже раскрыли их у себя на коленях.
Вице-президент выступил первым.
– Нас не удовлетворяют результаты этого месяца по Северо-Востоку. Цифры вам известны, как и мне. Я хочу знать, почему это происходит. И хочу, чтобы мне сказали, какие приняты меры.
Самолет к этому времени уже поднялся в воздух.
Солнце наполовину вышло из-за горизонта – тускло-красное, оно разгоралось среди быстро мчавшихся серых облаков.
Под набиравшим высоту самолетом в свете раннего утра лежал большой город с его пригородами: центр Детройта, оазис величиной с квадратную милю, похожий на миниатюрный Манхэттен, и сразу за ним – переплетение унылых улиц, зданий, заводов, жилых домов, шоссе, в большинстве заляпанных грязью, – огромные авгиевы конюшни, на чистку которых не хватает средств. К западу от центра – более чистый, более зеленый Дирборн, приютивший гигантский промышленный комплекс на берегу реки Руж; по контрасту с ним на востоке – Гросс-Пойнт, весь в деревьях, в подстриженных газонах, рай богачей; на юге – дымный промышленный Уайандотт; а в излучине реки Детройт – Белл-Айл, лежащий на воде словно нагруженная серо-зеленая баржа. На канадской стороне реки – прокопченный Уиндзор, не уступающий по уродству худшим из своих американских старших партнеров.
При дневном свете видно было, как во всех этих городах и вокруг них мчатся машины. Десятки тысяч машин, и в них, словно армия муравьев (или пеструшек – в зависимости от того, с какой высоты смотреть), – рабочие дневной смены, клерки, чиновники высших рангов и прочие, которых ждут бесчисленные фабрики и заводы, большие и маленькие, и новый производственный день.
В стране начался еще один день выпуска автомобилей, регулируемого и контролируемого из Детройта, и на гигантском рекламном табло фирмы автопокрышек «Гуд еар» у оживленного пересечения двух шоссе – Эдзела Форда и Уолтера Крайслера – замелькали цифры в пять футов высотой. Счетчик-великан поминутно отмечал, сколько автомобилей выпущено на данный момент в масштабах всей страны. Как только где-нибудь с конвейера сходила готовая машина, на счетчике выскакивала новая цифра.
Двадцать девять заводов на востоке страны уже приступили к работе – это их показатели отмечались сейчас на табло. Скоро к ним присоединятся тринадцать заводов по сборке автомобилей на Среднем Западе и еще шесть – в Калифорнии, и счетчик завертится быстрее. Для местных автомобилистов это рекламное табло было то же, что цифры кровяного давления для врача или индекс Доу-Джонса – для маклера. На автостоянках ежедневно заключались пари по итогам производства машин за утреннюю и вечернюю смены.
Ближе всего к табло, на расстоянии приблизительно мили, находились заводы «Крайслера» в Хэмтрэмке – там начиная с шести утра с конвейера ежечасно сходило свыше ста «доджей» и «плимутов».
Было время, когда председатель совета директоров фирмы «Крайслер» являлся на завод, чтобы лично присутствовать при запуске конвейера и контролировать качество продукции. Однако теперь он это делал редко и в это утро все еще сидел дома, просматривая «Уолл-стрит джорнэл» и потягивая кофе, который принесла ему жена, прежде чем отправиться в город на утреннее заседание Лиги искусств.
В ту далекую пору глава фирмы «Крайслер» (его тогда лишь недавно назначили президентом) целые дни проводил на заводах, отчасти потому, что захиревшая, утратившая стимул корпорация требовала энергичного руководства, а отчасти потому, что он решил избавиться от ярлыка «бухгалтер», который наклеивали на всякого, добравшегося до высокого поста через финансы, а не через продажу автомобилей или создание их. Фирма «Крайслер» под его руководством пережила и взлеты, и падения. Был шестилетний период, когда она полностью завоевала доверие акционеров; затем зазвенели колокола финансового краха; затем снова – ценой жесткой экономии, огромных усилий и пота – напряжение удалось снять, так что даже нашлись люди, которые утверждали, что компания куда лучше работает в сложные и требующие жесткой экономии времена. Так или иначе, теперь уже никто не считал, что узконосая «пентастар» фирмы «Крайслер» не сумеет удержаться на орбите, – это было немалое достижение, дававшее возможность председателю совета директоров меньше суетиться, больше думать и читать то, что он хочет.
А он читал последние излияния Эмерсона Вэйла, правда, поданные в «Уолл-стрит джорнэл» менее броско, чем в «Детройт фри пресс». Но Вэйл нагонял на него скуку. Он считал, что идеи Вэйла затасканны и неоригинальны, и потому, пробежав глазами статью, стал внимательно изучать спрос и предложения на недвижимость, что для него было куда интереснее. Еще мало кто знал, что за последние несколько лет фирма скупила огромные земельные площади, по сути дела, создав настоящую империю, в результате чего компания не только приобретала более многообразный характер, но через два-три десятка лет могла (во всяком случае, такая у нее была мечта) превратиться из младшего члена Большой тройки в компанию, равную «Дженерал моторс», а то и более крупную.
А пока – и на этот счет председатель совета директоров мог быть абсолютно спокоен – заводы фирмы «Крайслер» в Хэмтрэмке и в других местах непрерывно продолжали выпуск автомобилей.
Словом, Большая тройка в это утро, как и во все другие дни, выдавала с конвейера обычный поток машин, а младшая их сестра, «Америкэн моторс», со своего завода на севере Висконсина вливала в этот общий поток свой маленький ручеек «эмбэсседоров», «хорнетов», «джейвелинов», «гремлинов» и им подобных.
2
На сборочном автомобильном заводе, что расположен к северу от шоссе Фишера, заместитель директора – седеющий ветеран автомобилестроения Мэтт Залески – искренне обрадовался, вспомнив, что сегодня среда.
Обрадовался он не потому, что день обещал быть легким, без особых проблем и отчаянной борьбы за выживание, – таких дней у него не бывало. Вечером он, как всегда, поедет, усталый, домой с ощущением, что ему гораздо больше пятидесяти трех лет и что он провел еще один день словно в раскаленной печи. Иной раз Мэтту Залески так хотелось вернуть молодые годы, когда он был полон энергии и еще только начинал работать в автомобильной промышленности или летал на бомбардировщике во время Второй мировой войны. Оглядываясь на прожитые годы, он нередко ловил себя на мысли, что в военное время, хоть он и был в Европе в самой гуще сражений и совершил там немало боевых вылетов, ему все же не доводилось попадать в такие переплеты, как теперь, в мирные времена.
Уже сейчас, за те несколько минут, что он находился в своей застекленной конторке на антресолях сборочного цеха, еще не успев снять пальто, он пробежал глазами бумагу с красной отметиной, лежавшую у него на столе. Это была жалоба профсоюза, которая, если ее быстро и по-деловому не разобрать, может привести к массовому прекращению работы. В лежавшей рядом пачке бумаг наверняка найдется еще немало такого, над чем придется поломать голову: тут будет и нехватка материалов (а всегда чего-то не хватает, каждый день), и претензии контроля к качеству, и поломка машин, а может, и что-нибудь совсем уж непредвиденное, из-за чего может остановиться конвейер и прекратиться выпуск продукции.
Залески с размаху грузно опустился в кресло за серым металлическим столом: он всегда делал все вот так – рывками. Он услышал, как застонало кресло, напоминая о том, что он стал слишком тяжел и что у него появился солидный животик. «Да, – не без стыда подумал Мэтт, – ни за что мне теперь не втиснуться в узкий носовой отсек “Б-17”». Он все надеялся, что тревоги и заботы уберут лишний вес, а на самом деле получалось наоборот: он явно пополнел с тех пор, как умерла Фрида, и по ночам, терзаясь одиночеством, стал заглядывать в холодильник, чтобы чего-нибудь пощипать.
Но по крайней мере сегодня хоть среда.
Начинать надо с главного. Он включил селектор и вызвал заводоуправление, так как его секретарша еще не пришла. Ему ответил табельщик.
– Мне нужны Паркленд и представитель профсоюза, – сказал он. – Разыщите их и попросите побыстрее зайти ко мне.
Паркленда все знали – это мастер. А о том, какой представитель профсоюза потребовался Мэтту Залески, тоже нетрудно было догадаться, поскольку всем уже наверняка известно о докладной с красной отметиной, лежавшей перед ним. На заводе дурные вести разносятся с быстротой пожара.
Нетронутая груда бумаг на столе, за которые ему вскоре предстоит взяться, вернула Залески к мрачным размышлениям о том, сколько разных причин может вызвать остановку конвейера.
А остановка конвейера, прекращение выпуска продукции по любой причине были для Мэтта Залески все равно что нож в спину. Его обязанность, его raison d’être[3] как раз и заключались в том, чтобы обеспечивать бесперебойную работу конвейера, с которого каждую минуту должна сходить готовая машина, и никому нет дела до того, как ему приходится крутиться, нередко чувствуя себя словно жонглер, подбрасывающий одновременно пятнадцать шаров. Начальство не интересуют ни его ухищрения, ни оправдания. Ему подавай лишь одно: квоты, показатели ежедневного выпуска продукции и производственных затрат. И если конвейер останавливался, Залески сразу об этом узнавал. Каждая потерянная минута означала, что завод недодал целый автомобиль и упущенного уже не наверстать. Таким образом, двух- или трехминутный простой обходился в тысячи долларов, при этом жалованье рабочим продолжало идти, как продолжали расти и прочие расходы.
Но по крайней мере сегодня хоть среда.
Щелкнул селектор.
– Они идут, мистер Залески.
Он коротко буркнул что-то в ответ.
Почему Мэтт Залески любил среды, объяснить было просто. Два дня отделяют среду от понедельника и столько же от пятницы.
А понедельники и пятницы на автомобильных заводах из-за прогулов – самые тяжелые для начальства дни. Каждый понедельник куда больше рабочих, чем в любой другой день, не является на работу; а за понедельником по числу прогульщиков следует пятница. Дело в том, что по четвергам обычно выдают жалованье, и многие рабочие предаются трехдневному запою или принимают наркотики, а в понедельник отсыпаются или приходят в себя.
Таким образом, по понедельникам и пятницам все проблемы отступают на второй план, кроме одной, самой главной: как обеспечить выпуск продукции, несмотря на критическую нехватку рабочих. Людей переставляют, точно пешки на шахматной доске. Некоторых перебрасывают с той работы, к которой они привыкли, на ту, которую они раньше никогда не выполняли. Рабочим, обычно завинчивающим гайки на колесах, могут поручить установку передних крыльев, дав перед этим лишь минимальные инструкции, а то и никаких. Даже рабочих без особой квалификации, например занятых погрузкой машин или уборкой помещений или взятых прямо из конторы по найму, могут направить туда, где образуется прорыв. И они иногда быстро осваиваются со своими временными обязанностями, а иногда целую смену пытаются приладить вверх тормашками шланг обогревателя или какую-нибудь другую деталь.
Это, естественно, не может не сказаться на качестве. Поэтому большинство машин, выпущенных в понедельник и пятницу, собраны кое-как, с «запланированными» дефектами, и те, кто в курсе дела, избегают их, как гнилого мяса. Некоторые наиболее крупные оптовики, которым известно это обстоятельство и с которыми фирмы считаются ввиду объема их закупок, обычно требуют для наиболее уважаемых клиентов машины, собранные во вторник, среду или четверг, и сведущие покупатели обращаются именно к таким оптовикам, чтобы получить приличную машину. Сборка автомобилей для служащих компании и их друзей производится только в те же дни.
Дверь конторки, где сидел Залески, резко распахнулась, и в комнату – без стука – вошел Паркленд.
Это был широкоплечий, ширококостный мужчина лет сорока, иными словами, на пятнадцать лет моложе Мэтта Залески. Учись он в колледже, он вполне мог бы быть защитником в футбольной команде, и вид у него был авторитетный в противоположность многим нынешним мастерам на заводе. Сейчас он был явно настроен на боевой лад – точно ждал неприятностей и приготовился встретить их. Лицо его пылало. Под правой скулой, как заметил Залески, темнел синяк.
Решив не обращать внимания на то, что Паркленд вошел без стука, заместитель директора указал ему на кресло.
– Избавь свои ноги от необходимости держать такую махину и поостынь немного.
Некоторое время они в упор смотрели друг на друга поверх письменного стола.
– Я готов выслушать твою версию, – сказал Залески, – но только живо, потому как, судя по этой штуке, – и он постучал пальцем по докладной с красной отметиной, – ты нас всех втравил в такую историю…
– Ни черта я не втравил! – Глаза Паркленда гневно сверкнули, кровь прихлынула к лицу. – Я уволил этого парня, потому что он ударил меня. Больше того: я не намерен отменять свое решение, и если ты человек смелый или справедливый, то лучше поддержи меня.
Мэтт Залески взревел, как бык, чему он научился, разговаривая в цехах.
– Прекрати нести чушь, немедленно! – Не желал он, чтобы кто-то диктовал ему, как себя вести. Но он тотчас взял себя в руки и пробурчал: – Я сказал: поостынь! Когда придет срок, я сам решу, кого поддержать и почему. Так что прекрати нести эту чушь насчет того, кто смелый и кто справедливый. Ясно?
Взгляды их скрестились. Паркленд первый опустил глаза.
– Ну ладно, Фрэнк, – сказал Залески. – Начнем сначала, давай рассказывай все по порядку.
Они с Фрэнком Парклендом давно знали друг друга. У мастера была хорошая репутация, и он обычно был справедлив к рабочим. Только что-то из ряда вон выходящее могло так взбесить его.
– Один из рабочих сошел со своего места, – принялся объяснять Паркленд. – Затягивал болты на рулевой колонке. По-моему, он новенький, вот и закопался, а конвейер-то уходит, вот он и напирал на впереди стоящего. Я велел ему стать на место.
Залески понимающе кивнул. Такое случается нередко. Какой-нибудь рабочий выполняет ту или иную операцию на несколько секунд дольше, чем требуется. В результате по мере того, как машины продвигаются по конвейеру, он все больше выбивается из ритма и вскоре оказывается рядом с другим рабочим, выполняющим другую операцию. Мастер, заметив непорядок, обычно помогает новичку вернуться на место.
– Дальше, дальше!.. – нетерпеливо сказал Залески.
В эту минуту дверь конторки снова распахнулась и вошел представитель профсоюза. Он был маленький, розовощекий, суетливый, в очках с толстыми стеклами. Звали его Иллас; всего несколько месяцев назад он еще сам работал на конвейере.
– Доброе утро, – поздоровался он с Мэттом Залески. Паркленду же только кивнул.
– Мы как раз подбираемся к сути, – заметил Залески, указывая вновь прибывшему на кресло.
– Вы сберегли бы массу времени, если б прочли нашу жалобу, – сказал Иллас.
– Я ее прочел. Но иной раз не мешает выслушать и другую сторону. – И Залески жестом предложил Паркленду продолжать.
– Все, что я сделал, – сказал мастер, – это подозвал другого парня и сказал ему: «Помоги-ка этому малому вернуться на место».
– Ну и врешь! – Профсоюзный босс нахохлился и резко повернулся к Залески. – На самом деле он сказал: «Верни этого сопляка на место!» И сказано это было про нашего черного собрата, которому такое обращение особенно обидно.
– О Господи! – В голосе Паркленда звучали злость и раздражение. – Да неужели ты думаешь, я этого не знаю? Ты что, считаешь, что за время работы здесь я еще не научился не употреблять это слово?
– Но ты же его употребил, верно?
– Возможно, все может быть. Не могу сказать ни да, ни нет, потому что, истинная правда, не помню. Но если даже я так и сказал, то без всякого дурного умысла. Просто с языка сорвалось – и все.
Профсоюзный босс передернул плечами.
– Это ты сейчас мне вкручиваешь.
– Ничего я тебе не вкручиваю, сукин сын!
Иллас поднялся.
– Мистер Залески, я ведь тут нахожусь в официальном качестве – как представитель Объединенного профсоюза автомобилестроительных рабочих. Если со мной будут так разговаривать…
– Больше этого не случится, – сказал заместитель директора. – Будь любезен, сядь-ка, и пока мы будем обсуждать этот вопрос, я бы посоветовал тебе самому не злоупотреблять словом «врешь».
От досады Паркленд изо всей силы ударил кулаком по столу.
– Я же сказал, что ничего я не вкручиваю, и так оно и есть. Да и сам парень не обратил бы на это внимания, если бы вокруг не подняли шум.
– Он, во всяком случае, говорит другое, – вставил Иллас.
– Сейчас, может, и говорит. – Паркленд повернулся к Залески. – Послушай, Мэтт, этот парень – еще совсем ребенок. Чернокожий мальчишка лет семнадцати. Я против него ничего не имею: работает он, правда, медленно, но с делом справляется. У меня братишка ему ровесник. Я когда прихожу домой, всегда спрашиваю: «А где сопляк?» Никому и в голову не приходит на это обижаться. Да и тут все было бы в порядке, не вмешайся тот, другой – Ньюкерк.
– Значит, ты все же признаешь, что употребил слово «сопляк»?
– О’кей, о’кей, употребил, – устало сказал Мэтт Залески. – Давайте все признаем, что так.
Залески старался сдерживаться, как делал всегда, когда на заводе возникали расовые конфликты. Сам он терпеть не мог «черномазых» – эти предубеждения привила ему жизнь в густо населенном поляками пригороде Уайандотта, где он родился. Там поляки смотрели на негров с презрением, считая их людьми ненадежными, и все беспорядки приписывали им. Черные, в свою очередь, ненавидели поляков, и эта застарелая вражда чувствовалась и по сей день в Детройте. Однако Залески вынужден был подавлять свои инстинкты: когда ты командуешь таким заводом, где полно цветных, нельзя выставлять напоказ свои чувства – во всяком случае, часто. Как раз сейчас, после последних слов Илласа, Мэтту Залески очень хотелось сказать: «Ну и что, если он назвал его сопляком? Ну что тут такого особенного? Раз мастер сказал, значит, паршивец должен был вернуться на место». Но Залески понимал, что, скажи он такое, его слова будут тут же повторены и шум поднимется еще больший.
И поэтому он лишь буркнул:
– Важно то, что произошло потом.
– Видишь ли, – сказал Паркленд, – мне и в голову не приходило, что до такого может дойти. Мы ведь почти вернули того парня на место, когда появился этот тяжеловес – Ньюкерк.
– Он тоже наш черный собрат, – вставил Иллас.
– Ньюкерк работал много дальше на конвейере. Он даже и не слышал ничего – кто-то рассказал ему. Он подошел, обозвал меня расистской свиньей и дал затрещину. – Мастер дотронулся до кровоподтека на щеке, которая за то время, что он находился в конторке, заметно распухла.
– А ты его ударил в ответ? – резко спросил Залески.
– Нет.
– Хорошо, что у тебя хоть на это ума хватило.
– Хватило, хватило, – сказал Паркленд. – Я уволил Ньюкерка. Тут же, на месте. Поднять руку на мастера – такое еще никому не сходило.
– Ну, это как сказать, – вмешался Иллас. – Тут многое зависит от обстоятельств. А если человека спровоцировали?
Мэтт Залески почесал затылок – просто удивительно, что при такой работе у него еще не вылезли все волосы. Эту вонючую историю должен был бы расхлебывать Маккернон, директор завода, но его не было. Он находился за десять миль отсюда, в штабе, где проходило сверхсекретное совещание по поводу «Ориона», новой модели, которая вскоре будет запущена в производство. Иногда Мэтту Залески казалось, что Маккернон просто взял и самовольно ушел на пенсию, хотя официально до этого оставалось еще полгода.
И теперь этот «крошка»-завод очутился на попечении Мэтта Залески, и хлопот с ним не оберешься. К тому же Залески знал, что после ухода Маккернона на пенсию его не сделают директором. Его уже вызывали и знакомили с квалификационной картой. Данные на каждого сотрудника записывались в книге с кожаным переплетом, которая всегда лежала на столе вице-президента, занимавшегося вопросами производства. Всякий раз, когда открывалась вакансия или возникала возможность кадровых перемещений, вице-президент листал эту книгу. На странице, отведенной для Мэтта Залески, под его фотографией и краткими биографическими сведениями значилось: «Деловые качества полностью соответствуют занимаемому ныне служебному положению».
Все в компании знали, что эта вроде бы невинная формулировка равносильна тому, что человека «положили на полку». На самом деле она значила: этот человек достиг своего потолка. Он, возможно, всю жизнь просидит на этом месте, но продвижения не получит.
По правилам сотруднику, в чьем личном деле появлялось такое заключение, обязаны были об этом сообщить. Так несколько месяцев назад Мэтту Залески стало известно, что он никогда не поднимется выше заместителя директора. Вначале он был страшно разочарован, но теперь свыкся с этой мыслью и понял, почему ему нечего ждать повышения. Ведь он – старая калоша, один из последних представителей исчезающей породы, которых начальство и советы директоров не желают больше видеть на руководящих постах. Своего нынешнего положения Залески достиг, пройдя весь путь от простого рабочего до заместителя директора завода через все промежуточные стадии – инспектор, мастер, начальник цеха; теперь лишь немногие руководители добивались своего места таким путем. У него не было диплома инженера, поскольку он не окончил школу, когда началась Вторая мировая война. Правда, он получил его после войны – благодаря вечерней школе и кредитам, которые давали бывшим солдатам, а затем, будучи человеком честолюбивым, как большинство людей его поколения, которые вышли живыми из Festung Europa[4] и избегли других опасностей, начал свое восхождение по социальной лестнице. Но, как признавал сам Залески, он потерял слишком много времени и начал слишком поздно. На руководящие посты в автомобильных компаниях – и тогда, и сейчас – ставили людей молодых, способных, которые свеженькими и напористыми попадали прямиком из колледжа в личный кабинет.
Но это еще не причина, чтобы Маккернону, пока еще возглавлявшему завод, устраниться – пусть даже непреднамеренно – от разбирательства возникшего конфликта. И Залески колебался. Он вправе был послать за Маккерноном и мог сделать это немедля – достаточно снять телефонную трубку.
Два соображения удерживали его. Во-первых, как он сам себе признался, гордость: Залески прекрасно понимал, что может справиться с ситуацией не хуже Маккернона. И во-вторых, инстинкт подсказывал ему, что для этого нет времени.
– А чего добивается профсоюз? – внезапно спросил Залески Илласа.
– Ну, я толковал с председателем нашего местного…
– Давай это опустим, – перебил его Залески. – Мы оба прекрасно понимаем, что должна быть отправная точка. Так чего же вы хотите?
– Хорошо, – сказал представитель профсоюза. – Мы категорически требуем выполнения трех пунктов. Во-первых, немедленного восстановления на работе нашего собрата Ньюкерка – с компенсацией за простой. Во-вторых, извинения обоим потерпевшим. И в-третьих, снятия Паркленда с должности мастера.
Паркленд, развалившийся было в кресле, даже привскочил.
– Ей-богу, вы хотите совсем немногого!.. Могу ли я поинтересоваться, – иронически осведомился он, – когда мне извиняться: до увольнения или после?
– Извинение должна принести компания, – сказал Иллас. – А уж хватит ли у тебя порядочности добавить к этому свое собственное – не знаю.
– Да, уж это буду я решать. И пусть никто, затаив дыхание, не стоит и не дожидается.
– Если бы ты в свое время хоть немножечко затаил дыхание и подумал, мы б сейчас не распутывали всей этой истории! – обрезал его Мэтт Залески.
– Неужели ты хочешь сказать, что примешь эти его требования? – зло ткнув в сторону Илласа, спросил мастер.
– Я пока еще ничего не сказал. Я пытаюсь разобраться, а для этого мне нужна дополнительная информация. – Залески протянул руку и, загородив телефон, чтобы он не был виден двум его собеседникам, набрал номер.
Когда в трубке послышался нужный ему голос, Залески спросил:
– Как дела там у вас, внизу?
– Мэтт? – тихо переспросил собеседник.
– Угу…
Помимо голоса, до Залески отчетливо доносился шумовой фон – какофония звуков в цеху. Он всегда поражался, как могут люди целый день существовать в таком грохоте. Он ведь стоял в свое время у конвейера, прежде чем перейти в защищенную от шума конторку, но так и не смог привыкнуть к этому аду.
– Положение прескверное, Мэтт, – сообщил его информатор.
– А что такое?
– Смутьяны совсем разгулялись. Только, пожалуйста, не ссылайся на меня.
– Я никогда этого не делаю, – сказал Залески. – И ты это знаешь.
Он слегка повернулся в кресле и увидел, что оба собеседника внимательно следят за выражением его лица. Они, конечно, могут догадаться, хотя никогда не узнают наверняка, что он разговаривал с черным мастером, Стэном Лэтраппом, одним из полудюжины людей на заводе, которых Мэтт Залески больше всего уважал. Отношения у них были странные, даже парадоксальные, так как вне завода Лэтрапп был активным борцом за права черных, а одно время даже последователем Малкольма Экса[5]. Но на заводе он серьезно относился к своим обязанностям, считая, что в автомобильной промышленности люди его расы могут достичь умом большего, чем с помощью анархии. И вот за это-то Залески, первоначально настроенный против Лэтраппа, и стал его уважать.
Однако в компании – это было скверно при нынешнем состоянии расовых отношений, – к сожалению, было мало мастеров или руководителей из числа черных. Следовало бы предоставить им больше, гораздо больше мест, и все это понимали, однако многие черные рабочие вовсе не хотели занимать ответственные должности, а то и просто боялись из-за молодых анархистов или же не были к таким повышениям готовы. Мэтт Залески в минуты, когда его не одолевали предрассудки, частенько думал, что, если бы большие боссы автомобильной промышленности смотрели, как положено руководителям, хоть немного вперед и еще в 40–50-х годах начали программу обучения черных рабочих, на заводах теперь было бы куда больше Стэнов Лэтраппов. А от такого, как ныне, положения вещей все только проигрывали.
– Что же там замышляют? – спросил в телефон Залески.
– По-моему, прекратить работу.
– Когда?
– Скорей всего с перерыва. Может, и раньше – только едва ли.
Голос мастера звучал так приглушенно, что Мэтту Залески приходилось напрягать слух. Он понимал всю сложность положения Лэтраппа, которое усугублялось тем, что телефон находился рядом с конвейером, где работали люди. Лэтраппа уже и так прозвали «белым ниггером»: среди его черных собратьев были такие, которых возмущало то, что человека их расы поставили на ответственное место, и они вовсе не считали, что не правы. Залески, понимая это, не хотел еще больше осложнять жизнь Стэну Лэтраппу, но еще два-три вопроса должен был ему задать.
– А что, возможна оттяжка? – спросил Залески.
– Да. Смутьяны хотят, чтобы весь завод прекратил работу.
– Агитация идет полным ходом?
– С такой скоростью, словно мы все еще пользуемся телеграфом джунглей.
– А хоть кто-нибудь сказал им, что это противозаконно?
– У вас в запасе есть еще шуточки? – спросил Лэтрапп.
– Нет. – Залески вздохнул. – Так или иначе – спасибо. – И повесил трубку.
Значит, инстинкт не обманул его. Времени терять было нельзя: конфликт с рабочими на расовой почве подобен короткому запальному шнуру. Если смутьянам удастся прекратить работу, пройдет не один день, прежде чем все утрясется и люди вернутся на свои места. Пусть забастовка охватит только черных рабочих, и даже не всех – выпуск продукции все равно может прекратиться. А Мэтт Залески обязан был давать продукцию во что бы то ни стало.
– Не поддавайся на их угрозы, Мэтт! – вдруг взмолился Паркленд, словно прочитав его мысли. – Пусть какие-то люди бросят работу, и у нас будут неприятности. Но за принцип, право же, стоит иной раз постоять, так ведь?
– Иной раз стоит, – сказал Залески. – Не мешает только знать, какой принцип ты отстаиваешь и в подходящий ли момент.
– Справедливость – штука хорошая, – сказал Паркленд, – только она бывает двоякой. – И перегнувшись через стол, он взволнованно заговорил, обращаясь к Мэтту Залески и время от времени поглядывая на представителя профсоюза: – Ладно, допустим, я был жестковат с теми парнями на конвейере, потому что такое уж у меня место. Мастер – он ведь стоит посередке, ему со всех сторон достается. Ты, Мэтт, и твои люди каждый день держите нас за горло, требуете: «Давай, давай больше автомобилей!» А кроме вас, есть еще контроль качества, и он говорит: «То, что вы быстро собираете машины, – это здорово, но надо собирать их лучше». А потом ведь есть рабочие – в том числе Ньюкерк и ребята вроде него, и мастеру со всеми ними надо ладить, да и с профсоюзом тоже ухо держать востро, особенно если шагнешь не так, а бывает, и без всякой причины. Дело это нелегкое, и приходится быть жестким – иначе не проживешь. Но при этом я всегда справедлив. Я ни разу не смотрел на черного рабочего иначе, потому что он – черный: мы ведь не на плантации, и я не надсмотрщик с кнутом. В данном же случае все мое преступление, насколько я понимаю, сводится к тому, что я назвал черного парня сопляком. Я не говорил, чтобы он отправлялся собирать хлопок или чистить ботинки. Я просто помог ему справиться с работой. Больше того, я готов признать, что жалею о том, что обозвал его сопляком, – ей-богу, с языка сорвалось! Но только не насчет Ньюкерка. Если он не будет уволен, если ему сойдет то, что он поднял руку на мастера, можете выбросить белый флаг и распроститься с дисциплиной на заводе. Справедливость требует, чтоб его уволили.
– В том, что ты говоришь, две-три здравые мысли есть, – заметил Залески. По иронии судьбы, Фрэнк Паркленд был действительно всегда справедлив к черным рабочим, он был даже справедливее многих других. – Ну а что ты на это скажешь? – обратился он к Илласу.
Представитель профсоюза посмотрел на него сквозь очки с толстыми стеклами.
– Я ведь уже изложил позицию профсоюза, мистер Залески.
– А если я отвергну твои требования, если я решу поддержать Фрэнка – он ведь говорит, что я должен его поддержать, – что тогда?
– Мы вынуждены будем пойти с нашей жалобой дальше, – сухо сказал Иллас.
– О’кей! – Заместитель директора кивнул. – Это ваше право. Только на всю эту процедуру по разбору жалобы может уйти дней тридцать, а то и больше. Тем временем все продолжают работать.
– Естественно. В коллективном соглашении сказано…
– Можешь мне не говорить, что сказано в коллективном соглашении! – взорвался Залески. – Там сказано, что все продолжают работу, пока идут переговоры. Но уже сейчас многие из твоих людей собираются нарушить контракт и покинуть свое рабочее место.
Иллас впервые выказал смущение.
– Наш профсоюз не одобряет стихийных забастовок.
– Черт тебя побери! Тогда сделай так, чтобы забастовки не было!
– Если вы сдержите слово, я поговорю с людьми.
– Разговоры тут не помогут. Ты это знаешь, и я знаю. – Залески в упор глядел на представителя профсоюза. Розовое лицо Илласа слегка побледнело: он явно был не в восторге от перспективы разговора с некоторыми черными активистами при их нынешнем настроении.
Профсоюз, как отлично понимал Мэтт Залески, в подобного рода ситуациях оказывался в сложном положении. Если он не поддерживал черных, то черные могли обвинить профсоюзных лидеров в расовых предрассудках и в том, что они – «лакеи при начальстве». Однако если профсоюз оказывал им слишком большую поддержку, он мог с точки зрения юридической оказаться в более чем сложном положении, став участником стихийной забастовки. А противозаконные забастовки были анафемой для таких руководителей профсоюза автомобилестроительных рабочих, как Вудкок, Фрейзер, Грейтхауз, Бэннон и другие, создавших себе репутацию людей, которые умеют жестко вести переговоры, но, раз достигнув соглашения, соблюдают его и утрясают разногласия должным путем. Стихийные забастовки расшатывали позицию профсоюза и подрывали его способность добиваться уступок путем переговоров.
– Руководство профсоюза не поблагодарит тебя, если мы не сумеем удержать ситуацию в руках, – продолжал Мэтт Залески. – А добиться этого можно только одним путем: мы должны здесь прийти к соглашению, потом спуститься вниз и объявить о нем.
– Все зависит от того, к какому соглашению мы придем, – сказал Иллас. Но было ясно, что он взвешивает слова Залески.
А Мэтт Залески про себя уже решил, о чем они должны договориться, и знал, что никому из присутствующих это не придется по душе, в том числе и ему самому. Ничего не поделаешь, мрачно думал он, такие уж проклятые наступили времена, что человеку приходится прятать в карман и свою гордость, и убеждения, если он хочет, чтобы завод продолжал работать.
И он решительно объявил:
– Никого не увольняем. Ньюкерк возвращается на свое место, но отныне он будет знать, что руками надо работать, а не махать в воздухе. – Заместитель директора в упор посмотрел на Илласа. – И я хочу, чтоб и ты, и Ньюкерк твердо запомнили, что в следующий раз он вылетает без всяких разговоров. А сейчас, прежде чем он вернется на место, я сам с ним поговорю.
– И ему заплатят за потерянное время? – По лицу профсоюзного босса пробежала победоносная улыбка.
– А он все еще на заводе?
– Да.
Залески помедлил, затем нехотя кивнул.
– О’кей, при условии, что он доработает до конца смены. Но чтоб больше никаких разговоров по поводу замены Фрэнка. – Он повернулся к Паркленду. – Ты же сделаешь то, что мне обещал: поговоришь с парнишкой. Скажи ему, что ты назвал его так по ошибке.
– Иначе говоря, принеси ему извинения, – сказал Иллас.
Фрэнк Паркленд в бешенстве посмотрел на обоих.
– Ну и слизняки же вы оба!
– Полегче! – предупредил его Залески.
– Еще чего – полегче! – Громадина-мастер поднялся на ноги и, возвышаясь над заместителем директора, бросил ему через стол, как плюнул: – Это ты все думаешь – как бы полегче, потому что слишком ты большой трус, чтоб постоять за то, что, ты знаешь, правильно.
– Я не намерен с этим мириться! – весь налившись краской, взревел Залески. – Хватит! Ты меня слышал?
– Слышал. – В голосе и во взгляде Паркленда было презрение. – Но не нравится мне то, что я слышал, и то, что носом чую.
– В таком случае, может, ты хотел бы, чтоб тебя уволили?
– Может быть, – сказал мастер. – Возможно, в другом месте воздух будет почище.
– Нигде он не чище, – буркнул Залески. – Иной раз всюду воняет одинаково.
Вспышка прошла, и Мэтт Залески уже взял себя в руки. Он вовсе не собирался увольнять Паркленда, это было бы совсем уж несправедливо, да и хорошего мастера найти не так-то просто. Сам Паркленд, сколько бы ни грозился, тоже не уйдет, в этом Залески был уверен. Он знал семейные обстоятельства Фрэнка Паркленда, знал, что тот каждую неделю должен приносить домой получку, да и в компании давно работает, а этим не бросаются.
Но на какое-то мгновение слова Паркленда насчет трусости больно уязвили Залески. Ему хотелось крикнуть, что Фрэнку Паркленду было всего десять лет и он был сопливым мальчишкой, когда он, Мэтт Залески, уже летал на бомбардировщиках над Европой, никогда не зная, в какую минуту его может прострочить зенитным огнем, – пуля прошьет фюзеляж, затем войдет ему в живот, или в лицо, или в бедра – и их «Б-17-Ф» камнем полетит вниз с высоты двадцати пяти тысяч футов и, подобно многим машинам Восьмой воздушной армии, сгорит на глазах у товарищей… «Так что дважды подумай, сынок, кого ты обзываешь трусом, и запомни, что это я, а не ты, отвечаю за работу завода, независимо от того, сколько я при этом глотаю желчи!..» Но ничего этого Залески не сказал, понимая: то, о чем он подумал, было давно и уже не имеет никакого отношения к настоящему, идеи и шкала ценностей изменились, встали на голову; а потом трусость – она ведь бывает разная, и, возможно, Фрэнк Паркленд прав или хотя бы частично прав. И недовольный собой, Залески сказал собеседникам:
– Пошли вниз, утрясем это дело.
Они вышли из конторки: впереди – Залески, за ним – профсоюзный босс и позади – мрачный, злой Фрэнк Паркленд. Как только они ступили на металлическую лестницу, которая вела с антресолей вниз, в цех, грохот завода оглушающим водопадом обрушился на них.
Лестница обрывалась в том месте, где отдельные узлы приваривались к раме, на которой монтируется готовый автомобиль. Здесь стоял такой звон, что людям, работавшим в нескольких футах друг от друга, приходилось кричать, чтобы объясниться. Вокруг них – вверх и по сторонам – фейерверком разлетались бело-синие искры. В стрекот сварочных агрегатов и пневматических молотков то и дело врывался свист сжатого воздуха, этой животворной крови силовых механизмов. И в центре всей этой суеты, словно божество, требующее поклонения, – безостановочно, дюйм за дюймом, продвигался конвейер.
Троица шла вдоль конвейера – профсоюзный босс нагнал Мэтта Залески и зашагал рядом с ним. Они продвигались быстрее конвейера и теперь шли мимо уже почти готовых машин. Здесь на каждом шасси был установлен силовой агрегат, шасси скользило дальше, и там на него опускался кузов машины, – сборщики говорят в таких случаях: «Ну, спарились!» Мэтт Залески наметанным глазом окинул конвейер, проверяя, как идут основные моменты операции.
Залески, Иллас и Паркленд шли дальше. Рабочие при их приближении поднимали голову или поворачивались и смотрели на них. Некоторые здоровались, но таких было немного, и Залески отметил, что большинство рабочих – как белые, так и черные – настроены мрачно. В воздухе чувствовалось напряжение, атмосфера была накалена. Так бывает на заводах – иногда без всяких оснований, а иногда по какой-нибудь совсем несущественной причине, словно взрыв где-то назревает и достаточно маленькой трещинки, чтобы пар вырвался наружу. Мэтт Залески знал, что социологи называют это реакцией на противоестественную монотонность.
Профсоюзный босс придал лицу суровое выражение – наверное, чтобы показать, что он лишь по обязанности идет с начальством, но ему это вовсе не по душе.
– Ну как, не скучаешь по конвейеру? – спросил его Залески.
– Нисколько, – сухо ответил Иллас.
Залески не сомневался, что так оно и есть. Посторонние, совершая экскурсию по заводу, часто думают, что рабочие со временем привыкают к шуму, духоте, жаре, к напряженному темпу и бесконечному однообразию работы. Залески не раз слышал, как взрослые посетители говорили пришедшим с ними детям про рабочих, словно про зверей в зоопарке: «Они же привыкли. И обычно довольны своей работой. Они не променяли бы ее ни на что другое».
Ему всякий раз хотелось крикнуть: «Не верьте этому, дети! Это ложь!»
Залески знал – как знают все связанные с автомобильным производством, – что лишь немногие из тех, кто долго проработал на конвейере, согласились бы трудиться так всю жизнь. Обычно они рассматривают свое пребывание там как нечто временное, пока не подвернется что-то получше. Однако для многих, особенно для тех, у кого нет образования, это неосуществимая мечта. И западня захлопывается. Захлопывается на два замка: с одной стороны, рабочий обрастает обязательствами – женится, появляются дети, плата за квартиру, за обстановку, а с другой – в автомобильной промышленности заработки выше, чем где-либо еще.
Но ни высокие заработки, ни довольно значительные дополнительные льготы не способны компенсировать этот безрадостный, бездуховный труд, физически тяжкий и убийственно монотонный – одно и то же час за часом, изо дня в день. Сам характер работы лишает человека гордости за то, что он делает. Рабочий на конвейере никогда ничего не завершает, не ставит точки: он ни разу не собирает автомобиль целиком, а лишь соединяет какие-то его части – там прикрепил металлическую пластину, тут подложил шайбу под болт. Вечно та же пластина, та же шайба, те же болты. Снова, и снова, и снова, и снова, и снова; при этом условия работы – учитывая грохот и шум – таковы, что исключается какая-либо возможность общения, какой-либо дружеский обмен репликами. По мере того как идут годы, многие хоть и ненавидят свою работу, но смиряются. Есть, правда, такие, которые не выдерживают и сходят с ума. Но любить свою работу никто не любит.
Словом, рабочий на конвейере, будто узник, только и думает о том, как бы вырваться из этого ада. Одной такой возможностью для него является прогул, другой – забастовка. И то и другое вносит разнообразие, нарушает монотонность, а это – главное.
И сейчас заместитель директора понял, что настроение рабочих, возможно, не удастся сломать.
– Помни, – сказал он Илласу, – мы договорились. Я хочу, чтобы ты поставил точку – и быстро. – Представитель профсоюза молчал, и Залески добавил: – Сегодня ты должен бы радоваться. Ты добился того, чего хотел.
– Не всего.
– Главного.
За этими словами скрывалось одно обстоятельство, о котором оба знали: некоторые рабочие, стремясь удрать с конвейера, старались быть избранными на какую-нибудь освобожденную должность в профсоюзе, с тем чтобы со временем занять в нем руководящий пост. Этот путь совсем недавно избрал и сам Иллас. Но, попав на выборную должность в профсоюз, человек становится уже политической фигурой: он ищет переизбрания и в промежутках между выборами вынужден маневрировать как политик, чтобы добиться благорасположения своих избирателей. А избирают профсоюзного деятеля рабочие, вот он и стремится им угодить. Именно этим был сейчас озабочен Иллас.
– Где же этот тип – Ньюкерк? – спросил его Залески.
Они как раз подошли к тому месту конвейера, где утром произошел инцидент.
Иллас кивком указал на открытую площадку, где стояли несколько столов с пластмассовыми крышками и стулья. Здесь рабочие с конвейера завтракали во время перерыва. В стороне были установлены автоматы, отпускавшие кофе, безалкогольные напитки, конфеты. Место это было отделено прочерченной по полу полосой. Сейчас там сидел один-единственный человек – огромный, грузный негр с дымящейся сигаретой в руке – и смотрел на приближавшееся трио.
– Так вот, – обратился Залески к Илласу, – скажи ему, что он может вернуться на свое рабочее место, да не забудь добавить, на каких условиях. Когда закончишь разговор, пусть подойдет ко мне.
– Ладно, – сказал Иллас, шагнул за линию и, улыбаясь, двинулся к столику, за которым сидел великан.
А Фрэнк Паркленд направился прямиком к молодому негру, по-прежнему работавшему на конвейере. И сейчас что-то усиленно ему втолковывал. Тот смущенно слушал, потом робко улыбнулся и кивнул. Мастер тронул парня за плечо и указал на Илласа и Ньюкерка, все еще сидевших на площадке за столиком, пригнувшись друг к другу. Парень снова осклабился. Мастер протянул ему руку; немного помедлив, тот пожал ее. А Мэтт Залески, наблюдая все это, подумал: сумел бы он на месте Паркленда так лихо провести это дело?
– Привет, босс! – донесся до Мэтта голос с другой стороны конвейера. Он обернулся.
Голос принадлежал контролеру по внутренней отделке, человеку небольшого росточка, поразительно похожему на Гитлера и давно работавшему на конвейере. Товарищи, конечно, дали ему кличку Адольф, а тот – как звали его на самом деле, Мэтт так и не вспомнил, – словно желая подчеркнуть сходство, даже прикрывал прядью волос один глаз.
– Привет, Адольф! – Мэтт перелез на другую сторону конвейера, осторожно пробравшись между желтой машиной с откидным верхом и серо-зеленым седаном. – Ну, как сегодня кузова – на уровне?
– Бывало и хуже, босс… Помните игры на первенство мира?
– Лучше и не вспоминать.
Игры на первенство мира, как и начало охотничьего сезона в Мичигане, были событиями, которых автомобилестроители страшились больше всего. В эти периоды прогулы достигали апогея – даже мастера и начальники цехов не составляли исключения. Качество резко падало, а когда шли игры на мировое первенство, дело осложнялось еще и тем, что рабочие куда больше внимания уделяли карманным приемникам, чем своей работе. Мэтт Залески помнил, как в 68-м году, во время игр на первенство, которое выиграли «Детройтские тигры», он мрачно признался своей жене Фриде – это было за год до ее смерти: «Я бы не пожелал даже врагу своему купить собранную сегодня машину».
– Во всяком случае, с этим заказным все в порядке. – И Адольф (или как там его звали) на секунду вскочил в серо-зеленый седан и тут же из него выскочил. За седаном шла ярко-оранжевая спортивная машина с белыми сиденьями. – Наверняка для блондинки. Я бы не возражал с ней прокатиться, – хихикнул Адольф из машины.
– Я смотрю, ты и так достаточно катаешься, – крикнул ему Мэтт Залески.
– Ну а после того, как с ней прокачусь, придется меня оттуда силком вытаскивать. – Контролер выскочил из машины, похлопывая себя по ляжкам и осклабясь: юмор на заводе был весьма примитивным.
Заместитель директора усмехнулся в тон ему, понимая, что рабочему за восьмичасовую смену не так уж часто удается с кем-нибудь словом перекинуться.
Адольф тем временем нырнул уже в другую машину. Залески был, конечно, прав, заметив, что контролер достаточно катается, – недаром эту работу поручают людям, уже поднаторевшим на конвейере. Однако платят за нее столько же, сколько и всем, и авторитета это человеку не прибавляет, а свои отрицательные стороны имеет. Если контролер – человек добросовестный и делает замечание по поводу плохо выполненной работы, он вызывает злость у других рабочих, и они уж найдут способ осложнить ему жизнь. Да и мастера тоже косо смотрят на излишне старательного контролера, ревниво относясь ко всему, что входит в сферу их компетенции. На мастеров давит начальство – в том числе и Мэтт Залески, – требуя, чтобы они выдавали положенную продукцию, и мастера склонны – да часто так и поступают – игнорировать замечания контролеров. Мастер обычно бросает классическую фразу: «Да пропусти ты», – и не отвечающая стандартам деталь или машина движется дальше по конвейеру; иной раз ее выловит контроль, отвечающий за качество, а чаще всего – нет.
Залески заметил, что представитель профсоюза и Ньюкерк встали из-за стола.
Он перевел взгляд на конвейер, и внимание его почему-то снова привлек серо-зеленый седан. Он решил перед уходом из цеха повнимательнее обследовать эту машину.
Посмотрев вдоль конвейера, он заметил, что Фрэнк Паркленд стоит неподалеку от своей конторки: по всей вероятности, он решил, что уже сыграл свою роль в разрешении конфликта, и вернулся к работе. «Что ж, – подумал Залески, – наверное, мастер прав, только теперь ему труднее будет поддерживать дисциплину. А черт, у каждого свои проблемы! И пусть Паркленд сам решает свои».
Залески перешел на другую сторону конвейера и увидел, что Ньюкерк и представитель профсоюза идут к нему. Черный рабочий шел не спеша – сейчас он казался еще больше, чем когда сидел за столиком. Лицо у него было широкое, с крупными чертами – под стать всей фигуре; губы растягивала ухмылка.
– Я сообщил брату Ньюкерку об отмене увольнения, которой я добился для него, – сказал Иллас. – Он согласен вернуться на работу при условии, что ему заплатят за простой.
Заместитель директора кивнул: ему не хотелось лишать Илласа лавров, и если он желает небольшое недоразумение превратить в Битву за Перевал – что ж, пусть, Залески не станет возражать.
– Только ухмылку эту я бы попросил убрать, – сказал он резко, обращаясь к Ньюкерку. – Повода для веселья я тут не вижу. – И добавил, обращаясь к Илласу: – Ты ему сказал, что в следующий раз дело обернется для него куда печальнее?
– Он все мне сказал, – заявил Ньюкерк. – Не сомневайтесь, больше такое не случится, если не будет повода.
– Что-то ты больно хорохоришься, – сказал Залески. – Ведь тебя только что чуть не выгнали.
– Откуда вы взяли, что я хорохорюсь, мистер? Возмущен я – вот что! Этого вам – никому из вас – никогда не понять.
– Я могу, черт побери, тоже возмутиться – и крепко, когда на заводе беспорядки, от которых страдает работа! – огрызнулся Залески.
– Нет, так возмутиться, чтоб душу жгло, вы не можете. Чтоб ярость кипела…
– Знаешь, лучше ты меня не доводи. А то худо будет.
Черный рабочий только покачал головой. Для такого большого человека голос и движения у него были удивительно мягкие, только глаза горели ярким серо-зеленым огнем.
– Вы же не черный, откуда вам знать, какая бывает ярость, какое бывает возмущение… С самого рождения в тебе точно миллион булавок сидит, и, когда какой-нибудь белый назовет тебя «сопляком», к этому миллиону еще одна булавка прибавится.
– Ну ладно, ладно, – вмешался профсоюзный босс. – Мы ведь уже договорились. И нечего начинать все сначала.
– А ты заткнись! – рявкнул на него Ньюкерк. Глаза его с вызовом смотрели на заместителя директора.
А Мэтт Залески, кстати не впервые, подумал: «Неужто наш мир совсем обезумел?» Для таких, как Ньюкерк, да и для миллионов других, включая его собственную дочь Барбару, все, что прежде имело значение, – такие понятия, как власть, порядок, уважение, высокие моральные качества, – все это просто перестало существовать. А наглость, которую он уловил сейчас во взгляде и в тоне Ньюкерка, стала нормой поведения. Да и употребленные Ньюкерком слова – «ярость», «так возмутиться, чтоб душу жгло» – стали расхожими клише наряду с сотнями других выражений вроде: «пропасть между поколениями», «до чертиков взвинченный», «распоясавшийся», «заведенный». Большинства этих словечек Мэтт Залески не понимал и чем чаще с ними сталкивался, тем меньше хотел понимать. Все эти новшества, которые превращали Мэтта в человека отсталого и которых он не в состоянии был постичь, принижали его, создавали гнетущее настроение.
Как ни странно, он поставил сейчас на одну доску этого черного великана и свою прелестную двадцатидевятилетнюю высокообразованную дочь Барбару. Будь Барбара здесь, она не раздумывая, безусловно стала бы на сторону Ньюкерка, а не отца. Господи, как бы ему хотелось хоть немного быть в чем-то уверенным!
А он вовсе не был уверен, что справился как надо с создавшимся положением, и, хотя было еще раннее утро, вдруг почувствовал, что страшно устал.
– Отправляйся на свое место! – внезапно сказал он Ньюкерку.
Как только Ньюкерк отошел, Иллас сказал:
– Забастовки не будет. Людей уже оповещают, что она отменяется.
– Мне что, надо сказать «спасибо»? – ядовито спросил Залески. – Поблагодарить вас за то, что меня не прикончили?
Профсоюзный босс пожал плечами и направился к выходу.
А Залески вспомнил про заинтриговавший его серо-зеленый седан – машина уже продвинулась далеко вперед по конвейеру. Но он быстро нагнал ее.
Он проверил документацию, в том числе графики сборки, висевшие в картонной папке спереди на облицовке. Как он и ожидал, это оказалась не просто заказная машина, а машина «для приятеля мастера».
Тут уж все было совсем особое. И делалось это скрытно на любом заводе, причем такая машина обходилась по крайней мере в несколько лишних сотен долларов. Мэтт Залески, обладавший способностью откладывать в уме крохи разных сведений и потом соединять их, сразу смекнул, для кого предназначается серо-зеленый седан.
Машину готовили для представителя компании по связи с общественностью. По официальным документам заказана была стандартная машина, почти без «добавок», а седан, как обычно выражались на автомобильном заводе, был ими просто напичкан. Даже при самом поверхностном осмотре Залески обнаружил роскошный руль, многослойные белые шины, изящные колесные диски, светозащитное лобовое стекло, стереофонический магнитофон – ничего этого в спецификации, которую он держал в руке, не значилось. Похоже также, что машину покрывали двойным слоем краски, что, естественно, делало ее более долговечной. Это-то обстоятельство и привлекло внимание Залески.
Объяснение почти наверняка крылось и в некоторых известных Мэтту Залески обстоятельствах. Две недели назад один старший мастер выдавал свою дочь замуж. И этот самый представитель завода по связи с общественностью разрекламировал состоявшееся бракосочетание, поместив фотографии в детройтских и пригородных газетах. Отец невесты был в полном восторге – об этом говорили все на заводе.
Остальное было ясно без слов.
Представитель завода по связи с общественностью без труда заранее узнает, в какой день будет готова его машина. И затем позвонит «приятелю мастера», который устроил, чтобы к серо-зеленому седану отнеслись на конвейере с особым вниманием.
Мэтт Залески знал, как ему следует поступить. Надо послать за мастером, проверить свои подозрения, а потом написать докладную директору завода Маккернону, которому останется лишь принять по ней решение. Тогда все силы ада будут выпущены наружу, и скандал разрастется, захватит – поскольку в нем замешан представитель по связи с общественностью – даже начальство.
Поэтому Мэтт Залески знал, что никакой докладной он не напишет.
У него и без того хватает проблем. Взять хотя бы эту историю с Парклендом – Ньюкерком – Илласом, да и в его стеклянной клетке наверняка скопилось уже немало дел, помимо тех бумаг, что еще утром лежали на столе. А он знал, что не просмотрел пока ни одной.
Тут Мэтт Залески вспомнил о выступлении Эмерсона Вэйла, этого круглого идиота, которое он слышал в машине по радио, когда около часа назад ехал из Ройял-Оук к себе на завод. Вэйл снова взял на мушку автомобильную промышленность. С каким бы удовольствием Мэтт поставил его на несколько деньков у конвейера поработать в самом горячем месте, и пусть бы сукин сын на себе узнал, что это такое – скольких усилий, огорчений, компромиссов, человеческой усталости требуется, чтобы построить один автомобиль!
И Мэтт Залески, махнув рукой на серо-зеленый седан, пошел прочь. Когда руководишь таким заводом, надо на какие-то вещи закрывать глаза, и это был как раз тот самый случай.
Одно утешение, что сегодня – среда.
3
В 7.30 утра десятки тысяч людей в Большом Детройте трудились уже не один час, тогда как другие – либо по прихоти, либо в силу характера их работы – еще спали.
Среди тех, кто в это время еще спал, была Эрика Трентон.
Она лежала в широкой французской кровати меж атласных простыней, скользивших по ее упругому молодому телу, и то просыпалась, то снова погружалась в сладкую дремоту, не собираясь вставать еще по крайней мере часок-другой.
Ей снилось, что рядом с ней лежит мужчина – не какой-то определенный, а смутно вырисовывающаяся фигура, – и он ласкает ее, тогда как собственный муж не прикасался к ней уже недели три, а то и месяц.
Мягко покачиваясь на волнах сна между дремой и бдением, Эрика все же сознавала, что не всегда ей удавалось так долго спать. На Багамских островах, где она родилась и жила до того, как пять лет назад вышла замуж за Адама, она часто вставала до зари и помогала отцу столкнуть в воду шлюпку, а потом следила за мотором, в то время как отец ловил рыбу на блесну и солнце вставало. Отец любил свежую рыбу на завтрак, и Эрика в последние годы жизни дома жарила ее, когда они возвращались с уловом.
Следуя уже сложившейся привычке, она и в Детройте сначала поднималась одновременно с Адамом и готовила завтрак, который они вместе ели; он ел всегда жадно и громко нахваливал Эрику, обладавшую природным даром вкусно готовить даже простейшие блюда. Эрика сама пожелала, чтобы у них не было живущей служанки, и была вечно занята, тем более что сыновья Адама, двойняшки Грег и Кэрк, учившиеся неподалеку в подготовительной школе, на конец недели и на каникулы обычно приезжали домой.
В ту пору она еще не была уверена, как ее примут мальчики: Адам развелся с их матерью всего за несколько месяцев до того, как встретил Эрику и начался их стремительный, молниеносный роман. Однако и Грег, и Кэрк сразу приняли новую жену отца – даже с радостью, поскольку в предшествовавшие годы почти не видели родителей: Адам был с головой поглощен работой, а мать мальчиков, Фрэнсина, часто уезжала за границу, да и теперь продолжала подолгу там жить. К тому же по возрасту Эрика не так далеко ушла от мальчиков. Ей тогда только что исполнился двадцать один год; Адам был на восемнадцать лет старше ее, однако разница в возрасте между ними не чувствовалась. Их, естественно, разделяли все те же восемнадцать лет, только теперь – через пять лет – разница в возрасте стала казаться почему-то большей.
Объяснялось это явно тем, что вначале обоими владела всепожирающая страсть. Впервые они познали любовь на залитом лунным светом багамском пляже. Эрика до сих пор помнила теплую, напоенную ароматом жасмина ночь, белый песок, мягко плещущие волны, шуршащие под ветерком пальмы, звуки музыки, плывущей с корабля на якоре в Нассау. Они с Адамом были знакомы тогда всего несколько дней. Адам приехал проветриться после развода к друзьям в Лифорд-Кэй, и они познакомили его с Эрикой в Нассау, в ночном кабаре «Чарли Чарлиз». Адам провел с Эрикой весь следующий день – и все остальные тоже.
В ту ночь они не впервые были на пляже. Но раньше Эрика противилась близости, а тогда поняла, что не может больше противостоять, и лишь прошептала: «Я боюсь забеременеть».
А он прошептал в ответ: «Ты выйдешь за меня замуж. Так что это не имеет значения».
Но она так и не забеременела, хотя потом не раз этого хотела.
Когда они через месяц поженились, их тянуло друг к другу и ночью, и по пробуждении – утром. Даже когда они переехали в Детройт, этот ритуал продолжался, несмотря на то что Адаму приходилось рано вставать, таков уж, как довольно быстро обнаружила Эрика, был распорядок дня человека, занимающего руководящий пост в автомобильной промышленности.
Но по мере того как шли месяцы – а потом и годы, – страсть Адама стала изнашиваться. Эрика и сама понимала, что ни он, ни она не сумеют удержать пылкость чувств, но она никак не ожидала, что охлаждение произойдет столь быстро и будет таким бесповоротным. Она ощутила это особенно остро еще потому, что и другие ее обязанности поубавились: Грег и Кэрк теперь редко приезжали домой, так как оба после мичиганской школы поступили в высшие учебные заведения: Грег – в Колумбийский университет, где он намеревался изучать медицину, а Кэрк – в университет штата Оклахома, где хотел заняться журналистикой.
А она все качалась на волнах… Все еще была между сном и бдением.
В доме, расположенном близ озера Куортон, в северном предместье Бирмингема, царила тишина. Адам давно уехал. Как почти все ответственные работники автомобильной промышленности, он в половине восьмого уже сидел за своим столом в надежде успеть поработать часок до прихода секретарей. Утром Адам, по обыкновению, делал гимнастику, минут десять бегал по улице, потом принимал душ и сам себе готовил завтрак. Эрика перестала этим заниматься после того, как Адам откровенно сказал ей, что еда отнимает у него слишком много времени, – теперь он вечно спешил и глотал все подряд, без разбора, не позволяя себе расслабиться и хотя бы эти четверть часа отдохнуть в ее обществе. И вот как-то утром он ей просто сказал: «Дружок, не надо вставать. Я сам себе приготовлю завтрак». И приготовил, приготовил и на другой день, и во все последующие дни – так оно и пошло, хотя Эрике и неприятно было сознавать, что по утрам она больше не нужна Адаму, что ее изобретательные меню на завтрак, весело накрытый стол и само присутствие скорее раздражают его, чем доставляют удовольствие.
Эрике становилось труднее и труднее мириться с тем, что Адама все меньше интересовали домашние дела и все больше захлестывала работа. В то же время он был на редкость внимателен к ней. Стоило зазвонить будильнику, как Адам тотчас его выключал, чтобы не разбудить Эрику, и немедля вылезал из постели, хотя еще совсем недавно, проснувшись, они инстинктивно тянулись друг к другу, находя в лихорадочно быстрых объятиях даже больше удовлетворения, чем ночью. И пока Эрика еще лежала, стараясь дышать ровнее, чтобы унять бешеное биение сердца, Адам, вылезая из постели, шептал: «Ну можно ли лучше начать день?»
Но теперь все это было в прошлом. Они никогда уже по утрам не искали близости и редко – по ночам. В любом случае утром они были как чужие. Адам быстро просыпался, стремительно следовал раз навсегда заведенной рутине и – исчезал.
Сегодня утром, услышав, как Адам ходит внизу, Эрика подумала было нарушить установившийся порядок и присоединиться к нему. Но ведь главное для него – скорость: быстрее двигаться и создавать быстроходные машины, для производства которых и существовала его группа планирования, – последним ее детищем был «Орион», который скоро рассекретят. К тому же человек, столь способный, как Адам, может приготовить себе завтрак так же быстро, как это делает Эрика, – он даже может приготовить его, если потребуется, для полудюжины человек, а такое бывало. Тем не менее Эрика все раздумывала, не встать ли и не выйти ли к нему, когда услышала, как взревел мотор и Адам умчался на своей машине. Значит – опоздала.
Куда исчезли все цветы? Куда девались любовь, жизнь, идеальная пара – Адам и Эрика Трентон, молодые, еще совсем недавно влюбленные друг в друга? Куда, куда?..
И Эрика заснула.
Когда она проснулась, дело уже шло к полудню, и водянистое осеннее солнце светило сквозь прорези в жалюзи на веранде.
Снизу доносились постукивание и гул пылесоса – Эрика с облегчением подумала: значит, миссис Гуч, приходившая убирать дом дважды в неделю, уже за работой и она, Эрика, свободна. Можно будет не заниматься домом, хотя последнее время она вообще уделяла ему куда меньше внимания.
У постели лежала утренняя газета. Должно быть, Адам оставил – такое с ним случалось. Взбив повыше подушки, Эрика села в постели – ее длинные светлые волосы тотчас рассыпались по плечам – и развернула газету.
Значительное место на первой полосе было отведено нападкам Эмерсона Вэйла на автопромышленность. Эрика наскоро пробежала глазами почти весь очерк – он не заинтересовал ее, хотя порою у нее самой возникало желание напуститься на автомобильную промышленность. Она никогда не увлекалась автомобилями – даже когда переехала в Детройт, – хоть и очень старалась ради Адама. Ее даже возмущало то, что столь многие автомобилестроители с головой погружаются в свою работу, не оставляя времени ни на что другое. Отец Эрики, старший пилот на одной из воздушных трасс, был знатоком своего дела, но, выйдя из кабины самолета и направляясь домой, все служебные заботы оставлял позади. Его жизненные интересы были сосредоточены вокруг семьи, а потом еще – порыбачить, смастерить что-нибудь из дерева, почитать, поиграть на гитаре, порой просто посидеть на солнышке. Эрика знала, что даже сейчас ее отец и мать проводят гораздо больше времени вместе, чем они с Адамом.
Когда она вдруг объявила о своем намерении выйти замуж за Адама, отец сказал ей: «Ты – сама себе хозяйка и всегда поступала, как хотела. Так что возражать против твоего намерения я не стану, а если бы даже и стал, это ничего бы не изменило, поэтому лучше уж выходи замуж с моего благословения, чем без него. А со временем, может, я привыкну к тому, что у меня зять почти одних со мной лет. Человек он вроде порядочный, мне он нравится. Но об одном я хочу тебя предупредить: он честолюбив, а что такое честолюбие – особенно там, в Детройте, – ты еще не знаешь. И если у вас жизнь не заладится, так по этой причине». Эрика порой думала: до чего же наблюдателен – и до чего прав – был отец!
Мысли Эрики вернулись к газете и Эмерсону Вэйлу, смотревшему на нее, осклабясь, с фотографии над статьей в две колонки. Интересно, каков этот молодой критик автомобильной промышленности в постели, подумала она и решила: скорее всего никуда не годится. Она слышала, что в его жизни не было женщин – как, впрочем, и мужчин, – хотя ему и пытались приклеить ярлык гомосексуалиста. Просто слишком много стало усталых, истрепанных мужчин. Она небрежно перевернула страницу.
Ничего такого, что удержало бы ее интерес, не было, начиная с международных событий – в мире происходили те же катавасии, что и всегда, – и кончая разделом светской хроники, где мелькали привычные фамилии автомобильных боссов: Форды принимали итальянскую принцессу, Роши были в Нью-Йорке, Таунсенды присутствовали на симфоническом концерте, а Чейпины охотились на уток в Северной Дакоте. На следующей странице Эрика задержалась взглядом на колонке, подписанной «Энн Лэндерс», и тут же стала мысленно составлять письмо к ней: «Моя проблема, Энн, – обычная проблема замужней женщины. По этому поводу много шутят, но шутки выдумывают люди, с которыми ничего подобного не происходит. А истина чрезвычайно проста: говоря откровенно, мне просто не хватает мужского внимания… Уже давно между мной и мужем ничего нет…»
Нетерпеливо, со злостью Эрика скомкала газету и отбросила одеяло. Выскользнув из постели и подойдя к окну, она резко дернула за шнур – комнату залил дневной свет. Затем она поискала глазами сумку из коричневой крокодиловой кожи, с которой выходила накануне, – сумка лежала на туалетном столике. Эрика порылась в ней, нашла маленькую кожаную книжечку и, листая странички, направилась к телефону, стоявшему у кровати с той стороны, где спал Адам.
Она не раздумывая быстро набрала номер. Руки у нее дрожали, и она положила книжечку на кровать рядом с собой. Женский голос произнес:
– «Детройтские подшипники и автодетали».
Эрика назвала имя, записанное у нее в книжке такими каракулями, что только она могла их разобрать.
– В каком отделе он работает?
– По-моему, в отделе сбыта.
– Одну минутку.
До Эрики доносился гул пылесоса. Пока он гудит, она могла быть уверена, что миссис Гуч не подслушивает.
В трубке раздался щелчок и послышался другой голос, но не тот, который ей был нужен. Эрика повторила имя нужного ей человека.
– Да, такой тут есть.
Она услышала, как он крикнул:
– Олли!
Затем другой голос:
– Я взял трубку. – И уже гораздо отчетливее: – Алло!
– Это Эрика. – И уже менее уверенно добавила: – Вы, наверное, помните… мы встречались…
– Конечно, конечно, помню. Вы откуда говорите?
– Из дому.
– Дайте ваш номер.
Она сказала.
– Повесьте трубку. Я сейчас перезвоню.
Эрика ждала и нервничала, не в силах решить, стоит ли вообще снимать трубку, но, когда раздался звонок, она тотчас ее взяла.
– Привет, детка!
– Здравствуйте, – сказала Эрика.
– Для особых разговоров нужен и особый телефон.
– Я понимаю.
– Давненько мы не видались.
– Да. Давно.
Молчание.
– А ты зачем позвонила мне, детка?
– Ну, я подумала… что мы могли бы встретиться.
– Для чего?
– Может, пошли бы вместе чего-нибудь выпить.
– Мы уже в прошлый раз пили. Помнишь? Весь день тогда проторчали в этом чертовом баре в гостинице на шоссе Куинс.
– Я знаю, но…
– И в позапрошлый раз тоже.
– Но ведь тогда мы только в первый раз встретились.
– О’кей, не будем считать тот первый раз. Дамочка раскладывает пасьянс, как считает нужным, – это ее дело. Но уж на второй-то раз мужик рассчитывает добиться чего-то, а не торчать весь день в обжираловке. Потому-то я и спрашиваю: что у тебя на уме?
– Я думала… если б мы встретились, я бы объяснила…
– Не выйдет.
Она опустила руку, державшую трубку. Да что же это она делает, как можно даже говорить с таким… Есть же другие мужчины. Но где?..
В мембране заскрипело:
– Ты еще тут, детка?
Она поднесла к уху трубку.
– Да.
– Послушай, раз ты молчишь, я тебя сам спрошу: ты хочешь, чтоб я переспал с тобой?
Эрика чуть не расплакалась от унижения – она была сама себе противна.
– Да, – сказала она. – Да, этого я и хочу.
– Значит, на этот раз ты уверена. Больше меня не надуешь?
Великий Боже! Он что же, хочет, чтоб она дала ему расписку? Она подумала: «Неужели женщины доходят до такого отчаяния, что способны простить подобную грубость?» Видимо, да.
– Уверена, что нет, – сказала Эрика.
– Блестяще, детка! А что, если мы с тобой сговоримся на будущую среду?
– Я думала… может быть, раньше. – Ведь до среды еще целая неделя.
– К сожалению, детка, не выйдет. Через час уезжаю в командировку. В Кливленд на пять дней… – Он хрюкнул. – Надо ведь, чтоб и огайские девочки не скучали.
Эрика принужденно рассмеялась:
– А у вас действительно широкий диапазон действий.
– Еще какой – ты удивишься, когда узнаешь.
Она пожала плечами и мысленно ответила: «Нет, не удивлюсь. Больше я уже ничему не удивлюсь».
– Я позвоню тебе сразу, как вернусь. А ты не остывай, пока меня не будет. – Снова пауза. И потом: – В среду-то ты будешь в порядке? Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Конечно. Неужели вы думаете, я такая дура, что не подумала об этом? – не выдержала Эрика.
– Ты и представить себе не можешь, сколько женщин об этом не думают.
Эрика слушала его так, словно все, что он говорил, относилось не к ней. «Неужели он никогда не пытался сказать женщине что-то приятное, а не мерзость?» – думала она.
– Мне пора, детка! Назад, в соляные копи! Надо денежки зарабатывать!
– Прощайте, – сказала Эрика.
– До скорого.
Она повесила трубку и, закрыв лицо руками, горько заплакала – плакала она долго, молча; по длинным пальцам ручейками стекали слезы.
Позже, споласкивая в ванной лицо и гримируясь, чтобы не так заметны были следы слез, Эрика продолжала размышлять: «Должен же быть какой-то выход».
Вовсе не обязательно встречаться с ним через неделю. Адам, хоть ничего и не знает, все это может поломать.
Достаточно, чтобы в течение этих семи ночей он был хоть однажды с ней близок, и она устоит перед соблазном, потом заставит свою плоть слушать голос разума. Ведь ей хотелось лишь, чтобы ее любили, чтобы она была нужна и чтобы могла в ответ дарить любовь, – к большему она никогда не стремилась. Она ведь все еще любила Адама. И, закрыв глаза, Эрика принялась вспоминать, как они впервые предались любви, как она тогда была нужна ему.
И Эрика решила, что поможет Адаму. Сегодня ночью – да и в другие ночи, если потребуется, – она все сделает, чтобы его потянуло к ней: вымоет голову, чтобы от волос хорошо пахло, надушится особыми манящими духами, наденет прозрачную ночную сорочку… Стой-ка! Она купит себе новую ночную сорочку – сегодня, тотчас же… в Бирмингеме.
И она принялась поспешно одеваться.
4
В красивом сером административном здании, где вполне мог бы располагаться сенат какого-нибудь штата, еще царила тишина, когда Адам Трентон подкатил к нему с улицы на своей кремовой спортивной машине и съехал в подземный гараж. Он круто развернулся, так что взвизгнули шины, поставил машину в свой бокс и, изогнув длинное тело, вылез из-за руля, оставив ключи в зажигании. От вчерашнего дождя на новеньком лаке машины остались пятна, – ее, как всегда, вымоют, заправят и при необходимости произведут мелкий ремонт.
Высшему начальству – в счет дополнительных льгот – каждые полгода полагалась новая машина по выбору, со всеми новинками, какие пожелает будущий владелец, плюс бесплатное горючее и техобслуживание. В зависимости от компании, в которой человек работал, он брал себе одну из люксовых моделей – «крайслер импириэл», «линкольн», «кадиллак». Лишь немногие вроде Адама предпочитали легкие спортивные машины с мощным двигателем.
Адам пошел по черному натертому полу гаража, безукоризненно чистому и сверкающему. Шаги его гулко зазвучали под сводами.
Посторонний наблюдатель увидел бы перед собой высокого, стройного, атлетически сложенного мужчину лет сорока двух, в сером костюме, с удлиненной, чуть наклоненной вперед головой, словно она тянула все тело. Теперь Адам Трентон одевался строже, чем в былые дни, но по-прежнему производил впечатление человека, следящего за модой и предпочитающего яркие тона. У него было живое, с правильными чертами лицо, синие глаза и прямой жесткий рот, чуть подрагивавший в усмешке, – в общем и целом Адам производил впечатление человека сильного, прямого и честного. Впечатление это подтверждалось и его манерой говорить – открыто, напрямик, что часто обезоруживало собеседника: эту тактику он намеренно применял. Шагал он уверенно, твердо, как человек, который знает, куда идет.
В руках у Адама Трентона был символ его высокого положения – чемоданчик, полный бумаг. Он принес их с собой накануне и просидел над ними дома после ужина до самого сна.
Среди нескольких стоявших в гараже машин Адам заметил два лимузина в отведенном для вице-президентов ряду, близ специального лифта, который поднимал прямо на пятнадцатый этаж, где были расположены кабинеты руководящего состава компании. Ближайший к лифту бокс предназначался для машины председателя совета директоров, рядом с ним – для президента компании, за ними располагались машины вице-президентов по степени старшинства. Место, отведенное для машины, соответствовало положению, которое ее владелец занимал в компании. Чем выше его ранг, тем меньшее расстояние он должен был преодолевать от машины до письменного стола.
Один из лимузинов принадлежал шефу Адама – вице-президенту, ведавшему модернизацией продукции, другой – вице-президенту по связи с общественностью.
Адам направился к небольшой лестнице, взбежал по ней, перешагивая через ступеньку, вошел в главный вестибюль и, подойдя к лифту для обычных служащих, нажал на кнопку десятого этажа. Он нетерпеливо ждал, пока сработает электронный механизм, и, как только лифт рванулся вверх, почувствовал неудержимое желание поскорее приняться за работу, которое обычно охватывало его перед началом нового трудового дня. Как почти все эти два года, главное место в его мыслях занимал «Орион». Будучи в общем-то человеком совершенно здоровым, Адам в последнее время, хоть это и было глупо, нелогично, никак не мог расслабиться, сбросить с себя нервное напряжение. Вот и сейчас он достал из внутреннего кармана зеленую с черным капсулу, сунул ее в рот и проглотил.
Из лифта Адам направился по тихому, безлюдному коридору, где еще целый час будет пусто, в свой кабинет, расположенный в углу здания, – тоже признак занимаемого им положения, которое лишь немногим уступало рангу вице-президента, что, впрочем, явствовало и из того, где стояла его машина.
Войдя в приемную перед кабинетом, он сразу увидел гору корреспонденции, возвышавшуюся на столе секретарши. Было время, когда Адам, увидев почту, останавливался и перебирал конверты в поисках чего-нибудь интересненького, но он давно уже расстался с этой привычкой – слишком ценил он свое время, чтобы тратить его на такие пустяки. Хорошая секретарша, заявил однажды в присутствии Адама президент компании, обязана «отсеивать из почты всю муть», чтобы она не попадала на стол начальнику. Она первой должна просматривать все бумаги и решать, что следует переслать в другое место, чтобы начальник мог заниматься разработкой важнейших решений и идей, а не загружал себя мелочами, с которыми вполне могут справиться люди, стоящие на низших ступенях.
Таким образом, лишь немногие из тысяч писем, которые владельцы машин ежегодно адресуют руководителям автомобильных компаний, достигают адресатов. Все письма просматриваются сначала секретаршами, затем отсылаются в отделы, где их разбирают в установленном порядке. Время от времени жалобы и предложения, поступившие в течение года, суммируются и изучаются, но ни один из руководителей автопромышленности не в состоянии был бы познакомиться с каждой из них в отдельности и при этом заниматься своей работой. По назначению попадали лишь те письма, которые ловкий корреспондент адресовал тому или иному руководителю на домашний адрес, что нетрудно сделать, поскольку почти все адреса значатся в «Справочнике именитых горожан», имеющемся в библиотеках. Тогда уж тот, кому письмо адресовано, или его жена прочтут его, и, если оно содержит интересные факты, делу будет дан ход.
Войдя к себе в кабинет, Адам Трентон сразу увидел оранжевый глазок селектора. Это означало, что ему уже звонил вице-президент по модернизации продукции. Адам нажал на кнопку над горящей лампочкой и стал ждать.
Из селектора раздался металлический голос:
– С чем связана сегодняшняя задержка? Авария на шоссе или проспать изволили?
Адам рассмеялся, но невольно взглянул на стенные часы – они показывали 7.23.
Он нажал на рычажок, соединявший его с кабинетом вице-президента пятью этажами выше.
– Вы же знаете мою беду, Элрой: по утрам просто не могу выбраться из постели.
Вице-президенту по вопросам модернизации продукции редко удавалось загнать Адама в угол, и когда это у него получалось, он уж старался воспользоваться ситуацией.
– А как у вас складывается ближайший час?
– Да есть кое-какие дела, но не очень срочные.
Разговаривая, Адам мог наблюдать из окна кабинета за движением транспорта на шоссе. Несмотря на раннюю пору, поток машин был уже довольно велик, хотя и не так велик, как час назад, когда рабочие спешили на заводы к началу дневной смены. Однако вскоре характер движения снова изменится, когда тысячи служащих, завтракающих сейчас дома, сядут в машины и помчатся на работу. Плотность транспортных потоков, прихотливо меняющаяся, словно ветер, всегда завораживала Адама – что неудивительно, поскольку автомобили, которые, собственно, и составляют этот поток, были его idеe fixe[6]