Читать онлайн Штрихи к портрету бесплатно
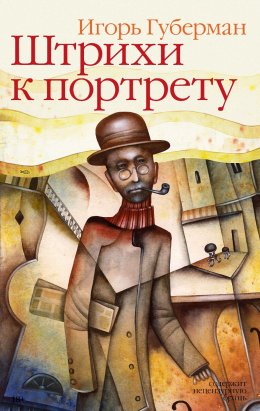
© И. М. Губерман, 2003
© ООО «Издательство Гонзо», 2017
I
Не знаю, когда я допишу эту книгу про Вас, уважаемый Николай Александрович, но начать ее я должен непременно здесь и сейчас. Пока восемьдесят четвертый год на дворе, пока мы с Вами ровесники. Мне сейчас сорок восемь, почти столько же было Вам, когда ранней весной тридцать восьмого года Вас расстреляли на грязном утоптанном снегу возле лагерного поселка Чибью. Там теперь большой и шумный город Ухта, и только редкие старики помнят отчетливо (хотя и вспоминают неохотно), ценою жизни скольких зеков поднялся этот город, ныне беспамятно прозябающий на костях.
Не знаю, как другие, но я уверен, что умершие где-то существуют. Они лишены возможности вмешиваться в жизнь живых, но наблюдать ее могут наверняка. Наша память – источник их существования. Именно поэтому, мне кажется, люди так боятся одиночества – словно знают, что одиночество при жизни обрекает их на небытие после смерти. Не отсюда ли отчасти наша жажда продлиться в детях? И желание иметь близких. И тоска по друзьям, если их нет. Впрочем, незачем развивать эту тему – Вы ведь знаете, о чем я говорю. Вас-то помнят, и не забытость, должно быть, мучает Вас, а невозможность отомстить за свою оборванную жизнь. Только кому же, Николай Александрович? Жуткая мясорубка тех десятилетий прокрутилась, не завершившись Нюрнбергским процессом. А ведь сколько миллионов душ обрело покой, если б этот суд состоялся в России! Хотя бы заочный, ибо умерли и большинство палачей. Впрочем, Вы и это знаете гораздо лучше меня.
Я пишу это сейчас в городе Малоярославце, в доме Вашей старшей дочери, где впервые о Вас услышал, случайно сюда попав. Она читала мне сегодня днем Ваши стихи: освещенные Вашей жизнью и смертью, они показались мне прекрасными. Будь Вы живы, я бы отнесся к ним достаточно равнодушно. Уж извините. Я и сам пишу стихи – видимо, дело в этом. «Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой». Помните, конечно? Как Вы, кстати, относились к Блоку? Современника, вряд ли Вы обожествляли его, как мы. Впрочем, Вы служили по нему в Москве панихиду и читали с амвона церкви его стихи – но к этому мы еще вернемся. Вы дружили с Осипом Мандельштамом много лет – он однажды упомянул Вас в своей «Египетской марке» – священника, отца Бруни, с пакетом кофе в руках. Вряд ли Вы читали это при жизни. А про его смерть в лагере Вам уже узнать не привелось, в одном возрасте с ним Вас настигла гибель, только Ваша была более легкой. Более быстрой, я имею в виду. Он ругал Ваши стихи как-то в разговоре с Ахматовой – у нее об этом сохранилось несколько слов в одной из записных книжек. Что поделаешь, он был безжалостен в своих суждениях о коллегах. Зачем я все это пишу сейчас и здесь, зачем болтаю? Просто боюсь приступить к главному – объясниться, почему решился и осмелился о Вас писать. А надо бы. Уже пора.
Очень быстро уходит и стирается в памяти то время. Уже умерли современники Ваши, очень мало воспоминаний осталось, да и те где-то в рукописях хранятся, сожжены дневники и письма (кроме тех, что отобраны при обысках), еще молчат архивы, да и немного будет материалов, связанных с Вами.
Ваши современники сейчас – как тени, оставшиеся на стенах после взрыва бомбы в Хиросиме. Даже камень тогда выцвел мгновенно от кошмарного атомного сияния, и человеческие силуэты – тени людей – сохранились поэтому на камне. Чьи они – уже неизвестно. Такая же – только растянувшаяся во времени – катастрофа произошла в России. И одну из таких теней мне остро захотелось восстановить. Помните – об оживлении мертвых писал когда-то чудаковатый русский философ? Даже общим делом это назвал, то есть общим долгом. Я согласен с ним в смысле памяти: мертвые должны хотя бы заговорить. Как можно больше убитых в этом многолетнем истреблении должны заговорить. Ибо ведь погибли лучшие, Николай Александрович, Россия страшный геноцид над собой осуществила. Помните, как мечтали о революции русские интеллигенты? Догадываясь, что она их уничтожит, не веря в это, призрачно надеясь, отказываясь трезво понимать. Сбылось. Вы естественно оказались в их числе. Сколько у Вас способностей было разных! Я сегодня услыхал о них впервые. И услышанное – поразило меня.
Уже ночь. Я сижу возле стола; прямо надо мной на стене – Ваш автопортрет, вывезенный Вашей женой из лагеря.
Рисунок этот – прекрасен. У Вас типичное лицо одаренного российского интеллигента: мягкое и твердое одновременно, с высоким лбом под шапкой небрежно откинутых назад волос, усмешливые (ни следа страданий) большие проницательные глаза. Негустая вьющаяся борода. Худощавость, тонкие скулы, чуть тронутый улыбкой рот. Доброжелательство, готовность понять, любопытство к миру. Именно этот образ был напрочь истреблен в России всего за два стремительных десятилетия. Сейчас снова появляются такие лица, и это очень обнадеживает мою душу.
В Тенишевском училище Вы уже писали стихи, но, закончив, поступили в Петербургскую консерваторию. Обнаружив и к музыке способности чрезвычайные – композитора, исполнителя, импровизатора. Немыслимо разносторонняя одаренность клубилась в генах Вашего древнего рода. Истинным Вы были сыном и участником того странного, очень короткого в России, ярко одухотворенного времени, справедливо названного Серебряным веком. Возрожденческая это была одаренность… Но взгляните-ка теперь сторонним глазом на всю Вашу дальнейшую судьбу – это будет лучшим объяснением тому, что я так увлекся Вашей жизнью.
…Десятые года века. Николай Бруни блестяще закончил консерваторию (учителя дружно прочили концертную славу), живет частными уроками музыки, безоглядно наслаждается жизнью (весел, умен, красив и азартен), пишет стихи, уже печатает их, член Цеха поэтов – того первого, легендарного ныне, собранного Гумилевым. Дружит Николай Бруни с лучшими (интереснейшими, во всяком случае) людьми своего поколения. А еще хватает времени и страсти играть в первой футбольной команде, тогда возникшей в Петербурге.
Наступает подлинное, а не календарное начало двадцатого века: Первая мировая война. И немедленно все оставив, уходит Николай Бруни на фронт в качестве санитара-добровольца. Вскоре именно под таким названием («Записки санитара-добровольца») публикует он фронтовые свои заметки в журнале.
Еще год – Бруни заканчивает летную школу, он в отряде первых русских военных летчиков. Трижды Георгиевский кавалер, за находчивость произведен в прапорщики. В сентябре семнадцатого самолет разбивается. Второй пилот (он же стрелок) – погибает сразу, а в искалеченном Николае Бруни еле-еле еще теплится жизнь, слабо и неуверенно пробивается пульс. Врачи колеблются, стоит ли его лечить, на всякий случай из чисто профессиональной добросовестности зашивают раны и накладывают гипс на переломанные руки и ноги.
И тут у него – видение. Или галлюцинация. Разве дело в названии, когда ясно и четко видит он возле своей больничной кровати участливо склонившуюся к нему деву Марию, пресвятую заступницу всех скорбящих? Она молча смотрит на него, и он дает ей обет: если останется в живых, то примет сан священника, посвятит свою жизнь служению ее Сыну.
И приходит в себя. И стремительно начинает выздоравливать. Срастаются кости, заживают рваные раны, полную сохранность обнаруживает рассудок после страшной черепной травмы. И, конечно же, Бруни исполняет данный в беспамятстве обет.
Свое служение Николай Бруни начал в двадцать первом или двадцать втором году. Замечательно подходящее время, чтобы быть в России священником. Уже семья к тому времени была (да и нельзя священнику без семьи), двое детей (всего их будет шестеро), проступила первая седина.
Все благополучно шло до двадцать седьмого года, когда просто-напросто закрыли церковь (срочно овощехранилище понадобилось), и он счел это за разрешение свыше прекратить обет служения.
Переехала семья Бруни под Москву и около двух лет терпела страшную бедность, ибо глава семьи перебивался лишь случайными заработками. Пока не встретил старого приятеля по летной школе; тот пригласил работать переводчиком в авиационном институте. С четырех европейских языков (знал с детства) переводит Бруни специальную техническую литературу. Года два. После чего – не случайно же всю жизнь обожал он Леонардо да Винчи именно за разбросанность талантов и интересов – обнаружил незаурядные конструкторские способности.
Тут бы вот жить и жить. Семья, великолепная работа, даже две комнаты дали в старом бараке на окраине Москвы, поблизости от института. Старшему сыну шел уже пятнадцатый год, годовалая младшая была шестым в семье ребенком.
Арестовали его девятого декабря тридцать четвертого года. Ибо, услышав об убийстве Кирова, громко сказал инженер Бруни: «Теперь свой страх они зальют нашей кровью». Статья обвинения известна доподлинно: знаменитая ныне на весь мир пятьдесят восьмая – пресловутая, проклятая, повальная. Срок небольшой – пять лет.
Как обычно тогда было это, как буднично – правда же, Николай Александрович? Только каждый полагал, что мимо просвистит, что его минует сия чаша. Странной это все игрой казалось. Хотя смертельной, но игрой. Выписал я из прочитанных недавно мемуаров одно письмо конца двадцатых годов: «Миша очень милый и интересный. Отбыл наказание после войны, вернее, он был на проверке пять лет без обвинения и статьи, а теперь попал под амнистию».
Не правда ли – замечательно спокойная интонация? Подержали ни за что пять лет и выпустили по амнистии. И за то спасибо. Игра. Непонятных и разнузданных стихий игра.
Оказался Бруни в лагере в Чибью. На реке Ухте, на севере державы разворачивалось строительство гигантского нефтепромысла.
И снова повезло невероятно, ибо стал он лагерным художником. Это обещало жизнь, и его письма к родным полны любви, надежды, шуток. Более того – в тридцать седьмом, когда вся страна так пышно и громко отмечала столетие смерти Пушкина, словно шумиха эта призвана была заглушить звуки повсеместных расстрелов, получил зек Бруни почетный заказ: поставить памятник Пушкину в разрастающемся городке для надзорсостава и вольнонаемных работников. Это была первая в его жизни работа скульптора (раньше, правда, много по дереву вырезал), и он блестяще выполнил ее.
Очень распахнутый, очень свободный, словно с наслаждением дыша морозным воздухом, сидел российский гений на скамье, вольно откинув руку. Так что не случайно памятник этот стал украшением города.
А тогда Вам за него дали свидание, и жена, три дня пробыв у Вас, привезла два рисунка и тетрадь стихов.
А весной тридцать восьмого перестали приходить из лагеря письма. Жена слала телеграммы, запрашивала начальство, в какую-то центральную контору ходила. Плакала, умоляла, настаивала. Ждите, отвечали ей, перевели, должно быть, этапы длятся очень долго.
Так она и ждала до начала войны. Вас давно уже не было в живых. В феврале или марте тридцать восьмого расстреляли Вас на лагпункте Ухтарка – специальное такое место было там для коллективных убийств, вроде Кирпичного завода под Воркутой – эти места еще войдут в историю России, станут в ней нарицательными, символами эпохи станут. Непременно, но еще не знаю когда.
А расстреливала Вас специальная палаческая группа Кашкетина, уже описанная в статьях и книгах. Семья о Вашей смерти узнала двадцать лет спустя. История страны по всей Вашей семье прокатилась к тому времени чугунным катком. Но об этом я чуть позже расскажу отдельно и намного подробней.
Что же есть у меня для книги о Вас, Николай Александрович? Почти ничего. Та тончайшая канва биографии Вашей, что помнят дочери, небольшая тетрадь чудом сохранившихся стихов, письма из лагеря – одно или два (остальные сожгли, была такая ситуация в доме, по-российски банальная: ждали обыска, так что не обижайтесь), надеюсь разыскать (вряд ли) хоть немного знавшихся с Вами стариков. Очень поздно я за это взялся, Николай Александрович. Ушли ровесники Ваши, да и младшие современники – тоже в большинстве своем ушли. А тень Вашу восстановить мне очень хочется. Верней, Ваше лицо – по этой тени. Не уверен, что сумею и повезет. Но постараюсь. Поверьте мне – постараюсь.
* * *
Кончилась страница, и литератор Илья Рубин чуть откинулся назад, приятно ощущая твердый уют полукруглой спинки стула. Снял очки, закурил и ощутил одновременно – радость, что положено начало, страх, что не справится с задуманным, нервный азарт неведомой доселе работы. Раньше он писал статьи и очерки, популярные книги о науке, сценарии документальных фильмов, просветительские халтуры для телевидения. Это давалось ему легко, усилий души и разума почти не требовало. Теперь надо было рыться в воспоминаниях (где их возьмешь?), наудачу и наугад отыскивая в них следы Бруни, что-то сочинять – из эпохи, которую он не знал, искать и расспрашивать стариков (жив ли еще кто-нибудь?), лезть в архивы – скорей всего напрасно, главное – найти форму повествования, чтобы стала выпуклой и живой фигура необыкновенного человека с обычной для эпохи судьбой. Топилась печка, пламя классически ровно гудело в ней, хрестоматийно потрескивали березовые дрова, со стены смотрел прямо на Рубина – и мимо него – человек с негустой курчавой бородкой, иронической усмешкой в глазах и замечательно высоким лбом. Его ровесник – герой задуманной документальной книги. Напечатать ее, конечно, не удастся, ибо слишком много в ней окажется всякой правды о кровавом и неправедном времени. Ну и наплевать, что не удастся, надо же когда-нибудь начинать писать по-настоящему. Только хватит ли знаний, понимания, пороха? Хорошо бы… А кормиться пока можно халтурами.
Следует сказать, что у литератора Ильи Рубина все же были основания надеяться, что он справится и книгу напишет. Знаниями был он современен и вполне под стать коллегам, то есть, окончив школу и институт, оказался разносторонне и глубоко невежествен. Однако, в силу характера, это способствовало в нем любознательности (отчего и начал он когда-то писать о науке), а любопытство к людям и событиям было у него с рождения – острое, щенячье, бескорыстное. Кроме того, достаточно начитанный к своим почти пятидесяти годам, он уже знал, что прозу следует писать так, чтобы умолчанное скрывалось под написанным зримо, впечатляюще и весомо (как нижний бюст девицы Айсберг, подумал Рубин – склонный, увы, к неуместным шуткам, что не раз уже портило ему жизнь, отношения с людьми и репутацию). Он осознавал, по счастью, что, не будучи свидетелем того времени и не являясь (кроме того) Львом Толстым, он описывать ту эпоху в форме романа просто не имеет права. А может только рассказать о найденном и прочитанном, используя подробности и факты (а также мысли, если случайно возникнут), не впадая в соблазн живописания. Ибо, не обладая даром художественного повествования, имел Рубин (по сравнению с такими же обделенными) одно преимущество: не пытался этот дар имитировать. Что поделаешь, меланхолически подумал он, высохли во мне эти соки (даже если ранее были) от бесчисленных статей, которые кормили семью. И тут же вспомнил собственный свой стишок об этом (издавна писал короткие стихи, служившие отдушиной чувству юмора, непригодного для прокорма семьи): «Наследства нет, а мир суров – что делать бедному еврею? Я продаю свое перо, и жаль, что пуха не имею».
Но вот о Бруни ему неудержимо захотелось написать, как бы возвращая к новому бытию этого напрочь забытого человека, словно доказывая кому-то невидимому, что справедливость все-таки существует, и не беда, что одной жизни обычно не хватает, чтобы ее дождаться. Именно таков был основной мотив вдруг вспыхнувшего в нем азарта.
И по образу мыслей Рубин был готов к такой работе: молодость его пришлась на конец пятидесятых, когда сознание всей страны стало мучительно и медленно просыпаться от многолетнего обморока затмения и страха.
И еще немаловажная деталь должна быть упомянута немедленно – впрочем, о ней лучше расскажет некая короткая история. Однажды Илья Рубин с приятелем пошли в гости к одному известному литературному критику. Тот был всегда величественно грустен – от обуревавших его высоких переживаний, а также от неотзывчивости его мыслям нашей глухой и несовершенной эпохи. Это о нем был когда-то у Рубина стишок: «Такая жгла его тоска и так томился он, что даже ветры испускал печальные, как стон».
Пили водку. Рубин был в настроении, что-то весело и легкомысленно болтал, из-за чего глубокие и чуть надрывные монологи хозяина (когда ему случайно удавалось вставить свое трагическое слово) звучали так неуместно, словно это не они к нему, а он пришел куда-то в гости не совсем по адресу. Потом он вдруг встал и вышел. Прошло минут пятнадцать, и жена его забеспокоилась и пошла узнать, в чем дело. Ее супруг и повелитель лежал ничком в соседней комнате на диване, гневно сопя свежевыкуренной трубкой.
– Не пойду, – ответил он на немой вопрос жены. – Просто заболеваю, так меня раздражает в Илье его физиологический оптимизм.
Эти замечательные слова стали известны впоследствии, а тогда хозяйка просто и изящно соврала приятелям о сердечном приступе, и они, быстро-быстро допив водку, сразу же тактично удалились.
Слова эти были правдой. Оптимизм, раздражавший утонченные натуры, проявлялся у Рубина в постоянной и неизбывной радости существования. Смешанной с удивлением, что столько дано: жить, дышать, ездить, любить, читать, обмениваться словами. Это шло, возможно, по наследству, ибо нечто промелькивало такое же в его отце, но отец был искалечен многолетним страхом до того, что даже дома оставался тих и безличен. А возможно, это являлось поэтической чертой – за такое истолкование своего характера Рубин в молодости целый год любил одну пылкую дуру, бросившую его, по счастью, ради флегматичного кандидата наук. А возможно, оптимизм был утешением природы за умственную недостаточность (на этом варианте довольно часто настаивала его любимая и любящая жена Ирина, устающая от его беспечности). Не важно. Важно, что эта черта вмиг почудилась Рубину в человеке, о котором он собрался писать, – и немедленно приблизила его образ, объяснила легкость, с коей тот поступал, менял пристрастия, искушал судьбу, оставался самим собой под сокрушительным прессом времени.
Легкомыслие, оптимизм, неподготовленность – составляли такой законченный букет качеств, сомнительных для настоящего литератора, что просто грех было однажды не попробовать взяться за настоящую книгу. И об этом Рубин подумал мельком, закуривая в ту ночь несчетную сигарету.
Впрочем, несмотря на склонность к болтовне, знал он за собой умение слушать, на которое очень надеялся, решив разыскивать стариков, что-либо помнивших о хотя бы последних годах Бруни. Ибо на печатные источники надежды не было. Печатные источники повествовали о людях, коих власть назначила и уполномочила быть героями эпохи, так что те, кто сгинул в лагерях, к их числу заведомо не относились. Разве что генеалогию можно было выяснить из книг, ибо покойный Николай Александрович Бруни был отпрыском почтенного и старинного рода, хорошо известного и памятного в художественной жизни России.
А старики отыщутся, Бог даст, – надо будет расспросить приятелей. Завтра же вернусь в Москву. Повезло мне, думал Рубин, повезло, год буду копаться, все заброшу и запущу, на остальное плюну и забуду. Повезло мне, крепко повезло. И никуда теперь от этого не деться. Вот Ирина обрадуется! А чем же, она спросит, мы кормиться станем этот год? У тебя ведь двое детей, Илюша, вечно ты об этом забываешь. Что же, скажу я ей, вон у Бруни было шестеро, да какое время было на дворе. С нынешним никак не сравнить. Сегодня дышать дают, и стука в дверь не надо ждать. Кстати, о стуке в дверь: не каждого встречного о той эпохе расспрашивать безопасно. А то и тормознут на полдороге и все собранное отберут. Или, что еще хуже, отнимут, когда закончу. Как у Гроссмана было с романом. Эва, куда хватил, еще не начал свою жалкую повесть, а уже у тебя мания величия. Кому ты нужен, бедолага-графоман?
И еще одно во тьме явилось вдруг высокое и важное соображение. Где-то вычитал случайно Рубин в сложной и скучной специальной книге, что формы прежнего романа устарели все до единой (убей Бог, не знал Рубин, какие это были формы) и что настало, дескать, время, чтобы взял в романе главное слово интеллигентный и проницательный автор, прямо говорящий о жизни сам, от своего лица. И хотя там ни намеком не сквозило, что таковым явиться мог бы именно Рубин, однако же прогноз этот (совет или наказ) очень ему лично вдруг польстил и сильно запал в душу. Именно вот так: интеллигентный и проницательный автор, повествующий и размышляющий, не скрываясь.
И на этой мысли остановившись, блаженно уснул литератор Рубин – счастливый, что затеял непосильное.
* * *
Начинать историю семьи следовало, безусловно, издалека – с того тысяча восемьсот восьмого года, когда швейцарский подданный Антонио Бароффи Бруни внезапно бежал в Россию. Правда, со всей семьей и имуществом, так что бегство было не поспешное. Какая-то произошла глухая история, скорей финансовая, нежели романтическая; известно лишь доподлинно, что бегством Антонио Бруни избавлялся от грозившей ему тюрьмы. В России он поселился в Царском Селе, стал Антоном Осиповичем, быстро признан был как «живописного и скульптурного дел мастер», а спустя семь лет после приезда – академик Академии художеств. Занимался он декоративной живописью во дворцах Царского Села и Павловска, расписывал потолки и стены во многих домах Петербурга, был всегда приветлив, доброжелателен и хлебосолен. Бывали у него на завтраках и лицеисты – из перечислявшихся фамилий глаз Рубина привычно выхватил Пушкина, и машинально Рубин вычислил немедля, что подраставший в этой семье сын (в дальнейшем знаменитый Федор Бруни, ректор Петербургской Академии художеств) на два года всего Пушкина моложе, они вполне могли бы подружиться.
Не случилось. Но пунктирный след связи художников из рода Бруни с веселым именем Пушкина не оборвался и скоро возник опять. Весьма способный ученик Академии художеств Федор Бруни в девятнадцать лет оставил вдруг учебу и на много лет уехал в Италию. Там он пишет портрет княгини Зинаиды Волконской (школяр тайно и безнадежно влюблен в знатную красавицу), и литографию с одного из набросков княгиня посылает Пушкину. Это восторженно-романтический портрет: Зинаида Волконская перевела на итальянский драму Шиллера «Жанна д’Арк», превратила ее в оперу и сама же пела заглавную роль в домашнем театре. Молодые русские художники, учившиеся в Италии, рисовали ей декорации и с восторгом изображали толпу.
Когда-нибудь, думал Рубин, будут непременно статьи и книги о такой вот перекличке с именем Пушкина многих поколений русских людей, очень разных по характеру и судьбе. И тогда этот яркий портрет, нарисованный в Риме юным художником Федором Бруни (молодость, влюбленность, Италия), станет в один ряд со скульптурой Пушкина, сделанной столетие спустя зеком Николаем Бруни (лагерь, отчаяние, тайга).
Скоро Зинаида Волконская уедет в Россию ненадолго, войдет в историю культуры своим литературным салоном, станет задыхаться в российском воздухе, вновь оставит Москву ради Италии – уже теперь, кажется, навсегда, ибо станет ревностной католичкой, – пока что именно от ее семьи получен юным Федором Бруни первый в его жизни заказ на большую картину, сразу принесшую ему известность.
Классический опыт с шекспировскими страстями: вражда двух древних городов – Рима и Альба-Лонги, смертельная схватка трех братьев Горациев (Рим) и трех братьев Курациев (Альба-Лонга). Пятеро участников погибают в этой схватке. Но когда Камилла, сестра Горациев, начинает рыдать по своему убитому возлюбленному (из враждебного рода), то оставшийся в живых родной брат насмерть поражает ее мечом. Классическая римская доблесть: долг и честь выше любой любви.
На полотне Федора Бруни только что совершено это убийство: вдохновенное и непреклонное лицо Горация, умирающая красавица Камилла, в ужасе отпрянувшая толпа. Картина была названа «Триумф Горация», ибо в своем главном значении триумф – это высокий победительный миг торжества и воли. С испанским «моментом истины» есть в нем созвучие и перекличка, то есть внутренняя смысловая рифма.
Снова застыл Рубин, слепо глядя на репродукцию картины и уже не видя ее. Ибо иное внутреннее созвучие ему послышалось в этом родственном древнеримском убийстве – с поступком и гибелью (много столетий спустя!) маленького замызганного школьника из деревни на Северном Урале. Имя его надолго стало в России символом одобренного свыше и рекомендованного всем предательства. Почему же, подумал Рубин, от убийства Горацием сестры веет жутковатой и трагедийной, но доблестью, а от доноса Павлика Морозова на отца – мерзостью и гнусью непреходящей? Оба деяния – ради абстрактной идеи. В чем же дело?
Кстати, Гораций своим поступком обрекал себя на верную смерть и отлично понимал это: законы Рима карали беспощадно такую расправу. (Он не знал, что все кончится счастливо: отец его обратился к народу Рима, и толпа проявила великодушие.) Что же касается несчастного Павлика Морозова, то он был совершенно бескорыстен – вот единственное, что можно сказать в его защиту. Но подлинной трагедийной жертвой оказался. Ибо не совсем уразумел из-за легкой дебильности, на что он обрек отца, но после удостоился хвалы приехавшего начальства и, безумный прилив мальчишеского тщеславия испытав, принялся ревностно выслеживать укрывателей хлеба, за что и был зарезан родным дедом (или дядей, который тоже был при этом).
Только что довелось Рубину прочитать книгу (вернее, рукопись книги) о Павлике Морозове. Кропотливо и скрупулезно собрал один журналист разные факты, объехав и расспросив тех свидетелей, кого ему удалось найти. Втихомолку, разумеется, это сделав, ибо давно уже подлинная история России собирается тайно и втихомолку. (Какое счастье, что собирается все же, подумал Рубин, читая.) Очень страшная получилась книга. Удручающая скорее, чем трагическая. О темноте, жестокости, грязи, слепоте и подлости. Никаким он даже пионером не был, этот несчастный, ибо в помине еще не было пионерской организации в их заброшенной Богом и людьми глухой деревне. В четырнадцать лет едва умеющий читать по складам, вырос Павлик в нищей семье среди четырех столь же оборванных и запущенных детей (ссорясь, они мочились друг на друга). Недоразвитый, он предпочитал общаться с младшими и командовать ими. Колхоз тоже никак не удавалось организовать в их селе – посреди собрания кто-нибудь истошно вопил «Пожар!», и все разбегались. А отец его был назначен (или избран как бедняк и неудачник) председателем сельского совета. И чисто российское милосердное совершил преступление: дал справки нескольким ссыльным кулакам, что они местные крестьяне, это помогло им исчезнуть из гибельных мест. Ссыльных с Украины и Кубани привозили туда тысячами, просто высаживая и бросая в болотистых лесах. Тайга сама рассортировывала их. Немногие выносливые добирались до деревень, но никто им не осмеливался помогать, несмотря на древнюю традицию сострадания несчастным. А отец Павлика – осмелился. Да еще бескорыстно. Очень о нем сохранилась в селе хорошая память. А когда он ушел в соседнюю деревню к другой женщине, тут и донес на него сын – это обиженная мать науськала его на отца. А после он вошел во вкус и еще полгода доносил на односельчан – у кого спрятано зерно, у кого мясо. И кичился бедный недоумок, что его повсюду стали бояться. И был убит своими же родными. Остальное все было придумано и раздуто. Нужен был той атеистической эпохе свой святой, и она его по заслугам получила: умственно недоразвитого подростка, ошалевшего от счастья вызывать у всей деревни страх. А ведь судят потомки об эпохе – по ее прославленным героям.
И никак теперь, никаким усилием воли не мог вернуться сейчас Рубин в высокий и отвлеченный мир классической живописи.
Очевидно это было в середине страшных тридцатых, когда такого размаха достигло безумие доносительства, что на слете стахановцев всей страны сам Орджоникидзе говорил с похвалой об ударниках осведомительного движения. Приведя пример некой семьи со станции Кривино Юго-Западной железной дороги. Муж, жена, два сына и три дочери донесли на сто семьдесят двух человек (немедленно посаженных, естественно), за что были всей семьей награждены орденами и ценными подарками.
А в пионерском лагере Артек на берегу Черного моря затеяна была вовсе дьявольская игра: собран пионерский слет последователей Павлика Морозова. Сотни две мальчиков и девочек съехались по путевкам в Крым, чтобы поделиться у вечернего костра, как они посадили в тюрьму родных и близких. Каждый вечер излагалось несколько историй: кто и как донес на папу, маму, дедушку или дядю. Пионервожатую их, молодую комсомолку, беспокоило, что дети во сне кричали, с кем-то спорили, мочились под себя, плакали и будили друг друга. Тогда вожатая обратилась по начальству с просьбой перенести обмен опытом на утро, а у вечернего костра заняться чем-нибудь невозбуждающим. На само мероприятие она не думала посягать, оно было вполне в гармонии с ее идеями новой жизни. Обвинили ее, однако же, именно в покушении на мероприятие. Из лагеря она вышла через семнадцать лет. Надо только добавить, что пережитое никак на ее образ мыслей не повлияло (именно поэтому ее история стала известна): всем и каждому она повествовала, что хотела сделать как лучше – чтобы дети отдыхали по ночам и как следует за лето поправились. Для новых подвигов на полюбившемся патриотическом поприще.
Возьми себя в руки, идиот, опомнись и возвратись в Италию, громко сказал Рубин сам себе, закурил, побегал по комнате и нехотя сел за стол делать выписки о жизни Федора Бруни.
Живописец вернулся в Россию летом тридцать шестого и маялся, ожидая прибытия из Рима огромного холста, главной своей работы. А пока что – снова Пушкин. Федор Бруни рисует его на следующий день после смерти.
Спустя чуть менее ста лет потомок Федора, художник Лев Бруни, сделает рисунок мертвого Блока – тоже на другой день после смерти. И запредельное истощение, и черты отчаяния на всегда бесстрастном лице – ничего не упустит взгляд рисовальщика. А в эти же дни его брат, священник в маленькой церкви Николы-на-Песках в арбатском переулке, совершит заочную церковную панихиду и поступит небывало: стоя на амвоне, начнет отпевание стихами Блока. «Словно пророческий голос самого поэта раздался в церкви», – запишет в воспоминаниях потрясенный участник панихиды. Не за это ли нарушение порядка службы было отказано священнику Бруни в Московском приходе? Впрочем, об этом в свою очередь.
Снова Рубин записал в тетради свой навязчивый повтор: семья Бруни и русская культура. Тридцать седьмой год, лагерь в Ухте, огромная скульптура Пушкина. Ровно сто лет спустя после рисунка Федора Бруни делает памятник голодный, мерзнущий, мало на что надеющийся зек. А до смерти ему – ровно год. Пушкин сидел в широко распахнутой шубе, вольный до умопомрачения, вольный изнутри – до такой свободы не дотянуться, чтоб одернуть, такое не пресечь; это богоданное состояние, пожизненная благодать, от нее – и легкость во всей фигуре. Монументальная, величественная легкость неколебимой внутренней независимости. Лагерный художник Бруни был счастлив, делая эту последнюю в своей жизни работу.
Но пора вернуться к его предку. Ибо Федор Бруни выставлял свою главную картину – «Медный змий». Эпизод из Библии, воплощенный историческим живописцем.
В очередной раз отчаялись, возроптали и возмутились в пустыне люди, ведомые Моисеем к обетованной земле, вчерашние рабы на тяжком пути к свободе. На этот раз их недовольство карается дождем из ядовитых змей. В муках умирают ужаленные. Нет пощады ни детям, ни старикам. А спасение – в огромном медном змее, воздвигшемся посреди толпы. Стоит человеку взглянуть на это священное изображение (с верой и мольбой взглянуть) – и он спасен.
Жестокий ветхозаветный сюжет: возроптавшие против воли Бога, против судьбы и предназначения своего – обречены. Он о безнадежности, этот сюжет, и одновременно – о высшем милосердии. О бессмысленности противостояния верховной стихии и необходимости (неизбежности) покорства и послушания. О прощении за сомнения и ропот, если согласен одуматься и прильнуть.
Мечутся женщины, болью и ужасом искажены молодые лица. Стоическое отчаяние у мужчин. Дети, не понимающие, за что им и откуда этот кошмар. Младенцы, гибнущие на руках у матерей. Стоны, мольбы, проклятия. Мужчина на переднем плане картины корчится в судорогах боли, голова его запрокинута в смертной муке – ничего, кроме богохульства, его уста сейчас не могут произнести. Многие уже мертвы, повсюду змеи, пафосом всеобщего ужаса дышат жесты, мимика лиц и пластика фигур, сами краски. Безвыходность, мучение, гибель.
А вокруг – бездушные скалы. И пространство, чуждое сострадания. И на фоне этой пустыни и камня – им созвучная по холодной отрешенности – группа людей вокруг величественного пророка. Суровость и беспощадность на их лицах. Неподвижны застывшие фигуры. Это приближение пророка. Праведники. Соучастники карательной акции.
Вполне мог вспомнить эту картину своего предка заключенный Николай Бруни. Вполне подумать мог о новом звучании старого холста через столетие. Снова рыдали женщины, разлучаемые с мужьями и детьми, снова, сжимая зубы, уходили в небытие мужчины, снова не было пощады ни детям, ни старикам, и то же самое кошмарное недоумение: за что? откуда? и доколе? – царило в воздухе и стонах. Снова проклинали, отчаивались, молились, надеялись, смирялись, жаловались и гибли. Миллионы, а не десятки на полотне. По всему гигантскому пространству обреченной страны. Только смерть была не такой картинной, романтической, эффектной, красочной и театральной. Смерть была голодной, грязной, унизительной, в муках и вшах, цинге, нарывах, холоде, заброшенности, дизентерийной вони и духоте.
И еще абсолютная, совершенная безвыходность и безнадежность. На картине Федора Бруни спасительное изваяние чем-то напоминало Александрийский столп в Петербурге: тоже уходящая ввысь мраморная колонна, только вместо бронзового ангела на ней – медный змий. Тоже символом империи выглядела такая композиция. Только не спасались теперь от гибели даже те, кто смиренно, покаянно и преданно к символу этому был готов припасть и припадал. В низком страхе непрестанно находясь, жалкой дрожью теперь дрожали даже первосвященники империи, слуги и соучастники палача-пророка, ибо их он тоже время от времени отправлял на гибель. Только крайние, запредельные выродки остались целы: молотовы, берии, кагановичи. Их спасла пресмыкаемость, яростное соучастие, дикое количество совместно пролитой крови, смерть хозяина. Остальные почти все ушли, успев перед бесславной смертью опозорить свое имя предательством друзей, соратников, близких. Ибо лишение нравственной невинности было изначальным условием участия в кровавой вакханалии-эстафете. Их было не жалко никого, только мучительно было жаль миллионы непричастных – мечущихся, невинных, обреченных.
Историю России двадцатого века надо бы читать у этого полотна, подумал Рубин. Может быть, и станут когда-нибудь. Интересно, думал ли об этом Николай Бруни? Или он об Иове больше думал, об индивидуальной, личной каре и проверке на стойкость? А заставить его думать – неудобно. Я лишен возможности даже единожды написать: «Бруни подумал». Даже «Бруни сказал» – только на чужое слово я имею право сослаться. Но зато так будет честно.
А теперь уже пора и о потомстве. Только вот еще о славном предке, чтоб не забыть: Исаакиевский собор обильно расписал Федор Бруни великолепными и необычными композициями на ветхозаветные темы. И успел еще сделать пробные картоны для росписи Храма Христа Спасителя в Москве, но их заканчивали – уже другие. Ибо Федор Бруни, российский академик живописи (и многих иностранных академий почетный член) – завершил свой земной путь.
Детям (их было пятеро) его ген пластических талантов передался уже не всем. С дочерей, естественно, спрос маленький (обе вышли замуж за итальянцев и уехали на родину мужей), а двое сыновей изменили семейному ремеслу, так что только о Юрии Федоровиче стоило упомянуть, архитекторе. Тут семейная традиция налицо: в ранней молодости – золотая медаль за проект богадельни для военных ветеранов. После строил или перестраивал дома в Петербурге, проектировал загородные особняки и усадьбы, часть из них расписывал сам по потолкам и стенам, был последним, кто говорил в семье по-итальянски, умер в девятьсот одиннадцатом году. И с его смертью, как написал один историк их фамилии, – кончилась эра процветания семейства Бруни.
Процветание действительно было, была известность, была не увядшая до сих пор фамильная слава. А еще у Федора Бруни был брат Константин, умерший довольно рано, но оставивший талантливых сыновей. А у тех, в свою очередь, тоже выросли сыновья, не обделенные талантом.
Чтобы перечислить сделанное ими (еще двое стали академиками), не хватило бы огромного альбома. Дома в Петербурге (на Невском и на Фонтанке), дома в Варшаве (там и там часть домов – дворцы, и роспись в залах – тоже их работы), сотни живописных холстов, фрески в Храме-на-Крови, Манеж в Петергофе, проект Академии живописи и скульптуры, университет в Томске, набережная возле Адмиралтейства, церкви в Петербурге и Варшаве, торговые ряды в Нижнем Новгороде, портреты, дачи, мозаики, иконы, витражи, декорации… Неразрывна связь фамилии Бруни с историей русской живописи и архитектуры, широко известна она в мире профессионалов и любителей. Совокупно творилась эта слава – усилиями нескольких поколений. Замечательные две особенности счастливо сопутствовали фамилии: пластический талант и многодетность. Генеалогическое дерево семьи (где в основании – совсем недавний житель России достопочтенный Антонио Бруни) насчитывает уже многие десятки ветвей, как ни обрубала их разбушевавшаяся в двадцатом веке стихия истории.
А когда в 1887 году архитектор Александр Александрович Бруни женился на некой Анне Александровне Соколовой, к генеалогическому дереву Бруни оказалась привита ветвь, столь же богатая художественной наследственностью.
Ставший с годами известным художником их сын Лев Бруни говаривал часто, что от живописи ему деться просто некуда, ибо в жилах его течет не кровь уже, а акварельная краска, столько одних акварелистов насчитывал он среди родни. О писавших маслом нечего и говорить.
А всего у Александра и Анны народилось пять детей. Одного из них назвали Николаем.
Трудно было Рубину по прошествии многих лет вникать в перипетии двух давно угасших жизней и пытаться угадать причину, по которой семья распалась. Всякое случалось и ранее: супруги образцом семейственности не были. В частности, сохранилось глухое семейное предание, что истинным отцом Льва был лесничий из пригородного имения. Но однако же не это было причиной разрыва, тем более что после сына Льва родилась дочь Настя, всеми горячо любимая в семье.
Анна Александровна обладала немалыми литературными способностями: писала и печатала рассказы, переводила с немецкого и норвежского, была женщиной глубоко и истово религиозной (но не чересчур богобоязненной, как легко догадаться), восторгалась и увлекалась без меры, не жалела времени на детей (став взрослыми, сыновья ее любили и почитали), хранила множество семейных преданий. Что-то из них записывала. Пропали записи. Глупо и случайно пропали, еще могут отыскаться однажды.
Александр Александрович проектировал и строил дома по частным заказам, был ведущим архитектором при реконструкции Таврического дворца (перекраивали его для Государственной Думы), запомнили о нем в семье немного, ибо наступил разрыв. Может быть, последним поводом послужила страшная трагедия: в течение полугода погибли сразу трое детей. Заражение крови, скарлатина и дифтерит. От такого потрясения либо сплачивается неразрывно семья, слитно и дружно переживая рухнувшее горе, либо раскалывается по паутине давних трещин. Здесь – распалась. Анна Александровна с двумя сыновьями ушла к своему отцу (он был хранителем музея при Академии художеств), Александр Александрович вскоре снова женился и уехал в Дрезден, где дожил до пятидесяти и умер от туберкулеза.
Деньги на воспитание детей он присылал до самой смерти, присылал достаточно, ибо даже репетитора для обоих сыновей (нехотя учились эти художественные натуры) смогла нанять Анна Александровна. За репетитора и вышла вскоре замуж, так что в доме появился отчим. Был он моложе своей жены на двенадцать лет, и о мотивах его любви поговаривали разное, а когда он с Анной Александровной разошелся – не удивились.
Только это случилось потом, не скоро. Уже он не детям своей жены преподавал, а в Академии художеств, где сошелся со студенткой. Дело житейское, не стоило бы это ворошить, если б не крохотная (однако значимая) деталь: быстро-быстро вступил он в партию, как только приняли, а уже немолод был, слепым энтузиазмом это не объяснялось никак. Больше о нем семья Бруни не помнила ничего или не хотела помнить. Но вовсе обойти его нельзя было, так как, уходя, Анна Александровна оставила ему квартиру своего деда (очень непростая, знаменитая была квартира при Академии художеств, но о ней – потом). Из той квартиры один только рояль впоследствии забрал Николай Бруни, а у рояля этого – судьба особая. Пока же вырастали в семье два сына: старший Николай и Лев – на три года младше. Николай Бруни родился в девяносто первом году. У обоих детство было чрезвычайно светлое и счастливое, что совсем немаловажно, чтобы выросли хорошие, полноценные люди.
Глава первая
– Да, я мельком видел вашего Николая Бруни, и не раз, – вяло сказал старик в светло-синей ковбойке, подчеркивающей его худобу и пергаментную ветхость кожи. – Ваш Бруни в лагере портреты нашего начальства рисовал и ихних жен. И по их заказу – картинки: мишки в лесу, красотки с виноградом, домик над рекой, а в пруду лебеди или русалки, естественно, чтобы красивей выглядело. То же самое он делал, что все наши художники на воле в то время. Как и сейчас, впрочем. Искусство, оно же ведь народу принадлежит. А народ знает, что с искусства требовать надо. Утро нашей родины, где усатый в кителе стоит, он тоже рисовал. В штабе у них висела. Или на вахте? Не помню точно.
Старик на Рубина не смотрел, он смотрел в окно все время, вверх куда-то, и Рубину легко было разглядывать его лысину в пятнах старческой пигментации, некогда явно красивое с правильными чертами лицо (серо-желтая кожа сейчас туго обтягивала скулы), большие серые глаза, оплывшие красной сеточкой проступивших склеротических сосудов, темные и острые зрачки, иссеченную морщинами вялую шею. Непрерывно трясущиеся кисти рук то и дело схватывали друг друга, чтобы унять дрожь. Привычно вытянув ноги, старик полулежал в низком кресле. Длинный, худой, легкий. Пальцы рук удивили Рубина: тонкие, подвижные, нервные – такие бывают у хирургов и музыкантов. Вспомнил о старике один приятель, имевший дело с Ухтинской архитектурно-строительной мастерской, которой некогда старик руководил, а перед этим тут же в лагере сидел. Гостя старик встретил сухо и без интереса, молча выслушал то, что Рубин рассказал, вяло откликнулся, что видел Николая Бруни. И обличительную фразу про искусство произнес, Рубина отчего-то задевшую. Впрочем, технари и ученые всегда любили при случае обвинить литературу и искусство в продажности, слепо и надменно полагая, что сами ведут жизнь если не вольную и независимую, то уж не такую рабскую; с этой облегчительной иллюзией Рубин был давно знаком. И неприветливость тоже смутить не могла, он давно уже был достаточный профессионал, чтобы завести собеседника на разговор и, то поддакнув, то поспорив, что-нибудь услышать интересное.
– Вы правы, конечно, – ответил Рубин, улыбнувшись. – У одного моего приятеля даже стишок был, очень вашим словам созвучный. «В лице начальства год от году всему советскому народу искусство так принадлежит, что вечно с кем-нибудь лежит».
Старик сощурился и мельком быстро глянул на Рубина, снова отведя взгляд в окно.
– Какую же вы книгу собираетесь о вашем Бруни писать, если жизнь его оборвалась в лагере, а вы о лагере писать не можете, поскольку эта тема у нас закрыта? – спросил он с легкой насмешкой, как показалось Рубину, и холодок ощущения, что разговор будет сложнее, чем ожидалось, приятно прокатился у него где-то внутри. – Не было ведь у нас никаких лагерей и в помине, так только, мелочь была какая-то, издержки осужденного партией культа личности – нет разве?
Снова чувство, что разговаривает с кем-то, с кем не ожидал. Сам тон, слова и построение фразы – все настораживало рубинское чутье журналиста. Таких одушевленных породистых дряхлецов изображает западное кино, когда речь идет о старых почтенных судьях в отставке, разорившихся отпрысках аристократического рода или злодеях, обратившихся к благородству.
– Мне много лет уже, – сдержанно ответил Рубин, – и меня мало интересует, смогу ли я напечатать книгу. Человек этот, признаться, очаровал меня чем-то, я только о его жизни и могу сейчас думать.
– Упражняете руку, чтоб она от правды не отвыкла? – полюбопытствовал хозяин. И продолжил, как бы поясняя: – У нас в лагере сидел такой отец Николай – епископ Ростовский, кажется, так он за час до подъема вставал каждый день в любую погоду и куда-то в темень исчезал. Мы подумали – уж не стучать ли ходит, и послали ему вслед одного молодого. А епископ – юрк за поленницу, дрова у нас огромным штабелем лежали. Он там, оказывается, утреннюю службу служил. Махал воображаемым кадилом, оборачивался к воображаемому алтарю, невидимым хором руководил, сам пел.
– Красивые у вас ассоциации возникают, – ответил Рубин, уже собравшись для серьезного разговора или вежливого ухода в случае обиды хозяина. – А вы, должно быть, в Ухте все здания строили по капризу своего вдохновения, а не по заказу и под надзором той же империи?
Теперь старик уже прямо на Рубина внимательно смотрел, и длинные пальцы его рук сплелись, унимая дрожание.
– Нет, отчего же, – спокойно ответил он. – В пятьдесят втором году мы, например, огромную тюрьму строили. Только не успели немного, пришлось поправки вносить, и после переделки это стало зданием городского совета депутатов трудящихся. Только я не архитектор, даже не строитель, собственно говоря, это я после лагеря обрел такую специальность. Но поговорим давайте лучше о цели вашего визита. Значит, насколько я теперь понимаю, я должен что-то рассказать о лагере тех лет в Ухте.
Рубин закивал радостно головой и подвинул к себе ближе тетрадь, давно положенную рядом на диван. Старик покосился на нее и бесстрастно продолжал:
– Вы напишете книжку, изо всех сил подражая вашему кумиру Солженицыну, а в ней будут поименованы все, кто вам что-нибудь рассказал об этих годах, и они все, включая вас, разумеется, но меня больше волнует судьба рассказчиков, непременно получат по заслугам. Извините, я на это не согласен. Так что увольте. С меня достаточно.
Ах ты Господи, со злобой подумал Рубин, тебе ведь жить осталось два понедельника, чего же ты боишься до сих пор? А вслух уже спокойно и рассудительно говорил:
– Во-первых, я собираюсь писать роман, а не документальную книгу. Никаких сегодняшних имен и фамилий у меня не будет. Во-вторых, меня интересуют детали лагерного быта тех лет, а не какие-нибудь обобщающие обвинения, в которых можно усмотреть правдивую клевету на наш прекрасный государственный строй. В-третьих, что важнее всего, – Рубин последние слова растянул, ибо хотел сказать, что писать еще будет года два, а на такой срок загадывать не стоит даже в его возрасте, но спохватился и бестактность проглотил, – времена сейчас совершенно другие. Уж во всяком случае вот так вдвоем люди что угодно без опаски говорят.
– Времена другие? – старик поднял брови сердито и недоуменно, но Рубин перебил его, спеша выложить все козыри убеждения.
«Зачем я так мельтешусь и настаиваю? – мельком подумал он, – мало ли еще других стариков осталось?» Однако же добавил торопливо:
– Если вы боитесь до сих пор – извольте, вот я пишу в тетради, что моего собеседника зовут Павел Павлович, это достаточно непохоже на ваше имя. Так вас устроит?
– Вполне, – сказал старик медленно, и зрачки его сузились, в глаза Рубина уставившись очень прямо и тяжело. – Не хочу я повторения пройденного и вовсе не стыжусь в этом признаться. До сих пор у меня нету чувства безопасности. Осуждайте меня, смейтесь, ваше право.
– Но тогда скажите, Павел Павлович, – Рубин улыбкой и тоном старался показать, что полностью принял условие разговора, – скажите, откуда у вас настолько прочен этот страх? Не обижайтесь, но я со многими уже разговаривал, – ему показалось неудобным слово «старики», однако Павел Павлович, едва лишь он запнулся, сам невозмутимо подсказал: «старыми лагерными развалинами», и тогда Рубин сказал, что нет, с вполне сохранными стариками, сидевшими в разных лагерях, и ни один подобной осмотрительности не выказывал.
– Не знаю про всех других, – ответил Павел Павлович, снова в окно уставясь, – они, должно быть, все как на подбор люди мужественные, отважные и беспечные.
Тут он быстро и молодо стрельнул глазами в Рубина, и впервые какое-то подобие усмешки промелькнуло у него на чуть ожившем лице. Ладно, подумал Рубин, лишь бы память не подвела премудрого пескаря, что-нибудь он все-таки расскажет.
– У меня же лично этот страх, – медленно говорил старик, – лагерем и дальнейшими годами только укрепился, а возник намного раньше, на следствии. И не как чувство, а как осознание устройства мира. Нашего, российского, разумеется. И все годы только подкреплялась, оправдывалась эта картина.
Рубин молчал. Старик покосился на тетрадь и, словно успокоившись после ссылки на свой немеркнущий закоренелый страх, принялся говорить – размеренно и четко:
– Я, видите ли, окончил университет. В Ленинграде. Восточное отделение. По специальности я китаист. И уехал в конце двадцатых в Китай, где в торговом представительстве работал. Не хочу от вас скрывать, был я разведчиком, знал Рихарда Зорге очень хорошо, но еще много писал тогда, мечтал о литераторской стезе. Английским и китайским свободно владел, японским слабее – читал легче, чем разговаривал. Отозвали меня домой и арестовали в тридцать пятом. Так что страх мой датируется исчерпывающе точно: мартом тридцать пятого года. День сейчас не помню, они текли однообразно, тем более что ночь тогда была, уже под утро – это я о главном дне, сейчас поймете.
В комнату вошла невысокая полная женщина с огромным узлом волос на затылке, явно еще следящая за собой. Рубин встал и представился.
– Молодой человек, Верочка, пришел с нами разговаривать о лагерной Ухте, – сказал старик.
– А..? – женщина не произнесла вопрос.
– Мы уже договорились с ним, – ответил старик, снова отвернувшись к окну. – Сделай нам по чашке кофе, пожалуйста.
Женщина вышла, долгим взглядом пройдясь по тетради Рубина.
– Следователь Буковский долго уговаривал меня, что я – японский шпион. Вы, кстати, не знаете, кто был отцом того Буковского, который борется с советской властью?
– Нет, – засмеялся Рубин. – Но я точно знаю, что не тот.
– Почему бы и нет? – тускло возразил старик. – В жизни это бывает сплошь и рядом. Правда, того Буковского вскоре расстреляли, это я достоверно знаю. Осенью. Но дело не в этом. Он меня довольно крепко материл, но рукоприкладства не было, им это позволили позже.
– Даже предписали, – вставил Рубин. Старик, по-прежнему не глядя на него, кивнул головой.
– Даже предписали, вы правы. Любые меры разрешили и предписали. Знаете ли вы, что режиссеру Мейерхольду следователь Родос лично сломал руку и заставил пить мочу?
– Нет, – хрипло ответил Рубин. – Можно, я это запишу?
– Нет, – быстро сказал старик, – жив еще человек, который мне это рассказывал. Я просто вспомнил. Родоса расстреляли в пятьдесят пятом. Только не торжествуйте и не радуйтесь, это не возмездие было, – невероятно выразительная брезгливость прозвучала в голосе старика, – просто банда с бандой сводила счеты, борясь за власть. Я вернусь, однако, в свой тридцать пятый, с вашего позволения. Идиллическое время, исключительно психологическое воздействие. Следователь мне упрямо талдычил, что им уже все известно, так что пусть я лучше сам сознаюсь и назову сообщников, это облегчит мою ситуацию. Называл людей, уже якобы показания на меня подписавших, но я этих людей знал, так что в ответ смеялся. Зря смеялся, кстати, и плохо знал, но это неважно. Вот терпение у него и лопнуло. В ту как раз мартовскую ночь, уже под утро.
Пальцы рук его переплелись и сцепились, кисти перестали дрожать. Голос старика был так же монотонен, только легкая усмешливость в нем слышалась, будто он о давнем курортном романе вспоминал.
– И он вдруг вышел. Я сижу. Входят в комнату двое мужчин, довольно молодых и в штатском. Очень, кстати, интеллигентного вида. Я еще, знаете, успел подумать, что начальники какие-то, очень по-домашнему галстуки у них распущены были, узел книзу, и распахнут воротничок. Собственно, это последнее было, что я заметил. Сбоку меня ударил тот, что пониже. В ухо. Дальше не помню.
Рубин отложил ручку и смотрел на старика, не сводя с него глаз. У того ни единый мускул не шевельнулся на породистом лице, все так же смотрел он в окно, буднично и тускло продолжая:
– Били они меня минут тридцать. Очень, хочу признать, мастерски. Как-то, знаете ли, больно и унизительно. То подминали почему-то, то топтали. Молча. Только один сопел очень. Насморк, наверное.
– Вы не кричали? – сипло спросил Рубин.
– Я из Харбина только что приехал, – ответил старик, не оборачиваясь. – В Лондоне бывал, в Берлине, Париже, Токио. Я ошеломлен был. Боль и ошеломление – вот, собственно, это я испытывал. Нет, я не кричал. Стонал, наверное. Или ухал, как живая мясная туша. Хрипел, кажется. А до страха я сейчас дойду, у меня страха не было еще. Отнюдь. Помню, в какой-то момент подумал, что сознание все не теряю, хорошо бы потерять сознание. Но не получалось. И они ушли так же молча. Из графина плеснули на меня, посадили снова на стул и ушли.
Старик обернулся к Рубину. Лицо его было бесстрастно и неподвижно, только из глаз исчезла куда-то кровяная сеточка сосудов, отчего они помолодели и стали ярче.
– Теперь про страх. Через минуту возвращается в комнату следователь Буковский. Два стакана чая принес, два бутерброда с сыром, папиросы. Оживленный такой, приветливый. Вы здесь, говорит, не заскучали без меня? И вот тут – я до сих пор простить себе не могу – я ему рассказал, что только что было. Сказал, что жаловаться буду прокурору. Он так засмеялся душевно: это бред у вас какой-то был, гражданин подследственный. У нас советское государственное учреждение, соблюдается законность в полной мере; у вас, милейший, галлюцинации. Я ему синяки показываю по всему телу, уши распухшие показываю, кровь из них течет, о враче говорю, прошу зафиксировать побои – а он смеется. В камере, говорит, вы с кем-то не поладили, очевидно, а у нас такого не водится. А сидел я в одиночке, и ему это прекрасно было известно. Вот от смеха его и спокойствия – тут мне и стало страшно. Как-то враз и мигом я все понял, ясно и на всю жизнь. Уже полвека прошло, а помню озарение свое кошмарное. Всю систему понял, все устройство государственное, в котором так усердно участвовал. Что же, говорит он, будем сознаваться или хотите отдохнуть? Если желаете на завтра перенести – пожалуйста, мне совсем не трудно лишний раз за чаем сходить. Нет, я говорю, зачем же откладывать, пишите. И бутерброд стал есть, запивая чаем и диктуя. Знаете, единственно, чем я горжусь, – что все твердо на себя одного сочинил. Совершенно новую версию о своем подкупе японской разведкой, но такую, что всякое соучастие других исключалось. Так что никого другого мое признание не потопило. Кстати, мне так и полезней оказалось: всего пять лет. И на всю оставшуюся жизнь – этого следователя голос: ничего с вами не было, милейший, у нас такое просто невозможно.
Вошла его жена с подносом: две чашки кофе и два ломтя свежего домашнего кекса. Кофе был сварен по-восточному: черный, сладкий и очень крепкий. Рубин прихлебывал его медленно и с наслаждением, старик выпил жадно и быстро. Вопросительно глянул на жену.
– Тебе нельзя больше такого крепкого, – ласково, но твердо сказала она. Голос у нее чем-то кофе напоминал: густой, бархатный, чувственный.
– Тогда в гущу кипятка плесни, – попросил старик. – Будет крепостью, как в лучшем ресторане.
Рубин улыбнулся: в этом кратком разговоре, звуках его и тоне было слышно, что дома все в порядке: лад, понимание, покой. Старик заметно подобрел.
– Супругу мою Верой Павловной зовут, – сказал он улыбчиво, – узнаете имя?
– Ну как же, – отозвался Рубин, – если сбылся ее четвертый сон.
Вера Павловна молча встала и пошла к полкам с книгами, а старик наставительно сказал:
– Я тут на досуге одно литературное открытие сделал. Вот Вера Павловна вам сейчас подаст книжку, и вы поймете свою чисто школьную неправоту, только что вами проявленную.
Рубин взял протянутую книгу. Достоевский – «Преступление и наказание». В конце, почти перед обложкой, вылезала закладка. Он открыл. Отчеркнутое красным фломастером место было в самом низу страницы.
– Вслух, вслух читайте, – нетерпеливо сказал старик. – Хотя мы уже наизусть знаем.
Рубин прочел вслух:
– «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали…»
– Только подчеркнутое читайте. Это сон Раскольникова, – вмешался старик.
Рубин продолжил:
– «Не знали, кого и как судить, что считать злом, а что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться, остановилось земледелие…»
Здесь Рубин, улыбавшийся в местах точных совпадений, громко захохотал.
– Вот! – сказал старик торжествующе. – Это вот и есть на самом деле пятый сон Веры Павловны. И не зря к Достоевскому попавший. И сбылся он, а не четвертый. Чернышевский ведь убогую мечту нарисовал, мираж-ублюдок. Хотя он-то всех и очаровал. А сбылся – пятый сон.
– Интересно, – сказал Рубин, откладывая книгу. Вера Павловна тотчас отнесла ее на полку и вышла. – Очень интересно. А в строители вас как занесло?
– Судьба, – ответил старик очень серьезно, даже с почтением к величавому року, видному сейчас только ему. Он опять отрешенно смотрел в окно и к принесенному Верой Павловной жидкому кофе не прикасался. Она снова ушла, унося чашку Рубина и тарелку с нетронутым кексом. Лицо ее было замкнуто. Ее явно гипнотизировала и раздражала тетрадь.
– По порядку так было, – сказал старик, – что строительством сперва мы все занимались. Наш этап от Котласа, грандиозная там была пересылка, город целый, доставили до Усть-Выми на грузовой барже, в трюме. Как доставили, не буду говорить, но в живых остались. Почти все. А уже оттуда пешком пошли. Двести сорок километров до места. Настроение, между прочим, было отличное, когда на свежий воздух попали. Тем же путем, конечно, и ваш Бруни шел. Тоже, небось, от воздуха в эйфорию впал, когда из баржи выпустили. А со мной, как сейчас помню, журналист ленинградский рядом шел, Цыбин некий. Все говорил, что нас вот-вот освободят, и еще он мне в подарок свежий очерк пришлет о пережитых днях, и мы с ним выпьем на гонорар за этот очерк. Да. Он в первую же зиму погиб. Старался очень. Умирали тогда быстро две категории: кто старался чересчур и те, кто крылышки сразу опустил. Пришли на голое место, называлось Сидью. Это земля народа коми, отсюда и все названия.
– Тогда Ухта ведь называлась еще Чибью? – спросил Рубин.
– Верно, – подтвердил старик. – Это по реке название. Но мы строили чуть ниже отдельный лагерный пункт. И все с нуля. У нас даже мисок еще не было. Первые дни нам кашу на лопухи сваливали.
– Это как? – не понял Рубин.
– Сорвешь лопух, а тебе туда две ложки каши накладывают, – молодо объяснил старик. – Потом уж из дерева стали корытца резать. Из коры тоже делали, из бересты, вполне по-скотски кормились. Правда, быстро мы и вид приобрели, своей посуде гармоничный. Там еще большой каменный карьер был. Дробили, естественно, вручную. Сколько там народу полегло – не сосчитать. И смею заметить, что отменного народа, штучного. И профессоров было достаточно, и просто ученых, и врачей, и гуманитариев всякой масти, и инженеров, и священников. Они ведь в Ленинграде, прямо по старым адресным книгам ориентировались, план по арестам выполняя, – «Весь Петербург» и «Весь Петроград» – знаете, наверно, такие справочники были? На несколько огромных научно-исследовательских институтов и больниц хватило бы с лихвой специалистов. Удивляются теперь, что с наукой нашей стало, отчего медицина такая чахлая и куда все эрудиты подевались. И где все люди со смекалкой. И с инициативой. И с чувством чести. Интеллигенцию, конечно, Сталин люто ненавидел. Очень в этом отношении был настоящий и последовательный народный вождь. В смысле созвучия своих чувств победившему гегемону. Это ведь зощенковский герой на самом деле победил. Зощенко первый его заметил и описал. А тот подрос и задушил своего портретиста. Простите, впрочем, я отвлекся.
– Нет, нет, вы как раз о нужном, – откликнулся Рубин. – А где и когда вы видели Бруни? Вы общались?
– Нет, мы даже не были знакомы. В управление я стал ездить год спустя, машины со щебенкой от нас ходили, а я сводки привозил и всякую отчетность. Тогда и видел. Он мне, правду вам сказать, не показался. Или я тогда уже придурков этих сильно не любил, что нам плакаты рисовали. В Котласе, между прочим, над воротами лагеря – знаете, какой плакат висел? «Смерть врагам народа!» Вот вам и добро пожаловать на наш манер. Нет, у немцев, пожалуй, было поаккуратней с наглядной агитацией. «Труд освобождает» – это легче психикой воспринимается. Или: «Каждому свое», как у них в другом каком-то лагере висело. Между прочим, когда ваш Бруни скульптуру Пушкина ваял, так ведь она возле окон лагерного начальства ставилась, в начале улицы вольнонаемных, так что Пушкин этот как бы у них Дзержинским числился.
– Жалко, – сказал Рубин. – Очень жалко. И Бруни жалко, и Пушкина.
– Я перегибаю палку, должно быть, – смягчился старик и легкое свое длинное тело чуть повернул в кресле, прямо теперь на Рубина глядя. – Я никого не вправе осуждать, я тоже быстро стал придурком, я в технологи выбился. А погиб ваш Бруни, скорей всего, в кашкетинские расстрелы. Так и есть, да? В зиму на тридцать восьмой год как раз и лютовал у нас Кашкетин с подручными. Лагеря он северные разгружал, такая у него была задача. Заодно и страх навел свежий. Свежий страх – он пронзительный, как ветер осенью, прямо сквозь кости. Вскоре после этого Кашкетина расстреляли в Котласе. Прямо перед зеками, что там были.
– Его, кажется, в Москве расстреляли при пересменке Ежова на Берию, – осторожно сказал Рубин. – А перед этим орденом Ленина наградили за удачную операцию. Или Красного Знамени.
– Это я тоже читал, – надменно отозвался старик. – Только мне приятней верить в то, что мне рассказывали. Что собаку эту бешеную перед строем зеков свои же псы уничтожили. А у нас расстреливали на Ухтарке – это вроде как предместье Ухты. Там огромный деревянный барак стоял с земляным полом, вот и вся зона. Отдельный лагерный пункт. Там и не работал никто. Там убивали только. И закапывали кое-как. И перед войной, и в войну. Там и Бруни ваш лежит со всеми вместе.
– Подождите-ка, – спохватился Рубин. – Срок ведь был у вас пять лет. Значит, вы ко времени войны уже год как жили на свободе.
Старик засмеялся неслышно, отчего лицо его чуть сморщилось, свою породистость отчасти утратив.
– В сороковом, за неделю ровно до звонка, лихорадка меня трясла от нетерпения, вызвал меня хозяин, генерал Бурдаков, и говорит: освобождаться хочешь, а ты еще здесь нужен. Я отвечаю, что если нужен, то останусь в качестве вольного. Нет, он говорит, потом лови тебя и уговаривай. Живется тебе неплохо, так что выбирай: или завтра мы тебе привариваем восемь лет за попытку побега и агитацию, или на год забудь, что тебе звонок прозвенел. Через год обещаю отпустить. Слово офицера даю. Договорились? Я кивнул только, я не мог тогда говорить, сердчишко свело. Но через год с небольшим освободил. За четыре дня до войны.
– А вы уехать попытались? – Рубин помнил, что чуть раньше говорилось о судьбе.
– Еще как, – энергично сказал старик, и тень какой-то мысли или воспоминания промелькнула в его глазах; он отвел их от Рубина в окно и на мгновение запнулся. – Еще как! У нас шутка была: какой твой любимый город? Ухта, конечно. А заветная песня? Прощай, любимый город. Сразу попытался. Только меня арестовали на вокзале: кто-то стукнул, что я на волю письма везу, утром оказалось, что на другого стучали. Меня даже без обыска потом отпустили. Лучше бы обыскали, – это моя отдельная боль. Суток пять, однако, продержали в милиции на всякий случай. Что война идет, я там и узнал. Там же и заявление в военкомат написал. Думаю, что миллионы тогда о смерти на войне, как о свободе, мечтали. Выпустили меня, пригрозили только, чтоб не подряжался в почтальоны. А в военкомате говорят: ждите, но на работу устройтесь. Я на завод строительных материалов поступил. И не призвали. Так я в Ухте и тормознулся на пятнадцать лет.
– А завод в системе того же управления? – зачем-то поинтересовался Рубин.
– Там вся жизнь в системе управления. Так что я снова на совещаниях у Бурдакова оказался. Типичный он был сталинский строитель. Царь и бог одновременно. Как-то случай у нас произошел: большой станок везли или насос, уже не помню. Подняли в кузов грузовика, а крепить не стали. Двое работяг туда влезли и спинами его подперли. Только разве спинами столько тонн удержишь? На одной из горок пополз этот насос и их раздавил, о борт расплющил. А работяги – вольные, за них прораба под суд. И осудили. А тот – любимец Бурдакова. Так он судью вызвал, приговор велел принести со всем делом и на глазах судьи разорвал. Если кого из моих людей без моего ведома еще раз осудишь, – это он судье так сказал, – будешь у меня в каменном карьере киркой махать, а не пером водить в своем вонючем суде. Понял? – говорит. А тот, конечно, понял: белый от него вышел и глаза под лоб закатаны. Такой был человек. Много искренних почитателей у него было: хозяин. Страх с любовью неразлучен у русского человека. Рабы мы все.
– Уж так ли все? – машинально спросил Рубин, хотя спорить об этом вовсе не хотел. И немедленно был награжден за любопытство.
– До единого! – старик запальчиво и твердо почти выкрикнул это, и в дверях сразу выросла Вера Павловна, переводя встревоженный взгляд с мужа на рубинскую тетрадь и обратно. – До единого! – повторил старик, успокаиваясь. – Знаете, из-за чего я с последними своими лагерными друзьями рассорился? Из-за рабства. Из-за холопства и холуйства. Совсем недавно это было.
Он остыл и сел поудобнее, слегка расслабясь. Но снова дернулся, напрягся и подался вперед, начав рассказывать.
– Город Ухта свои пятьдесят лет праздновал. О зеках, естественно, ни слова. И в Норильске так же было, и в Воркуте – повсюду. Словно не на их костях и крови все построено. Ладно, к этому привыкли, проглотили. Но туда приехало на праздник много бывших зеков, мы ведь и сдружились сильно, да и место памятное. А кто-то вообще остался там работать. Кто за северную надбавку, кто привык, кому ехать некуда. Прижились, одним словом. Я с инфарктом, по счастью, лежал, не выбрался. Зато прибыл на этот юбилей персональный заслуженный пенсионер, почетный гражданин города Ухты, генерал-лейтенант в отставке Семен Николаевич Бурдаков. С женой приехал, бывшей его секретаршей. Он когда сошелся с ней, то мужа ее на фронт устроил. Тот очень быстро и погиб. А Бурдаков свою жену с детьми тогда оставил и на этой женился. В те годы на это косо смотрели, в партком ходили жаловаться брошенные жены, а тут кому пожалуешься? Один хозяин на сотни километров. А выше куда писать – со свету сживет. А может, гордая была, не знаю. Детям, правда, он помогал. Да, вот приезжает, значит, Бурдаков, на всех митингах и торжественных собраниях он герой, сидит везде в президиумах и гостит у юных пионеров. А наши зеки, человек их было тридцать, кто дружил, собрали на чьей-то квартире стол и пригласили к себе – вы представляете? – своего палача-охранника, своего убийцу, который просто не успел из них соки до кожуры выжать. И они с ним пили и чокались! И они с ним разговоры разговаривали! Вспоминали они с ним былое! Мои друзья!
Старик откинулся в кресле на последнем слове, желтый цвет его лица сменился белым, а руки, перестав трястись, зашарили по коленям беспомощно и конвульсивно, словно слепо ища опору. Возникшая немедленно в дверях Вера Павловна кинулась к столу, где толпой стояли пузырьки и баночки, неизменный атрибут стариковских комнат, схватила что-то, накапала, дала выпить, мгновенно принесла воды запить, таблетку валидола (или нитроглицерина?) достала прямо из кармана фартука и сунула мужу в задышливо раскрытый рот. Негодующе глянула на Рубина, уже хотела сказать что-то, но старик открыл глаза, поймал ее руку, поцеловал и скупо улыбнулся. Она погладила его легко по щеке и к Рубину обернулась уже с улыбкой – искренней, очень доброй и очень женской. Вышла, ступая твердо и легко – как выплыла. Старик сидел, полуприкрыв глаза желтыми веками в голубых прожилках.
– А можно, Павел Павлович, – спросил Рубин, снова подчеркивая обращение, чтобы напомнить о соблюдении условия, – пока вам трудно говорить сейчас, пока сердце не отпустит, я попробую поискать вслух мотивы этой рабской истории?
Старик кивнул головой, не поднимая век.
– Старые зеки мне рассказывали, – осторожно начал Рубин, – они часто себя ловили на этом, а в других подавно замечали – эдакое влечение к начальству, желание с ним пообщаться, поговорить, постоять рядом. Тут ведь многое себя подспудно оказывает, разное: тут и заявление безмолвное о своей лояльности, и поиск уверенности, что под тебя не копают и опасность новая не грозит, и надежда что-то важное для себя услышать или уловить, не могу слово точное найти. Словно ты как-то лично знаком после этого становишься, не безлик уже, а к знакомому и отношение другое. А когда освободились, им эта выпивка совместная – вроде свежего ощущения, что свободен, если рядом запросто сидишь за одним столом с человеком, который в руках твою жизнь держал и ею полностью распоряжался бесконтрольно. Странным образом это лестным кажется, заманчивым и привлекательным, на каких-то тайных струнах играет. Я их понимаю вполне, только вот высказать эти мотивы точно не могу.
– Вы бы с ним за стол сели? – спросил старик, тяжело и медленно поднимая веки.
– Не знаю даже, – честно ответил Рубин. – Только я и осуждать их права не имею. Понять хочу. Боюсь я только, вы не обижайтесь, что, если бы вы рядом оказались, в той же компании, вы бы тоже с ним пошли посидеть. Что-то в этом острое есть, душещипательное, привлекающее.
– Я бы пошел, – угрюмо сказал старик. – Только я бы ему в морду дал после первой рюмки, для меня именно это было бы символом свободы. Он ведь там еще и разглагольствовал, паскуда, что всегда, дескать, хотел как лучше, что по мере сил облегчал, что не он вовсе карцером и размером пайки распоряжался, чтобы добавить и выжать, что время было такое, что сам по острию ходил, что и на него жали нещадно, что он рад за них за всех, что вон какой город выстроили стране на радость. Плюнуть бы ему в бокал или в глаза.
Выговорив это единым духом, старик снова раскрыл рот, жадно и обессиленно глотая воздух.
– И вот еще, – сказал он одышливо. – Бурдаков всегда казался человеком, знающим нечто важное о жизни и смерти, потому что многие годы был абсолютной властью в этом смысле облечен. Это, знаете ли, тот же мотив, по которому мы о Сталине любопытствуем и обо всех, кто рядом был. Вы ведь наверняка тоже с интересом любые истории о нем выслушиваете. Оттого, наверно, и Пастернак, как известно, со Сталиным о жизни и смерти поговорить хотел.
Рубин кивнул головой, полностью соглашаясь.
– И не только! – старик явно увлекся. – Обратите внимание, что все лагерные воспоминания вызывают обостренное любопытство, если касаются крупномасштабных, известных лиц, а благородных или подонков – неважно. Вы ведь, признайтесь, очень склонны сейчас меня расспросить, кто из бывшего начальства или известных деятелей со мной сидел?
– Есть грех, – засмеялся Рубин. Старик тоже улыбнулся слегка.
– Вот и моим приятелям казалось, будто он знает что-то. Он, однако, пустым мешком оказался. Скучный и недалекий старикашка, хвастал, пыжился. Главное, что умственно очень оказался убог. Он такой нам тогда фигурой представлялся! С железной волей, с пониманием чего-то непостижимого, чуть ли не высшего порядка существом, а не погонщиком высокого ранга. Было тогда много таких. Волю они стальную проявляли, потому что над собой такую же чувствовали. А значительность ощущали собственную – от той власти, что им была над нами дана. Это наши страх и бессилие их изнутри величием и обаянием надували. И вся страна на том держалась, как лагерь. И сейчас держится. Или у вас еще есть какие-нибудь иллюзии на этот счет? Если есть – не пожалейте и поделитесь. Только откуда им взяться, если вы не кретин. Строителям известна простая штука – закон природы, собственно: чем ниже центр тяжести, тем сооружение устойчивей. Так вот наше скопище рабов – самое устойчивое сооружение, потому что центр тяжести у каждого не в уме или сердце, а в заднице, где, как известно, страх гнездится. Оттого и вся система устойчива неимоверно.
Рубин засмеялся, радуясь образу.
– Да, да, – удовлетворенно подтвердил старик. – Оттого же, кстати говоря, страх этот и убирать опасно – такие пойдут шатания, что не приведи Господь. Снова кровь польется. Из-за несходства заблуждений. А страх – он воедино всех цементирует.
– Вы в архитектуре практик или доучивались потом? – спросил Рубин.
– Выучился, – старик кивнул головой. – После войны устроили специальное заведение – ускоренные курсы для тех, кто высшее образование имел. Любое. Кого там только не было из бывших: историки, астрономы, музыканты, дипломаты, биологи, искусствоведы. Всех лагерь в строителей обратил. А без них и не построили бы империю. Пригодилась усатой гниде интеллигенция. Были эти курсы на территории Донского монастыря. Знаете, конечно?
– Знаю, конечно, – ответил Рубин. – Крематорий особенно хорошо знаю, в молодости часто там бывал.
– Зачем? – удивился старик, очень красивым, неуловимо светским движением приподняв пегие мохнатые брови.
– Я когда-то со скульптором одним приятельствовал, с Эрнстом Неизвестным, – объяснил Рубин, – а он там на стене огромный барельеф делал. Не видели?
Старик не видел.
– Просто внимание не обратили. С левой стороны, если на вход смотреть. Символика нехитрая: в земле лежит мужчина, а из его сердца растет дерево. С веток яблоки свисают. На земле молодая женщина стоит с маленьким ребенком на руках, и ребенок срывает яблоко с одной из веток.
Снова, как недавно, быстрая тень мелькнула в глазах у старика, оживляя их и пряча куда-то склеротическую сеть сосудов.
– Очень эта символика непроста и уместна, – быстро заговорил он, – если к ней одну историю добавить. Вашему приятелю она была, конечно, неведома, человек пять всего на белом свете ее знают. Как интересно все в России увязывается, – он отключился на мгновение, отвернувшись к окну, но тут же возвратил взгляд. – Я когда на этих курсах в Донском монастыре учился, у нас уборщица в общежитии была, такая классическая русская тетя Маша. Нам давали талоны на обед, но еще сухой паек был и деньги платили – крохотные, но деньги. Словом, мы этой старухе тете Маше – ей лет-то пятьдесят было, не больше – для детишек еду подкидывали, а она за это нам стирала. И вот как-то рассказала она нам после поднесенной рюмки.