Читать онлайн Приют Грез бесплатно
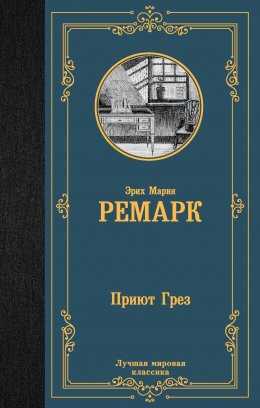
Erich Maria Remarque
DIE TRAUMBUDE
First published in the German language as «Die Traumbude» by Erich Maria Remarque
© The Estate of the late Paulette Remarque, 1920
© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Cologne / Germany, 1998
© Перевод, текст. Н. Федорова, 2022
© Перевод, стихи. Б. Пастернак, наследники, 2022
© Перевод, стихи. В. Микушевич, 2022
© Перевод, стихи. Э. Венгерова, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
I
Майский ветерок гулял в цветущих садах. Гроздья сирени, свисающие над старыми стенами, источали густой, сладкий аромат. Художник Фриц Шрамм медленно шел старинными улочками маленького городка. Временами он останавливался, когда небольшой эркер или старосветский фронтон, очень уж мечтательно обозначенный на фоне вечернего неба, привлекал его художнический взгляд. Рука невольно тянулась к альбому, несколько быстрых штрихов – и на бумаге возникал набросок. Вновь остановившись, чтобы зарисовать обветшалую садовую калиточку, он рассмеялся, покачал головой, достал часы и ускорил шаг. Но скоро походка вновь стала небрежно-медлительной. «Пусть подождут, – подумал он, – вечер слишком прекрасен…»
Впереди уходили в вечер влюбленные парочки.
На всех лицах лежал отблеск упоительного дня, скрашивая складки и знаки, напечатленные бедой, трудом и жизнью. Множество мытарств и множество минувших событий словно обернулись обманной иллюзией. Ласковый вечер укрыл мягкими ладонями острые грани будней и прорехи минувшего и тихо говорил: взгляни на весну! Взгляни на весну подле тебя! А майский ветерок шелестел-нашептывал: оставь раздумья… оставь размышления… мир прекрасен… прекрасен… И влюбленные тогда крепче сжимали руки и смотрели друг другу в глаза.
Неизъяснимую тоску по любви навевал благоуханный ветерок с далеких синих гор и из сиреневых садов.
Фриц Шрамм задумчиво проводил взглядом ласточек, со щебетом кружащих в синеве. Потом обронил, с тяжелым вздохом:
– Лу…
Он был в прошлом и продолжал путь, не замечая весны. Каштановая аллея привела его к дому, стоящему чуть в стороне от улицы.
Уже темнело. Синий сумрак лежал на дорогах. Фриц остановился, прислушался. Откуда-то долетала музыка.
Теперь он слышал ее вполне отчетливо. Глуховато-серебристый аккомпанемент рояля и реющий над ним прелестный голос. Вечерний ветер уносил мелодию в сад. Теперь он различал и слова.
Сердце замерло.
Старинная песня звучала в ушах, перед глазами вставали давние образы, и вновь слышался бесконечно любимый, исчезнувший голос.
Взволнованный, он подошел ближе.
Эту самую песню когда-то так часто пела ему Она, исчезнувшая, далекая… умершая… Лу…
С тоскою струился в вечернем воздухе напев:
- Где ты, молодость, где ты, молодость,
- Невозвратная моя?
- Песня юности, песня юности,
- Твой напев с тоской вспомнил я[1].
Необычайно растроганный и в глубине души потрясенный, Фриц прошел по садовой дорожке, поднялся по ступенькам. А когда оказался у двери музыкальной комнаты, перед ним предстала столь прелестная картина, что он замер как вкопанный.
В комнате густел синий сумрак. На рояле горели две толстые свечи. Их свет слепящими вспышками играл на белых клавишах, насыщал помещение легким золотым сиянием, волшебным ореолом окаймлял белокурые волосы и нежный профиль юной девушки, сидевшей за фортепиано. Руки ее свободно покоились на клавишах. Что-то мягкое, едва ли не меланхоличное осеняло изящно очерченный рот, синие, как море, глаза были полны тоски.
Фриц тихонько прошел дальше по коврам. Одна из дверей отворилась, вышла хозяйка дома.
– Наконец-то, господин Шрамм… – сказала она негромко, сердечным тоном. – Мы уж думали, вы не придете.
– Браните меня, сударыня, – сказал Фриц, склонившись к ее руке, – всему виной вечер, дивный вечер. Однако…
Он бросил взгляд в сторону музыкальной комнаты.
– Да, у нас новая гостья. Моя племянница вернулась из пансиона. Но идемте же, коммерции советница Фридхайм уже сгорает от нетерпения. Да вы и сами слышите.
– Ну да, ну да… – Фриц обменялся с хозяйкой понимающей улыбкой.
Между тем дверь снова отворилась, и к Фрицу, шурша платьем, устремилась дородная дама.
– Он все-таки пришел, наш маэстро! – вскричала она, пожимая ему руки. – Безответственно, поистине безответственно этак вот бросать друзей. – Она с нежностью смотрела на него в лорнет. – Мы жаждем услышать обещанный рассказ о благословенной Италии!
– Вы совершенно правы, сударыня, – улыбнулся Фриц, – но по дороге меня задержали кое-какие интересные наброски. Они у меня с собой.
– В самом деле?.. О, чýдно… дайте же посмотреть, ах, как интересно.
С набросками в руке она устремилась в комнаты, остальные двое не спеша последовали за ней.
– Все тот же энтузиазм, – заметил Фриц, – импрессионизм, экспрессионизм, музыка, литература, живопись – ей все едино, она в восторге от всего, что зовется искусством.
– А еще больше – от людей искусства, – сказала хозяйка дома. – Сейчас она намерена расчистить дорогу некоему молодому поэту. Вы тоже его знаете, это молодой Вольфрам.
– Юноша с красными галстуками и свободными ритмами?
– Не судите строго. Молодежи хочется привлечь к себе внимание. А иной умеет выразить свои революционные чувства разве что красным галстуком.
– Вчера я подумал примерно то же, когда встретил бравого сапожника Мюллера. Он отец пятерых детей, муж весьма энергичной особы, в десять вечера должен непременно быть дома, голосует за консерваторов и вполне добропорядочный гражданин. Однажды, когда я обнаружил у него несколько томов Маркса и Лассаля, он рассказал мне, что читал их в юности. Кто знает, кем он тогда хотел стать! Однако жизнь и унаследованный от предков честный бюргерский характер повернули все иначе, нежели он в ту пору думал. И он совершенно доволен. Так что все его давние юношеские мечты, все великие планы и идеи в итоге реализовались лишь в красном галстуке, который он носит по воскресеньям. Этакий красный галстук прямо печаль наводит. А в конечном счете, сударыня, намного ли иначе дело обстоит с нами? Что остается от всего? По сути, хорошо еще, коли красный галстук… зачастую-то ведь еще меньше? Локон, поблекшая фотография… умирающая память… пока сам не станешь для других таким же… ах, не стоит думать об этом…
– Конечно, не стоит, дорогой друг, – тихо сказала хозяйка дома, – особенно в мае… в майский вечер.
– И как раз этот вечер навеял мне черные мысли. Не странно ли, что именно красота и счастье наводят на самые печальные помыслы? Хотя на минорный лад меня настроило и кое-что другое…
Из салона донесся трубный голос коммерции советницы:
– Так где же он?
– Там всегда царит до мажор, – улыбнулась хозяйка и прошла с Фрицем в салон.
– Ну наконец-то! – воскликнула советница. – Впору было кое-что заподозрить в вашем стоянии в передней!
– При моих-то сединах? – Хозяйка дома указала на свои еще густые волосы.
– Для таких вещей мы уже чуточку староваты, – сказал Фриц.
– Ах, господи, какая прелесть, вы – и староваты, – прогремела советница. – В ваши-то тридцать восемь.
– Болезнь старит.
– Чепуха… пустые слова. Было бы сердце молодо, тогда весь человек молод! Идите сюда, вопреки моему запрету для вас приберегли чашечку чая!
С этими словами она, несмотря на отчаянные протесты, наложила Фрицу полную тарелку пирожных, которых хватило бы на целую роту.
Фриц немного закусил, потом огляделся по сторонам. Чего-то ему недоставало. Тут дверь музыкальной комнаты отворилась, вошла молодая девушка, а вместе с нею прихлынул легкий аромат сирени.
Хозяйка по-матерински обняла ее за плечи.
– Достаточно намечталась, Элизабет? Господин Шрамм все-таки пришел…
Фриц встал и с восхищением оглядел очаровательную фигурку.
– Моя племянница Элизабет Хайндорф – господин Шрамм, наш дорогой друг, – представила госпожа Хайндорф. На Фрица смотрели синие глаза, узкая рука легла в его ладонь.
– Я запоздал, – сказал Фриц.
– Я хорошо понимаю… когда вокруг такая красота, совсем не хочется быть среди людей.
– И тем не менее стремишься к ним.
– Так странно… к человеку, которого вовсе не существует.
– Быть может, к человечеству в лице человека…
– К чему-то безымянному…
– Наши лучшие стремления всегда безымянны…
– Как жаль…
– Только поначалу… позднее, уже понимая, учишься довольствоваться этим. Жизнь – чудо, но в ней чудес нет.
– О, все-таки есть! – Глаза Элизабет блеснули.
Фрица растрогала искренность ее восклицания. Ему вспомнилась собственная юность, когда он говорил вот так же. И в нем всколыхнулось жаркое желание, чтобы у этого очаровательного существа не отняли веру в чудеса.
– Вы верите, что в жизни есть чудеса, мадемуазель?
– Да, конечно!
– Сохраните же эту веру! Несмотря ни на что! Наперекор всему! Она правомерна!.. Присядьте, прошу вас.
Он придвинул кресло. И девушка уютно в нем устроилась.
– А вы разве не верите в чудеса, господин Шрамм?
Секунду Фриц молча смотрел на нее. Потом твердо и ясно произнес:
– Верю!
Госпожа Хайндорф сделала знак слуге. Тот на подносе подал сигары, сигареты и ликер.
– Вы можете курить, господин Шрамм, – кивнула она Фрицу.
– Моя слабость, – сказал Фриц и взял сигарету.
– Подайте и мне, Пауль! – вскричала советница.
– Сигару, – тихо шепнул Фриц слуге. Тот ухмыльнулся и поднес советнице ящик черных гаванских сигар.
– Не лучше ли подать мне трубку, – возмущенно фыркнула та.
Увидев, что Фриц смеется, она угадала взаимосвязь и погрозила ему пальцем.
– Вы тоже курите? – спросил Фриц у Элизабет.
– Нет, я не выношу, когда женщины курят.
– Вы правы. Не всякой женщине позволительно курить. Вам курить никак нельзя!
– Что он там говорит? – воскликнула советница, предположив новую шутку по своему адресу.
– Мы говорили о курящих женщинах.
– Ну, как художник вы едва ли обывательски нетерпимы.
– Да… но я и смотрю на это с точки зрения художника.
– Как это?
– Курить можно по-разному.
– Но голову окружающим дурманят всегда, – улыбнулась хозяйка.
Советница рассмеялась:
– Потому-то мужчины так много курят, не правда ли, господин Шрамм?
– Конечно. У мужчины курение – потребность, у женщины – кокетство!
– Ах, значит, по-вашему, нам сигареты не по вкусу? Мы не в состоянии их распробовать?
– Почему же. Но чего только женщина не берет в привычку или в отвычку, коли думает, что ей это к лицу или не к лицу.
– Значит, мне курение к лицу? – спросила коммерции советница, насмешливо улыбаясь.
– Я сказал: думает! Это отнюдь не означает, что так оно и есть.
– Маэстро, как жестоко.
– Вы стоите над всеми категориями, сударыня. Уже сама причина курения говорит о том, какой женщине можно курить. А именно: той, что кокетничает.
– Отлично, – усмехнулась советница, делая глубокую затяжку.
– Женщина, у которой внешность мадонны, выглядит с сигаретой неэстетично. Однако демоническому типу сигарета может придать немалую соблазнительность. Вообще, курение больше идет темноглазым брюнеткам, нежели блондинкам. И инстинктивно они это знают. Оттого-то на юге так много заядлых курильщиц.
– Мне курение не по душе, – сказала Элизабет.
В открытое окно долетала далекая песня.
Разговор обратился к будничным вещам. Фриц задумчиво откинулся на спинку кресла, устремив взгляд сквозь сизые клубы дыма и размышляя о незавершенной картине, что стояла на мольберте у него в мастерской. «Избавление» – так он ее назвал, а изображен на ней будет сломленный мужчина, которого девушка ласково гладит по волосам. Для мужчины он натуру нашел. И теперь ожидал лишь озарения насчет девичьей фигуры. Она должна быть светлая, добрая; но пока ничего определенного не выходило. Ей надобно нести свет, доброту и радость. Художник задумчиво посмотрел на Элизабет. Пожалуй, она – такая вот светоносица, преисполненная кроткой серьезности. На фоне темного гобелена прелестный тонкий профиль казался тихой, кроткой сказкой Эйхендорфа.
Она чуть склонила головку.
Внезапно Фриц целиком обратился в напряженное внимание. Вот оно… вот… то, что он ищет… девушка для его картины. Он подался вперед. Выражение… лицо – все совершенно такое. Надо сегодня же, при первой возможности, поговорить об этом с госпожой Хайндорф.
В своих грезах он совсем не следил за разговором. Молодой поэт, до тех пор весьма молчаливый, теперь пустился в рассуждения, многословно и возбужденно. Размахивал руками, обругал Гёте филистером, а его житейскую мудрость – запечным благодушием.
Фриц улыбнулся. Всегда одни и те же громкие словеса – пустозвонство… а жизнь идет себе своим чередом.
Молодой поэт добрался до Эйхендорфа:
– Эйхендорф… его слезливое романтическое стихоплетство давно устарело…
Тут Элизабет обронила из своего кресла:
– А я люблю Эйхендорфа!
Юноша ошеломленно умолк.
– Да, – сказала Элизабет, – он куда задушевнее многих современных поэтов. Словесный трезвон ему совершенно чужд. И он так любит лес и странствия!
– Совершенно с вами согласен, – поддержал Фриц. – Я тоже очень его люблю. Его новеллы и стихи бесконечно прекрасны. Он такой немецкий! И все же не однобоко национален. В наше время это редкость. Сколько раз я твердил себе перед поездкой в Италию, шептал ночами:
- Как золото звезды блистали,
- А я был так одинок;
- Вслушивался я в дали,
- Где пел почтовый рожок.
- В сердце моем тревога,
- Виски мои горячи…
- Кого прельстила дорога
- В роскошной летней ночи?[2]
– Италия… – медленно произнесла Элизабет.
– Оно таится в каждом немце, это томление по Италии, – сказал Фриц. – Все его испытывали. Наверно, тоска по солнцу Италии коренится в двойственности немецкой души, подобно тоске по мраморному храму Акрополя. Гогенштауфены, из-за своей любви к Италии лишившиеся и державы, и жизни, от Барбароссы до юного Конрадина[3], погибшего от руки итальянских палачей… наши художники… поэты… Эйхендорф, Швинд, Гейнзе, Мюллер, Гёте… «Миньона».
– «Ты знаешь край…»[4] – тихонько напела советница.
– Спой нам, Элизабет, – попросила госпожа Хайндорф.
Не жеманясь, Элизабет пошла к роялю.
Фриц откинулся на спинку кресла, слушая и снова и снова глядя на изящную головку с тяжелыми золотыми волосами, озаренную мягким трепетным светом канделябров.
– «Ты знаешь край… край…»
Деревья шелестели в саду. И вновь поверх нежного аккомпанемента зазвенел ясный девичий голос:
– «Ты видел дом… дом…»
Стало тихо. Медленно отзвучал последний аккорд. Элизабет встала и вышла на террасу.
– Все же… это прекрасно! – прерывистым голосом сказал молодой поэт.
Еще некоторое время никто не шевелился, потом коммерции советница напомнила, что пора откланяться. Хозяйка, однако, не хотела пока что отпускать Фрица, ведь он пришел с опозданием.
И он остался, меж тем как госпожа Хайндорф провожала гостей.
Элизабет вернулась с террасы. Фриц хотел поблагодарить ее за песню и вдруг заметил, что она плакала. В испуге он схватил ее руку.
– Пустяки… – сказала она. – Сущие пустяки, просто стих нашел. Сердце было так переполнено, вот я и вышла на террасу. И услышала внизу смех девушки и глухой мужской голос. И вдруг на меня нашло… не говорите тете, все уже хорошо.
– Можете на меня положиться, – сказал Фриц.
– Я это чувствую, рядом с вами мне так покойно, хотя мы едва знакомы. Кажется, будто вы всегда придете на помощь, если мне кто-нибудь понадобится.
– И верьте своему чувству. – Фриц был растроган. – Такими словами вы облегчаете мне огромную просьбу. Я пишу картину. Там два персонажа. Мужчина, отчаявшийся, сломленный, под ударами жизни заслонивший голову руками. И девушка, ее руки и глаза полны света, она ласково гладит его по волосам. Мужчина у меня есть. Натуру для девушки я нашел сегодня – в вас. Вы позволите сделать с вас наброски?
– Вы очень любите эту картину? – спросила она вместо ответа.
– Очень. В ней есть еще одна идея. Она должна запечатлеть мгновение, когда человек приходит от Я к Ты, когда рушится эгоизм, когда он отрекается от себя и отдает свой труд обществу. Молодежи. Или человечеству. А что за свой неминуемый отказ от счастья он тем не менее обретает известное утешение и огромную компенсацию, воплощает светоносная девушка. Трагедия человека-творца…
– Говорят, все художники так любят свои произведения, оттого что они – часть их самих.
– Пожалуй, так оно и есть.
Вошла госпожа Хайндорф.
– Стемнело. Зажжем свет?
– Нет, не стоит, – сказала Элизабет, – и без него так хорошо.
– Сударыня, я должен кое-что вам сказать. Вы, наверно, помните мучения с моей первой натурой. На диво быстро я теперь нашел вторую в лице вашей племянницы. Вы позволите?
– Ну конечно, с удовольствием, дорогой друг, – отвечала госпожа Хайндорф. – Очень рада, что ваши желания сбываются так быстро.
– Вы не станете возражать, если мы вскоре начнем сеансы?
– Разумеется, хоть завтра…
– А где? Я охотно приду к вам, хотя в мастерской удобнее, все под рукой и освещение лучше.
Госпожа Хайндорф некоторое время смотрела на него, потом на Элизабет.
– Тебе решать, Элизабет.
Та блестящими глазами смотрела на нее.
– Ну что ж, я знаю, – успокаивая, сказала госпожа Хайндорф, – чего тебе больше всего хочется. Она – маленькая мечтательница, – с улыбкой сказала она Фрицу, потом, посерьезнев, посмотрела ему прямо в глаза: – Я знаю вас, господин Шрамм, и этого довольно. Почему бы моей племяннице не прийти к вам! Какое нам дело до отживших условностей. Когда ей завтра прийти?
– Благодарю вас, сударыня. – Фриц благоговейно поднес ее руку к губам. – Если удобно, то в три часа.
– Ну же, Элизабет?
Девушка энергично кивнула:
– Да-да.
Госпожа Хайндорф улыбнулась:
– Я так и думала. Что ж… такой чудный вечер. Давайте посидим еще немного на террасе. И выпьем за то, что вы нашли свою натуру, по бокалу вина, золотистого вина.
Она позвонила слуге, велела вынести на террасу плетеные кресла и подушки и зажечь несколько цветных лампионов.
На улице совсем стемнело. В цветущих вишнях висела полная луна. Облитые серебряным сиянием стояли вдали черные леса. В вышине уже мерцали звезды. Вино поблескивало в бокалах.
Госпожа Хайндорф подняла свой бокал:
– За вашу счастливую находку, за вашу картину и за искусство!
Бокалы легонько зазвенели, когда они чокнулись.
– За находку, – тихо сказал Фриц и залпом выпил вино.
Воцарилась тишина. Каждый думал о своем.
– Лу… – вдруг обронил Фриц в своей глубокой задумчивости.
– Рана все еще не зажила? – тихо спросила госпожа Хайндорф.
– Она никогда не заживет, – пробормотал Фриц, но тотчас взял себя в руки: – Я не жалуюсь. Это было, и моя жизнь не была грезой, как у моего бедного друга Хёрстемайера, который давно лежит в сырой земле.
– Расскажите.
– Он был художником-декоратором. И каждый отложенный из заработков грош тратил на книги. Читал ночи напролет. Гёте знал почти наизусть. Мало-помалу и в нем самом проснулся поэт. И он ночами писал стихи и драмы. Твердо веря в успех. Как же часто он с восторгом говорил, что на гонорар за драму, которая наверняка произведет фурор, поедет в Италию. Даже итальянский ради этого выучил. Но ему не дано было ни успеха драмы, ни путешествия. Очень скоро он умер от застарелого легочного недуга.
Фриц потерянно смотрел в пространство перед собой.
– Один из многих непрактичных чудаков-немцев, мог бы сказать кто-нибудь и, пожалуй, был бы прав. Но для меня в этом больше величия, чем в завоевании мира.
Он молча смотрел в тихую ночь. Слышался плеск фонтана. Над головой сияли чудесно яркие звезды.
– Какое умиротворение, – сказала Элизабет.
– Словно уже настало лето… немецкая летняя ночь… – добавила госпожа Хайндорф.
– В немецкой летней ночи заключено особое волшебство, – задумчиво начал Фриц, – и вообще в немецкой родине. Пожалуй, никакому другому народу не свойственно такое восхищение чужбиной, такая сила экспансии и стремление в дали, как нам… они даже вызывают презрение, если заходят слишком далеко, становятся обезьянничаньем. И все-таки: пусть бравый немец Шмидт спокойно заделается американским гражданином Смитом, пусть он говорит по-английски, называет своих детей Маком и Мод и плюет на Германию; я скажу вам, что это внешняя или поверхностная мишура! Как только мистер Смит разок услышит рождественские колокола, или почует запах из домашней посылки с рождественской коврижкой, или увидит сияющую огнями рождественскую елку, он тотчас, несмотря на Еnglish spoken[5], несмотря на Мод и Мака, снова станет давним немецким Шмидтом и, невзирая на все ухищрения бизнеса и погоню за долларом, вновь поверит в сказку и жизненные чудеса, которые в крови у каждого настоящего немца, я не имею в виду еврея или славянина. И пусть он хоть тысячу тысяч раз беззвездной ночью изгрызет свои кулаки, он все равно станет таким, все равно! Ведь это и есть упоительное, вечно юное в нашем народе – его простодушие, которое без устали бранят, его ребячливая непрактичность. Я не политик, мне начхать на все политические направления. Я человек, вот моя политика! Да к тому же художник. Потому-то непрактичный простак Михель, который для меня по-прежнему тайный венец всего, для которого мир по-прежнему полон чудес, удивления и веры, – этот простак Михель для меня куда выше холодного, скользкого дельца вроде тех наших собратьев, для кого жизнь не более чем арифметический пример. Мир прекрасен, но у нас он прекраснее всего. Это субъективно, и я знаю, что англичанин, француз, испанец, говоря так, тоже прав. А итальянец, пожалуй, даже еще больше. Но так говорю и я, и я опять-таки прав! Под сияющей синевой римских небес, когда я восхищался пентелийским и каррарским мрамором, на меня вдруг накатила такая невыразимая тоска по летней немецкой ночи, такая тоска по родине, что я незамедлительно уехал домой и чуть не прослезился, увидев первую березку.
Он встал и с воодушевлением поднял бокал:
– И этот последний бокал я посвящаю родине, немецкой родине!
Мягко задувал ветерок, мерцали звезды, разноцветные лампионы легонько покачивались.
Со звоном чокнулись бокалы, и Элизабет решительно произнесла:
– За нашу милую, милую родину!
Вино искрилось золотом.
Они выпили бокалы до дна.
II
Фриц Шрамм наводил красоту в своем Приюте Грез. Одетый в соломенно-желтую полотняную куртку, он деловито сновал по комнате и наконец, поставив три лилии в старинный оловянный кувшин, удовлетворенно оглядел результат своих трудов. Потом не спеша набил коричневую художническую трубку и выпустил в воздух, пронизанный пляшущими на солнце пылинками, несколько облачков голубого дыма.
В дверь тихонько постучали. Фриц встал.
– Прошу.
Элизабет робко вошла. И невольно остановилась перед открывшимся ей зрелищем.
Коричневая мансардная комната. На стенах картины, множество картин. С одной стороны коричневый деревянный стеллаж с книгами, чьи разноцветные переплеты поблескивали на солнце. На верхней полке, застланной темной тканью, сверкающие раковины, цветные камушки и золотисто-желтые кусочки янтаря. Меж ними коричневый танцор из мореного дерева. Слева – череп в венке из красных роз. Чаша с темно-красными розами под посмертной маской Бетховена, что висела на стене на фоне пурпурного сукна. На скошенной стене – несколько офортов и картина с черным крепом.
– Добро пожаловать в покой моих грез, – сказал Фриц и на вопросительный взгляд Элизабет добавил: – Это мой бетховенский уголок, вот здесь, прямо возле Волшебного окна. Все вещицы – милые памятки и сувениры. Перед ликом Бетховена всегда цветут розы как безмолвное воспоминание и тихая дань поклонения. Цветы такие чистые… и неизменно прекрасные.
Элизабет совершенно оробела от уюта и волшебства этого маленького помещения. Цветы благоухали так сладко, что у нее едва не навернулись слезы. Она не знала почему. Так странно. С некоторых пор она, сама того не желая, часто плакала – без причины. А нередко улыбалась и ликовала в душе – без причины. Сейчас ей казалось, этому мужчине, что рядом с нею, можно сказать все. Удивительное умиротворение.
– Еще два часа здесь будет достаточно света, чтобы писать, – сказал Фриц. – Не пугайтесь, так долго вам стоять не придется. Пожалуй, в целом лишь полчаса. Но при этом я должен часто смотреть на вас, и два часа пролетят быстро. Надолго ли вас отпустила госпожа Хайндорф?
– Я могу остаться сколько захочу!
– Отлично. Тогда мы немного порисуем, а потом чуточку поболтаем, ладно? Идемте же в мастерскую.
Они прошли в соседнее помещение с широкими и высокими окнами и светлыми занавесями, где по стенам повсюду висели и стояли полуготовые наброски.
Фриц достал какую-то папку, подвинул одну из картин.
– Основную идею картины, насколько это вообще возможно, я вам уже обрисовал. Вот здесь наброски. А это – штудии мужской натуры. На мольберте штудия маслом, тоже мужчина. На этих набросках вы видите, как я примерно представляю себе девушку. Поза везде уже почти одна и та же, тогда как лицо и фигура меняются, это знак поисков. А ищущий находит. Давайте попробуем зафиксировать позу, согласны? Вам лучше всего стать перед этим голубым занавесом. И думайте об отчаявшемся страннике в пустыне, которому вы, словно небесная посланница, приносите избавительную влагу жизни… вот так… да… руки немного ниже… лицо чуть ближе к занавесу… пожалуйста, замрите так.
Фриц быстро схватил карандаш и бумагу, грифель широкими штрихами заскользил по альбомному листу.
– Ну вот, – немного погодя сказал он с глубоким вздохом, – движение схвачено. Теперь надо зафиксировать позу, чтобы завтра повторить ее. – Он взял фотоаппарат, навел его и сделал снимок. – Большое спасибо! Вы свободны.
Элизабет подошла к нему.
– Можно посмотреть?
– Конечно, прошу вас.
– Но ведь покуда ничего совсем не разглядеть…
Фриц улыбнулся:
– Так быстро не получается. Это рука, в первую очередь плечо. Для начала главное – поймать движение. Но очень скоро вы получите больше удовольствия. Я бы хотел еще зарисовать ваш профиль. Или вы уже устали? Говорите прямо. Художник в ударе до ужаса бесцеремонен. Нет? Ну, тогда…
Он придвинул ей кресло.
Головка Элизабет чудесно выделялась на голубом фоне. Минуту-другую Фриц с восхищением рассматривал изящный изгиб линий, потом взялся за карандаш. Некоторое время он без передышки работал. Затем, прищурив глаза, занялся светотенью.
– Вам не скучно? – спросил он. – В пылу работы я вовсе вас не развлекаю…
– Нет, – ответила Элизабет, – я вижу перед собой красивую голову и целиком ушла в ее созерцание. В ней столько юной силы, дерзости и вместе с тем столько задумчивости, в рисунке рта даже сквозит какая-то горечь… прекрасный портрет…
– С оригинала.
– Вблизи?
– Из моей комнаты.
– Здесь что же, и другие люди живут?
– Это мой молодой друг, и на правах друга он живет у меня. Его зовут Эрнст Винтер, он учится в Берлинской консерватории.
– Наверно, он очень вас любит.
– Это взаимно.
– Но он намного моложе вас.
– Как раз на этом и основана наша дружба. Он молод, необуздан и невероятно порывист… а временами мечтателен и полон горечи, как вы совершенно справедливо заметили. Я порвал с жизнью и стараюсь узнать и гармонически расширить свой круг. Результат – зрелость и опыт. Мы дополняем друг друга. Пожалуй, с моей стороны в дружбе присутствует… ну, скажем, отеческая любовь; он нуждается во мне больше, чем я в нем. Но в любви и дружбе не спрашиваешь, платят ли тебе тою же монетой. Он не единственный. Меня навещают еще несколько молодых людей, которые пока только формируются… и они тоже мои друзья. Я люблю молодежь и радуюсь, если они могут что-то у меня почерпнуть.
– Вы порвали с жизнью?
– Звучит, вероятно, несколько сурово, но на самом деле ничего подобного. Я оптимист. Это не отречение. Вернее сказать: я прожил свою жизнь, имел все, что жизнь хотела и могла мне дать. Все пришло и ушло как-то очень уж быстро. Поэтому я несколько раньше других очутился в тени, за пределами яркого круга. И в этом есть своя прелесть. Из актера я стал скорее зрителем.
– Но разве жизнь – спектакль?
– Да… и нет. О ней невозможно сказать правду. Наша способность познания – змея, кусающая свой же хвост. Объективного познания не существует. Мы вечно в борьбе. Кто станет тут судить, кто отличит правду от спектакля, реальность от видимости. Он, – художник указал на портрет Эрнста, – тоже такой вот борец. Человек дела, а оттого миру легче осуждать его, нежели других, питающих лишь бледные помыслы. Помыслы не видны, а чего не видишь, то, по законам мира, разрешено. Но дела, увы!.. Однако же он достаточно крепок и силен, чтобы пренебречь тем, как его оценивает общество. Пока что он в этом не нуждается, и к счастью. Вообще, наше право… ах! Если кто-то убивает человека, его карают как убийцу. Если я открываю большую фабрику и тем уничтожаю сотню мелких жизней, я хороший коммерсант… А между тем рисунок готов, да и темнеет уже, так что придется нам прекратить.
Он показал Элизабет рисунок и медленно отложил карандаш. Потом оглянулся на девушку.
Она стояла у портрета Эрнста Винтера, рассматривала его.
– Он скоро приедет, – сказал Фриц, – у него несколько недель каникул. Рояль здесь, в мастерской, для него. Он любит импровизировать. Я же более всего люблю, когда он играет Бетховена и Шопена. Но идемте: лучшая пора для Приюта Грез – вечерняя заря.
Элизабет чуть помедлила, потом быстро шагнула к Фрицу, сжала его руки и сказала:
– Вы хороший человек… У вас все так красиво, так по-другому. Никаких будней – всегда воскресенье. Словно летний вечер. И столько родного, мирного… Будьте и мне другом.
Фриц был тронут. После тьмы-тьмущей дорожной пыли и пошлых болотных душ он нашел душу чистую, как синее итальянское озеро. Молча он взял девушку за локоть, и они вошли в Приют Грез.
Сумерки грезили в аромате роз коричневой мансарды. Оба в восхищении замерли на пороге. Вечерняя заря бросала последние золотые отблески на серьезные черты Бетховена, искрилась и сияла в волшебном блеске пестрых камушков и ракушек.
На старинной резной полке стояли разноцветные чашки, старинная посуда и оловянные тарелки. Фриц осторожно достал три на редкость красивые зеленые рюмки и запыленную бутылку. Поставил рюмки на стол и молча налил вина.
Одну рюмку он придвинул Элизабет, которая наблюдала за ним тихо и задумчиво, положил подле второй цветущую розовую ветвь из бетховенской вазы, третью взял в руки и сказал Элизабет:
– Давайте выпьем за нашу юную дружбу… за все прекрасное в мире… и за усопшее имя.
Рюмки зазвенели.
Секунду Элизабет не шевелилась. Затем по всему ее существу пробежала дрожь, и она выпила вино до дна. Фриц поднял розовую ветвь, отломил один цветок, окунул в вино третьей рюмки и протянул Элизабет. Потом вылил вино из рюмки в розы перед маской Бетховена и придвинул их к картине с траурным крепом. Медленно взял старинный канделябр, зажег свечу.
– Ах, Лу… – проронил он, уже не в силах справиться с собой, и посмотрел на картину. В сквозистом, трепетном свете свечи она почти ожила – казалось, прекрасные глаза улыбаются и алые губы чуть подрагивают.
– Простите, – сказал Фриц, – иногда на меня находит. Особенно когда я пью в память о ней. Вино для мертвых уст… цветы для усопшего чела… отзвучало… ушло… невозвратно.
Он умолк, взглянул на Элизабет. Она слегка откинула голову назад, глаза были широко открыты. И она беззвучно плакала.
– Не надо плакать, – сказал Фриц, – не надо…
Сумерки наливались синевой, пламя свечи – золотом. Мотылек влетел в окно, запорхал вокруг свечи и упал, опалив крылышки.
– Мотыльки… люди… Кто не обжигал крыльев о свечу судьбы.
– Расскажите о вашей жизни, – попросила Элизабет.
Фриц смотрел на горящую свечу.
– Ее звали Луиза… но все называли ее Лу… Посмотрите на картину в мерцании света – вот такой она была при жизни. Я увидел ее однажды на прогулке весенним вечером. Красавица. Гавань для кораблей моей тоски, ее глаза – звезды в ночи моего бытия… а ее душа – избавительная доброта и мост через мои бездны и разломы. Вдвоем мы пережили ликующую хмельную весну и жарким зреющим летом внимали шуму своей крови. Когда настала осень, мы мало-помалу вернулись с небес на землю. Я хворал легкими и был нищ… она была обручена со славным человеком, которого ценила. С кровоточащим сердцем я оторвал себя от нее… думал тогда, что мне осталось жить лишь считаные годы… разве же я мог приковать ее чистый расцвет к своему увяданию?.. В скором времени я продал несколько картин и отправился путешествовать, так как не мог забыть. Через неделю-другую, когда тоска заставила меня вернуться, я услышал, что и она не выдержала. Порвала с другим и с семьей, хотела быть со мной, несмотря ни на что – несмотря на болезнь, нищету, проклятие семьи. Но, не найдя меня, вернулась домой. Там она захворала. Последними ее словами были слова любви и мое имя. Так сказала мне мать. Когда я пришел, на ее могиле цвели темно-красные розы. Я не свиделся с нею. И не могу забыть. Иллюзия и греза – вот что такое моя жизнь без нее. Единственное, что мне осталось, – сумерки, когда перед ее портретом, который я написал в счастливые часы, горят свечи. Тогда в обманчивом свете свечей глаза вновь искрятся, как прежде, и, как прежде, улыбается прелестный алый рот, и милый, милый голос шепчет давно умолкшие слова… тогда моя тоска дрожит и трепещет, тогда моя душа благословляет мучительную память… и все, все поет давнюю песню: «Невозвратная моя… Невозвратная… Где ты, молодость, где ты, молодость… Твой напев с тоской вспомнил я».
Сумерки в комнате все густели, сияние свечи соткало корону вокруг золотых волос Элизабет. Она плакала, глядя на обвитый черным крепом портрет усопшей. Волны великой загадки жизни пронизывали ее, и в биении пульса ей чудилось напоминание о бренности. Пусть наше счастье еще взлетает до звезд и до солнца, пусть мы еще от счастья дерзко вскидываем руки – однажды всему нашему счастью и грезам приходит конец, и напоследок всегда остается лишь плач об утраченном. Быть человеком – тяжкая доля! Желаешь вечно держаться за руки и все же вечно теряешь друг друга по вечным законам. Всю жизнь сражаешься, борешься, ликуешь, страдаешь… и все же в конце концов напоследок остается одно-единственное – песня ласточки: «Твой напев с тоской… вспомнил я… Не вернет тебе… не вернет тебе… песня ласточки весны… Но поет она… но поет она… и о прошлом мне снятся сны». Жизнь бежит дальше, дальше, пока и о нас не заплачут некогда любимые губы: «Где ты, молодость… невозвратная моя».
Медленно Фриц продолжил:
– У нее был прелестный небольшой голосок, как у птички. В тот вечер, когда я впервые увидел ее, она пела песню, которую очень любила: «Где ты, молодость». Эта песня стала символом. Когда после мучительных месяцев я снова вернулся к жизни, у меня более не было желаний. Чтобы не влачить жалкое существование, а послужить человечности, я собрал вокруг себя молодежь. Появился Эрнст… и другие. Конечно, невеликое поле деятельности для громких слов «послужить человечности», но к большему я не способен и не призван. Просто пытаюсь помочь юношеству стать людьми. И уже не могу без них обойтись. Вот так текут теперь мои дни, один за другим, пока норна в конце концов не перережет нить и тьма бессознательного не сомкнется вновь вокруг меня.
Стало очень темно.
Никогда не слышанные мелодии звучали в душе Элизабет. Огромная самоотверженность переполняла ее, желание сказать этому человеку все-все, найти здесь понимание и человечность. Волны трепета пронизывали ее существо, и великое одиночество жизни смотрело на нее смятенными глазами.
Она встала, схватила руку Фрица. И на грани слез, срывающимся голосом проговорила:
– Позвольте мне тоже быть подле вас… я так хочу вам помочь… помогите же мне… жизнь часто такая странная… и человеку необходим тогда другой человек.
Фриц посмотрел на нее.
– Элизабет, – тихо сказал он, – ты так похожа на нее. Я заключил тебя в свое сердце, как только услышал. Моя милая юная подруга…
– Благодарю вас, о, благодарю! – пылко воскликнула Элизабет.
– Не так, – сказал Фриц, – мои друзья говорят иначе. Ты хочешь быть исключением? Мои молодые друзья называют меня дядей Фрицем.
– Дядя… Фриц… – благоговейно произнесла Элизабет.
Он поцеловал ее в лоб.
Отблеск свечи озарял прелестную картину на стене. И казалось, будто прекрасные глаза искрятся и сияют и на алых губах играет улыбка.
III
– Где же дядя Фриц? – Паула капризно тряхнула головой и бережно поставила в вазу сирень.
– Да придет он, придет, – улыбнулся Фрид, – ты же сама только что пришла, малютка Нетерпеливость. Я-то уже час жду.
– Разве дверь была открыта?
– Заперта, но ключ торчал в скважине.
– Он ведь помнит, что мы приходим по пятницам. Ах… – Она победоносно взмахнула блокнотом. – Тут кое-что написано…
– В самом деле?
– Конечно! Сидишь тут целый час и ничегошеньки не заметил! Фрид! Надо, чтоб пришла девушка! А еще сильный пол, называется! Смотри: сперва начатое стихотворение, потом: «Милые дети»… вот как!.. «мне нужно в город, чтобы купить сахару к чаю, красную киноварь для палитры и конфеты для нашей сластены. Печенье и масло на столе. Где чашки и сахар, вы знаете. Чай тоже. Располагайтесь. Фриц».
– Сластена – это про тебя, – заметил Фрид.
– Про меня? Но… ох этот дядя Фриц! Я вовсе не сластена! – возмущенно воскликнула Паула, откусывая кусочек печенья.
– Ну конечно, не сластена, – заверил Фрид, придвинув к ней всю коробку с печеньем.
– Фрид, ты гадкий! – Она топнула ножкой. – И все оттого, что ты общаешься с Эрнстом, а тот вечно насмехается. Запомни, мне восемнадцать! Я молодая дама, а не ребенок!
– В этом никто не сомневается.
– Нет! Ты! Обращаешься со мной как с ребенком! Сомнение на деле.
– Покорнейше прошу меня простить, мадемуазель!
– Вот опять ты насмехаешься.
– Ах… Ладно: прости, Паульхен, ты – молодая дама.
– Правда?
– Чистая правда!
Глаза ее лукаво смеялись.
– Вот и хорошо! Ах, Фрид, глупыш, я вовсе не хочу быть молодой дамой. – Она звонко рассмеялась.
Фрид был обескуражен.
«Попробуй пойми это длинноволосое племя», – подумал он.
– Фрид…
– Да?
– Завтра пойдем принимать воздушные ванны, понятно?
– С удовольствием, Паульхен. Может, и на озеро сходим, поплаваем?
– Можно! Чем больше возможностей подставить себя солнцу, воде и ветру, тем лучше! Ах, Фрид, ведь так чудесно сбросить в воздушной купальне одежду и почувствовать материнскую ласку солнца! И представь себе, недавно я рассказала об этом подруге, а она объявила, что это верх неприличия. Подумать только, до сих пор есть еще такие люди!
– Да, такие, что считают свое тело грехом. Ах, грех… Оно же прекрасно!
– Дядя Фриц тоже всегда так говорит. Мы должны не стыдиться своего тела, а, наоборот, радоваться ему! И он ведь поклонник красоты! Больше того, жрец красоты! Как чудесно он изобразил невинную наготу! Если я когда-нибудь выйду замуж, то мой муж должен непременно быть как дядя Фриц. Но второго такого нет!
– Ты знаешь, что теперь он завершит свою большую картину? У него есть натура!
– Знаю, сударь. Это моя школьная приятельница. Элизабет Хайндорф.
– Наверно, она особенная…
– Разумеется.
– Неудивительно, раз она твоя подруга.
– Вода закипела? Подумай о чем-нибудь другом, ладно?
– Чайник уже поет.
– Тогда давай сюда чай и чайник. И тарелки с чашками. Чтобы дядя Фриц не говорил, что мы лентяи.
Фрид с готовностью расставил чашки и тарелки, пока Паульхен ловко заваривала чай.
– Ах, Фрид… все не так! Убери цветы… с художественной точки зрения ты, наверно, прав, но не с практической. Глупые мужчины, что бы вы без нас делали!
– Ты права, Паульхен, без вас и жить бы не стоило, – послышался от двери смеющийся голос.
– Наконец-то, дядя Фриц. Ну-ка, показывай, что ты купил. Опять тебя обманули. Эх вы, мужчины!
Она вздохнула, разглядывая Фрицевы покупки. Фрид между тем поздоровался с Фрицем.
– Работал нынче, Фрид?
– Да так, ничего серьезного. После обеда немного погулял по валам, сделал новый набросок милого старого собора. На сей раз со стороны Хазе[6]. А потом в Шёлерберге полежал на солнце, помечтал.
– Это тоже работа, Фрид. Работа далеко не всегда, вернее, менее всего творчество. Куда больше места занимает восприятие, наблюдение, и оно столь же важно. Работать можно пассивно и активно.
– Я видел облака… облака… вечно подвижные, изменчивые облака. Облака и жизнь, непостоянные… вечно полные изменений… беспокойные и прекрасные.
– Хорошо, что Эрнст не слышит. А то ведь в свой дурной день припомнит, съязвит насчет незрелых отроческих мечтаний…
– Оставь его, Фриц. В свой хороший день он сам мечтает куда больше. Мир прекрасен. И прекраснее всего он без людей.
– В последнем письме Эрнст пишет так: «Самое прекрасное на свете – люди». Меня волнует только живое. А в человеке оно выражено наиболее ярко. Вы оба правы, и, наверно, оба согласитесь друг с другом.
– Дядя Фриц, оставьте-ка разговоры, идите сюда, будем пить чай. У меня все готово, а вам и дела нет, – надулась Паульхен.
– Как замечательно ты все устроила!
– Правда, дядя Фриц?
– Да, замечательно!
– Ты – самый лучший, дядя Фриц. От Фрида, конечно, ничего не дождешься, он думает об облаках да щеглах.
– Ты же считаешь, что я насмешничаю.
– Ты опять принесла цветы, Паульхен?
– Да. Стащила украдкой. В скверах столько сирени, что я подумала: сорву веточку-другую, от них не убудет, а нам пригодится. Угрызений совести я не почувствовала, вот и сорвала.
– Девчоночья мораль, – рассмеялся Фрид.
– Спасибо, Паульхен. Только не конфликтуй с законом. Я уже опасаюсь, как бы твое следующее письмо не пришло из тюрьмы.
– Не бойся, дядя Фриц. Если полицейский меня поймает, я очень ласково посмотрю ему в глаза, подарю цветочек и скажу: я сорвала его для вас. И он наверняка меня отпустит.
– Или тебя еще суровее накажут за попытку подкупа.
– Ах, у девушек собственные законы. Их всегда оправдывают.
– По законам для малолетних и умственно отсталых, – насмешливо бросил Фрид.
– А злые мальчишки заслуживают розог, да, дядя Фриц?
– Спокойно… спокойно, – попробовал Фриц унять обоих.
– Эти гадкие насмешки он перенял у противного Эрнста. Раньше-то был совсем другим!
– Противнее?
– Милее!
– Цель моей жизни отнюдь не в том, чтоб быть «милым» в глазах маленькой девчонки.
– Ты неотесанный варвар!
– А ты юная дама.
– Так и есть.
– Увы, в покуда коротковатых платьях и с косичками.
– Дядя Фриц, помоги же мне! Выгони его вон!
– Но, Паульхен, он ведь говорит правду.
– Ты еще и защищаешь его?
– Нет, но он делает тебе комплименты. Надо только как следует прислушаться. Юная дама с косичками и растрепанной челкой совершенно восхитительна.
– Да… пожалуй… хотя… – Она задумчиво сунула в рот пальчик. – Ты это имел в виду, Фрид?
– Конечно, Паульхен.
– Ладно, тогда давай помиримся. Дядя Фриц, у меня будет новое платье. Мама говорит, ты должен помочь выбрать материал. Согласен?
– Разумеется. Как тебе васильковый цвет?
– У меня же есть…
– Белый шелк…
– У-у… белый…
– Ну, тогда изящный батик на черном шелке… и совершенно особенный фасон. Рукава-крылышки и все такое. Я тебе нарисую.
– О да, да.
– Vanitas in vanitatum[7], – вздохнул Фрид, – чем было бы женское существо без платьев…
– Мы достаточно часто ходим в солярий…
– Опять туда собираетесь, дети?
– Да, дядя Фриц, ведь уже тепло.
– Отлично! Солнце дочиста промывает тело и дух.
– До свидания, дядя Фриц.
– Побудьте здесь еще немного, дети.
– Нет, тебе ведь надо работать. До свидания, до свидания…
Она выпорхнула из комнаты.
– Сущий вихрь, – сказал Фриц. – Нынче вечером в эстетическом обществе старонемецкие хороводы. Сходите туда.
– Ладно! До свидания, Фриц.
Большими шагами Фрид поспешил следом за Паульхен.
Настала тишина.
Солнце светило в мансардную комнатку, рисовало на полу золотисто-желтые разводы. Фриц набил трубку. Затем поставил на стол покрытую тонкой гравировкой металлическую пепельницу в форме греческой чаши и раскурил трубку, глядя в пространство сквозь сизые извивы дыма. Прощальным вечером он и Лу пили из этой блестящей чаши пурпурное вино, потому что у него не было бокалов, да им они и не требовались, когда по дороге на помолвку она еще раз зашла к нему, обняла и разрыдалась: «Я не могу… не могу, любимый…»
У него тоже слезы навернулись на глаза, и он сказал: «Останься, останься со мной!»
И все же они расстались… пришлось.
Трепеща от близкой разлуки, но пока что вместе, в тот вечер они поднимали к звездам сияющую золотом чашу, полную искристого вина, и рыдали о своей любви и боли.
Фриц отложил трубку, прошел в мастерскую. Достал холст и принялся за дело. Один за другим бежали часы – он ничего не слышал, углубившись в работу. Наконец сумерки заставили его отложить кисть. Он провел ладонью по лбу, рассматривая свою работу. Потом удовлетворенно отодвинул мольберт. Тихонько насвистывая, взял шляпу и трость и вышел на вечернюю улицу.
Мирно шумели каштаны.
Через час Фриц вернулся. Зажег лампу, взял несколько выпусков «Красоты».
Снаружи медленно наступала ночь.
Несколько чудесных фотографий обнаженной натуры в журнале привели Фрица в полный восторг.
В дверь постучали.
«Наверно, кто-то из молодых друзей», – подумал он.
– Прошу.
На пороге стояла высокая элегантная дама, и ясный, звучный голос произнес:
– Добрый вечер, господин Шрамм.
Фриц вскочил.
– Какая приятная неожиданность, мадемуазель.
– Я не помешаю?
– Только если захотите сразу же уйти.
– Значит, не помешаю. Вы столько рассказывали о вашем Приюте Грез, что мне стало любопытно…
Она сбросила на руки Фрица шелковую накидку и огляделась. Фриц смотрел на нее. Нежный шелк мягко стекал по высокой фигуре. Беломраморная шея выступала из глубокого выреза платья, гордо и спокойно неся красивую голову с тяжелыми темными волосами. Поблескивали матовые жемчужины.
– Вы не преувеличивали, господин Шрамм, это поистине комната грез. Такая уютная и теплая. Я вдвойне это чувствую, мне так надоели залы со свечами и ярко освещенные комнаты.
Фриц придвинул ей кресло, она небрежно села.
– Сегодня я угощу вас чаем с английскими бисквитами… нет-нет, не возражайте… а затем не шоколадные конфеты, а – только представьте себе! – черешни, уже в мае. Один из итальянских друзей прислал мне нынче утром пакет. И заодно выкурим по сигарете. Согласны?
Она кивнула и с удовольствием позволила ему заняться приготовлениями.
– Как у вас покойно, мирно, господин Шрамм. Сейчас такое редко найдешь. Все гонятся за счастьем и золотом – это ведь не одно и то же… хотя в конечном итоге зачастую одно и то же. Вы нашли счастье, господин Шрамм?
– Я счастья не ведаю… если иметь в виду избитое обывательское понятие, старую погудку: довольство – вот подлинное счастье. Пожалуй, так оно и есть… в среднем. Что же до нас, тонко чувствующих, неординарных, я бы сказал так: подлинное счастье – мир в душе! Почти то же самое, и все-таки нет. Довольство можно испытывать всегда, просто так – без схваток, без борений. Зачастую так и бывает. Мир же приходит в душу лишь после борьбы, тяжких битв и заблуждений. Очищенное, познанное Я…
– И вы нашли этот мир, господин Шрамм?
– Пожалуй, можно бы так сказать, мадемуазель, хотя сам по себе он вовсе не золотой. Скорее тускло-лиловый, меланхолический… но – мир…
– Когда он наступает?
– Когда находишь себя.
– Это трудно?
– Труднее не бывает!
Она кивнула.
– Здесь необходимо и кое-что еще: оставаться верным себе.
– Это невозможно, господин Шрамм.
– Возможно, если нашел себя.
– Тогда надо стать отшельником. Но можно ли стать им в большом мире?
– Стать – нельзя… быть – можно. У тебя есть свой напев, своя песня… свой тон… ты просто таков, вот и все.
– Но подобных людей в обществе не сыщешь. Там все остроумны, рафинированны, благовоспитанны – но это не люди.
– Неужели дело обстоит так скверно? Нужно лишь приложить немножко усилий. Кстати, самые заметные не всегда и самые интересные…
Она задумчиво посмотрела на него:
– Вы так не похожи на других, господин Шрамм.
– С каких пор дамы делают комплименты?
– Это не комплимент. В юности я бы пожелала себе такого друга, как вы. Может статься, многое сложилось бы тогда иначе.
– Я люблю… вот и все.
– Любите?
– Правда, не в обычном, общепринятом смысле. Я люблю все: природу, людей, деревья, облака… страдания… смерть… – словом, жизнь! Я оптимист и предельная форма любви.
– У вас было мало разочарований…
– Очень много!
– И тем не менее?
– Да!
– Странно…
Лампа затрещала. Фриц взял серебряную корзиночку с темно-красными черешнями, предложил гостье.
– Сегодня вы, стало быть, не играете, мадемуазель?
– Завтра. Вот взгляните, именно поэтому я невольно подумала о вас и решила вас навестить…
Она достала из ридикюля программку, протянула ему.
Он вполголоса прочитал:
– «“Богема”… опера Пуччини… Мими – Ланна Райнер».
– Да, мне предстоит петь бедняжку Мими. Сегодня на генеральной репетиции мне поневоле живо вспомнились вы и ваш Приют Грез. Нынешние наши артисты – уже не богема. Они очень благовоспитанны, очень корректны, очень аккуратны. А вот в вас по-прежнему чувствуется легкий богемный оттенок.
– Завтра вы поете «Богему», – задумчиво проговорил Фриц. – Я долго видеть не мог эту оперу, слишком она брала меня за душу. Там изображена родственная судьба. – Он кивнул на прелестный портрет на стене. – Но завтра хочу прийти.
– Я рада. Скажете мне после что-нибудь?
– Когда, с вашего позволения?
– Ну, в тот же вечер.
– Вы ведь наверное приглашены?
– Разумеется, даже всем мужским haute volée[8].
– Значит…
– Как раз нет! Эти пошляки мне до крайности отвратительны. Я хочу говорить с людьми. Льстить может любой. Цель всегда весьма эгоистична и прозрачна. Не хочу! – Она встала. – Итак, около десяти вечера у малого входа.
Фриц поцеловал ей руку.
– Благодарю вас.
Она как-то странно посмотрела на него.
И ушла. Он посветил на лестницу. Лампа бросала причудливые тени и блики на ступени и перила.
Еще час Фриц сидел при свете лампы. Не читал, просто размышлял о странностях человеческой жизни. И содрогался, думая о том, как все загадочно и случайно. Капля тумана во вселенной… дуновение ветерка средь вечера… не знаю, откуда оно идет и куда… человеческая жизнь… зыбкая предрассветная греза…
А свет лампы спокойно озарял прелестный портрет на стене.
Она улыбалась.
IV
Вешнее солнце сияло и искрилось над привокзальными скверами. Ласточки щебетали у широкого портала, где, несмотря на шум и суету, построили гнездо.
Элизабет медленно шла через площадь. Недавно прибыл поезд, и по площади разливался людской поток. Она немного постояла. И вдруг почувствовала чей-то взгляд. Дерзкие серо-голубые глаза блеснули на нее с загорелого лица. Она в смущении потупилась. А потом посмотрела вслед стройной фигуре в сером дорожном костюме. Лицо показалось ей знакомым. Но, как ни старалась, она не могла вспомнить откуда.
Фриц сидел в Приюте Грез, подбирал краски, когда на лестнице послышались быстрые шаги, дверь распахнулась и раздался возглас:
– Фриц… старина Фриц… – Крепкие руки заключили его в объятия.
– Эрнст, мальчик мой… неужто в самом деле ты? Откуда так вдруг?
– Просто сбежал. На неделю раньше развязался с этой казармой для старых дев… Фриц, дружище, весна ведь, ну можно ли долбить контрапункт и фуги. Я просто не выдержал – и приехал. Где городские девушки? Давайте их сюда! Мне понадобится целая армия!
– Спокойно, мальчик мой, спокойно… в маленьком городе жизнь течет не спеша. Ты взял слишком быстрый темп. Как насчет того, чтобы освежиться, а потом выпить чашечку кофе?
– Отлично! Ты прав! О нужном и практическом я всегда забываю. Стало быть, бегом в твою святая святых, дабы потоки радийсодержащей воды маленького городка промыли голову от греховных идей большого города. А потом чаю, Фриц! Но только настоящего, подлинного, уникального чаю Приюта Грез, идет?
Через минуту по соседству послышался плеск воды и фырканье; Фриц тем временем заварил чай.
– А теперь рассказывай, Эрнст.
– Да ну, рассказывать – занятие для старушенций. Я стану рассказывать, когда дряхлым, седым, беззубым старикашкой засяду за мемуары. Но сейчас? Я здесь! И баста!
Фриц добродушно улыбнулся:
– В свое время поймешь.
– Рассказывай ты, Фриц. Как поживаешь? Как твои картины? Закончены? Хороши?
– Я нашел натуру для большой картины и в ее лице новую, милую, юную подругу.
– Она красивая?
– Очень.
Эрнст весело присвистнул.
– И невинная, Эрнст!
– Невинная? Невинная… – Он посерьезнел. – Это много значит… возможно, даже все. Она тебе нравится, Фриц?
– Как и ты, Эрнст.
– Тогда будет мне сестрой.
– Я знал, Эрнст. Спасибо тебе.
– Это же само собой разумеется, Фриц.
– Ты надолго к нам?
– Времени у меня сколько угодно. Я по горло сыт нашим топтанием по педали. Хочу в Лейпциг, навести последний лоск. А как дела у Фрида? Он здесь, да?
– Да, уже несколько недель. Закончил Академию в Дюссельдорфе и теперь работает здесь. Получил заказ на две довольно большие картины, а кроме того, рисует узоры для обойной фабрики. Заодно продает экслибрисы, монотипии, а иной раз и рисунки пером и силуэты, оформляет книги, так что с ним все в порядке.
– Рад слышать. А Паульхен?
– Как обычно, егозит, спорит, хочет быть взрослой, да и впрямь скоро повзрослеет.
– Сходишь со мной на вокзал, Фриц? Мне надо забрать багаж.
Не торопясь, оба направились к вокзалу. И посреди разговора на них вдруг вихрем налетело нечто щебечущее и душистое – Паульхен!
– Эрнст! Это ты или твой дух?
– То и другое, Паульхен, у мужчины дух всегда при себе, тогда как дух девочки-подростка часто заключается лишь в ее воодушевлении.
– Ох! – невольно вставил Фриц.
– Дядя Фриц, слышишь, он опять начинает! Фу, Эрнст!
– Далеко ли ты собралась в этом восхитительном розовом летнем облаке, Паульхен?
– Пошататься, милый дядя Фриц.
– Пошататься? – в один голос вскричали оба. – Это как же?
– Ну, погулять, если тебе так понятнее, господин Эрнст, погулять по Главной улице с полшестого до полседьмого.
– Ах вот как, понятно, – сказал Эрнст, – раньше мы называли это место Глупышкиным лугом.
– Замолчи, гадкий мальчик… До свидания, дядя Фриц. – Она поспешила прочь, но все же вернулась. – До свидания, Эрнст.
– Так-то лучше. Повеселись хорошенько, Паульхен.
Они продолжили путь. На вокзале Эрнст вручил деньги и адрес служителю. А потом настоял зайти в кофейню.
– Куда же? – смиренно сказал Фриц.
– В «Виттекинд». Идем, старина, смотри веселей. Надо же мне снова повидать ваших девушек.
– А у вас там ты девушек не видал?
– Господи, да разве же это девушки! Сплошь «образованные»: закончили обучение или еще учатся. Внешний признак последних: стоптанные каблуки, пенсне в черной оправе, обтрепанные подолы… или гладкие, причесанные по-мокрому волосы, закрытая блузка со стоячим воротом и длинными рукавами. Еще хуже – студентки-музыкантши. Особый вид: прирожденные художницы, платья с огромным вырезом при гусиной-то шее, угловатых плечах и полном отсутствии бюста. Внешность для них значения не имеет! Во-вторых: они ведь «образованные». Новый сорт. Пьют чай, пишут маслом альпийские пейзажи, играют на фортепиано «Тоску штирийца по родине», «Молитву девы» и «Элегию», читают «И любовь никогда не перестает», «Разбитые сердца» и прочее… Некоторым я как-то раз показал парочку выпусков «Красоты». Господи, взрыв негодования. Что за люди! Эти лишенные женственности книжные черви знать ничего не знают о солнце, воздухе и красоте! Фриц, «образованная» женщина – это кошмар. У нас есть множество всяких законов, но нет ни единого, который бы мигом решительно отправлял под венец скучающих женщин, как только они принимаются политизировать, писать книги и так далее. После этих эстетствующих бледных физиономий прямо-таки жаждешь увидеть простую, милую, прелестную девушку, которая целует и любит так, как того желает мать-природа. А стало быть: вперед, на бойню!
Они поискали свободное место в довольно многолюдной кофейне. За одним из столиков в центре зала сидела очень элегантная молодая дама. Эрнст слегка иронично поклонился. Она же недоверчиво воскликнула:
– Господин Винтер?
Улыбаясь, он протянул ей руку.
– Добрый день, мадемуазель Берген. Я ищу два места и вижу их за вашим столиком.
– Прошу вас.
Эрнст представил Фрица, и они сели.
Перехватив взгляд Эрнста, Трикс Берген покраснела и сказала:
– Давно вас не видела, господин Винтер.
– Меня здесь не было. Я только сегодня приехал.
– А я три дня назад. Где же вы были?
– В Берлине.
– Ах, Берлин. Красивый город! Столько развлечений и шумных празднеств.
– И казарменного вида доходных домов, – иронически вставил Эрнст.
– На них смотреть необязательно. Надо делать себе жизнь как можно приятнее.
– А потом? – спросил Фриц.
– Ах, потом… пока что на дворе сегодня! Я пока что молода и хороша собой. К чему мне задаваться вопросом о потом. – Она подпела мелодию музыкантов и качнула плечами. – Ах, так хочется потанцевать. Здесь, в этих гадких городишках, такое невозможно. В Берлине повсюду танцы. Бостон… фокстрот… матчиш… капельмейстер Псих… ой… ка-ак грянет. А здесь… – Она щелкнула пальцами. – Скоро я опять уеду.
– Снова в Берлин?
– Разумеется… там всегда что-то происходит…
– Для счастья не всегда нужен большой город, – заметил Фриц.
– Счастье есть и в захолустье, вы правы.
– Все зависит от точки зрения, – сказал Эрнст. – Например, одна моя милая знакомая пишет, что теперь совершенно счастлива. У нее родился ребенок.
Трикс звонко рассмеялась: