Читать онлайн Остров бесплатно
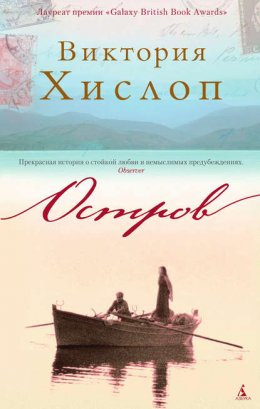
Victoria Hislop
THE ISLAND
Copyright © 2005 by Victoria Hislop
All rights reserved
© Т. Голубева, перевод, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®
* * *
Посвящается моей матери Мэри
Выражаю особую благодарность профессору Ричарду Гроувзу из отделения дерматологии Королевского колледжа и профессору Дайане Локвуд из Лондонского института гигиены и тропической медицины.
На острове Спиналонга, к северу от Крита, с 1903 по 1957 год находился главный греческий лепрозорий.
Плака, 1953 год
Холодный ветер проносился по узким улочкам Плаки, и осенний воздух пронизывал женщину, парализуя тело и ум, что почти лишало ее ощущений, но никак не могло смягчить ее горе. Одолевая последние несколько метров до причала, она тяжело опиралась на своего отца, и походка ее казалась похожей на походку древней старухи, которой каждый шаг причиняет боль. Но ее боль не была физической. Тело женщины оставалось таким же сильным, как у любой молодой женщины, которая всю свою жизнь дышала чистым воздухом Крита, ее кожа была такой же свежей, а глаза, ярко-карие, были такими же, как у любой девушки на этом острове.
Маленькое суденышко, нагруженное странной формы узлами, скрепленными между собой веревкой, подпрыгивало и качалось на воде. Пожилой мужчина медленно спустился в лодку и, одной рукой пытаясь удержать судно, другую руку протянул дочери. Когда та очутилась на борту, он старательно укутал ее одеялом. Единственным признаком того, что женщина не была просто еще одним предметом груза, стали длинные пряди темных волос, свободно развевавшихся на ветру. Старик аккуратно отвязал от причала канат – и их путешествие началось.
Это не была короткая поездка ради доставки каких-то припасов. Это был путь в один конец, для начала некой новой жизни. Жизни в колонии прокаженных. Жизни на Спиналонге.
Часть 1
Глава 1
Плака, 2001 год
Освобожденный канат взлетел в воздух и осыпал обнаженные руки женщины каплями морской воды. Капли вскоре высохли, и когда жаркие лучи солнца упали с безоблачного неба на женщину, она заметила, что ее кожа поблескивает от образовавшегося на ней узора соляных кристаллов, подобно татуировке с бриллиантами.
Алексис была единственной пассажиркой на маленьком старом судне, и когда оно с пыхтением отошло от причала и двинулось в направлении одинокого, безлюдного острова, она слегка содрогнулась, подумав обо всех тех мужчинах и женщинах, которые отправлялись туда до нее.
Спиналонга. Алексис и так и этак рассматривала это слово, вертела его на языке, как оливковую косточку. Остров лежал прямо впереди перед ними, и по мере того, как судно приближалось к мощным венецианским укреплениям, смотревшим на море, Алексис ощутила одновременно и тягу к прошлому острова, и гнетущее чувство от того, чем он стал в настоящем. Этот остров, размышляла она, может оказаться местом, где история до сих пор полна живого тепла, это не холодные камни – там есть реальные, а не мифические обитатели. И как же все здесь отличалось от тех древних дворцов и мест давних поселений, среди которых она пробыла несколько последних недель, и даже месяцев… и даже лет.
Алексис могла бы провести и еще какое-то время, бродя среди руин Кносса, мысленно создавая картины жизни, которая могла протекать здесь больше четырех тысяч лет назад. Однако в последнее время она начала чувствовать, что это было настолько далекое прошлое, что оно почти не поддавалось воображению и уж точно не слишком ее интересовало. Хотя Алексис имела ученую степень по археологии и работала в музее, интерес к теме угасал у нее с каждым днем. Ее отец был академическим ученым, страстно преданным своим исследованиям, и Алексис выросла в искреннем убеждении, что должна пойти по его пыльному следу. Для таких, как Маркус Филдинг, никакая древняя цивилизация не была удалена в прошлое настолько, чтобы он мог потерять к ней интерес. Но для Алексис, которой уже стукнуло двадцать пять, даже волы, мимо которых она проезжала сегодня утром, выглядели куда более значимыми и уместными в ее жизни, чем Минотавр в легендарном Критском лабиринте.
Направление, которое приняла ее научная карьера, перестало беспокоить Алексис. Куда важнее оказалась проблема, возникшая из-за Эда. Но когда они в дни последнего отпуска наслаждались мягким теплом на их греческом острове, под эпохой некогда обещанной вечной любви была медленно подведена черта. Их отношения расцвели в изысканном микрокосме университета, но во внешнем мире они начали увядать, и теперь, три года спустя, их пора уже было выдернуть с корнем, поскольку они не перенесли пересадки из оранжереи на газон.
Эд был хорош собой. И это являлось фактом, а не чьим-то мнением. Но его замечательная наружность иногда раздражала Алексис точно так же, как и все остальное. Ей казалось, что внешность не служит оправданием его высокомерия, а иной раз и вызывающей зависть самонадеянности.
Похоже, они оказались вместе по принципу «противоположности сходятся». Алексис, со светлой кожей, темными глазами и волосами, – и Эд, светловолосый, голубоглазый, почти арийского типа. Но иной раз Алексис ощущала, как ее собственная более широкая натура буквально обесцвечивается под давлением Эда с его потребностью в дисциплине и порядке. Алексис понимала, что это не то, чего ей хотелось, – даже самые малые проявления спонтанности, которых она жаждала, в глазах Эда выглядели проклятием.
Многие другие его положительные качества, большинство из которых весьма высоко ценились в мире, начали доводить ее до безумия. И прежде всего неколебимая уверенность. Она была неизбежным результатом твердого знания Эда о том, какой путь ожидает его впереди, он знал это с момента своего рождения. Эду была гарантирована пожизненная работа в юридической фирме, и годы будущего представлялись ему в виде предопределенного продвижения по служебной лестнице и жизни в заранее обозначенных районах.
А единственное, в чем была уверена Алексис, так это в их растущей несовместимости. И в дни того отпуска она все больше и больше времени посвящала размышлениям о будущем и в этом будущем вообще не видела Эда. Даже в домашних привычках они не сходились. Зубная паста неправильно выжималась из тюбика. Но виновной всегда бывала Алексис, не Эд. Его реакция на ее промахи была следствием его взглядов на жизнь в целом, и Алексис обнаружила, что его требования к безупречной аккуратности слишком высоки. Она приучала себя ценить его страсть к порядку, но обижалась на молчаливое неодобрение немного хаотичного образа жизни, привычного ей. И постоянно вспоминала, что именно в темном, захламленном кабинете отца она чувствовала себя дома, а родительская спальня, для которой мать выбрала светлые стены и гладкие, безупречно чистые поверхности, вызывала в ней содрогание.
Все всегда должно было идти по правилам Эда. Он принадлежал к числу золотой молодежи: без усилий занимал первое место в учебе и из года в год одерживал победы в спорте. Идеальный староста. Он вырос в уверенности, что весь мир – его личное пространство, но Алексис пришла к выводу, что не должна быть заключена в нем. Могла ли она поступиться своей независимостью и жить с Эдом, раз уж так очевидно, что все к этому и идет? Слегка обшарпанная арендованная квартирка в Крауч-Энде против изысканных апартаментов в Кенсингтоне – не была ли она сумасшедшей, отказавшись от последних? Вопреки ожиданиям Эда, что Алексис осенью переедет туда вместе с ним, она должна была спросить себя: а зачем жить вместе, если они не собираются пожениться? Да и был ли Эд тем мужчиной, которого она хотела бы видеть отцом своих детей?
Такая неуверенность мучила Алексис много недель, даже месяцев, но рано или поздно надо было набраться храбрости и что-то предпринять. Эд столько сил приложил, организовывая этот отпуск, и едва ли заметил, что Алексис с каждым днем молчит все больше и больше.
Как отличалась эта поездка от тех каникул, которые она проводила на греческих островах в студенческие годы, когда они с подругами были свободны и лишь прихоть диктовала им маршруты долгих путешествий под палящим солнцем. Они сами решали, в какой бар им зайти, на каком пляже поваляться и как долго оставаться на том или другом острове – просто бросали в воздух монетку в двадцать драхм, и все. Трудно поверить, что жизнь когда-то могла быть такой беспечной. А это путешествие было переполнено спорами с собой и самокопанием, и борьба эта началась задолго до того, как Алексис обнаружила, что стоит на земле Крита.
«Как я могу быть настолько неуверенной в будущем, когда мне уже двадцать пять? – спрашивала себя Алексис, укладывая вещи для поездки. – Вот я здесь, в квартире, которая мне не принадлежит, собираюсь взять отпуск на работе, которая мне не нравится, и отдыхать с мужчиной, до которого мне едва ли есть дело. Да что это со мной?»
Мать Алексис, София, в таком возрасте уже несколько лет была замужем и успела родить двоих детей. Какие обстоятельства вынудили ее созреть так рано? Как она умудрялась быть такой домовитой, тогда как Алексис до сих пор ощущала себя ребенком? Если бы Алексис побольше знала о том, как именно ее мать смотрела на жизнь, возможно, это помогло бы ей принять собственное решение.
Но София всегда рьяно охраняла свое прошлое, и с годами ее скрытность превратилась в некий барьер между ней и дочерью. Алексис казалось смешным то, что в ее семье поощрялось изучение прошлого человечества, но при этом ей не дозволялось направить увеличительное стекло на собственную, личную историю. Ощущение того, что София что-то скрывает от своих детей, приводило к тому, что в их души закрадывалось недоверие. София Филдинг как будто не только закопала поглубже свои корни, но еще и утоптала землю над ними.
У Алексис был только один ключ к прошлому матери: поблекшая свадебная фотография, стоявшая на столике у кровати всегда, насколько Алексис себя помнила, – затейливая серебряная рамка почти истерлась от постоянной полировки. В раннем детстве, когда Алексис использовала родительскую кровать как батут для прыжков, изображение улыбающейся, но напряженной пары на фотографии взлетало и опускалось перед ней. Иногда она спрашивала мать о прекрасной леди в кружевах и о мужчине с платиновыми волосами. Как их звали? Почему у него седые волосы? Где они теперь? София отвечала чрезвычайно коротко: это ее тетя Мария и дядя Николаос, они жили на Крите, а теперь уже оба умерли. Тогда Алексис этого вполне хватало… Но теперь ей нужно было знать больше. В этом фотоснимке было нечто особенное: это ведь единственная фотография в рамке во всем доме, кроме снимка самой Алексис и ее младшего брата Ника. Пара на снимке явно имела большое значение для матери, и тем не менее София неохотно говорила об этих людях. И даже более чем неохотно – она проявляла редкостное упорство. Когда Алексис немного повзрослела, она научилась уважать желание матери уединяться, потому что, став подростком, и сама иной раз испытывала острую потребность запереться в своей комнате и ни с кем не общаться. Но теперь она и это переросла.
Вечером накануне того дня, когда она должна была отправиться на отдых, Алексис приехала в родительский дом, викторианский особнячок с террасой на тихой Баттерси-стрит. Это было семейной традицией – ужинать в местной греческой таверне перед тем, когда Алексис или Ник в начале нового учебного года собирались уехать в университет или же отправлялись куда-нибудь за границу, – но на этот раз у Алексис была и другая причина для визита. Ей хотелось посоветоваться с матерью о том, как ей быть с Эдом, и, что не менее важно, задать несколько вопросов о прошлом Софии. Приехав на добрый час раньше, Алексис была полна решимости уговорить мать, чтобы та приподняла завесу. Пусть даже ради тонкого лучика света.
Алексис вошла в дом, бросила тяжелый рюкзак на кафельный пол, а ключ – на старый бронзовый поднос, стоявший на полке в прихожей. Ключ упал на поднос с громким звоном. Алексис знала, что мать больше всего ненавидит, когда ее застают врасплох.
– Привет, мам! – крикнула она в тихое пространство коридора.
Полагая, что мать должна быть наверху, Алексис помчалась по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, а войдя в спальню родителей, как всегда, восхитилась безупречной аккуратностью. Скромная коллекция бус висела на углу зеркала, да три флакона духов выстроились в ровный ряд на туалетном столике Софии. И больше ничего лишнего в комнате не было: никаких намеков на личность матери Алексис или ее прошлое, ни картин на стенах, ни книг у кровати. Только одна-единственная фотография в рамке рядом с постелью. Несмотря на то что София делила это пространство с Маркусом, оно принадлежало только ей, и страсть матери к аккуратности тут преобладала. Каждый из членов их семьи имел собственное, отличное от других пространство.
Если суровый минимализм спальни был создан Софией, то пространством Маркуса был его кабинет, где книги выстраивались в колонны на полу. Иногда эти башни рушились под собственной тяжестью, и тома разлетались по всей комнате. Тогда добраться до письменного стола Маркуса можно было, только используя книги в кожаных переплетах в качестве ступеней. Маркус наслаждался, работая в этих развалинах книжного храма, это напоминало ему археологические раскопки, где каждый камень тщательно снабжен этикеткой, даже если на посторонний глаз все казалось грудой обломков. В отцовском кабинете всегда было тепло, и уже в детстве Алексис частенько пробиралась сюда, чтобы почитать какую-нибудь книгу, свернувшись клубочком в мягком кожаном кресле, которое постепенно теряло набивку, но все равно оставалось самым уютным и самым милым местечком во всем доме.
И хотя дети покинули этот дом много лет назад, их комнаты оставались нетронутыми. Комната Алексис была по-прежнему выкрашена в депрессивный фиолетовый цвет, который она выбрала в угрюмом возрасте пятнадцати лет. Покрывало на кровати, коврик и гардероб были розовато-лиловыми – цвет мигреней и раздражительности. Это теперь Алексис так думала, но тогда она настояла именно на таком сочетании цветов. Наверное, ее родители теперь вправе были все здесь перекрасить, но в доме, где оформление интерьеров и мягкая мебель стояли на последнем месте, это могло случиться и через десятилетие.
Цвет стен в комнате Ника определить было невозможно, потому что они сплошь были заклеены плакатами группы «Арсенал», рок-групп и блондинок с невероятными бюстами. Маленькую гостиную Алексис и Ник делили между собой, и здесь Ник молча просиживал долгие часы, глядя в полутьме на экран телевизора.
А вот кухня принадлежала всем. Круглый сосновый стол 1970-х – первый предмет обстановки, который София и Маркус приобрели вместе, – являлся центром, местом, где все могли устроиться, разговаривать, играть в какие-нибудь игры и, несмотря на все жаркие споры и несогласия, часто возникавшие между ними, превращаться в настоящую семью.
– Привет, – сказала София, приветствуя отражение дочери в зеркале.
Она одновременно причесывала короткие светлые волосы и рылась в шкатулке с украшениями.
– Я почти готова, – добавила она, застегивая коралловые серьги, подходившие к надетой блузке.
Алексис не могла знать о том, что внутри у Софии все сжималось, когда она готовилась к этому семейному ритуалу. Этот момент напоминал ей обо всех ночах перед началом учебного года, когда София изображала радость, но готова была рыдать из-за того, что Алексис вскоре покинет дом. Способность Софии скрывать свои чувства, казалось, возрастала пропорционально тем чувствам, которые она подавляла. Она глянула на свое лицо, потом на отражение дочери рядом с ним, и волна потрясения прокатилась по ее телу. Это было не лицо девочки-подростка, которое София всегда видела мысленно, а лицо взрослой женщины, чей вопросительный взгляд встретился с ее взглядом.
– Привет, мам, – тихо произнесла Алексис. – А папа когда вернется?
– Надеюсь, скоро. Он знает, что тебе завтра рано вставать, и обещал не задерживаться.
Алексис взяла знакомую фотографию и тяжело вздохнула. Даже теперь, когда ей было далеко за двадцать, Алексис понадобилось собрать всю свою храбрость, чтобы попытаться проникнуть в запечатанное прошлое матери, как будто она собиралась нырнуть под желтую полицейскую ленту, ограждавшую место преступления. Но ей необходимо было знать, чтó думает ее матушка. София вышла замуж, когда ей не исполнилось и двадцати, так не решит ли она, что Алексис совершает глупость, отказываясь от возможности провести остаток жизни с человеком вроде Эда? Или, может быть, она думает так же, как Алексис, и полагает, что Эд совсем не тот мужчина, какой нужен ее дочери? Алексис мысленно повторила свои вопросы. Интересно, как это мать поняла, да еще с такой уверенностью, да в столь юном возрасте, что мужчина, за которого она выходит замуж, – «тот самый»? Откуда она могла знать, что будет счастлива в следующие пятьдесят, шестьдесят, а может, и семьдесят лет? Или она вообще ничего такого не думала? Но в тот самый момент, когда все эти вопросы уже готовы были выплеснуться наружу, Алексис заколебалась, внезапно испугавшись, что мать не захочет говорить на эту тему. Однако оставался еще один вопрос, который она просто должна была задать.
– А могу ли я… – осторожно начала Алексис, – могу ли я поехать и увидеть те места, где ты выросла?
Кроме христианского имени, говорившего о греческой крови, единственным внешним признаком, доставшимся Алексис по материнской линии, были ее темно-карие глаза, и уж она постаралась ими воспользоваться, в упор поглядев на мать.
– В конце путешествия мы собираемся на Крит, и было бы просто глупо, оказавшись там, упустить шанс.
София принадлежала к женщинам, которым большого труда стоит улыбнуться, показать свои чувства, обняться. Ее естественным состоянием была сдержанность, и она сразу же попыталась найти повод, чтобы уйти от темы. Но что-то ее удержало. Наверное, дело было в том – как часто повторял Маркус, – что Алексис всегда будет их ребенком, но не всегда ребенком, который к ней возвращается. София противилась этой мысли, но понимала, что это действительно так. Теперь, когда она видела перед собой независимую молодую женщину, она наконец смирилась. И вместо того чтобы прекратить разговор, как она всегда это делала, стоило Алексис коснуться этой темы, София ответила с неожиданной теплотой, впервые сознавая, что желание дочери узнать больше о своих корнях не просто естественно – пожалуй, оно даже справедливо.
– Да… – неуверенно произнесла София. – Думаю, ты могла бы.
Алексис попыталась скрыть изумление и даже задержала дыхание, боясь, как бы мать не передумала.
– Да, это неплохая возможность, – уже с большей уверенностью сказала София. – Я напишу письмо, а ты отдашь его Фотини Даварас. Она знала нашу семью. Должно быть, она теперь уже состарилась, но Фотини всю жизнь прожила в той самой деревне, где я родилась, а замуж вышла за хозяина тамошней таверны, так что тебя могут еще и отлично накормить.
Алексис засияла от волнения.
– Спасибо, мам! А где эта деревня? – спросила она. – Если считать от Ханьи?
– От Ираклиона ехать примерно два часа на восток, – ответила София. – Так что от Ханьи, наверное, часа четыре или даже пять – в общем, почти целый день. Папа вернется с минуты на минуту, но, когда мы поужинаем, я напишу это письмо для Фотини и точно покажу тебе на карте, где расположена Плака.
Беспечный стук входной двери возвестил о возвращении Маркуса из университетской библиотеки. Его потертый кожаный портфель стоял, раздувшись, посреди коридора, и из него торчали бумаги. Похожий на медведя мужчина, в очках, с густыми серебристыми волосами, весивший, наверное, столько же, сколько его жена и дочь, вместе взятые, приветствовал Алексис широкой улыбкой, когда она сбежала вниз по лестнице и бросилась в его объятия точно так же, как это делала начиная с трехлетнего возраста.
– Папа! – только и произнесла Алексис, но даже это было излишним.
– Моя прекрасная девочка! – откликнулся он, сжимая ее в теплых и уютных объятиях, на какие способны только отцы столь щедрого сложения.
Вскоре они отправились в ресторан, в пяти минутах ходьбы от дома. Таверна Лукакиса, приютившаяся между винными барами с сияющими витринами, дорогими кондитерскими и модными ресторанами, оставалась все той же. Она открылась вскоре после того, как Филдинги купили свой дом, за это время сотни других магазинов и закусочных возникали рядом с ней и исчезали. Владелец таверны, Грегорио, приветствовал троицу как старых друзей, каковыми они и являлись. Их визит был настолько ритуальным, что хозяин знал, что закажут его посетители, еще до того, как те уселись за стол. Как всегда, Филдинги вежливо выслушали список блюд дня, а потом Грегорио показал на каждого из них по очереди, приговаривая:
– Дежурные закуски, мусака, стифадо, каламари, бутылочка рестины и большая бутылка шипучки.
Они одновременно кивнули и засмеялись, когда Грегорио изобразил веселое недовольство тем, что Филдинги отвергли новые изобретения его шеф-повара.
Алексис, заказавшая мусаку, баранину с помидорами и сыром, говорила больше всех. Она рассказала о предполагаемом путешествии с Эдом, а ее отец, заказавший каламари, время от времени перебивал ее, перечисляя места археологических раскопок, которые они могли бы посетить.
– Но, папа! – в отчаянии застонала Алексис. – Ты же знаешь, Эда не слишком-то интересуют руины.
– Знаю-знаю, – откликнулся мистер Филдинг. – Но только невежественные люди могут побывать на Крите, не посетив Кносс. Это все равно что приехать в Париж и не пойти в Лувр. Даже Эду следовало бы это понимать.
Но они были в курсе, что Эду ничего не стоит пройти мимо всего того, в чем таится наивысшая культура, и потому в голосе Маркуса всегда звучало легкое презрение, когда речь заходила об этом молодом человеке. Не то чтобы Маркусу Эд не нравился или он не одобрял его поступки. Эд был как раз таким человеком, за какого любой отец хотел бы выдать свою дочь, но Маркус не мог скрыть разочарование, когда представлял себе этого мужчину с большими связями в будущем своей дочери.
София же, напротив, обожала Эда. Он воплощал в себе все то, что София могла пожелать своей девочке: респектабельность, стабильность и фамильное древо, которое снабжало его уверенностью человека, связанного – пусть и чрезвычайно слабо – с английской аристократией.
Вечер выдался хоть куда. Они не собирались вместе уже несколько месяцев, и Алексис хотелось узнать о многом, особенно о личной жизни Ника. Брат Алексис сейчас учился в аспирантуре в Манчестере и так спешил повзрослеть, что родители не уставали изумляться путанице его отношений с дамами.
Потом Алексис и ее отец стали обмениваться смешными историями о своей работе, а София заметила, что ее мысли возвращаются к тому времени, когда они впервые пришли в эту таверну и Грегорио взгромоздил на стул целую гору подушек, чтобы Алексис могла дотянуться до стола. К тому времени, когда родился Ник, в таверне уже появились высокие детские стулья. Вскоре дети научились ценить яркий вкус греческих блюд и с удовольствием поглощали тарамасалату с оливками и цацики – йогурт с огурцами, чесноком и мятой. С тех пор на протяжении более чем двадцати лет почти каждое событие в их жизни отмечалось в этой таверне, сопровождаемое все теми же записями популярной греческой музыки, приглушенно звучавшей в зале. Осознание того, что Алексис уже не ребенок, вдруг поразило Софию сильнее прежнего, и она начала думать о Плаке и письме, которое ей предстояло написать.
В течение многих лет она регулярно переписывалась с Фотини и четверть века назад описала появление на свет своего первого ребенка. А через несколько недель пришла посылка с маленьким, великолепно расшитым платьицем, и в это платьице София одела своего ребенка на крещение, поскольку традиционной одежды у них не было. Некоторое время назад они перестали писать друг другу, но София была уверена, что муж Фотини дал бы ей знать, если бы что-нибудь случилось с его женой. София гадала, как могла теперь выглядеть Плака, стараясь отогнать образ маленькой деревушки, захваченной шумными пабами, где торгуют английским пивом. Она очень, очень надеялась, что Алексис найдет там все таким же, каким оно было, когда София уезжала.
Вечер продолжался, а Алексис все больше волновалась из-за того, что наконец-то ей удалось чуть-чуть заглянуть в семейную историю. Посещение места, где родилась ее мать, было для нее событием, которого она ждала с нетерпением. Алексис и София обменивались улыбками, а Маркус гадал, не подходит ли к концу время, когда ему приходилось разыгрывать из себя посредника и миротворца между женой и дочерью. Эта мысль согревала его, и он наслаждался обществом двух женщин, которых любил больше всего на свете.
Наконец они покончили с ужином, вежливо выпили по глотку ракии, поднесенной им от заведения, и отправились домой. Алексис собиралась ночевать сегодня в своей старой комнате, а потому с наслаждением представляла, как несколько часов проведет в детской кровати перед утренней поездкой на метро в аэропорт Хитроу. Алексис чувствовала удовлетворение, несмотря на то что почему-то так и не решилась попросить у матери совета. Просто в тот момент ей казалась куда более важной – с благословения матери – поездка в те места, где София родилась. И все тревоги по поводу будущего с Эдом на какое-то время отошли в сторону.
Когда они вернулись из ресторана, Алексис приготовила для матери кофе, а София тем временем, усевшись за кухонным столом, сочиняла письмо Фотини, испортив сначала три листа. Но наконец она заклеила конверт и придвинула его к дочери. Весь процесс происходил в молчании, потому что София полностью углубилась в свое занятие. Алексис чувствовала: если она сейчас заговорит, чары могут развеяться и мать, возможно, даже передумает.
С того дня прошло уже две с половиной недели, и письмо Софии было надежно спрятано во внутреннем кармане сумки Алексис, такое же драгоценное, как паспорт. Но оно и в самом деле было своего рода паспортом, поскольку давало Алексис шанс проникнуть в прошлое матери. Оно ехало с ней от Афин и далее, на дымящих паромах, которые иногда встряхивало штормом, – в Парос, на Санторини, а теперь вот на Крит. Они уже несколько дней как прибыли на этот остров и нашли себе номер в гостинице на набережной в Ханье, что было совсем нетрудно в такое время года, когда большинство отдыхающих разъехались.
Шли последние дни их отдыха, и Эд, неохотно согласившийся посетить Кносс и археологический музей в Ираклионе, намеревался провести на пляже оставшееся до возвращения в Пирей время. Но у Алексис были другие планы.
– Завтра я собираюсь навестить одну старую мамину подругу, – сообщила она, когда они с Эдом сидели в прибрежной таверне, ожидая, когда им принесут заказанное. – Она живет по другую сторону Ираклиона, так что я уеду почти на весь день.
Алексис впервые заговорила об этом с Эдом и теперь приготовилась к его реакции.
– Но это ужасно! – рявкнул он и тут же недовольным тоном добавил: – Полагаю, ты возьмешь машину?
– Да, все будет в порядке. До того места все сто пятьдесят миль, и, если добираться на местных автобусах, понадобится несколько дней.
– Похоже, у меня нет выбора? Но я не испытываю никакого желания ехать с тобой.
Гневные глаза Эда сверкнули, как сапфиры, и его загорелое лицо скрылось за развернутым меню. Он мог теперь дуться весь вечер, но Алексис принимала это как само собой разумеющееся, раз уж она сама ошарашила его такой новостью. Гораздо труднее было перенести полное отсутствие интереса Эда к ее планам, хотя это вполне в его духе. Он даже не спросил, как зовут человека, которого Алексис собиралась навестить.
На следующее утро, сразу после того, как солнце поднялось над вершинами холмов, Алексис тихонько выбралась из постели и покинула гостиницу.
Но когда она нашла в путеводителе Плаку, ее поразило неожиданное открытие. Нечто такое, о чем ее мать не упомянула. Это был остров напротив деревни, и хотя его описание в путеводителе оказалось предельно кратким, оно захватило воображение Алексис.
СПИНАЛОНГА. Этот остров, на котором построена большая крепость в венецианском стиле, был в XVIII веке захвачен турками. Большинство турок покинули Крит, когда он в 1898 году заявил о своей независимости, но на Спиналонге местные жители отказались уезжать, не желая бросать весьма выгодную контрабандную торговлю. Они оставили остров только в 1903 году, когда там была создана колония прокаженных. С 1941 по 1945 год Крит был оккупирован немецко-фашистскими войсками, но благодаря лепрозорию Спиналонгу не тронули.
Выходит, смысл существования самой Плаки сводился к тому, чтобы быть поставщиком для лепрозория, и Алексис удивило, что ее мать вообще ни о чем подобном даже не упомянула. Сидя за рулем взятого напрокат «чинквеченто», Алексис очень надеялась, что ей хватит времени и на то, чтобы посетить Спиналонгу. Она расстелила на пассажирском сиденье карту Крита и впервые заметила, что этот остров очертаниями напоминает какое-то ленивое, растянувшееся на спине животное.
Путь вел ее на восток, мимо Ираклиона, по гладкой, прямой прибрежной дороге, бежавшей через идеально ухоженные современные окраины Херсониссоса и Малии. Время от времени Алексис замечала коричневый указатель, обозначавший древние руины, приютившиеся среди понастроенных вокруг отелей. Алексис не обращала на них внимания. Сегодня ее целью было некое поселение, процветавшее не в XX веке от Рождества Христова, а в XX веке до него и еще раньше.
Миля за милей минуя оливковые рощи на плоской прибрежной равнине, проскочив огромные плантации краснеющих помидоров и созревающего винограда, Алексис наконец свернула с шоссе, чтобы одолеть последний отрезок пути до Плаки. Теперь дорога стала намного уже, и Алексис пришлось сбросить скорость, чтобы объезжать небольшие горки камней, упавших прямо на середину дороги с высившихся вокруг холмов, да еще иногда выжидать, пока дорогу пересечет какая-нибудь неторопливая коза, посматривающая на Алексис дьявольскими, близко посаженными глазами. Наконец дорога пошла вверх, и после крутого и пугающего поворота Алексис добралась-таки до перевала, шины автомобиля заскрежетали по гравию. Впереди Алексис увидела ослепительно-синие воды залива Мирабелло. Там, где края берега почти круглого естественного залива готовы были сомкнуть объятия, находился клочок суши, выглядевший маленьким округлым бугорком. Издали казалось, что он должен быть соединен с большим островом, но Алексис уже видела на карте, что это островок Спиналонга и добраться до него можно, только преодолев полосу воды. Крошечный на фоне окружавшего его ландшафта, островок гордо возвышался над водой, и развалины крепости отчетливо виднелись на одной его стороне, а дальше – не так ясно, но все же вполне различимо – тянулись тонкие линии – это были улицы. Так вот он какой – заброшенный остров. Он был населен тысячи лет, а потом, менее полувека назад, по какой-то причине оставлен людьми.
Последние несколько миль до Плаки Алексис проехала медленно, опустив стекла в окнах дешевого наемного автомобиля, чтобы впустить внутрь теплый ветер и пряный аромат тимьяна. Было уже два часа дня, когда Алексис остановилась на тихой деревенской площади. Руки блестели от пота после того, как она крепко сжимала пластиковое рулевое колесо, и Алексис вдруг заметила, что левую руку уже обожгло утренним солнцем.
Время для приезда в греческую деревню было, наверное, не самым удачным. Собаки спали в тени мертвым сном, несколько котов лениво бродили в поисках объедков. Других признаков жизни не имелось, можно было только понять, что люди исчезли отсюда не так уж давно: чей-то мопед стоял под деревом, прислоненный к стволу, полупустая пачка сигарет валялась на скамье, а рядом лежала доска для игры в нарды. Распевал неустанный хор цикад, который собирался умолкнуть лишь в сумерках, когда яростная жара наконец сменится прохладой. Похоже, эта деревня выглядела точно так же, как в семидесятых годах, когда отсюда уехала мать Алексис. Видимо, у деревеньки не было причин меняться.
Алексис уже решила, что надо бы съездить на Спиналонгу до того, как она разыщет Фотини Даварас. Алексис наслаждалась чувством полной свободы и независимости, но ей казалось, что будет невежливым отправиться на островок после того, как она найдет немолодую подругу матери. Конечно, вечером придется возвращаться обратно в Ханью, но сейчас Алексис могла наслаждаться прекрасным днем и не спешить со звонком Эду и кому бы то ни было.
Решив воспользоваться советом путеводителя – «Зайдите в бар в рыбацкой деревушке Плака, и там вы, скорее всего, найдете рыбака, готового за несколько тысяч драхм перевезти вас через пролив», – Алексис решительно пересекла площадь и отодвинула пестрые пластиковые ленты, висевшие в дверном проеме деревенского бара. Эти довольно грязные ленты должны были удержать мух снаружи, а прохладу внутри, но на самом деле просто собирали пыль и создавали в баре постоянную полутьму. Приглядевшись, Алексис заметила женщину, сидевшую за столом, но, когда она направилась к ней, призрачная фигура тут же поднялась и зашла за стойку бара. К этому времени горло Алексис было буквально забито пылью.
– Неро, паракало[1], – неуверенно произнесла она.
Женщина прошаркала мимо ряда гигантских стеклянных чанов с оливками и нескольких полупустых бутылей с густым узо и достала из холодильника минеральную воду. Она аккуратно налила ее в высокий прямой бокал и, положив туда ломоть толстокожего лимона, подала воду Алексис. Потом женщина цветастым фартуком, обхватывавшим ее щедрую талию, вытерла руки, повлажневшие от соприкосновения с ледяной бутылкой.
– Англичанка? – спросила она.
Алексис кивнула. В конце концов, это почти правда. И ей понадобилось всего одно слово, чтобы выразить свое следующее желание.
– Спиналонга? – произнесла Алексис.
Женщина развернулась на пятках и исчезла за маленькой дверью позади бара. Алексис услышала ее приглушенный зов: «Герасимо! Герасимо!» Вскоре после того раздался звук шагов по деревянным ступеням.
Появился пожилой мужчина, жмурившийся из-за того, что его внезапно вырвали из дневного сна. Женщина что-то быстро говорила ему, но единственным словом, важным для Алексис, было слово «драхма», повторенное несколько раз. Но ведь и так понятно: женщина объясняла мужчине, что тот может заработать хорошие деньги. Мужчина продолжал моргать, выслушивая стремительный поток инструкций, но сам не произносил ни слова.
Женщина повернулась к Алексис и, схватив со стойки бара блокнот, в котором выписывала счета, нацарапала несколько цифр и какую-то схему. Даже если бы Алексис свободно говорила по-гречески, яснее ничего бы не стало. С помощью множества размашистых жестов и рисунков на листке Алексис объяснили, что ее поездка на Спиналонгу и обратно, с двухчасовым пребыванием на острове, обойдется ей в двадцать тысяч драхм, то есть примерно в тридцать пять фунтов стерлингов. Нельзя сказать, что это дешево, но Алексис была не в том положении, чтобы торговаться, а кроме того, она теперь более, чем прежде, преисполнилась решимости посетить остров.
Она кивнула и улыбнулась лодочнику, и тот серьезно кивнул в ответ. И только в этот момент до Алексис дошло, что в молчании перевозчика было нечто большее, чем ей показалось сначала. Он не смог бы ничего ей сказать, даже если бы захотел. Герасимо был немым.
До пристани, где стояла старая, потрепанная лодка Герасимо, идти было недалеко. Они молча прошагали мимо спящих собак и стареньких домов. Ничто вокруг не шевелилось. Единственными звуками были шорох их собственных подошв по земле да пение цикад. Даже море было плоским и тихим.
Итак, Алексис отправилась в путешествие длиной в пятьсот метров с человеком, который время от времени улыбался, но не более того. Он был таким же обветренным, как любой другой критский рыбак, проведший не один десяток лет на морских волнах, подвергаясь нападению стихии по ночам и вытаскивая сети под палящим дневным солнцем. Наверное, ему уже перевалило за шестьдесят, но если бы морщины на его лице были подобны кольцам на срезе старого дуба и по ним можно было бы подсчитывать года, то по самой приблизительной прикидке получилось бы за восемьдесят. Лицо рыбака ничего не отражало. Ни боли, ни горестей, ни даже радости. Неподвижное лицо безропотной старости, отражение всего того, что рыбак испытал за прожитые годы. Хотя туристы в последнее время все чаще появлялись на Крите, следуя по пути венецианцев, турок, а еще раньше и немцев, мало кто из них трудился выучить хоть несколько слов по-гречески. И Алексис теперь жестоко бранила себя за то, что не попросила мать научить ее хотя бы немногим полезным словам. Если, конечно, София до сих пор не забыла греческий, ведь дочь ни разу не слышала от нее ни единого греческого слова. Так что все, что Алексис теперь могла предложить рыбаку, было вежливое «эфхаристо» – «спасибо», – когда он помог ей сесть в лодку. В ответ тот коснулся рукой полей своей соломенной шляпы.
Теперь, приближаясь к Спиналонге, Алексис приготовила фотокамеру и двухлитровую бутылку воды, которую вручила ей женщина в кафе, дав понять, что Алексис очень захочется пить. Когда лодка ударилась о причал, старый Герасимо протянул Алексис руку, и она, перешагнув через деревянную скамью, ступила на неровную поверхность пустынной пристани. Потом Алексис заметила, что мотор лодки продолжает работать. Старый рыбак, похоже, не собирался здесь оставаться. Они сумели договориться о том, что он вернется через два часа, и Алексис проводила старика взглядом, когда тот медленно развернул лодку и удалился в сторону Плаки.
И вот Алексис стоит на берегу Спиналонги, чувствуя, как ее охватывает страх. А вдруг Герасимо забудет о ней? Сколько времени понадобится для того, чтобы Эд спохватился и начал ее искать? Сможет ли она сама доплыть обратно? Алексис никогда не чувствовала себя настолько одинокой, оставаясь всего в нескольких метрах от других человеческих существ, и, если не считать времени сна, никогда не бывала в одиночестве больше чем час или около того.
Ее независимость внезапно показалась Алексис чем-то вроде мельничного жернова, и она решила поскорее взять себя в руки. Надо приветствовать этот миг одиночества, несколько часов изоляции от мира, ведь для нее и краткий миг такого состояния сравним с целой жизнью прежних обитателей Спиналонги.
Массивные каменные стены венецианской крепости нависали над Алексис. И как же осилить это явно непреодолимое препятствие? Но тут Алексис заметила в закругленной части стены небольшой проход высотой едва в ее рост. Это было крошечное темное отверстие в светлой плоскости камня, а когда Алексис подошла к нему, то увидела, что это вход в длинный туннель, который поворачивает в сторону, не позволяя увидеть, что лежит на другом его конце. Но поскольку за спиной Алексис было море, а впереди – стены, то другого пути для нее не имелось – только вперед, в темноту клаустрофобического коридора. Туннель оказался длиной всего в несколько метров, и когда Алексис снова вынырнула из его полутьмы на ослепительный свет дня, то увидела, что все вокруг совершенно изменилось. Она остановилась, зачарованная.
Алексис находилась в конце длинной улицы, по обе стороны которой стояли маленькие двухэтажные дома. Наверное, некогда это место походило на любую другую деревеньку на Крите, но теперь все здания подверглись основательному разрушению. Оконные ставни под странными углами висели на сломанных петлях, покачиваясь и скрипя на легком ветру. Алексис неуверенно пошла по пыльной улочке, рассматривая все вокруг: церковь справа, с солидной резной дверью; здание, которое, судя по большим окнам на первом этаже, некогда служило магазином; далее – дом немного побольше, с деревянным балконом, арочной дверью и заросшим садом, огороженным невысокой стеной. И над всем этим – бесконечная и зловещая тишина.
Из окон комнат на первых этажах домов высовывались пышно разросшиеся дикие цветы, а на верхних этажах растения поселились в трещинах штукатурки. Многие номера домов до сих пор можно было рассмотреть, и поблекшие цифры – 11, 18, 29 – зафиксировали внимание Алексис на том факте, что некогда за каждой из этих дверей шла настоящая жизнь. Она побрела дальше, зачарованная. Похоже на прогулку во сне. Но хотя это и не было сном, все равно во всем было нечто абсолютно нереальное.
Алексис прошла мимо того, что, похоже, некогда являлось кафе, с большим залом внизу, потом – мимо здания с целой шеренгой бетонных ванн, которое она приняла за прачечную. Рядом высились развалины уродливого трехэтажного строения с чугунной решеткой вокруг балкона. Масштаб этого здания странно контрастировал с остальными домами, и Алексис даже не верилось, что кто-то мог построить его всего семьдесят лет назад и считать такое уродство верхом современной архитектуры. Теперь огромные окна этого дома впускали в себя морской бриз, а с потолков свисали электрические провода, как пучки слипшихся спагетти. Пожалуй, это было самое грустное зрелище из всего увиденного Алексис.
За поселением она обнаружила заросшую тропу, что уводила прочь от всех признаков цивилизации. Это был естественный выступ с крутым склоном к морю, лежавшему в нескольких сотнях футов внизу. Алексис представила отчаяние прокаженных и подумала, могли ли они от безнадежности приходить сюда, чтобы положить всему конец? Она посмотрела на далекий изогнутый горизонт. До этого момента Алексис была настолько поглощена всем окружающим, настолько погрузилась в тяжелую атмосферу этого места, что все мысли о собственном положении улетучились. Она была единственной живой душой на всем островке, и это заставило ее взглянуть в глаза факту: уединение не обязательно означает одиночество. Одиноким можно быть и среди толпы. И эта мысль дала Алексис силу для того, что она должна была сделать, когда вернется домой: одной начать новую страницу своей жизни.
Оказавшись снова в молчаливом поселении, Алексис немного отдохнула, присев на каком-то каменном крыльце и отпив воды из бутылки, которую взяла с собой. Вокруг не было никакого движения, если не считать ящериц, выбравшихся из-под сухой листвы и буквально ковром покрывших полы разрушавшихся домов. Сквозь щель в стене дома Алексис видела кусочек моря, а за ним – большой остров. Должно быть, прокаженные каждый день смотрели на Плаку и могли различить там каждый дом, каждую лодку, а может быть, и людей, спешивших по своим делам. И только теперь Алексис начала осознавать, как мучительно дразнила их такая близость.
О чем могли бы рассказать стены этого поселения? Вероятно, они видели великие страдания. Без слов было понятно, что стать прокаженным, оказаться запертым на этих скалах означало вытащить самую дурную карту из всех, что могла предложить жизнь. Однако Алексис, хорошо научившаяся делать выводы по археологическим фрагментам, могла по останкам этого места сказать, что жизнь здесь представляла собой куда более широкий спектр эмоций, нежели просто горе и отчаяние. Если жизнь здесь была уж настолько презренной, то зачем им понадобились кафе? Зачем стояло здание, которое могло быть только муниципалитетом? Алексис ощущала здесь тоску, но видела и признаки самой обычной жизни. И именно это застало ее врасплох. Этот крошечный островок являлся некой коммуной, а не просто местом, куда приходят и умирают, – о том отчетливо говорила вся инфраструктура поселка.
Время пролетело быстро. Посмотрев на часы, Алексис обнаружила, что уже пять. Просто солнце все еще стояло высоко и жарило так сильно, что она потеряла чувство времени. Алексис быстро встала, ее сердце заколотилось. Хотя здесь она наслаждалась тишиной и покоем, она вовсе не хотела, чтобы Герасимо уплыл без нее. Алексис поспешила обратно через длинный темный туннель на берег по другую сторону стены. Старый рыбак сидел в своей лодке, поджидая ее, и, как только Алексис появилась, сразу запустил мотор. Он явно не собирался оставаться здесь дольше необходимого.
Возвращение в Плаку заняло всего несколько минут. С чувством облегчения Алексис увидела бар, с которого началось ее путешествие, и утешительно знакомый арендованный автомобиль, стоявший напротив него. К этому времени деревня уже ожила. У входов в дома сидели женщины, болтавшие между собой, под деревьями на площади перед баром компания мужчин играла в карты, и в воздухе над ними висел бледный дым крепких сигарет. Алексис с Герасимо вошли в бар в привычном уже молчании, и их приветствовала женщина, которая, как решила Алексис, была женой Герасимо. Алексис отсчитала нужное количество засаленных купюр и отдала их женщине.
– Хотите выпить? – спросила та на ужасающем английском.
Алексис вдруг поняла, что ей необходимо не только выпить, но и поесть. Она ничего не ела весь день, и от сочетания жары и морской поездки у нее уже кружилась голова.
Помня, что подруга матери содержит местную таверну, Алексис быстро порылась в сумке, ища помятый конверт с письмом Софии. Она показала женщине адрес, и та сразу проявила понимание. Взяв Алексис за руку, женщина вывела ее на улицу и пошла в сторону берега. Метрах в пятидесяти дальше по дороге, на маленьком причале, выдававшемся в море, примостилась таверна. Ее светло-голубые стулья и скатерти в белую и темно-синюю клетку поманили Алексис, словно некий оазис. И в то самое мгновение, когда ее приветствовал хозяин таверны, Стефанос, именем которого таверна и называлась, Алексис уже знала, что будет просто счастлива посидеть здесь и понаблюдать за заходом солнца.
У Стефаноса была одна черта, общая со всеми владельцами таверн, каких только приходилось видеть Алексис: густые, тщательно подстриженные усы. Но в отличие от большинства таких хозяев он не выглядел так, словно много ест сам, пока готовит. Местным жителям обедать было еще рано, так что Алексис сидела одна у самой воды, за столиком с правого края.
– А Фотини Даварас сегодня дома? – осторожно спросила Алексис. – Моя мама была с ней знакома, когда жила здесь, и у меня для нее письмо.
Стефанос, владевший английским намного лучше хозяйки бара, тепло ответил, что его жена дома и выйдет сразу, как только закончит готовить сегодняшние блюда. А пока он предложил принести Алексис что-нибудь из местных деликатесов, чтобы ей не мучиться, разбираясь в меню.
Держа в руке стаканчик охлажденного вина и имея на столе перед собой тарелку с зерновым хлебом, чтобы утолить первый голод, Алексис ощутила, как на нее накатывает волна удовлетворения. Она получила огромное наслаждение от дня одиночества, она смаковала мгновения свободы и независимости. Алексис посмотрела через пролив на Спиналонгу. Да, свобода – это вовсе не то, чем мог бы насладиться кто-нибудь из прокаженных, но не приобрели ли они взамен что-то другое?
Стефанос вернулся с несколькими маленькими белыми тарелками, поставленными одна на другую, и на каждой лежала крошечная порция чего-нибудь свежего и вкусного, приготовленного в его кухне: креветки, фаршированные цветы цуккини, цацики и миниатюрные сырные пирожки. Алексис гадала, то ли она действительно никогда не ощущала подобного голода, то ли аппетит у нее разыгрался при виде соблазнительно выглядевшей еды.
Подходя к ее столу, Стефанос заметил устремленный на островок взгляд Алексис. Его заинтересовала эта одинокая англичанка, которая, как уже успела сообщить ему Андриана, жена Герасимо, провела целый день в одиночестве на Спиналонге. В разгар сезона туда отправлялись несколько групп туристов в день, но они проводили там не более получаса, а потом спешили на один из больших курортов дальше по побережью. В основном они ехали туда из глупого любопытства и оставались разочарованными, судя по обрывкам их разговоров, которые иной раз доносились до Стефаноса, если туристы все-таки задерживались в Плаке, чтобы перекусить. Они как будто ожидали увидеть нечто большее, чем несколько полуразрушенных домов и заброшенную церковь. Но чего они ожидали? – всегда хотелось спросить Стефаносу. Найти там трупы? Брошенные на дороге костыли? Эти люди всегда вызывали у Стефаноса немалое раздражение. Однако приехавшая женщина была на них не похожа.
– И что вы думаете об этом острове? – спросил он.
– Он меня удивил, – ответила Алексис. – Я ожидала, что почувствую там ужасающую тоску. Так и было, но было еще и нечто гораздо большее. Совершенно очевидно, что люди, которые там жили, не просто влачили свои дни, предаваясь жалости к самим себе. По крайней мере, мне так показалось.
Это совсем не было похоже на реакцию других посетителей Спиналонги, но ведь эта молодая женщина и провела там куда больше времени, чем большинство. Алексис обрадовалась возможности поговорить, а Стефанос старался как можно больше практиковаться в английском языке, поэтому он не стал ее расхолаживать.
– Вообще-то, я не знаю, почему так подумала. Но права ли я? – спросила Алексис.
– Можно мне сесть? – Не дожидаясь ответа, Стефанос придвинул скрипнувший ножками стул и сел на него. Он инстинктивно ощущал, что эта женщина открыта для магии Спиналонги. – У моей жены была подруга, которая там жила, – сообщил он. – Она одна из тех немногих в этих местах, кто до сих пор сохранил какую-то связь с островом. Все остальные сбежали как можно дальше, когда наконец было найдено лекарство. Кроме старого Герасимо, конечно.
– Герасимо болел проказой? – спросила слегка ошеломленная Алексис. Но это сразу объясняло ту поспешность, с какой старик удалился от острова, как только высадил Алексис на берег. Ее любопытство разгорелось вовсю. – А его жена, она когда-нибудь бывала на том острове?
– Много, много раз, – кивнул Стефанос. – Она знает о нем куда больше, чем кто-либо другой.
К тому времени начали подходить посетители, и Стефанос, встав со стула с плетеным сиденьем, принялся рассаживать гостей и предлагать им меню. Солнце уже спускалось к горизонту, небо окрасилось в густой розовый цвет. Ласточки стремительно проносились мимо, ныряя вниз, чтобы поймать насекомых в быстро остывающем воздухе. Казалось, прошла целая вечность. Алексис уже съела все, что поставил перед ней Стефанос, но все равно чувствовала голод.
Как раз в тот момент, когда она принялась размышлять, не отправиться ли ей на кухню, чтобы выбрать что-нибудь, как это было принято среди жителей Крита, прибыло главное блюдо.
– Вот, это сегодняшний улов, – сообщила официантка, ставя на стол овальную тарелку. – Это барбуня. Вроде бы по-английски она называется барабулька. Надеюсь, приготовлено так, что вам понравится: просто зажарено на гриле со свежими травами и капелькой оливкового масла.
Алексис была потрясена. Не только безупречно оформленным блюдом. И даже не мягким, почти идеальным английским языком женщины. Что захватило ее врасплох, так это красота. Алексис не раз размышляла о том, каким должно быть лицо, из-за которого разгораются войны. Вероятно, именно таким.
– Спасибо, – наконец произнесла она. – Выглядит просто великолепно.
Прекрасное видение собралось было отойти, но потом остановилось:
– Мой муж сказал, вы меня спрашивали.
Алексис вытаращила глаза. Мать говорила ей, что Фотини уже за семьдесят, но перед ней стояла стройная, худощавая женщина, а ее волосы, собранные на макушке, были цвета зрелого ореха. Это была совсем не та старушка, которую ожидала увидеть Алексис.
– Но вы же не… Фотини Даварас? – вставая, неуверенно произнесла Алексис.
– Именно она, – мягко заверила ее женщина.
– У меня письмо для вас, – опомнившись, сказала Алексис. – От моей матери, Софии Филдинг.
Лицо Фотини Даварас вспыхнуло радостью.
– Вы дочь Софии! Бог мой, как это замечательно! – воскликнула она. – Как поживает София? Как у нее дела?
Фотини восторженно схватила письмо, протянутое ей Алексис, и прижала его к груди, будто перед ней была София собственной персоной.
– Я так рада! Я о ней ничего не слышала с тех пор, как несколько лет назад умерла ее тетя. А до того она писала мне каждый месяц – и вдруг перестала. Я очень тревожилась, особенно после того, когда на несколько моих писем не пришло ответа.
Все это оказалось полной неожиданностью для Алексис. Она представления не имела о том, что ее мать регулярно посылала письма на Крит, и, уж конечно, даже не догадывалась, что и оттуда приходили письма. Ведь Алексис никогда не видела ни единого конверта с греческими марками. Она непременно запомнила бы такое письмо, потому что всегда вставала раньше всех и сама забирала все из почтового ящика. Похоже, ее мать прилагала большие усилия к тому, чтобы сохранить в тайне свою переписку.
А Фотини уже держала Алексис за плечи и всматривалась в ее лицо миндалевидными глазами.
– Дай-ка посмотреть на тебя… Ну да, ты немножко на нее похожа. Но еще больше ты похожа на бедняжку Анну.
Анна? При всех тех попытках, что предпринимала Алексис для того, чтобы выудить у матери побольше сведений о тете и дяде, изображенных на выгоревшей фотографии, она ни разу не слышала этого имени.
– Это мать твоей матери, – быстро добавила Фотини, сразу заметив недоумение во взгляде девушки.
По спине Алексис пробежала легкая дрожь. Стоя в сумеречном полусвете, с теперь уже чернильно-черным морем за спиной, она чувствовала себя буквально раздавленной тяжестью материнских тайн и осознанием того, что разговаривает с человеком, который может знать кое-какие ответы.
– Эй, садись-ка, садись! Ты должна попробовать барбуню, – сказала Фотини.
У Алексис почти пропал аппетит, но она чувствовала, что надо проявить вежливость, и потому обе женщины сели за стол.
Несмотря на то что ей ужасно хотелось поскорее задать свои вопросы – они буквально кипели в ней, – Алексис позволила Фотини расспросить себя, отвечая на вопросы, которые были куда более глубокими, чем могли показаться. Как поживает ее мать? Счастлива ли она? Что представляет собой отец Алексис? И что привело ее на Крит?
Фотини была такой же теплой, как окружившая их ночь, и Алексис обнаружила, что отвечает на ее вопросы очень откровенно. Эта женщина была в таком возрасте, что годилась ей в бабушки, и тем не менее она совсем не выглядела так, как полагается выглядеть бабушкам. Фотини Даварас была полной противоположностью той престарелой согнутой леди в черном, которую представила себе Алексис, когда мать передавала ей это письмо. И интерес Фотини к Алексис выглядел абсолютно искренним. Прошло много времени с тех пор – если такое вообще когда-то случалось, – как Алексис с кем-то разговаривала так открыто. Ее университетская наставница время от времени выслушивала ее, если речь шла о чем-то действительно значимом, но в глубине души Алексис знала: слушает она только потому, что ей за это платят. Поэтому понадобилось совсем немного времени для того, чтобы Алексис доверилась Фотини.
– Моя мать всегда держала в секрете свое прошлое, – сказала Алексис. – Я знаю только, что она родилась где-то здесь и растили ее дядя и тетя, а едва ей исполнилось восемнадцать, она сразу уехала и больше никогда сюда не возвращалась.
– И это все, что тебе известно? – удивилась Фотини. – И больше София ничего тебе не рассказывала?
– Нет, совсем ничего. Поэтому я и приехала сюда. Мне хочется знать больше. Узнать, чтó заставило ее так круто развернуться спиной к прошлому.
– Но почему именно теперь? – спросила Фотини.
– По многим причинам, – ответила Алексис, глядя в свою тарелку. – Но прежде всего это связано с моим другом. Я лишь недавно поняла, как маме повезло в том, что она встретила моего отца. Я ведь прежде думала, что такие отношения в порядке вещей.
– Я рада, что они счастливы. Тогда это выглядело немного поспешным, но мы все очень надеялись на лучшее, ведь они выглядели такими счастливыми и довольными друг другом.
– И все же это странно. Я так мало знаю о собственной матери. Она никогда не рассказывала о своем детстве, никогда не говорила о жизни здесь.
– Неужели? – перебила ее Фотини.
– У меня теперь такое чувство, – продолжила Алексис, – что, если я узнаю обо всем побольше, это поможет мне. Маме повезло: она встретила человека, о котором могла заботиться. Но откуда она знала, что это именно тот человек и что это навсегда? Я с Эдом уже больше пяти лет, но до сих пор не уверена, стоит ли нам быть вместе.
Такое заявление было совсем нехарактерным для обычно уверенной в себе Алексис, а для человека, знакомого с ней меньше двух часов, это, конечно, могло прозвучать расплывчато и даже причудливо. Кроме того, Алексис как будто ушла в сторону от главной темы. И разве можно ожидать, что эта гречанка, как бы ни была она добра, действительно интересуется ее жизнью?
В этот момент подошел Стефанос, чтобы убрать тарелки, а через несколько минут вернулся с двумя чашками кофе и двумя щедрыми порциями золотистого бренди. Другие посетители приходили и уходили, вечер продолжался, и вот уже снова занятым остался лишь тот столик, за которым сидела Алексис.
Согретая горячим кофе и еще более – огненным бренди, Алексис спросила Фотини, как давно та знает ее мать.
– Да, вообще-то, с того дня, как она родилась, – ответила пожилая леди, но тут же умолкла, ощутив огромную тяжесть ответственности.
Да кто она такая, Фотини Даварас, чтобы рассказывать этой девушке о прошлом ее семьи, если уж родная мать хотела все от нее скрыть? И только в это мгновение Фотини вспомнила о письме, которое сунула в карман фартука. Она достала его и, взяв с соседнего стола нож, быстро вскрыла.
Дорогая Фотини!
Пожалуйста, прости меня за то, что я так долго не писала. Я знаю, мне ни к чему объяснять тебе причины, но поверь: я очень часто о тебе думаю. А это моя дочь Алексис. Ты, конечно, обойдешься с ней так же ласково, как всегда относилась ко мне. Мне и просить не нужно, верно?
Алексис очень интересуется своими корнями, и это естественно, но я поняла, что сама не смогу ей ничего рассказать. Разве не странно, что с годами становится все труднее вспоминать прошлое?
Я знаю, что Алексис станет задавать тебе множество вопросов, она ведь прирожденный историк. Ты ей ответишь? Ты сама видела и слышала все, была свидетелем всей истории. Думаю, ты сумеешь дать ей более правдивый отчет, чем я.
Нарисуй для нее всю картину, Фотини. Алексис будет тебе за это вечно благодарна. И может быть, вернувшись в Англию, она даже расскажет мне что-то такое, чего я сама никогда не знала. Ты ей покажешь, где я родилась? Ей это очень интересно, отвезешь ее в Айос-Николаос?
Я очень люблю тебя и Стефаноса. И передай, пожалуйста, мои самые теплые пожелания твоим сыновьям.
Спасибо тебе, Фотини!
Всегда твоя,
София.
Дочитав письмо до конца, Фотини аккуратно сложила его и снова спрятала в конверт. Она через стол посмотрела на Алексис, изучавшую ее с откровенным любопытством, пока Фотини держала в руках смятый листок.
– Твоя мать просит меня рассказать тебе все о твоей семье, – сказала Фотини. – Но это явно не та сказка, которую рассказывают на ночь. Мы закрываем таверну по воскресеньям и понедельникам, да и вообще в такой сезон времени у меня больше чем достаточно. Почему бы тебе не остаться у нас на пару дней? Я буду просто счастлива, если ты согласишься.
Глаза Фотини поблескивали в темноте. Они казались влажными, но от слез или от волнения – Алексис не могла бы сказать.
Алексис уже подсознательно чувствовала, что это не будет пустой тратой времени и может наилучшим образом сказаться на ее будущей жизни. История ее матери, без сомнения, поможет ей в дальнейшем куда больше, чем посещение десятка музеев. Зачем рассматривать холодные останки исчезнувших цивилизаций, если можно вдохнуть жизнь в собственную историю?
Ничто не мешало Алексис остаться здесь. Отправить Эду короткое сообщение о том, что она задержится на день-другой, – вот и все, что требовалось. И хотя Алексис прекрасно знала, что подобный поступок будет выглядеть почти как грубое пренебрежение к Эду, она чувствовала: такая возможность просто требует небольшого проявления эгоизма. Алексис ведь, в сущности, свободна делать то, что ей нравится. А сейчас наступил момент полного спокойствия и тишины. Даже темное гладкое море как будто сдержало дыхание, а безоблачное небо над головой, на котором сияло самое яркое из созвездий, Орион – он был убит и отправлен на небо богами, – словно бы ожидало ее решения.
Наверное, это тот единственный шанс, что предлагает Алексис судьба – шанс ухватить все разрозненные обрывки ее собственной истории до того, как их развеет ветром. Алексис не сомневалась, что на приглашение Фотини может быть только один ответ.
– Спасибо, – тихо сказала она, внезапно охваченная усталостью. – Я буду рада задержаться здесь.
Глава 2
Алексис крепко спала в ту ночь. Когда они с Фотини наконец отправились на боковую, был уже второй час ночи. Долгая поездка до Плаки, день на Спиналонге и головокружительная смесь вина и бренди погрузили Алексис в глубокий сон без сновидений.
Было уже почти десять, когда сияющие лучи проникли в брешь между толстыми занавесками из грубой ткани и упали на подушку Алексис. Разбуженная Алексис машинально натянула на голову простыню, чтобы спрятать лицо. В последние две недели она спала в разных незнакомых ей комнатах, и каждый раз утром, когда она осознавала окружающую реальность, ее настигал момент растерянности. Большинство матрасов в дешевых пансионах, где останавливались они с Эдом, были то ли продавлены в середине, то ли обладали торчащими наружу пружинами. С таких постелей нетрудно было вставать утром. Но вот эта постель была совершенно другой. Да и вся комната была другой. Круглый стол под кружевной скатертью, табурет с поблекшим тканым сиденьем, несколько акварелей в рамках на стене, подсвечник, густо покрытый органными трубами воска, душистая лаванда, пучок которой висел на внутренней стороне двери, и стены, выкрашенные в мягкий голубой цвет, подходивший к постельному белью, – все это выглядело даже более домашним, чем родной дом.
Когда Алексис отдернула в стороны занавески, ее приветствовала ослепительная перспектива сверкающего моря и остров Спиналонга, который в мерцающей дымке казался более отдаленным и уединенным, чем накануне.
Выезжая из Ханьи вчера утром, Алексис вовсе не намеревалась задерживаться в Плаке. Она представляла себе короткую встречу с пожилой женщиной из материнского детства и недолгую прогулку по деревне, после чего должна была вернуться к Эду. Поэтому она ничего не взяла с собой, кроме карты и фотоаппарата, и, уж конечно, не предвидела, что ей понадобится сменная одежда и зубная щетка. Однако Фотини быстро пришла ей на помощь, одолжив все, что было необходимо: одну из рубашек Стефаноса вместо ночной сорочки и чистое, хотя и довольно старое полотенце. А утром Алексис обнаружила в ногах кровати цветастую блузку – совершенно не в ее стиле, но после жары и пыли прошедшего дня она была счастлива сменить одежду. К тому же это был жест такой материнской доброты, что Алексис едва ли могла его проигнорировать, пусть даже светлые розовые и голубые тона блузки выглядели довольно нелепо в сочетании с шортами цвета хаки. Но разве это имело какое-то значение? Алексис ополоснула лицо холодной водой над крошечной раковиной в углу, а потом внимательно рассмотрела в зеркале свою загорелую кожу. Она волновалась, как ребенок, которому должны были прочитать самую главную часть сказки. Сегодня Фотини станет ее Шехерезадой.
Одетая в непривычный хрустящий, отглаженный хлопок, Алексис не спеша спустилась по темной задней лестнице и очутилась в кухне ресторанчика, где в нос ударил мощный аромат крепкого, только что сваренного кофе. Фотини сидела за огромным грубым столом в середине комнаты. Хотя стол тщательно скребли, он все равно хранил на себе следы всех тех блюд, что готовились здесь, и запах всех трав, которые крошили на его поверхности. Наверное, он также был свидетелем тысячи разных споров, что вспыхивали и закипали в невероятном жаре кухни.
Фотини встала навстречу Алексис.
– Калимера, Алексис! – тепло произнесла она.
На Фотини была блузка, похожая на ту, что она ссудила Алексис, но в оттенках охры, подходивших к ее пышной юбке, колыхавшейся вокруг ног и доходившей почти до лодыжек. Первое впечатление от ее красоты, поразившее Алексис накануне вечером, в благожелательном свете сумерек, оказалось верным. Изящное сложение этой критянки и ее огромные глаза напомнили Алексис о великих минойских фресках в Кноссе, о ярких, живых портретах, переживших несколько тысячелетий и обладавших той удивительной простотой, которая и заставляла их выглядеть невероятно современными.
– Хорошо спала? – спросила Фотини.
Алексис подавила зевок, кивнула и улыбнулась Фотини – та уже хлопотала, нагружая поднос кофейником, немалых размеров чашками и блюдцами и хлебом, который только что достала из печи.
– Уж извини, хлеб разогретый. Это единственный недостаток местных воскресений – булочник не желает выбираться из постели. Так что приходится питаться сухими корочками или свежим воздухом, – со смехом сказала Фотини.
– Я буду более чем довольна свежим воздухом, если он пойдет на закуску к свежему кофе, – ответила Алексис, выходя следом за Фотини через завесу из пластиковых полосок на террасу, где столики с красными столешницами из огнеупорной пластмассы, лишившиеся бумажных скатертей, выглядели до странности голыми.
Женщины сели лицом к морю, лизавшему камни внизу. Фотини разлила по белым чашкам густую черную жидкость. После бесконечных чашек растворимой дряни, которые подавались так, словно эти гранулы представляли собой невероятный деликатес, Алексис поняла, что никогда в жизни настоящий кофе не казался ей таким крепким и таким вкусным. Похоже, никто не смог набраться храбрости и рассказать грекам, что «Нескафе» давно уже не новинка. Здесь по-прежнему пили старомодный густой и сладкий напиток, которого жаждала душа Алексис.
Сентябрьское солнце сияло в чистом небе, и благодатное тепло, сменившее напряженную августовскую жару, делало начало осени самым прекрасным временем на Крите. Адская жара середины лета миновала, и вместе с ней исчезли обжигающие, злобные ветра. Две женщины сидели друг против друга под тентом, и Фотини своей темной морщинистой рукой коснулась руки Алексис.
– Я так рада, что ты приехала, – сказала она. – Ты и представить не можешь, насколько я рада. Мне было очень больно, когда твоя мама перестала писать. Я все прекрасно понимала, но это порвало такую важную связь с прошлым!
– А я и не догадывалась, что она раньше вам писала, – ответила Алексис, чувствуя себя так, словно обязана извиниться за поведение матери.
– Начало ее жизни было трудным, – продолжила Фотини, – но мы все старались, правда старались сделать ее счастливой, прилагали все силы ради этого.
Видя слегка озадаченное выражение лица Алексис, Фотини поняла, что ей следует притормозить. Она налила им еще по чашке кофе, давая себе минутку на то, чтобы подумать, с чего лучше начать. Похоже, нужно было вернуться в более глубокое прошлое, чем она изначально себе представляла.
– Я могла бы сказать, что начну с самого начала, но, по сути, начала тут нет, – снова заговорила она. – История твоей матери – это история твоей бабушки, а также и прабабушки. А еще и двоюродной бабушки. Их жизни были сплетены между собой, и мы именно это всегда имеем в виду, когда говорим о судьбах в Греции. Наша судьба в основном предопределена нашими предками, а не звездами. Когда мы здесь говорим о древней истории, то всегда упоминаем судьбу. Конечно, иногда случаются внезапные события, которые меняют течение нашей жизни, но на самом деле все, что с нами происходит, определяют поступки тех, кто живет вокруг нас, и тех, кто жил до нас.
Алексис охватило легкое раздражение. Неприступное хранилище материнского прошлого, накрепко запертое от нее всю ее жизнь, сейчас должно было открыться. Все тайны должны были выплеснуться наружу. И вдруг Алексис поняла, что спрашивает себя: а в самом ли деле ей этого хочется? Она смотрела вдаль, через море, на бледные очертания Спиналонги и вспоминала свой одинокий день на том острове, уже тоскуя по нему. Пандора пожалела о том, что открыла ящик. Не случится ли то же самое и с ней?
Фотини заметила, куда смотрит Алексис.
– Твоя прабабушка жила на том острове, – сказала она. – Она была прокаженной.
Фотини не ожидала, что ее слова прозвучат так резко, так бессердечно, но сразу увидела, что они заставили Алексис поморщиться.
– Прокаженной? – переспросила Алексис, и ее голос едва не сорвался от потрясения.
Эта новость вызвала в ней отвращение, и хотя Алексис понимала, что ее реакция была, пожалуй, иррациональной, скрыть свои чувства ей оказалось трудно. Но она ведь уже знала, что тот старый рыбак тоже болел проказой, и собственными глазами видела, что это не отразилось на его внешности. И все же она пришла в ужас, услыхав, что некто из ее рода был прокаженным. Это ведь совсем другое дело, и Алексис вдруг ощутила непонятную брезгливость.
Для Фотини, выросшей в тени островной колонии, проказа была всего лишь жизненным фактом. Она видела столько прокаженных, приезжавших в Плаку, чтобы пересечь пролив и остаться на Спиналонге, что и сосчитать бы не могла. Фотини также видела и жертв самых разных стадий этой болезни: некоторые были чудовищно изуродованы, другие выглядели не затронутыми бедой. Но она понимала реакцию Алексис. Это был естественный отклик для человека, чьи знания о проказе почерпнуты из Ветхого Завета и в уме которого сохранился образ людей в балахонах, с колокольчиком в руках, кричавших: «С дороги! Нечистый идет! Нечистый!»
– Позволь мне объяснить подробнее, – предложила Фотини. – Я понимаю, ты догадываешься, как должна выглядеть проказа, но важно, чтобы ты знала правду, иначе тебе никогда не понять настоящую Спиналонгу, ставшую домом для многих хороших людей.
Алексис продолжала смотреть на остров по другую сторону мерцающих вод. Ее вчерашняя поездка туда породила множество противоречивых образов: развалины элегантных вилл в итальянском стиле, сады и даже магазины – и надо всем этим мрачная тень болезни, выглядевшей в глазах Алексис как смерть заживо. Она отпила еще глоток густого кофе.
– Я знаю, что эта болезнь не всегда смертельна, – почти с вызовом сказала Алексис, – но она всегда ужасно уродует человека.
– Не в такой степени, как тебе может казаться, – ответила Фотини. – Это ведь не свирепо разлетающаяся болезнь вроде чумы. Иногда ей нужно очень много времени, чтобы полностью развиться. Образы искалеченных людей, что ты себе представляешь, – это образы тех, кто болел многие годы, даже десятилетия. Есть два вида лепры, и одна из них развивается гораздо медленнее, чем другая. И обе теперь излечиваются. Но вот твоей прабабушке не повезло. У нее была быстрая форма болезни, и ни время, ни состояние медицины не были на ее стороне.
Алексис уже устыдилась своей первоначальной реакции. Она растерялась от собственного невежества, но ведь открытие, что кто-то из членов твоей семьи был прокаженным, это как гром среди ясного неба.
– Заболела твоя прабабушка, но твой прадед, Гиоргис, также страдал – от глубоких душевных шрамов. Еще до того, как его жена отправилась на Спиналонгу, он доставлял туда всякую всячину на своей лодке и продолжал это делать, когда там очутилась его жена. А это значило, что почти каждый день он видел, как уродует ее болезнь. Когда Элени очутилась на Спиналонге, представления о гигиене там были плачевными, и хотя они основательно изменились за время ее пребывания на острове, наиболее серьезные повреждения тела произошли у нее в самые первые годы. Я не стану вдаваться в подробности. Гиоргис не говорил о них Марии и Анне. Но ты ведь представляешь, как это происходит, да? Лепра поражает нервные окончания, в результате чего человек теряет чувствительность, он может порезаться или обжечься. Именно поэтому прокаженные так уязвимы, они постоянно сами себе наносят раны, и последствия могут быть ужасающими.
Фотини замолчала. Ей не хотелось слишком сильно задевать чувства этой молодой женщины, но в истории есть моменты, которые буквально потрясают. Поэтому продвигаться вперед нужно было с осторожностью.
– Мне не хочется, чтобы тебе казалось, будто семья твоей матери была буквально подавлена болезнью. Совсем не так, – поспешила добавить Фотини. – Посмотри. У меня есть несколько их фотографий.
На большом деревянном подносе, стоявшем напротив кофейника, лежал потрепанный конверт из грубой бумаги. Фотини открыла его и высыпала содержимое конверта на стол. Некоторые из фотографий были не больше билета на поезд, но были и размером с почтовую открытку. Одни сияли глянцевой бумагой с белой рамкой, другие казались матовыми, но все – черно-белые, и многие поблекли до такой степени, что их невозможно было рассмотреть. Большинство снимков сделали, вероятно, в какой-то студии, задолго до того, как появилась мгновенная фотография, и напряженность изображенных людей делала их такими же далекими и недостижимыми, как царь Минос.
Первый же снимок, на который упал взгляд Алексис, оказался ей знакомым. Это была та самая фотография, что стояла у кровати ее матери, – леди в кружевах и седовласый мужчина. Алексис взяла фото.
– Это твоя двоюродная бабушка Мария и двоюродный дед Николаос, – с гордостью пояснила Фотини. – А вот это, – добавила она, выуживая из груды один снимок, – последняя фотография твоих прадеда и прабабки и двух их дочерей.
Она передала фотографию Алексис. Мужчина на ней был почти такого же роста, как женщина, но весьма широкоплеч. У него были темные вьющиеся волосы, аккуратно подстриженные усы, крупный нос, а его глаза улыбались, несмотря на то что он держался перед объективом фотокамеры серьезно и важно. Руки у него выглядели крупными по сравнению с телом. А женщина, стоявшая рядом, была худощавой, с длинной шеей, и поразительно красивой: волосы заплетены в косы, уложенные вокруг головы, улыбка широкая и естественная. Перед парой сидели две девочки в ситцевых платьях. У одной из них были густые пышные волосы, свободно падавшие на плечи, глаза слегка раскосые, почти кошачьи. В этих глазах светилось что-то недоброе, а пухлые губы девочки не улыбались. У второй девочки волосы были заплетены в косы, она обладала более тонкими чертами лица и наморщила нос, улыбаясь в объектив. Ее можно было назвать почти тощей, и из двух девочек она больше походила на мать. Девочка мягко и скромно положила руки на колени, в то время как ее сестра скрестила руки на груди и как будто с вызовом уставилась на человека, делавшего снимок.
– Это Мария, – пояснила Фотини, показывая на улыбавшуюся девочку. – А это Анна, твоя бабушка, – добавила она, указывая на первую девочку. – Ну и их родители, Элени и Гиоргис.
Фотини раскидала фотографии по столу, и случайно налетевший порыв ветерка слегка сдвинул их с места, как будто оживив. Алексис увидела фотографии двух сестер в младенчестве, потом в школьном возрасте, а потом уже и молодых женщин, но на этот раз в обществе их отца. Была и фотография Анны, стоявшей рука об руку с мужчиной в традиционном критском костюме. Это был свадебный снимок.
– Значит, это и есть мой дед? – спросила Алексис. – Анна здесь выглядит по-настоящему красивой, – восхищенно добавила она. – И по-настоящему счастливой.
– Ну… это сияние юной любви, – ответила Фотини.
Нотка сарказма в ее голосе застала Алексис врасплох, и она уже собиралась задать вопрос, но тут ее внимание привлекла другая фотография.
– А это похоже на мою маму! – воскликнула она.
У малышки на фото был характерный нос с горбинкой и нежная, но очень застенчивая улыбка.
– Это и есть твоя мать. Ей здесь, наверное, около пяти лет.
Как и всякая коллекция семейных фотографий, это был случайный набор, излагавший только фрагменты общей истории. Настоящую историю могли бы поведать те фото, которых тут не хватало или которые никогда не были сделаны, а вовсе не те, что были аккуратно вставлены в рамки или уложены в какой-нибудь конверт. Но теперь Алексис хотя бы краем глаза заглянула в прошлое, увидела лица неизвестных ей членов семьи.
– Вообще все началось здесь, в Плаке, – сказала Фотини. – Вон там, позади нас. Именно там жила семья Петракис.
Она показала на маленький домик на углу улицы. Это было старое сооружение с выбеленными стенами, такое же захудалое, как большинство домов в этой дряхлой деревне, но тем не менее очаровательное. Штукатурка кое-где осыпалась со стен, а ставни, много раз перекрашенные с тех пор, как в этом доме жили прародители Алексис, в итоге приобрели яркий голубой цвет, вот только краска потрескалась и облупилась от жары. Балкончик, выступавший над входной дверью, просел под тяжестью нескольких огромных вазонов, из которых каскадом спадали вниз огненно-красные герани, словно пытавшиеся сбежать сквозь ограду из деревянных столбиков. Дом был таким же, как все дома на всех греческих островах, и построен мог быть в любой период за последние пятьсот лет. Плака, как и те немногие деревни, которым повезло избежать разрушительного воздействия массового туризма, пребывала вне времени.
– Там и выросли твоя бабушка и ее сестра. Мария была моей лучшей подругой, она ведь всего на год моложе Анны. Гиоргис, их отец, рыбачил, как и большинство местных мужчин, а Элени, его жена, преподавала в школе. Хотя на самом деле она была больше чем просто учительница. Она, можно сказать, руководила местной начальной школой. Эта школа находится на дороге в Элунду, ты, наверное, проезжала через этот городок по пути сюда. Элени любила детей – не только своих дочек, но и всех детей, которые учились у нее. Думаю, Анне это давалось с трудом. Она была собственницей и ненавидела делиться чем бы то ни было, а в особенности материнской любовью. Но Элени была щедра во всем, и ей хватало времени на всех своих детей, будь они от ее собственной плоти и крови или просто учениками. А мне всегда представлялось, что я еще одна дочь Элени и Гиоргиса. Я постоянно вертелась в их доме. У меня было двое братьев, и можешь догадаться, насколько наш дом отличался от их дома. Моя мать Савина, похоже, ничего не имела против. Они с Элени дружили с самого раннего возраста и привыкли всем делиться, поэтому не думаю, что она боялась меня потерять. Вообще-то, я уверена: она считала, что Мария или Анна могут выйти замуж за одного из моих братьев. Когда я была совсем малышкой, то больше времени проводила у Петракисов, чем дома, но потом все перевернулось, и Анна с Марией стали почти что жить у нас. В то время, как и все наше детство, мы в основном играли на берегу. Там все постоянно менялось, и нам никогда не надоедали пляж и море. Мы могли плавать каждый день, начиная с конца мая до начала октября, и вечерами тоже бегали по песку, он набивался между пальцами ног, а потом сыпался на наши простыни. По вечерам мы ловили пикарелу, крошечную рыбку, а утром бежали посмотреть, с чем вернутся рыбаки. Зимой приливы становятся намного выше, они всегда приносят то, на что интересно глянуть: медуз, угрей, осьминогов, а иногда мы находили и черепаху, неподвижно лежавшую на берегу. И в любое время года, когда темнело, мы обычно возвращались к Анне и Марии, где нас всегда встречал аромат теплого сдобного теста – Элени пекла для нас сырные пирожки. Когда приходило время отправляться на боковую, я, поднимаясь вверх по холму к родному дому, обычно дожевывала один из них.
– Выглядит так, словно у вас было идиллическое детство, – перебила Алексис, увлеченная описанием идеального, почти сказочного времени. Но на самом деле ей хотелось узнать, чем все закончилось. – Но как Элени подхватила лепру? – довольно резко спросила она. – Разве прокаженным позволялось покидать остров?
– Нет, конечно, не позволялось. Именно поэтому остров так пугал окружающих. Еще раньше, в начале столетия, правительство издало распоряжение, что все прокаженные с Крита должны оставаться на Спиналонге. Как только доктора окончательно устанавливали диагноз, люди должны были, ради их же блага, оставлять свои семьи и отправляться в колонию. Она стала известна как «Место живых мертвецов», и лучшего названия не придумаешь. В те дни люди изо всех сил старались скрыть признаки болезни, прежде всего потому, что последствия такого диагноза были ужасающими. И вряд ли стоит удивляться тому, что Элени оказалась беспомощной перед лепрой. Она же никогда не думала, что рискует подхватить заразу от своих учеников. Она бы просто не смогла их учить, если бы держалась от них в сторонке или если бы не спешила первой поднять малыша, когда тот спотыкался и падал в школьном дворе. И так уж получилось, что один из ее учеников был болен проказой. – Фотини умолкла.
– Вы думаете, родители знали, что их ребенок болен? – недоверчиво спросила Алексис.
– Наверняка знали, – кивнула Фотини. – Они понимали, что им никогда больше не увидеть свое дитя, если кто-то об этом узнает. А Элени, как только поняла, что заразилась, могла сделать лишь одно: тут же распорядилась, чтобы каждый ребенок в школе был обследован, ради выявления больного. Им оказался девятилетний Димитрий, несчастным родителям которого пришлось вынести весь ужас расставания с сыном. Но иначе могло быть гораздо хуже. Ведь если подумать, как дети контактируют друг с другом, играя… Они же не похожи на взрослых, способных выдерживать дистанцию. Дети борются, толкаются и валятся кучей друг на друга. Теперь-то мы знаем, что эта болезнь передается только при долгом близком контакте, но в те дни люди боялись, что вообще вся школа в Элунде может превратиться в лепрозорий, если как можно скорее оттуда не удалят больного малыша.
– Наверное, Элени тяжело было решиться на такое, раз она была так близка со своими учениками, – задумчиво произнесла Алексис.
– Да, это было ужасно. Ужасно для всех, кого это коснулось, – согласилась Фотини.
У Алексис пересохло во рту, ей казалось, что она не в силах сказать что-нибудь еще. Чтобы как-то преодолеть напряженный момент, она придвинула свою пустую чашку к Фотини, та снова ее наполнила и подтолкнула через стол к Алексис. Аккуратно размешивая в темной жидкости сахар, Алексис чувствовала себя так, словно ее втянуло в водоворот горя и страданий Элени.
Что та должна была чувствовать? Уплыть от родного дома и оказаться навсегда запертой в пределах видимости родных, вдали от всего, что было таким дорогим, но оказалось отнятым? Алексис думала не только о женщине, бывшей ее прабабушкой, но и о мальчике, ведь оба они не совершили никакого преступления и тем не менее оказались прóклятыми.
Фотини протянула руку и коснулась пальцев Алексис. Возможно, она слишком поспешила с рассказом, совсем не зная эту молодую женщину. Но это ведь была не сказка, и Фотини не могла сама решить, какую часть изложить, а какую пропустить. И если она начнет медлить, настоящая история может так и остаться нерассказанной. Фотини наблюдала за тем, как по лицу Алексис пробежала тень – мрачная и глубокая, не похожая на тень легких облачков, проплывавших в утреннем небе. Фотини подозревала, что до сих пор единственным темным пятном в жизни Алексис было недоумение по поводу скрытого прошлого ее матери. Но этот вопрос вряд ли заставлял бы девушку не спать по ночам. Она, конечно, не встречалась с тяжкими болезнями, не говоря уже о смерти. А теперь ей предстояло узнать и о том и о другом.
– Алексис, давай немножко прогуляемся. – Фотини встала. – Мы потом попросим Герасимо отвезти нас на остров – там все станет более осмысленным и понятным.
Прогулка – это было как раз то, в чем нуждалась Алексис. Фрагменты из истории ее матери и избыток кофеина вызвали у нее головокружение, и когда они с Фотини спустились по деревянным ступеням на каменистый берег, Алексис жадно вдохнула соленый воздух.
– Но почему моя мать никогда не рассказывала мне об этом? – спросила она.
– Уверена, у нее были к тому причины, – ответила Фотини, зная, что нужно рассказать еще очень и очень многое. – Возможно, когда ты вернешься в Англию, она тебе объяснит, почему была такой скрытной.
Они прошлись вдоль воды и начали подниматься по каменной тропинке, вдоль которой росли лаванда и ворсянка. Ветер здесь дул сильнее, и Фотини замедлила шаг. Хотя она и была весьма крепка для семидесяти лет, но уже не обладала прежней выносливостью и шла все осторожнее по мере того, как тропа становилась круче.
Время от времени Фотини останавливалась – в таких местах, откуда был виден Спиналонга. Наконец женщины добрались до огромного камня, выглаженного ветрами, дождями и долгим использованием его в качестве скамьи. Они сели и стали смотреть на море, а ветер шелестел кустами дикого тимьяна, пышно разросшегося вокруг. И именно здесь Фотини начала рассказывать историю самой Софии.
В следующие дни Фотини до конца рассказала Алексис историю ее семьи, перевернув все до единого камни, – всю историю, начиная от мелких событий детства до крупных событий самого Крита. За то время, что они провели вместе, женщины то бродили по тропинкам вдоль моря, то часами сидели за обеденным столом, то отправлялись в ближайшие городки и деревушки в арендованной машине Алексис, и Фотини выкладывала перед Алексис кусочки головоломки семьи Петракис. В эти дни Алексис чувствовала, как становится старше и мудрее, а Фотини, возвращаясь так далеко в прошлое, снова ощущала себя молодой. Полвека, что разделяли этих двух женщин, словно растворились, исчезли, и, когда они шагали рука об руку, их вполне можно было принять за сестер.
Часть 2
Глава 3
1939 год
Начало мая принесло на Крит самые прекрасные и благоуханные дни. В один из таких дней, когда деревья покрылись пышным цветом, а на горах растаяли все до последней снежинки, превратившись в кристальные ручьи, Элени, покинув материк, отправилась на Спиналонгу. А небо, составляя жестокий контраст черным событиям, сияло чистой, безоблачной синевой. Собралась толпа, чтобы поплакать, помахать рукой на прощание. Даже если бы в этот день школа, из уважения к уезжающей учительнице, не была закрыта, в классах все равно раздавалось бы эхо от пустоты. И дети, и учителя отсутствовали. Все хотели проститься с горячо любимой Петракис.
Элени Петракис любили и в Плаке, и в окрестных деревнях. Она обладала неким магнетизмом, привлекавшим к ней в равной мере и детей, и взрослых, все уважали учительницу, восхищались ею. Причина тут была проста. Для Элени учительство стало призванием, а ее энтузиазм воспламенял детей, словно факел. Так сказал про нее преподаватель, который сам учил ее двадцать лет назад.
Вечером накануне того дня, когда она должна был навсегда покинуть свой дом, Элени наполнила одну из ваз весенними цветами. Она поставила ее в центр стола, и этот маленький букет полевых цветков волшебным образом преобразил комнату. Элени отлично понимала могущество простых поступков, силу деталей. Она знала, например, что если помнить день рождения ребенка или его любимый цвет, то это может оказаться ключом к его сердцу. Дети внимательно слушали ее в классе, прежде всего потому, что хотели ее порадовать, а не потому, что их заставляли учиться. Процессу помогало еще и то, что Элени представляла ученикам факты и цифры, записывая их на цветные карточки, подвешенные к потолку так, что они выглядели похожими на стайку экзотических птиц, постоянно круживших над головой.
Но дети пришли попрощаться не только с любимой учительницей, которая должна была отправиться в этот день через пролив на Спиналонгу, они прощались также и с хорошим другом: девятилетним Димитрием, чьи родители умудрялись уже год, а то и больше скрывать признаки проказы, проявившиеся у их сына. Каждый месяц они придумывали новые способы скрыть пятна на его коже: шорты до колен сменились на длинные брюки, открытые сандалии – на тяжелые ботинки, а летом ему запретили купаться в море вместе с другими ребятами, чтобы никто не заметил пятна на его спине. «Скажи, что боишься волн», – умоляла его мать, хотя это, конечно, звучало глупо. Все эти дети выросли у моря, наслаждаясь его бодрящей силой, и с нетерпением ожидали тех дней, когда северо-западный ветер превращал зеркальное Средиземноморье в дикий, бушующий океан. Только девчонки могли бояться волн. И мальчик, многие месяцы живший в страхе перед разоблачением, в глубине души понимал, что это лишь временное состояние и рано или поздно его раскроют.
Любой, кто не был знаком с необычными обстоятельствами того летнего утра, вполне мог бы предположить, что эта толпа собралась ради похорон. Людей было около сотни, в большинстве женщины и дети, и все они выглядели подавленными. Они стояли на деревенской площади как некое единое тело, молчаливые, ожидающие, дышащие в унисон. Совсем недалеко, на боковой улочке, Элени Петракис открыла дверь своего дома – и очутилась лицом к лицу с множеством людей на обычно пустой площади. Ее первым порывом было отступить назад. Но это ничего бы не изменило. Гиоргис уже ждал ее на причале, его лодка была нагружена вещами Элени. Ей требовалось совсем немного, остальное Гиоргис мог привезти в ближайшие недели, к тому же Элени не хотела забирать из родного дома что-то, кроме самого необходимого.
Анна и Мария остались позади, за закрытой дверью. Последние минуты, проведенные с ними, были самыми мучительными в жизни Элени. Ее терзало желание обнять девочек, стиснуть в руках, ощутить кожей их горячие слезы, успокоить их дрожащие тела. Но она ничего такого не могла сделать. Не могла, не рискуя их здоровьем. Лица девочек исказились от горя, глаза распухли от слез. Все уже было сказано, все чувства выплеснуты. Их мать уезжала. И она не собиралась вернуться вечером, нагруженная книгами, пожелтевшая от усталости, но сияющая от радости, потому что наконец могла побыть дома, с ними. Больше никаких возвращений.
Девочки вели себя точно так, как и предвидела Элени. Анна, старшая, всегда была переменчивой, подвижной, и сомневаться в том, чтó она чувствует, не приходилось. Мария же, наоборот, была тихим, терпеливым ребенком, ее настроение менялось гораздо медленнее. Поэтому в дни, предшествовавшие отъезду матери, Анна более открыто выражала горе, чем сестра, ее неспособность справляться с чувствами никогда не проявлялась сильнее, чем в эти дни. Анна умоляла маму не уезжать, просила остаться, шумела, почти бредила, дергала себя за волосы. Мария, в противоположность ей, сначала тихо всхлипывала, а потом разразилась рыданиями, которые были слышны даже на улице. Но в итоге обе пришли к одному: притихли от изнеможения, умолкли.
Элени была полна решимости обуздать вулканические взрывы горя, грозившие поглотить ее. Она сможет выплеснуть все тогда, когда покинет Плаку. Единственное, что помогало ей удержаться, – это надежда, что ее самообладание ничто не нарушит. Ведь если она ослабеет хотя бы на мгновение, все погибнет. Поэтому девочки должны были остаться дома. Их следовало избавить от зрелища исчезающей вдали фигуры матери, зрелища, которое могло навеки запечатлеться в их памяти.
Это был самый тяжелый момент в жизни Элени, а теперь еще ее лишили уединения. Ряды печальных глаз наблюдали за ней. Элени понимала: люди пришли, чтобы пожелать ей удачи, но никогда еще она не испытывала такого огромного желания остаться в одиночестве. А в этой толпе каждое лицо было ей знакомо, каждое она любила.
– Прощайте, – негромко произнесла она. – Прощайте!
Элени держалась отстраненно, сохраняя дистанцию. Ее привычное желание обнять каждого внезапно умерло десять дней назад, в то чудовищное утро, когда она заметила странные пятна на ноге. Тут невозможно было ошибиться, в особенности после того, как Элени сравнила свои пятна с рисунком на листовке, которая распространялась по всей Греции, чтобы предупредить людей о симптомах болезни. Элени даже не нужно было идти к специалисту, чтобы осознать ужасающую правду. Уже до того, как она пошла к врачу, Элени знала, что каким-то образом заразилась самой ужасной из всех болезней. И слова из Левита, которые куда чаще необходимого произносил их местный священник, сразу прозвучали в ее голове.
- Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеши его или на лысине его,
- видом похожа на проказу кожи тела,
- То он прокаженный, нечист он; священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва.
- У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать: «нечист, нечист!»[2]
Многие люди и по сей день верили, что жестокие наставления Ветхого Завета по поводу обращения с прокаженными должны выполняться. Этот отрывок, должно быть, звучал в церквях уже сотни лет, и образ прокаженного – мужчины, женщины или даже ребенка, – выброшенного из общества, глубоко прижился в умах.
Когда Элени шла через толпу, Гиоргис, наверное, мог видеть только ее макушку, но он уже знал, что момент, которого он так страшился, совсем близок. Гиоргис тысячу раз бывал на Спиналонге, потому что год за годом привозил постоянным жителям острова разные припасы, но он и вообразить не мог, что когда-нибудь ему придется совершить вот такую поездку. Лодка была уже готова, и Гиоргис стоял, ожидая, пока подойдет Элени. Он крепко обхватил себя руками и склонил голову. Ему казалось, что если он будет стоять вот так, напрягая все тело, то сумеет подавить нараставшие чувства и удержать их, не дать выплеснуться наружу безумным криком боли и гнева. Его врожденную способность скрывать эмоции поддерживало самообладание его жены. Но внутренне он был разбит горем. «Я должен это сделать», – твердил себе Гиоргис, как будто ему предстояла еще одна самая обычная поездка на остров. К тысяче раз, когда он пересекал пролив, добавится еще один, а потом еще тысяча.
Пока Элени шла к причалу, толпа продолжала молчать. Какой-то ребенок заплакал, но мать быстро успокоила его. Один-единственный эмоциональный всплеск – и все эти страдающие люди могли потерять самообладание. Тогда вся сдержанность исчезла бы в один миг, и величественное достоинство этого прощания было бы утрачено.
Хотя несколько сотен метров до причала казались неодолимым расстоянием, Элени почти уже прошла их и потому обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на собравшихся. Ее дома уже не было видно, но она знала, что ставни остаются закрытыми, а ее дочери тихо всхлипывают в темноте.
И вдруг послышался плач. Это были громкие, душераздирающие рыдания какой-то взрослой женщины, и такое открытое проявление горя было настолько же необузданным, насколько сдержанным было страдание Элени. Она на мгновение замерла на месте. Эти звуки показались ей эхом ее собственного внутреннего состояния – они в точности отражали то, что Элени скрывала в себе. Толпа зашевелилась, отводя глаза от Элени и переводя взгляд на дальний край площади, где под деревом был привязан мул, а рядом с ним стояли мужчина и женщина. И еще там был мальчик, почти полностью скрытый в объятиях женщины. Макушка его головы едва достигала ее груди, а она склонялась к нему, обнимая, просто не в силах отпустить.
– Мой малыш! – в отчаянии выкрикивала женщина. – Мой мальчик, мой милый сынок!
Ее муж топтался рядом.
– Катерина, – уговаривал он. – Димитрий должен идти. У нас нет выбора. Лодка ждет. – Он мягко отвел руки матери от ребенка.
Она еще раз произнесла имя сына, мягко, неотчетливо:
– Димитрий…
Но мальчик не посмотрел на нее. Его взгляд уперся в пыльную землю.
– Идем, Димитрий, – твердо произнес его отец.
И мальчик последовал за ним.
Он шел, упорно глядя на поношенные кожаные ботинки отца. Ему только и требовалось, что ставить ноги в следы, оставленные в пыли отцом. Это была игра, в которую они играли так много раз, когда отец делал огромные шаги, а Димитрию приходилось прыгать, изо всех сил вытягивая ноги, чтобы не сбиться с шага, и он просто терял силы от смеха. Но на этот раз отец шагал медленно и неровно. Димитрию нетрудно было попадать в его следы. Отец освободил мула с грустной мордой от ноши и теперь нес на плече корзину с пожитками сына, на том самом плече, на котором так часто носил своего мальчика. Путь до причала, мимо собравшихся людей, казался таким длинным.
Последнее прощание отца и сына было кратким, почти мужским. Элени, осознавая всю неловкость момента, приветствовала Димитрия, полностью сосредоточившись на мальчике, за чью жизнь она принимала ответственность с этого момента и навсегда.
– Идем, увидим наш новый дом.
Она взяла мальчика за руку и помогла ему сесть в лодку, как будто они просто собирались отправиться на поиски приключений, а коробки, стоявшие на дне, содержали в себе разные вкусности для пикника.
Толпа наблюдала за их отплытием, продолжая хранить молчание. Для таких моментов не существовало каких-либо правил. Нужно ли помахать рукой? Нужно ли крикнуть что-нибудь на прощание? Бледные лица, скованные тела, тяжесть на сердце. Кое-кто испытывал двойственные чувства к мальчику, виня его за случившееся с Элени и за страх, который теперь испытывали люди, опасаясь за здоровье собственных детей. Но в тот момент, когда лодка отчалила, и матери, и отцы ощущали только жалость к двум несчастным, что навсегда расстаются со своими родными.
Гиоргис оттолкнул лодку от причала, и вскоре его весла уже вошли в привычный ритм борьбы с течением. Море как будто не хотело, чтобы они плыли туда. Еще какое-то время толпа наблюдала за лодкой, но, когда фигуры людей стали неразличимы, все начали расходиться.
Последней ушла с площади женщина примерно такого же возраста, как Элени, с девочкой. Это была Савина Ангелопулос, выросшая вместе с Элени, а девочка была ее дочерью Фотини, которая, по обычаям скромной деревенской жизни, являлась лучшей подружкой младшей дочери Элени, Марии. Шарф на голове Савины скрывал ее густые волосы, но подчеркивал огромные добрые глаза. Рождение детей плохо отразилось на ее теле, она стала грузной, с полными ногами. В противоположность ей Фотини была стройной, как молодое оливковое деревце, и при этом унаследовала от матери прекрасные глаза. Когда маленькая лодка почти исчезла из виду, обе они повернулись и быстро пересекли площадь. Они направлялись к дому с поблекшей зеленой дверью, к дому, из которого совсем недавно вышла Элени. Ставни на нем были закрыты, но входная дверь не заперта, и мать с дочерью вошли внутрь. Вскоре Савина уже сжимала в руках девочек, даруя им те объятия, которых не могла даровать в своей мудрости их родная мать.
Когда лодка приблизилась к острову, Элени еще крепче сжала руку Димитрия. Она была рада тому, что о несчастном мальчике есть кому позаботиться, и в это мгновение совсем не думала об иронии их положения. Элени намеревалась учить его и воспитывать, как родного сына, и делать все, что в ее силах, чтобы школьное обучение ребенка не оборвалась из-за чудовищного поворота событий. Теперь лодка уже достаточно приблизилась к острову, чтобы можно было рассмотреть нескольких человек, стоявших перед крепостной стеной, и понять, что они ждут новичков. А иначе зачем им стоять там? Вряд ли они хотели покинуть остров.
Гиоргис искусно подвел лодку к причалу и вскоре уже помогал жене и Димитрию выйти на сушу. Он бессознательно избегал прикосновения к обнаженной коже мальчика, поддерживая его под локоть, когда тот выбирался из лодки. А потом сосредоточился на том, чтобы как можно быстрее привязать лодку к причалу, осторожно выгрузить ящики. Он старался отвлечься от той мысли, что ему придется отправиться с острова без жены. Небольшой фанерный ящик с пожитками мальчика и ящик побольше – с вещами Элени вскоре уже стояли на причале.
Вот они наконец на Спиналонге. Элени и Димитрию казалось, что они пересекли огромный океан, а их прежняя жизнь осталась в миллионе миль позади.
Прежде чем Элени успела оглядеться по сторонам, Гиоргис уже отчалил. Они еще накануне вечером договорились, что не станут долго прощаться, и оба были правы в своем решении. Гиоргис поспешно двинулся в обратный путь и успел увести лодку на добрую сотню метров от берега, надвинув шляпу так низко на лоб, что мог видеть только темные доски днища лодки.
Глава 4
Те несколько человек, которых Элени заметила уже издали, теперь шли к ней и мальчику. Димитрий продолжал молчать, уставившись на собственные ноги, а Элени протянула руку мужчине, который вышел вперед, чтобы приветствовать ее. Этот жест означал: Элени прибыла в свой новый дом. Элени вдруг поняла, что собирается пожать руку, искривленную, как какой-нибудь пастушеский посох, руку, уже настолько изуродованную лепрой, что пожилой мужчина не мог даже сжать протянутую к нему ладонь Элени. Но его улыбка говорила о многом, и Элени ответила вежливым: «Калимера». Димитрий молча стоял за ее спиной. Он мог оставаться в таком состоянии шока еще несколько дней.
В обычае Спиналонги было, чтобы новых членов колонии встречали с некоторой официальностью, и Элени с Димитрием приветствовали так, будто они и в самом деле только что добрались до далекой цели, о которой могли только мечтать. Но суть в том, что для некоторых больных лепрой это и в самом деле было так. Остров мог предложить им благожелательное убежище от жизни без дома, бродяжничества. Многие прокаженные провели месяцы, а то и годы, оказавшись выброшенными из общества, они ночевали в каких-нибудь сараях, питались отбросами. Для таких жертв болезни Спиналонга была радостью, отдыхом от презренного и жалкого существования, которое им приходилось вести.
Мужчину, приветствовавшего Элени, звали Петросом Контомарисом, он был старостой острова. Его выбрали на эту должность на ежегодных выборах триста или около того обитателей Спиналонги. Остров представлял собой демократическое общество, регулярные выборы не давали зародиться здесь какому-нибудь скрытому недовольству. Первой обязанностью старосты было приветствовать вновь прибывших – только ему и еще нескольким специально назначенным для этого людям разрешалось выходить за пределы крепостной стены.
Элени и Димитрий, держась за руки, последовали за Петросом Контомарисом через туннель. Элени – благодаря тому, что рассказывал ей Гиоргис, – знала об этом острове куда больше, чем кто-либо на материке. Но все равно увиденная сцена застала ее врасплох. На узкой улочке перед ними толпилось множество людей. Это было так похоже на базарный день в Плаке. Люди куда-то шли с корзинами, полными продуктов, в дверях церкви появился священник, две пожилые женщины медленно ехали на усталых и грустных с виду осликах. Кое-кто обернулся, чтобы посмотреть на новеньких, кто-то кивнул им, приветствуя. Элен смотрела по сторонам, боясь показаться невежливой, но в то же время не в силах сдержать любопытство. То, о чем она до сих пор только слышала, оказалось правдой. Большинство больных проказой выглядели точно так же, как она сама: здоровыми на вид.
Но вот какая-то женщина, с закутанной шалью головой, остановилась, чтобы дать им пройти. Элени краем глаза заметила лицо, изуродованное припухлостями размером с грецкий орех, и невольно содрогнулась. Никогда в жизни не видела она ничего более отвратительного, и лишь мысленно вознесла молитву о том, чтобы Димитрий эту женщину не заметил.
Элени и Димитрий шли по улице следом за старостой, а другой пожилой мужчина вел за ними ослика, нагруженного их вещами.
Петрос Контомарис вел беседу с Элени.
– У нас есть для вас дом, – сообщил он. – Освободился на прошлой неделе.
На Спиналонге дома освобождались только благодаря смерти. Люди продолжали прибывать сюда вне зависимости от того, есть ли свободное место, а это означало, что иногда остров бывал переполнен. Но поскольку это была политика правительства – поощрять больных лепрой жить на Спиналонге – и в интересах того же правительства было не допускать беспокойства на острове, то время от времени выделялись деньги на строительство новых домов или небольшие суммы на ремонт старых. В предыдущем году, когда имевшиеся дома уже совсем обветшали, был выстроен уродливый, но весьма функциональный комплекс, и жилищный кризис предотвращен. У каждого островитянина теперь появилась возможность некоторого уединения. Человеком, который принимал окончательное решение относительно того, где следует поселиться новичкам, был Контомарис. Он отнесся к Элени и Димитрию особенно внимательно, рассматривая их как мать и сына, и по этой причине решил поселить их не в новом комплексе, а в недавно освободившемся доме на центральной улице. Ведь Димитрий, по всей видимости, прибыл сюда на много лет.
– Кирия Петракис, – сказал Контомарис, – теперь это будет ваш дом.
В конце главной улицы, где уже заканчивались магазинчики, стоял, отступив от дороги, простой домик. Элени поразило то, что он уж слишком походил на ее собственный дом. Потом она сказала себе, что не должна думать так, ведь этот старый каменный домик, который она видела перед собой, и был теперь ее домом.
Контомарис отпер дверь и распахнул ее перед Элени. Внутри было темно, даже в такой сияющий, светлый день, и у Элени упало сердце. Уже в сотый раз за этот день пределы ее храбрости подвергались испытанию. Но ведь они предлагали лучшее из того, что имели, и Элени просто обязана изобразить благодарность. Искусство притворяться, которое требовалось учителю, в этот день нужно было ей, как никогда.
– Что ж, оставлю вас, чтобы вы могли тут устроиться, – сказал Контомарис. – Моя жена попозже зайдет к вам и покажет все тут в колонии.
– Ваша жена?! – воскликнула Элени с куда бóльшим удивлением в голосе, чем сама от себя ожидала.
Но Контомарис, похоже, давно привык к такой реакции.
– Да, моя жена. Мы познакомились и поженились уже здесь. И знаете, в этом нет ничего необычного.
– Нет-нет, я уверена, это так… – смущенно пробормотала Элени, осознавая, что ей предстоит здесь узнать еще очень многое.
Контомарис слегка поклонился и ушел. Элени и Димитрий остались одни, они стояли, оглядываясь по сторонам в дневной темноте. Кроме потертого ковра, всю обстановку комнаты составляли деревянный комод, маленький стол и два хлипких деревянных стула. На глаза Элени навернулись слезы. Теперь ее жизнь сводилась вот к этому: две души в унылой комнате и парочка стульев, которые выглядели так, словно готовы были рассыпаться от первого прикосновения, не говоря уже о том, что им явно было не выдержать веса человеческого тела. Какая, собственно, разница между ней с Димитрием и этими хрупкими предметами обстановки? И снова Элени почувствовала, что надо изобразить бодрость.
– Ну что, Димитрий, давай поднимемся наверх, осмотримся?
Они пересекли неосвещенную комнату и поднялись по лестнице. Наверху были две двери. Элени открыла ту, что располагалась слева от нее, и, войдя, распахнула ставни. Внутрь хлынул свет. Окна дома выходили на улицу, и еще отсюда вдали виднелось море. Железная кровать и один дряхлый стул – вот все, что содержала в себе эта голая камера. Элени оставила в ней Димитрия, а сама прошла во вторую спальню, которая оказалась меньше и выглядела почему-то более серой. Элени вернулась в первую комнату, где все так же стоял на месте Димитрий.
– Это будет твоя спальня, – сообщила она.
– Моя спальня? – недоверчиво переспросил мальчик. – Для меня одного?
Он ведь всегда жил в одной комнате с двумя братьями и двумя сестрами. Впервые его маленькое личико отразило какие-то чувства. Димитрий совершенно неожиданно обнаружил, что в его жизни хотя бы что-то изменилось в лучшую сторону.
Когда они спускались по лестнице, через гостиную пробежал таракан и спрятался за деревянным комодом, стоявшим в углу. Элени решила, что поймает его потом, а пока что нужно зажечь три масляные лампы, которые осветили бы эту унылую обитель. Открыв свой ящик – в нем лежали в основном книги и другие учебные материалы, которые должны были ей понадобиться для занятий с Димитрием, – Элени нашла бумагу и карандаш и начала составлять список: три куска хлопковой ткани для занавесок, две картины на стены, несколько подушек, пять одеял, большая кастрюля и кое-что из ее лучшего фарфора. Она знала, что ее родным приятно будет думать, что все они едят с одинаковых тарелок, расписанных цветами. Еще одним важным пунктом списка были семена. Хотя их дом и был мрачным, Элени весьма приободряла мысль о создании маленького садика перед ним, и она уже начала планировать, что именно станет здесь выращивать. Гиоргис вернется через несколько дней, так что через неделю-другую она уже начнет преображать это место. И это лишь первый список для Гиоргиса – Элени не сомневалась, что он выполнит все ее просьбы до последней буквы.
Димитрий сидел и наблюдал за Элени, пока она обдумывала список предметов первой необходимости. Он немножко побаивался этой женщины, которая только вчера была его учительницей, а теперь должна была заботиться о нем не только с восьми утра до двух часов дня, но и все остальные часы тоже. Она должна была стать митерой – его матерью. Но он никогда не сможет называть ее как-то иначе, только «кирия Петракис». Мальчик думал о том, что сейчас делает его мама. Наверное, готовит ужин, помешивая горячий суп в большой кастрюле. Димитрию казалось, что именно так она проводит бóльшую часть своего времени, пока он с братьями и сестрами играет на улице. Он гадал, увидит ли их еще когда-нибудь, всем сердцем желая очутиться рядом с ними, играть в пыли. И если он так соскучился по ним за каких-то несколько часов, что будет через день, через неделю, через месяц? Внутри у Димитрия все сжалось, ему стало так больно, что слезы градом покатились по щекам. И тут же кирия Петракис очутилась рядом с ним, обняла его и зашептала:
– Ну-ну, Димитрий… все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо.
Если бы только он мог ей поверить…
В этот день они распаковывали свои вещи. Наверное, то, что вокруг появлялись знакомые предметы, должно было поднять им настроение, но каждый раз, когда какая-то вещица появлялась на свет, она вызывала массу ассоциаций с прежней жизнью, не давая ничего забыть. Каждая новая безделушка, книга или игрушка напоминали им еще сильнее, что прошлое навсегда осталось позади.
Одним из сокровищ Элени были маленькие часы, подарок родителей в день свадьбы. Она поставила их на каминную полку, и мягкое тиканье заполняло теперь протяжную тишину. Они отбивали каждый час, и было ровно три, когда кто-то негромко постучал в дверь дома еще до того, как затих мелодичный звон. Элени широко распахнула дверь, чтобы впустить гостью, маленькую круглолицую женщину с проседью в волосах.
– Калиспера, – приветствовала ее Элени. – Кириос Контомарис говорил, что мне следует вас ожидать. Прошу, входите.
– Это, должно быть, Димитрий, – сказала женщина, быстро подходя к мальчику, который продолжал сидеть, опустив голову на руки. – Ну-ка, пойдем, – предложила она. – Я хочу показать тебе тут все. Меня зовут Элпида Контомарис, но, пожалуйста, зовите меня просто Элпидой.
В ее голосе звучала натужная бодрость и нечто вроде воодушевления, которое стараются изобразить люди, уговаривая напуганного ребенка пойти и выдернуть больной зуб. Все втроем они вышли из мрачного дома на послеполуденный свет и повернули направо.
– Самое важное здесь – это водоснабжение, – начала Элпида, ее уверенный тон сразу дал понять, что ей уже не раз приходилось водить по острову вновь прибывших.
Когда на остров прибывала какая-то женщина, муж Элпиды обычно доверял знакомство ей. Но Элпиде впервые приходилось рассказывать обо всем в присутствии ребенка, так что она понимала, что необходимо как-то изменить привычный порядок. И конечно, надо было приглушить ту язвительность, которая всегда просыпалась в ней, когда она описывала островные порядки.
– Вон там, – бодро произнесла Элпида, показывая на огромную цистерну у подножия холма, – мы накапливаем воду. Это нечто вроде места для общения, и мы там проводим немало времени за разговорами, обмениваемся новостями.
На самом деле тот факт, что всем приходилось тащиться несколько сот метров вниз по холму, чтобы набрать воды, а потом подниматься с ней наверх, злило Элпиду сверх всякой меры. Она-то могла с этим справиться, но те, кто уже сильнее пострадал от болезни, едва могли поднять даже пустое ведро, не говоря уж о том, чтобы тащить его полным. А Элпида до того, как перебралась на Спиналонгу, редко поднимала что-нибудь тяжелее стакана воды, а вот теперь перетаскивание тяжелых ведер стало неотъемлемой частью ее повседневной жизни. Ей понадобилось несколько лет, чтобы привыкнуть к этому. Для Элпиды все сложилось намного трагичнее, чем для многих других. Она происходила из богатой семьи, жившей в Ханье, и совсем не знала тяжелого ручного труда, пока не очутилась в здешней колонии, – самым тяжким трудом в ее прежней жизни была вышивка простыней.
Но Элпида, как обычно, храбрилась перед новенькими, знакомя их с островом, и подчеркивала в первую очередь положительные стороны. Она показала Элени Петракис несколько лавчонок с таким видом, как будто это были дорогие магазины в Ираклионе, подчеркнув, что раз в две недели у них на площади собирается рынок. Элпида также отвела новеньких в аптеку, которая для многих вообще была главным зданием в поселке. Рассказала, когда булочник печет свежий хлеб, где находится кофейня – на маленькой боковой улочке. Священник также собирался навестить вновь прибывших, но Элпида показала, где он живет, и отвела их в церковь. Она попыталась обрадовать мальчика, сообщив, что в зале ратуши для детей раз в неделю бывает кукольное представление, и под конец показала школу, в тот день пустую, – три дня в неделю здесь шли занятия для небольшого детского населения острова.
Элпида рассказала Димитрию о детях его возраста и попыталась заставить его улыбнуться, описывая, как они играют и веселятся вместе. Но несмотря на ее старания, лицо мальчика оставалось неподвижным.
А вот о чем она не стала говорить, особенно при мальчике, так это о беспокойстве, нараставшем на Спиналонге. Хотя многие из прокаженных поначалу были благодарны за предоставленное им убежище, через какое-то время они разочаровывались и начинали думать, что их просто бросили здесь, – на их нужды не было никакого ответа. Элпида понимала, что Элени вскоре и сама осознает ту горечь, что поглощала многих больных лепрой. Все это просто висело в воздухе.
Будучи женой старосты острова, Элпида оказалась в трудном положении. Петроса Контомариса выбрало население Спиналонги, но его главной задачей было действовать в качестве посредника между островом и правительством. Он, как рассудительный человек, понимал, где лежит граница между Спиналонгой и властями Крита, но Элпида видела, что он постоянно сражается с горластым и зачастую радикальным меньшинством колонии, с теми, кому казалось, что Контомарис плохо справляется со своими обязанностями. Некоторые вообще чувствовали себя так, словно были просто незаконными поселенцами на турецкой земле, хотя Контомарис все те годы, что занимал должность старосты, делал все возможное. Он добился ежемесячного пособия в двадцать пять драхм для каждого обитателя острова, сумел получить деньги на строительство многоквартирного дома, хорошего снабжения аптеки и амбулатории, даже регулярных визитов доктора с материка. Он также разработал план, по которому каждому желавшему выращивать собственный урожай выделялся участок земли, – люди могли сажать овощи и фрукты, хоть для себя, хоть для продажи на местном рынке.
В общем, Контомарис делал все, что в человеческих силах, но жителям Спиналонги постоянно хотелось чего-то еще, а Элпида не была уверена, хватит ли у мужа энергии на выполнение их требований. Она постоянно тревожилась о нем. Контомарису было, как и ей самой, уже хорошо за пятьдесят, но его здоровье быстро ухудшалось. Проказа начинала одерживать победу над его телом.
Элпида видела огромные перемены с тех пор, как сама прибыла на этот остров, и бóльшая их часть осуществилась благодаря ее мужу. Тем не менее недовольство нарастало изо дня в день. Ситуация с водой была в центре общих интересов, в особенности летом. Старая венецианская система водоснабжения, сконструированная сотни лет назад, собирала дождевую воду в каналы и переливала в подземные хранилища, чтобы не дать воде испариться. Система была до гениальности проста, но каналы уже начинали рушиться. В дополнение к этому с материка каждую неделю доставляли свежую воду, но ее вечно не хватало для более чем двухсот человек, которым хотелось и помыться, и полить растения. Это была повседневная борьба, пусть даже с помощью мулов, в особенности для старых и искалеченных болезнью. А зимой люди нуждались в электричестве. Пару лет назад на острове установили генератор, и все предвкушали удовольствие от тепла и света в темные дни, с ноября по февраль. Но этого не произошло. Генератор проработал всего три недели, и на том дело кончилось. Просьбы о запасных частях оставались без ответа, и механизм стоял заброшенным, теперь его уже почти полностью опутали сорняки.
Вода и электричество были не роскошью, а необходимостью – на острове все прекрасно понимали, что недостаток воды может сократить их жизни. Но правительство считало их жизнь вполне сносной, поэтому внимание к острову оставалось лишь формальным. Жители Спиналонги буквально кипели гневом, и Элпида вполне разделяла их ярость. Почему в стране, где в небо вздымаются огромные снежные вершины, которые прекрасно видно в зимние дни, люди должны довольствоваться скудным водным рационом? Они хотели иметь достаточно свежей воды, и как можно скорее. Насколько вообще хватало сил у здешних мужчин и женщин, многие из которых были сильно изуродованы, они спорили яростно и злобно, пытаясь решить, что делать.
Элпида помнила время, когда одна группа обитателей острова грозила напасть на материк, а другие предлагали взять заложников. Но в конце концов они осознали, насколько жалкую команду будут представлять, не имея ни лодок, ни оружия, а главное, почти не имея сил.
Единственное, чего могли добиться островитяне, так это того, чтобы их голоса услышали. Именно умение Петроса доказывать, его дипломатический талант и стали их самым мощным оружием. Элппиде приходилось соблюдать некоторую дистанцию между собой и другими жителями острова, но уши у нее всегда были открыты, в основном в сторону женщин, которые смотрели на нее как на посредника между собой и ее мужем. Элпида давно устала от всего этого и втайне убеждала Петроса не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Разве он мало поработал?
Показывая Элени и Димитрию маленькие улочки острова, Элпида держала свои мысли при себе. Она видела, как Димитрий на ходу цепляется за подол юбки Элени, словно пытаясь успокоить себя таким образом, и тихо вздыхала. Какое будущее ждет мальчика в этом месте? Она надеялась, что его жизнь будет недолгой.
А Элени, наоборот, успокаивало легкое подергивание руки мальчика за ее юбку. Это напоминало ей, что она не одна и ей есть о ком заботиться. Всего лишь вчера у нее были муж и дочери, а еще недавно перед ней горели глаза учеников в школе. Все они нуждались в ней, и она от этого расцветала. А эту новую реальность осознать было трудно. На мгновение Элени даже показалось, что она уже умерла и эта женщина – химера, которая показывает ей окрестности Гадеса, подземного мира, и рассказывает, где души мертвых могут постирать свои саваны и купить иллюзорную еду. Однако разум твердил ей, что все это происходит на самом деле. И не Харон, а собственный супруг привез ее в ад и оставил тут умирать. Элени резко остановилась, и Димитрий тоже замер. Она уронила голову, чувствуя, как огромные слезы заполняют глаза. Впервые Элени потеряла власть над собой. Горло у нее сжалось, и она судорожно втянула воздух. Элпида, до сих пор державшаяся так уверенно, так деловито, обернулась к Элени и схватила ее за руки. Димитрий уставился на обеих женщин. В этот день он впервые увидел, как плачет его мать. А теперь настала очередь учительницы. По ее щекам потоком лились слезы.
– Не бойся плакать, – мягко произнесла Элпида. – Мальчик увидит здесь много слез. Поверь мне, на Спиналонге они льются обильно.
Элени прижалась лицом к плечу Элпиды. Двое прохожих остановились и уставились на них. Не вид плачущей женщины их остановил, просто они проявляли интерес ко всем новичкам. Димитрий отвернулся, вдвойне смущенный слезами Элени и взглядами незнакомцев. Ему хотелось, чтобы земля под ним вдруг разверзлась, как при землетрясении, о котором он узнал в школе, и поглотила бы его. Он ведь знал, что Крит время от времени встряхивает, так почему бы не сейчас?
Элпида поняла чувства Димитрия. Рыдания Элени и на нее начали действовать: она ужасно сочувствовала женщине, но ей хотелось, чтобы та наконец умолкла. К счастью, им повезло остановиться прямо перед ее собственным домом, и Элпида решительно повела Элени внутрь. На мгновение она вдруг остро осознала разницу между своим домом и тем, в котором предстояло жить Элени и Димитрию. Дом Контомариса, официальная резиденция главы острова, был одним из тех зданий, что остались на острове с периода оккупации Венецией, здесь имелся балкон, который можно было назвать почти величественным, и вход с портиком.
Супруги жили здесь последние шесть лет, и Элпида была настолько уверена, что на ежегодных выборах ее муж снова получит большинство голосов, что никогда и не думала о том, каково было бы жить где-то еще. Конечно, теперь именно она сама уговаривала его оставить свой пост, а это значило, что им придется переехать, если Петрос действительно решит уйти в отставку. «Но кто еще может этим заниматься?» – спрашивал он. И это был справедливый вопрос.
Те немногие, кто готов был, по слухам, выставить свои кандидатуры, имели слишком слабую поддержку. Один из них, Теодорос Макридакис, являлся главным среди агитаторов, и хотя многие из его доводов звучали разумно, для острова стало бы бедой, если бы ему дали какую-то власть. Его полная неспособность к дипломатии привела бы к тому, что весь прогресс, которого Контомарис достиг в переговорах с правительством, был бы утрачен, и весьма вероятно, что у острова могли даже отобрать привилегии, а не добавить новые.
Еще одним кандидатом на роль старосты был Спирос Казакис, добрый, но слишком слабый индивидуум – для него единственным подлинным мотивом к борьбе было завладеть домом, которым втайне мечтали обладать все обитатели Спиналонги.
Внутри этот дом представлял собой невероятный контраст любому другому дому на острове. Окна от пола до потолка позволяли свету проникать внутрь с трех сторон. Еще здесь имелась люстра резного хрусталя, висевшая на длинной пыльной цепи в центре потолка, грани ее маленьких подвесок бросали на светлые стены радужные блики.
Мебель была старой, но удобной, и Элпида жестом предложила Элени сесть. Димитрий принялся бродить по комнате, рассматривая фотографии в рамках и шкаф с застекленными дверцами, в котором хранились драгоценные обломки прошлого Контомарисов: серебряный кувшин с гравировкой, ряд коклюшек для плетения кружев, несколько изделий из дорогого китайского фарфора и, что вызывало наибольший интерес, крохотные солдатики, выстроившиеся в шеренги.
Мальчик несколько минут простоял перед шкафом, однако он не глядел на все эти необычные предметы, а зачарованно всматривался в свое отражение в стекле. Собственное лицо показалось ему таким же странным, как комната, в которой он очутился. Он будто не узнавал человека, смотревшего на него. Это был мальчик, вся вселенная которого укладывалась в городки Айос-Николаос, Элунду и несколько деревушек в той же местности, где жили его двоюродные братья и сестры, дяди и тети. Димитрий чувствовал себя так, словно его вдруг перенесли в другую галактику. Лицо его отражалось в безупречно отполированном стекле, а за своей спиной он видел кирию Контомарис, обнимавшую кирию Петракис, которая плакала. Димитрий несколько мгновений наблюдал за ними, а потом сосредоточил взгляд на солдатиках, так аккуратно выстроенных внутри шкафа.
Когда он обернулся, чтобы посмотреть на женщин, кирия Петракис уже взяла себя в руки и потянулась к нему.
– Димитрий, – сказала она, – мне так жаль…
Слезы учительницы и потрясли, и смутили мальчика, ему вдруг пришло в голову, что она, наверное, так же тоскует по своим детям, как он тоскует по матери. Димитрий попытался представить, что бы чувствовала его мама, если бы на Спиналонгу отправили ее саму, а не ее сына. Мальчик взял руки кирии Петракис и крепко их сжал.
– Не надо извиняться, – проговорил он.
Элпида отправилась в кухню, чтобы приготовить кофе для Элени и немного лимонада для Димитрия – то есть просто воды с сахаром и каплей лимонного сока. Когда она вернулась, то увидела, что ее гости сидят рядом и тихо о чем-то беседуют. Глаза мальчика загорелись, когда он увидел напиток, и очень скоро допил все до дна. Что касается Элени, то она ощущала себя окутанной теплой заботой, но не могла бы сказать, то ли это чувство возникло от сладкого кофе, то ли от доброты Элпиды. Ведь раньше именно ей выпадало на долю проявлять симпатию и сочувствие, и Элени вдруг поняла, что ей труднее принимать заботу, чем отдавать. Для нее такая перемена мест была чем-то вроде вызова.
Дневной свет начал понемногу угасать. Еще какое-то время они все сидели, погрузившись каждый в свои мысли, и тишину нарушало лишь осторожное позвякивание чашек. Димитрий расправился со вторым стаканом лимонада. Ему никогда не приходилось бывать в таких вот домах, где на стенах играли маленькие радуги, а стулья мягче всего того, на чем ему когда-либо приходилось спать. Все здесь было так не похоже на его родной дом, где каждая скамья вечером превращалась в кровать, а каждый коврик служил еще и одеялом. Димитрий всегда думал, что по-другому никто и не живет. Но здесь…
Когда все допили свои напитки, Элпида заговорила.
– Ну что, продолжим прогулку? – вставая, предложила она. – Там кое-кто ждет, чтобы с вами познакомиться.
Элени и Димитрий вышли следом за ней из дома. Димитрию не хотелось уходить. Ему очень здесь понравилось, и он надеялся, что, может быть, еще вернется сюда как-нибудь, и выпьет лимонада, и, может, даже наберется храбрости и попросит кирию Контомарис открыть шкаф, чтобы получше рассмотреть солдатиков, а то и потрогать их.
Дальше на этой улице стояло здание на несколько столетий моложе резиденции главы острова. Оно обладало резкими простыми очертаниями, но его линиям очень не хватало классической эстетики дома, из которого они только что вышли. Это строение было амбулаторией и следующим пунктом их прогулки.
Приезд Элени и Димитрия совпал с одним из тех дней, когда с материка приезжал врач. Это нововведение, как и само строительство медицинского учреждения, было заслугой Петроса Контомариса, долго добивавшегося улучшения медицинского обслуживания прокаженных. Первым барьером, который пришлось преодолеть в переговорах с властями, было выделение денег на строительство амбулатории. Дальше необходимо было убедить власти, что осмотрительный доктор вполне может посещать больных и помогать им, не рискуя заболеть сам. Теперь по понедельникам, средам и пятницам из Айос-Николаоса должен был приезжать врач.
Доктором, взявшим на себя дело, которое многие его коллеги считали опасным и бессмысленным, стал Христос Лапакис. Это был бодрый краснолицый человек в возрасте слегка за тридцать, его в равной мере любили и сотрудники кожно-венерологического отделения госпиталя, и пациенты со Спиналонги. Солидный объем доктора говорил о большом жизнелюбии, которое отражало его убеждение в том, что у человека есть только здесь и сейчас, поэтому следует от души наслаждаться этим. Его респектабельную родню в Айос-Николаосе беспокоило то, что он продолжал оставаться холостяком. Христос Лапакис отлично понимал, что его перспективы на брак не улучшатся оттого, что он взялся за работу в колонии прокаженных. Впрочем, его это не слишком беспокоило. Он честно делал свое дело и радовался тем переменам, пусть и весьма ограниченным, которые мог внести в жизнь этих бедняг. Лапакис твердо верил в то, что никакой загробной жизни не существует и второго шанса человеку не дано.
Во время своих визитов на Спиналонгу доктор Лапакис обрабатывал раны и болячки и давал пациентам советы относительно того, какие дополнительные меры предосторожности они должны предпринимать, какие физические нагрузки для них допустимы. Когда появлялись новые люди, он всегда проводил полное обследование. Введение Докторских дней, как стали называть это в островной общине, способствовало духовному подъему и помогло улучшить состояние многих страдальцев. Доктор постоянно подчеркивал важность чистоты, соблюдения санитарных правил и физиотерапии, это помогало больным вставать с постели по утрам с чувством, что они не просто поднимаются на ноги, чтобы подвергнуться дальнейшему разложению, но делают что-то ради продления жизни.
Доктор Лапакис был потрясен, когда впервые прибыл на Спиналонгу и увидел, в каких условиях живут многие больные лепрой. Он знал, что для них чрезвычайно важно содержать язвы в чистоте, но в те дни он обнаружил в людях нечто вроде полной апатии. Их чувство заброшенности было катастрофическим, а психологическая травма, причиненная переселением на остров, оказалась куда тяжелее, чем физические проблемы, причиняемые болезнью. Многие просто утратили интерес к жизни. Да и как иначе? Жизнь ведь буквально истекала из них.
Христос Лапакис лечил и умы, и тела этих людей. Он твердил им, что всегда остается надежда, что они никогда не должны сдаваться. Он был властен, а иногда и грубоват. Он мог сказать:
– Ты же умрешь, если не будешь промывать свои язвы!
Доктор Лапакис был прагматичен, он бесстрастно сообщал людям правду, но при этом не скрывал, что его это беспокоит. И он был практичен, точно объясняя больным, как именно они должны сами заботиться о себе.
– Вот так ты должен промывать язвы, – говорил он, – а вот так должен тренировать руки и ноги, если не хочешь потерять пальцы на них.
Говоря все это, доктор показывал необходимые упражнения. Он заставил всех осознать жизненную важность чистой воды. Вода была самой жизнью. А для них – разницей между жизнью и смертью. Лапакис очень поддерживал Контомариса и оказывал ему всевозможную помощь в организации водоснабжения острова, что смогло изменить и остров, и прогноз для многих живших там людей.
– Здесь у нас больница, – сообщила Элпида. – Ну, на самом деле амбулатория. Доктор Лапакис ждет вас. Он как раз закончил осматривать постоянных пациентов.
Элени и Димитрий очутились в прохладном и белом пространстве, точно какой-нибудь склеп, и сели на скамью, что тянулась по одну сторону комнаты. Ждать долго им не пришлось. Доктор вскоре вышел и поздоровался с ними, он по очереди осмотрел женщину и мальчика. Они показали ему пятна на своих телах, и доктор внимательно их изучил, рассматривая обнаженную кожу и ища признаки развития болезни, которые сами больные могли еще не заметить.
У побледневшего Димитрия имелось несколько крупных сухих пятен на спине и ногах, говоривших о том, что пока болезнь не слишком сильно поразила мальчика, пребывая в «туберкулезной стадии».
А вот вроде бы некрупные, но блестящие пятна измененной кожи на ногах Элени Петракис встревожили доктора Лапакиса куда сильнее. Можно было не сомневаться в том, что у женщины развивается куда более опасная лепроматозная проказа, или бугорковая лепра. Это говорило о том, что женщина заболела достаточно давно, задолго до того, как появились первые признаки.
«У мальчика все не слишком плохо, – размышлял Лапакис. – Но вот эта бедняжка не заживется на острове». Однако на лице его не отразилось ни малейших намеков на то, чтó именно он обнаружил.
Глава 5
Когда Элени отправилась на Спиналонгу, Анне было двенадцать, а Марии – десять. Гиоргису теперь предстояло одному справляться и с домашними делами, и, что куда более важно, с задачей воспитания дочерей без матери. Из двух девочек у Анны был более трудный характер. Она всегда была шумной и беспокойной, вплоть до полной неуправляемости, – и это еще до того, как научилась ходить, а уж с того дня, как родилась ее младшая сестра, Анна стала просто неистовой. И Гиоргиса ничуть не удивило, что теперь, когда Элени уехала, Анна тут же яростно восстала против домашних правил, отказываясь принять на себя материнские обязанности только потому, что она была старшей из двух сестер. И весьма доходчиво объяснила это отцу и сестре.
Мария же обладала мягкой натурой. И поскольку из-за характера сестры им с отцом трудно стало жить под одной крышей, Мария взяла на себя роль миротворца, хотя ей частенько приходилось подавлять в себе инстинктивную реакцию на агрессию Анны. В отличие от Анны Мария не находила домашнюю работу унизительной. Она была практичной от природы, с радостью помогала отцу делать уборку и готовить, за что Гиоргис мысленно благодарил Бога. Как большинство мужчин его поколения, он умел штопать носки не лучше, чем летать над землей.
В глазах окружавшего их мира Гиоргис был человеком молчаливым. Даже бесконечно долгие одинокие часы в море не вызывали в нем жажды разговора, когда он сходил на сушу. Ему нравился звук тишины, и когда он проводил вечер за столиком кофейни, что было скорее правилом для зрелых мужчин, чем проявлением какой-то социальной активности, Гиоргис продолжал помалкивать, слушая, что говорят люди вокруг него, точно так же, как в море он слушал плеск волн о борта его лодки.
Родные знали, какое у Гиоргиса доброе сердце и как нежен он с близкими, но случайные знакомые находили его необщительность почти враждебной. Те же, кто был знаком с ним поближе, видели в его поведении отражение тихого стоицизма, качества, которое теперь помогало Гиоргису выжить и держаться, хотя обстоятельства его жизни трагически изменились.
Жизнь и прежде нечасто радовала Гиоргиса. Он был рыбаком, как и его отец и дед до него, так же, как они, возмужал и внешне очерствел за долгие часы, проведенные в море. Обычно это было просто долгой бездеятельностью ожидания, но иногда длинные темные ночи напролет приходилось бороться с яростными волнами, и в такие моменты рыбаку постоянно грозила опасность того, что море может взять свое и поглотить его раз и навсегда. Жизнь критского рыбака протекала в деревянном каике, но он никогда не требовал большего. Для него это была судьба, а не выбор.
За несколько лет до того, как на остров отправилась Элени, Гиоргис немного увеличил свои доходы, взявшись доставлять припасы на Спиналонгу. Теперь у него была лодка с мотором, и он мог отправляться туда каждую неделю с полными ящиками необходимых вещей, которые оставлял на причале, откуда их забирали больные лепрой.
В первые дни после отъезда Элени Гиоргис боялся даже на мгновение оставить дочерей одних. Их горе как будто нарастало и нарастало, но Гиоргис знал, что рано или поздно они сумеют приспособиться к новой жизни. И хотя добрые соседи приносили им еду, Гиоргису все равно приходилось заставлять девочек поесть. Как-то вечером, когда он столкнулся с необходимостью самому приготовить ужин, его горестная беспомощность у плиты заставила Марию улыбнуться. Но Анна лишь насмехалась над усилиями отца.
– Я это есть не буду! – закричала она, бросая вилку в тарелку с бараньим рагу. – Это даже голодный зверь не стал бы есть!
С этими словами Анна зарыдала и в десятый раз за день выскочила из комнаты. Она уже третий вечер подряд не ела ничего, кроме хлеба.
– Ничего, проголодается – станет не такой упрямой, – беспечно сказал Гиоргис Марии, которая терпеливо жевала пережаренное мясо.
Они сидели за столом друг против друга. Разговор не клеился, и молчание лишь подчеркивалось случайным постукиванием вилок по тарелкам, да еще звуками приглушенных рыданий Анны.
Но потом пришел тот день, когда девочкам нужно было вернуться в школу. И это подействовало как некие чары. Как только их умам нашлось на чем сосредоточиться, кроме отсутствия матери, горе стало утихать. Это был также день, когда Гиоргис должен был снова направить свою лодку в сторону Спиналонги. Со странной смесью страха и радостного волнения в душе он пересек узкую полосу воды. Элени не могла знать о его приезде, и нужно было как-то ей сообщить об этом. Но на Спиналонге новости распространялись быстро, и еще до того, как Гиоргис успел привязать лодку к столбику причала, Элени появилась из-за угла огромной стены и замерла в тени.
Что они могли сказать друг другу? Что могли сделать? Им нельзя было коснуться друг друга, хотя так отчаянно этого хотелось. Вместо этого они просто окликнули друг друга по имени. Это были слова, которые звучали прежде тысячи раз, но сегодня слоги показались просто шумом, не имеющим смысла. И в это мгновение Гиоргису захотелось больше не приезжать сюда. Он похоронил жену еще на прошлой неделе, а она все равно была здесь, такая же, как всегда, живая и любимая, и это лишь добавляло невыносимой боли к их неизбежной разлуке. Ему ведь скоро нужно покинуть остров, повернуть лодку к Плаке. И каждый раз, когда он будет приезжать сюда, им предстоит новое болезненное расставание. На душе у Гиоргиса было тяжело, и на какое-то мгновение ему захотелось, чтобы оба они поскорее умерли.
Первая неделя, проведенная Элени на острове, была занята делами и пролетела куда быстрее, чем для Гиоргиса, но когда ей сказали, что его лодку уже видно, он направляется сюда, – все ее чувства как будто взбунтовались. С момента приезда сюда Элени постоянно хлопотала, и этого было достаточно для того, чтобы отвлечь мысли от бесконечных перемен, случившихся в ее жизни. Но вот теперь перед ней стоял Гиоргис, его глубоко сидящие зеленые глаза смотрели на нее, и в мыслях у Элени осталось только одно: как сильно она любит этого могучего, широкоплечего человека и как ей бесконечно больно оттого, что их разлучили.
Они почти официально поинтересовались здоровьем друг друга, Элени расспросила о девочках. Но что Гиоргис мог ответить, если ее вопрос лишь высветил перед ним пока что скрытую истину? Рано или поздно девочки привыкнут ко всему, Гиоргис это знал, и тогда он сможет честно сказать ей, что с ними все в порядке. А сегодня на вопрос Элени он мог ответить только другим вопросом.
– Как здесь вообще? – Он кивнул в сторону огромной каменной стены.
– Не так ужасно, как можно было подумать, и вроде бы дела должны вскоре наладиться, – ответила Элени с такой убежденностью и твердостью, что Гиоргис почувствовал, как слезы на мгновение отступили от его глаз. – Нам с Димитрием дали домик на двоих, – сообщила Элени, – и он вроде нашего дома в Плаке. Может быть, попроще, но мы постараемся все обустроить. У нас есть дворик, так что следующей весной мы сможем завести садик, посадить всякие травы, если ты привезешь мне семян. И у крыльца растут розы, они сейчас в цвету, а скоро и мальвы зацветут. Так что и вправду все совсем неплохо.
Гиоргис ощутил некоторое облегчение, услышав ее слова. А Элени уже достала из кармана сложенный лист бумаги и протянула ему.
– Это для девочек? – спросил Гиоргис.
– Нет, – чуть смутившись, откликнулась Элени. – Я подумала, что для письма еще рановато, напишу, когда ты приедешь в следующий раз. Это список вещей, которые нам тут необходимы.
Гиоргис отметил это «нам», и его кольнуло ревностью. Когда-то «мы» означало Анну, Марию и его самого, подумал он. А потом возникла и более горькая мысль, которой Гиоргис тут же и устыдился: теперь «мы» означает ненавистного ребенка, из-за которого у них забрали Элени. А «мы» его семьи больше не существовало. Семья была разорвана пополам и поделена по-другому, и ее каменная надежность сменилась такой хрупкостью, что Гиоргис едва осмеливался о ней думать. Ему трудно было поверить, что Господь их оставил. Вот только что он был главой семьи, а в следующее мгновение превратился в мужчину с двумя дочерьми. Эти два состояния были так же далеки друг от друга, как две планеты в пространстве.
Гиоргису пора было отправляться обратно. Должны вернуться из школы девочки, и он хотел быть дома к их приходу.
– Я скоро вернусь, – пообещал он. – И привезу все, что тебе нужно.
– Давай кое о чем условимся, – попросила Элени. – Лучше нам не говорить «до свидания». В этих словах на самом деле нет смысла.
– Ты права, – согласился Гиоргис. – Свиданий у нас не будет.
Они улыбнулись и одновременно повернулись в разные стороны, Элени к темному проходу в высокой стене венецианской крепости, а Гиоргис – к своей лодке. И ни один из них не оглянулся.
В следующий раз Элени написала письмо, и Гиоргис привез его девочкам, но в ту секунду, когда отец протянул им конверт, нетерпение Анны взяло верх, и она так рванула письмо из его руки, что оно разорвалось пополам.
– Но это же для нас обоих! – запротестовала Мария. – Я тоже хочу прочитать.
Но Анна уже была у входной двери.
– А мне плевать! Я старшая и прочитаю первой. – С этими словами она развернулась на пятках и выбежала на улицу, оставив Марию всхлипывать от огорчения и злости.
В сотне ярдов от их дома был небольшой проулок, тянувшийся между двумя домами, там Анна пристроилась в тени и, держа вместе две половинки, прочитала первое письмо матери:
Дорогие мои Анна и Мария!
Я все думаю о том, как вы там? Надеюсь, вы ведете себя хорошо, добры друг к другу и хорошо учитесь в школе. Ваш отец рассказал мне, что его первые попытки приготовить еду были не слишком удачными, но я уверена, он научится и вскоре поймет разницу между огурцом и кабачком! Надеюсь, пройдет не слишком много времени до того, как вы начнете помогать ему на кухне, но до того будьте терпеливы, пока он учится.
Давайте-ка я вам расскажу кое-что о Спиналонге. Я живу в маленьком старом доме на главной улице, здесь одна комната внизу и две спальни наверху, и он похож на наш дом. В нем, правда, довольно темно, но я собираюсь побелить стены, а когда я повешу тут свои картины и расставлю фарфор, думаю, здесь станет довольно мило. Димитрию нравится, что у него теперь есть своя комната, – ему ведь раньше приходилось жить вместе с братьями и сестрами, так что для него это в новинку.
У меня появилась новая подруга. Ее зовут Элпида, и она жена человека, который отвечает за все на Спиналонге. Оба они очень добрые люди, и мы уже несколько раз ужинали у них в доме, их дом самый большой и красивый на всем острове. В нем есть люстра, а все столы и стулья украшены кружевом. Анне бы это очень понравилось.
Я уже посадила несколько гераней во дворе, перед крыльцом у нас цветут розы, прямо как дома. Я напишу вам больше в следующий раз. А пока – желаю вам всего хорошего. Я думаю о вас каждый день.
Люблю и целую,
ваша мама.
P. S. Надеюсь, пчелы потрудятся хорошо, а вы не забудьте собрать мед.
Анна несколько раз прочитала письмо от начала и до конца, прежде чем медленно направиться обратно к дому. Она понимала, что сама создала проблему. Потому что с этого дня Элени писала дочерям отдельные письма.
Гиоргис теперь гораздо чаще посещал остров, чем прежде, – встречи с Элени были для него как воздух. Он жил ради тех моментов, когда Элени появлялась из туннеля в стене. Иногда они сидели на каменных столбиках пристани, другой раз просто стояли в тени сосен, что выросли прямо из сухой земли. Гиоргис рассказывал, как поживают девочки, чем занимаются, делился своими огорчениями из-за поведения Анны.
– Иногда кажется, что в нее сам дьявол вселился, – как-то раз сказал он, когда они сидели неподалеку друг от друга и разговаривали. – И день ото дня лучше не становится.
– Остается только радоваться, что Мария не такая, – ответила Элени.
– Может, Анна оттого так непослушна, что Мария слишком спокойна, – задумчиво произнес Гиоргис. – А может быть, вспышки раздражения означают, что она взрослеет?
– Мне жаль, что я оставила тебе такую ношу, Гиоргис, очень жаль, – вздохнула Элени, зная, что отдала бы все на свете ради того, чтобы каждый день выносить столкновение двух характеров, сопровождавших рост Анны, а не сидеть на этом проклятом острове.
Гиоргису не было еще и сорока, когда Элени покинула дом, но он уже ссутулился от постоянной тревоги и за несколько следующих месяцев постарел до неузнаваемости. Его волосы из оливково-черных превратились в серебристые, как листья эвкалипта, а люди, говоря о нем, называли его не иначе как бедный Гиоргис. Это стало его именем.
Савина Ангелопулос старалась помогать ему как могла, хотя ей нужно было следить и за собственным домом. В тихие безлунные ночи, обещавшие хороший улов, Гиоргис отправлялся рыбачить, и для Марии и Фотини стало привычным спать на узкой кровати Фотини, улегшись «валетом», а Анна устраивалась на полу рядом, на двух толстых одеялах вместо матраса.
Мария и Анна обнаружили, что они чаще обедают и ужинают в доме Ангелопулосов, чем в своем собственном, а семья Фотини как будто увеличилась, и у девочки появились сестры, которых она всегда желала иметь. В такие вечера за стол усаживались сразу восемь человек: Фотини, двое ее братьев – Антонис и Ангелос, ее родители, Гиоргис, Анна и Мария. Иногда, если у нее было свободное время, Савина старалась научить Анну и Марию поддерживать порядок в доме, выколачивать ковры и заправлять постели, но гораздо чаще дело кончалось тем, что она все делала сама. Они ведь были еще детьми, к тому же Анна не проявляла интереса к хозяйству. Зачем ей учиться чинить простыни, потрошить рыбу или печь хлеб? Она была уверена, что это никогда ей не понадобится, и уже с самого раннего возраста испытывала страстное желание сбежать от всего того, что считала бессмысленной домашней рутиной.
С исчезновением матери жизнь девочек изменилась так, как если бы их подхватило неким торнадо и забросило на Санторини. Дни теперь тянулись однообразно, и по утрам они вставали лишь для того, чтобы повторять снова и снова одни и те же действия. Анна протестовала против этого, она постоянно жаловалась и спрашивала, почему это так. Мария же просто принимала все как данное. Она знала, что жалобами ничего не добьешься, а вот хуже стать вполне может. Ее сестра не обладала подобной мудростью, Анне всегда хотелось изменить положение вещей.
– Почему именно я должна каждое утро ходить за хлебом? – жалобно спросила она как-то.
– А ты и не ходишь, – терпеливо откликнулся отец. – Через день ходит Мария.
– Ну а почему она не может делать это каждый день? Я старше, и я не понимаю, почему я должна приносить для нее хлеб!
– Если каждый начнет спрашивать, почему он должен делать что-то для других, земля перестанет вертеться, Анна. А теперь пойди и купи хлеба. Немедленно!
Кулак Гиоргиса взлетел вверх и с грохотом опустился на стол. Гиоргис устал оттого, что Анна превращала любую домашнюю мелочь, которую ее просили сделать, в повод для спора, и в этот момент даже сама Анна поняла, что довела отца до предела.
А тем временем на Спиналонге Элени старалась привыкнуть к тому, что на материке сочли бы просто неприемлемым, но в колонии выглядело обычным делом. Но скоро она почувствовала, что ей хочется изменить здесь все, что только возможно. Точно так же, как Гиоргис не старался избавить Элени от своих тревог, она в свою очередь делилась своими тревогами о собственной жизни и своем будущем на Спиналонге.
И первым по-настоящему неприемлемым столкновением, которое она испытала на острове, было столкновение с Кристиной Крусталакис, женщиной, которая руководила местной школой.
– Я не надеялась, что понравлюсь ей, – заметила она, говоря с Гиоргисом, – но она ведет себя точно загнанный в угол зверек!
– Но почему так? – спросил Гиоргис, уже зная, что услышит в ответ.
– Она бесполезна как учитель, ей совершенно наплевать на детей, и она понимает, что я именно так о ней думаю, – ответила Элени.
Гиоргис вздохнул. Элени никогда не старалась скрыть свое мнение.
Почти сразу после прибытия на остров Элени поняла, что местная школа мало что может дать Димитрию. После первого дня там он вернулся молчаливый и надутый, а когда Элени стала расспрашивать, чем они занимались на уроках, ответил: «Ничем».
– Что значит – ничем? Вы же должны были что-то делать.
– Учительница писала на доске буквы и цифры, а меня отправили на заднюю парту, когда я сказал, что уже знаю их. Потом старшим ребятам дали очень простое задание по арифметике, а когда я громко сказал один из ответов, меня вообще выгнали на остаток дня в коридор.
После этого Элени начала сама обучать Димитрия, и его друзья стали приходить к ней, чтобы учиться. Вскоре дети, которые едва умели различать буквы и цифры, научились бегло читать и складывать, и через несколько месяцев маленький дом Элени пять раз в неделю по утрам был полон. Дети были разного возраста, от шести до шестнадцати лет, и все, за исключением одного мальчика, родившегося на острове, были присланы на остров с Крита, когда у них обнаружили признаки проказы. Большинство из них успели получить кое-какое начальное образование до того, как очутились на Спиналонге, но почти все, включая и самых старших, почти ничему не научились за то время, что провели в классе с Кристиной Крусталакис. Она обращалась с ними как с дураками, вот они ими и оставались.
Напряжение между Кристиной Крусталакис и Элени начало нарастать. Почти всем было ясно, что именно Элени должна взять на себя управление школой и именно она должна получать учительское жалованье. Кристина Крусталакис сражалась за свое, отказываясь уступить или хотя бы рассмотреть возможность поделиться ролью, но Элени была упорной. Она вела ситуацию к разрешению, и не ради собственной выгоды, а ради блага семнадцати детей, живших на острове, – детей, которые заслуживали куда большего, чем могла им когда-либо дать апатичная Крусталакис. Обучение было вложением в будущее, а Кристина Крусталакис не видела смысла в том, чтобы тратить много энергии на тех, кто не задержится на этом свете.
И вот наконец в один прекрасный день Элени была приглашена выступить со своими доводами перед старейшинами. Она принесла с собой несколько экземпляров детских работ, выполненных задолго до ее приезда и вскоре после того.
– Но это просто естественный прогресс! – возразила одна из женщин, о которой все знали, что она дружит с кирией Крусталакис.
Однако для большинства доказательства выглядели убедительными. Усердие Элени и преданность делу явно приводили к хорошим результатам. Ею двигало убеждение, что образование – это не просто некое средство продвижения к неопределенному будущему, а самостоятельная ценность, которая помогает детям стать хорошими людьми. Возможность того, что кто-то из этих детей не доживет до совершеннолетия, для Элени никакого значения не имела.
Несколько членов совета воздержались при голосовании, но большинство решительно высказались за то, что необходимо снять с должности прежнюю учительницу и назначить на ее место Элени. С этого момента на острове появились люди, считавшие Элени настоящей захватчицей, но ей было наплевать на это. Главным для нее были дети.
Школа дала Димитрию почти все, в чем он нуждался: распорядок дня, пищу для ума, товарищей и нового друга Никоса, того единственного, кто родился на острове, но не был отправлен на материк. Правда, причиной послужило то, что у него уже в младенчестве проявились признаки болезни. Если бы он оказался здоровым, его бы забрали у родителей, и те, хотя и мучились чувством вины из-за того, что ребенку досталась их болезнь, все-таки радовались сверх всякой меры, что сумели произвести его на свет.
Теперь каждое мгновение жизни Димитрия было заполнено, и это успешно отвлекало его от воспоминаний. В каком-то смысле он теперь жил даже лучше. Этот маленький темноглазый мальчик избавился от тех тревог и забот, которые лежали на нем – старшем из пяти детей в крестьянской семье.
Однако каждый день, возвращаясь из школьного здания в свой новый полутемный дом, мальчик улавливал некое скрытое недовольство и беспокойство взрослых. Он слышал обрывки разговоров, когда проходил мимо кофейни, или негромкие споры людей на улице.
Иногда к старым слухам прибавлялись новые. Снова и снова возобновлялись разговоры по поводу того, привезут ли на остров новый генератор, и непрерывные жалобы на водоснабжение. В последние месяцы ходили слухи о получении денег на новое строительство и увеличении пособия для каждого члена колонии. Димитрий внимательно прислушивался к словам взрослых и замечал, что они постоянно повторяют одно и то же, как пес, продолжающий грызть давным-давно обглоданную кость. Самые мелкие события наравне с серьезными, такими как болезнь и смерть, обсуждались бесконечно. Но вот однажды случилось нечто такое, чего никто не мог предвидеть, но что коренным образом изменило жизнь острова.
Через несколько месяцев после того, как Димитрий и Элени прибыли на остров, как-то вечером, когда они ужинали, в дверь вдруг кто-то громко и настойчиво постучал. Это оказались Элпида и одна из старших женщин, обе они задыхались и горели от волнения.
– Элени, пожалуйста, идем скорее! – заговорила Элпида. – Там их привезли сразу несколько лодок – несколько лодок! – и им нужна наша помощь. Идем!
Элени уже достаточно хорошо знала Элпиду, чтобы понять: если та говорит, что нужна помощь, вопросы задавать излишне. Димитрий загорелся любопытством. Он бросил вилку и нож и побежал за женщинами, торопливо шагавшими по сумеречной улице, прислушиваясь к словам кирии Контомарис, которая буквально захлебывалась, рассказывая о событии.
– Они из Афин, – говорила она. – Гиоргис уже привез две лодки и вот-вот вернется в третий раз. В основном там мужчины, но я и нескольких женщин заметила. Они выглядят как пленники, как больные пленники!
К этому времени они дошли до входа в длинный туннель, что вел к причалу, и Элени повернулась к Димитрию.
– Ты должен остаться здесь! – твердо произнесла она. – Пожалуйста, вернись домой и закончи ужин!
Даже с этого конца туннеля Димитрий слышал приглушенное эхо мужских голосов, и ему отчаянно хотелось знать, что же стало причиной такого переполоха. Женщины нырнули в туннель и исчезли из вида. Димитрий бесцельно пинал камни у входа, а потом, осторожно оглядевшись по сторонам, решительно шагнул в проход, стараясь держаться поближе к стене. Когда он повернул за угол, то сразу увидел, из-за чего началась суматоха.
Обычно новые поселенцы прибывали на остров по одному, и их спокойно приветствовал Петрос Контомарис, чтобы осторожно, не спеша ввести в коммуну. Поначалу почти все новички, ошеломленные переменой в жизни, помалкивали, пока он рассказывал им об острове. Но в этот вечер никакого спокойствия на берегу не было. Битком набитые в маленькую лодку Гиоргиса, многие из прибывших просто теряли равновесие, сходя на берег, и тяжело падали на каменистую землю. Они кричали, корчились и выли, некоторые из них явно испытывали сильную боль, и Димитрий, скрываясь в тени, видел, почему они падают. Похоже, у новеньких не было рук, по крайней мере таких рук, которые висели бы вдоль тела, а когда мальчик присмотрелся, то понял, что на людей надеты какие-то странные куртки с рукавами, связанными за спиной.
Димитрий наблюдал за тем, как Элени и Элпида наклонялись, по очереди развязывая путы, удерживавшие руки этих людей, связанных, как какая-нибудь посылка, и освобождали их из тряпичной тюрьмы. Лежа в пыли бесформенными грудами, эти существа совсем не походили на людей. Один из них, спотыкаясь, подошел к воде, наклонился вперед, и его вырвало. Потом то же случилось со вторым, с третьим.
Димитрий с изумлением и страхом смотрел на происходящее, застыв, как укрывавшие его камни. Когда наконец новички оказались развязанными и медленно поднялись на ноги, они отчасти вернули себе чувство достоинства. Даже с расстояния в добрую сотню метров Димитрий ощущал гнев и агрессию, исходившие от них. Они собрались вокруг одного мужчины, который, похоже, пытался их успокоить, и несколько человек заговорили разом, все громче и громче.
Димитрий принялся считать. На берегу было уже восемнадцать человек, а Гиоргис разворачивал лодку, чтобы вернуться в Плаку. Ему предстояло сделать еще один рейс.
А в Плаке неподалеку от причала, на площади, собралась толпа, чтобы посмотреть на эту удивительную группу. За несколько дней до того Гиоргис получил из Афин письмо для Петроса Контомариса, предупреждавшее, что вскоре прибудут новые поселенцы. И они решили ничего не сообщать другим раньше времени. Перспектива прибытия на Спиналонгу более двух десятков новых пациентов одновременно могла вызвать у островитян панику. А Контомарису только то и сообщили, что эти прокаженные устроили беспорядки в госпитале в Афинах. В результате их сослали на Спиналонгу, привезли, как скот, из Пирея в Ираклион. Они выдержали два дня пути по бурному морю, страдая от жары и морской болезни. Затем прокаженных пересадили на небольшое судно и доставили в Плаку. А уж из Плаки Гиоргис должен был их перевезти, по шесть человек зараз, к окончательному пункту их путешествия. Любой без труда понял бы, что эта оборванная толпа оскорбленных и лишенных человеческого обращения индивидов не станет долго терпеть подобное.
В Плаке деревенские дети, ничего не боясь, собрались вокруг и таращились на прокаженных. Среди них были Фотини, Анна и Мария. Анна спросила отца, не хочет ли он сделать небольшой перерыв перед тем, как отвезти через пролив последних сосланных.
– Почему они здесь? Что они такого сделали? Почему их не могли оставить в Афинах? – требовательно спрашивала она.
Но у Гиоргиса не было ответов на ее настойчивые вопросы. Однако кое-что отец ей рассказал. Пока он вез на остров первую группу пассажиров, он внимательно прислушивался к их разговорам, и, несмотря на то что те пылали гневом и не стеснялись в выражениях, Гиоргис понял, что это люди образованные.
– Мне нечего тебе ответить, Анна, – сказал он. – Но на Спиналонге придется найти для них место, вот что важно.
– А как же наша мама? – не успокаивалась Анна. – Ей теперь хуже прежнего придется, да?
– Надеюсь, что не так, – ответил Гиоргис, черпая остатки терпения из глубокого колодца своей души. – Новенькие, возможно, окажутся лучшим, что когда-либо случалось на острове.
– Да как такое может быть?! – закричала Анна, подпрыгивая на месте от возбуждения. – О чем ты говоришь? Ты посмотри, они на зверей похожи!
В этом Анна была права. Эти люди действительно напоминали животных, они были связаны и согнаны в кучу, как скот, и обращались с ними не намного лучше, чем со скотом.
Гиоргис повернулся к дочери спиной и ушел к лодке. На этот раз пассажиров было всего пять. Когда они добрались до Спиналонги, остальные новички уже бродили по берегу. Впервые за тридцать шесть часов они смогли свободно стоять на собственных ногах. Среди них были четыре женщины, и они молча жались друг к другу. Петрос Контомарис ходил от человека к человеку, спрашивая, как их зовут, сколько им лет, какова их профессия и как давно им был поставлен ужасный диагноз.
И пока Контомарис делал свое дело, его мысли неслись с бешеной скоростью. Каждая лишняя минута, на которую он удержит их здесь, на берегу, занимаясь бюрократическими процедурами, даст ему чуть больше времени на решение вопроса о том, где, черт побери, он разместит всех этих людей?! Каждая секунда промедления оттягивала тот момент, когда новичков нужно будет повести в туннель, а там они обнаружат, что жить им негде и что здесь им будет, пожалуй, еще хуже, чем в госпитале в Афинах. Каждое короткое интервью давало ему несколько минут, и к тому времени, когда Контомарис закончил опрос, кое-что для него прояснилось.
В прошлом, когда он подробно расспрашивал вновь прибывших, он видел перед собой в основном простых людей – рыбаков, мелких арендаторов, лавочников. Но на этот раз Контомарис получил список профессионалов высокого уровня: адвокат, преподаватель, врач, строитель, редактор, инженер. Это была совершенно другая категория людей, они резко отличались от тех, кто составлял основное население Спиналонги, и на мгновение Контомарис даже испугался этой команды жителей Афин, прибывших сюда в виде оборванцев.
И вот пришло время показать им их новый мир. Контомарис повел группу через туннель. По колонии уже разнеслась весть о прибытии новеньких, и люди выбежали из домов, чтобы посмотреть. На площади афиняне остановились за спиной старосты, а тот повернулся к ним лицом, ожидая, пока все не затихнут, и наконец заговорил:
– Как временная мера, все вы, кроме женщин, которых разместят в свободной комнате на холме, устроитесь в доме собраний.
Новички уже окружили Контомариса, и, пока он делал свое объявление, среди них началось недовольное бормотание. Однако Контомарис был готов к тому, что его план будет принят враждебно.
– Позвольте вас заверить, что это лишь временно, – продолжил он. – Благодаря вам население острова увеличилось почти на десять процентов, и мы вправе теперь ожидать, что власти дадут нам денег на новое строительство, как они давно уже обещают.
Конечно, из-за того, что дом собраний, который был центром общественной жизни на Спиналонге, теперь должен превратиться в спальню, отношение к новичкам не стало благожелательным. Это означало, что привычный порядок бытия нарушался, а староста лишал островитян слишком многого. Но что было делать? В «блоке», бездушном новом многоквартирном доме, оставалась всего одна свободная комната – в нее предполагалось поселить афинских женщин. Контомарис должен был попросить Элпиду проводить их туда, пока сам он будет устраивать мужчин в наскоро организованном жилище. Сердце старосты упало при мысли о том, какую задачу предстояло выполнить его жене. Разницей между новым домом и тюрьмой было только то, что двери там запирались изнутри, а не снаружи. А мужчин необходимо было разместить в доме собраний.
В этот вечер Спиналонга стала домом для двадцати трех афинян. Вскоре многие из тех, кто пришел просто поглазеть, сообразили, что от них требуется что-то более конструктивное, и поспешили предложить новичкам еду, питье и постельные принадлежности. Любое подношение из скудных запасов островитян означало серьезную жертву, но все, кроме нескольких, все же это сделали.
Первые дни были напряженными. Все ожидали начала знакомств, но в первые сорок восемь часов почти никого из прибывших не было видно, многие из них просто неподвижно лежали на импровизированных постелях. Навестив вновь прибывших, доктор Лапакис отметил, что эти люди страдают не столько от проказы, сколько от жестокого путешествия, когда их почти не кормили и не давали воды и они не имели защиты от жестоко палившего солнца. Некоторым из них могло понадобиться несколько недель, чтобы прийти в себя от долгих месяцев, а то и лет дурного обращения, которое им приходилось выдерживать еще до того, как их бросили на борт судна и вывезли из Афин. Из разговоров афинян Лапакис понял, что между условиями в госпитале для больных лепрой и в тюрьме, что стояла в нескольких сотнях метров от него, на окраине города, особой разницы не было. По колонии уже расползлись слухи о том, что в Афинах прокаженных кормили тюремными объедками, а их одежда была снята с умерших в центральной городской больнице. И доктор скоро понял, что это не совсем сказки.
С этими пациентами обходились совершенно по-варварски, а группу, привезенную на Крит, буквально довели до бунта. Это ведь были люди образованные, с хорошими профессиями, и они объявляли голодовки, писали письма властям, передавая их через друзей, постоянно спорили с руководством госпиталя. Однако главный врач, вместо того чтобы согласиться на какие-то перемены, решил просто избавиться от недовольных, или, как он предпочитал выражаться, «переправить их в более подходящее окружение». Изгнание на Спиналонгу означало конец для этих людей, но для острова – начало новой жизни.
Элпида каждый день навещала женщин. Те вскоре оправились в достаточной мере для того, чтобы прогуляться по острову и выпить кофе в доме Контомариса. Они даже начали планировать, как смогут использовать тот клочок земли, что расчистили для них, какие овощи сумеют вырастить. Новенькие быстро осознали, что эта жизнь лучше прежней. По крайней мере, это была жизнь. Условия в афинском госпитале были просто ужасающими. Адское пламя, наверное, жгло не так сильно, как удушающий жар в их тесных палатах. А если добавить ко всему еще и крыс, которые свободно гуляли там по ночам, и разных паразитов…
По сравнению с этим Спиналонга казалась настоящим раем. Она предлагала невообразимую свободу, со свежим воздухом, пением птиц и улочкой, спускавшейся к морю, здесь женщины могли вернуть себе человеческое достоинство. За долгие дни путешествия из Афин некоторые уже подумывали о самоубийстве, предполагая, что их везут в место худшее, чем тот Гадес, в котором они сражались за выживание. Но на Спиналонге из окна своей комнаты на втором этаже женщины могли видеть восход солнца, в первые же дни на острове они были буквально зачарованы видом неторопливого рассвета.
Точно так же, как в свое время это сделала Элени, они поспешили превратить новое жилище в дом. Расшитые хлопчатобумажные занавески прикрывали теперь окна по вечерам, домотканые коврики легли на пол у кроватей, преобразив комнату и сделав ее похожей на любое из простых жилищ на Крите.
Но у мужчин все было иначе. Несколько дней они просто лежали в постелях, а многие еще были слишком слабы после голодовки, которую они объявили в Афинах. Контомарис организовал доставку еды – ее оставляли в вестибюле, – но когда в первый день островитяне пришли, чтобы забрать тарелки, то увидели, что их подношение едва тронуто. Большой металлический кухонный котел был все так же до краев полон бараньим рагу. Единственным признаком того, что жизнь в здании не угасла, стало то, что от пяти буханок хлеба, принесенных в дом собраний, осталось лишь три.
На второй день уже весь хлеб был съеден, а на третий и большая кастрюля кроличьего мяса оказалась вычищена до блеска. Каждый день подобные знаки говорили о нараставшем аппетите у понемногу оживавших несчастных.
На четвертый день на ослепительный солнечный свет вышел, моргая, Никос Пападимитриу. Адвокат сорока пяти лет от роду, он был некогда центральной фигурой в афинской жизни. Теперь Пападимитриу стал главой и рупором группы больных лепрой, он играл свою роль с такой же энергией, какую вкладывал в прежнюю деятельность. Никос был прирожденным бунтарем, и если бы не стал юристом, то вполне мог стать преступником. Его попытки противостоять афинским властям, организовав бунт в госпитале, не были по-настоящему успешными, но теперь, очутившись на Спиналонге, он был полон решимости добиться лучших условий для товарищей по несчастью.
Адвокат, хотя и обладал острым языком, имел еще и немалое обаяние и умел завоевывать сторонников. Его главным союзником и другом был Михалис Курис, инженер, который, как Пападимитриу, провел в афинском госпитале почти пять лет. В этот день Контомарис показал им остров. Но в отличие от большинства новичков, которые видели Спиналонгу впервые, эти двое задавали бесчисленное множество вопросов. «Так откуда берется вода?», «И как долго вы ждете доставки генератора?», «Как часто приезжает врач?», «Каков тут процент смертности?», «Каковы ближайшие планы строительства?». Контомарис отвечал как умел, но по ворчанию и вздохам новичков мог без труда догадаться, что их редко удовлетворяли его ответы. Староста острова и сам прекрасно понимал, что снабжение Спиналонги недостаточно. Он неустанно трудился уже шесть лет, чтобы изменить дела к лучшему, и во многих областях преуспел, хотя и не в той мере, как того хотелось обитателям колонии. Это была неблагодарная работа, и теперь, шагая к островному кладбищу, Контомарис пытался понять: почему все это так его беспокоит? Все равно все они окончат свои дни здесь, как бы он ни старался. И он, и эти двое довольно скоро упокоятся под каменными плитами в одном из этих подземных бункеров, а потом их кости отодвинут в сторону, чтобы освободить место для новых тел. Тщетность всех надежд и непрерывные вопросы Пападимитриу вызвали у него желание сесть и заплакать. И он решил сообщать афинянам только голые факты. Если подлинная реальность интересует их больше, чем желание ощутить себя важными персонами, то пусть так и будет.
– Я вам все расскажу, – сказал Контомарис, останавливаясь и поворачиваясь лицом к двум афинянам. – Все, что вы хотите знать. Но если я это сделаю, ноша ляжет и на ваши плечи. Вы это понимаете?
Они кивнули в знак согласия, и Контомарис принялся подробно излагать им все недостатки острова. Он описал все преграды, которые ему пришлось преодолеть, чтобы добиться хоть каких-то перемен, рассказал обо всем, о чем не мог договориться с властями. А потом они втроем вернулись в дом старосты и, с учетом свежего взгляда Пападимитриу и Куриса, составили новый план. Он включал в себя все незавершенные дела, проекты, которые должны были быть начаты и завершены в предстоящем году, и набросали список того, что следовало предпринять в пятилетний период. Такие планы сами по себе уже могли создать ощущение движения вперед, в чем так сильно нуждались эти люди.
С того самого дня Пападимитриу и Курис стали главными помощниками Контомариса. Они больше не чувствовали себя проклятыми людьми, они как будто начали все сначала, получив новые возможности. Жизнь так давно не давала им таких перспектив. В течение нескольких недель предложения, включавшие расчеты по строительству и ремонту домов, были готовы для передачи властям. Пападимитриу знал, как повлиять на политиков, в дело должны были включиться и его юридическая фирма в Афинах, и семейная адвокатская практика.
– Каждый на этом острове – гражданин Греции, – твердил он. – У каждого есть права, и будь я проклят, если не стану за них бороться!
И ко всеобщему изумлению – хотя сам Пападимитриу этому ничуть не удивился, – уже через месяц власти согласились выделить острову те деньги, которые он просил.
Когда наконец и другие афиняне вышли из ступора, они тоже увлеклись новыми проектами строительства. Люди больше не были брошенными на произвол судьбы инвалидами, а стали членами коммуны, где каждый нес свою ношу. К концу сентября, хотя погода стояла еще достаточно теплая, вопрос водоснабжения стал особенно острым, ведь увеличение населения требовало доставки с материка большего количества воды. Необходимо было что-то предпринять, и Михалис Курис оказался человеком, способным решить проблему.
Когда ремонт водосборных каналов завершился, все стали смотреть на небо, моля о дожде, и наконец как-то вечером в начале ноября молитвы были услышаны. В сопровождении великолепного представления звука и света небеса разверзлись, шумно выплескивая свое содержимое на остров и окружавшее его море. Град размером с речную гальку посыпался на землю, разбивая окна и заставляя коз нестись со всех ног в поисках укрытия, а вспышки молний заливали ландшафт апокалиптическим голубым сиянием. На следующее утро островитяне увидели, что их цистерны до краев наполнены прохладной чистой водой. А афиняне, разрешив самую насущную из всех проблем, сосредоточились на строительстве домов для себя.
Между главной улицей и морем находилась заброшенная земля, именно там турки некогда построили первые жилища. Это были просто каменные сараи, сооруженные прямо у крепостной стены, прекрасно защищавшей их. Теперь с техническим умением и эффективностью, какие редко видывали на Крите, эти старые строения были восстановлены и поднялись над каменистой почвой. Каменная кладка выглядела как новая, деревянные части домов были выполнены весьма искусно. Еще задолго до того, как первый снег лег на вершину горы Дикти, эти дома были готовы к заселению, и дом собраний снова стал доступен для всех желающих. Так что неприятие афинских прокаженных надолго не затянулось. Понадобилось всего несколько недель для того, чтобы население Спиналонги осознало все возможности новых островитян и поняло, что эти люди могут добиться куда большего, чем могли они сами.
Потом, по мере приближения зимы, первоочередной задачей снова стала борьба за генератор. Тепло и свет становились насущной потребностью, когда холодные ветра начинали прорываться в каждую щель, проносясь сквозь продуваемые насквозь домики при слабом даже в полдень свете. Но теперь, когда власти обнаружили, что Спиналонга вдруг обрела куда более громкий голос, на который уже невозможно не обратить внимания, прошло совсем немного времени до того, как на остров пришло письмо, в котором жителям было обещано все, в чем они нуждались.
Правда, многие островитяне отнеслись к этому с циничным недоверием.
– Я бы и гроша не дал за все их слова, – поговаривали некоторые.
– Да уж, пока я не включу лампу в своем доме, не поверю, что они вправду его привезут, – соглашались другие.
Общим мнением на Спиналонге было то, что все обещания властей, даваемые острову в течение многих лет, стоят не больше, чем тот клочок бумаги, на котором они написаны.
Всего за десять дней до того, как все части генератора были доставлены на остров, тщательно упакованные и промаркированные, ожидание прибытия генератора стало главной темой письма, отправленного Элени дочерям, – точнее, двух одинаковых писем.
Генератор может коренным образом изменить нашу жизнь. Здесь уже устанавливали один раньше, так что частично сохранилась электропроводка, а двое афинян хорошо знают это дело и – слава богам! – смогут наладить все как следует. Обещают в каждый дом провести хотя бы одну лампу и маленький обогреватель, все это должны доставить вместе с основным оборудованием.
Анна прочитала свое письмо в угасающем свете дня. В камине еще горел огонь, но она видела облачка своего дыхания в холодном воздухе. Свеча бросала неверный свет на страницу, Анна рассеянно поднесла уголок листка к огоньку. Тот медленно пополз по бумаге, пожирая ее, и наконец от письма остался лишь крошечный клочок, который Анна уронила в оплывший воск. Зачем мать пишет так часто? Она что, действительно думает, будто им так хочется знать о том, как она там обогревается, а теперь будет еще и иметь достаточно света, живя в одном доме с тем мальчишкой? Отец заставлял дочерей отвечать на каждое письмо, и Анне приходилось буквально выжимать из себя слова. Она была несчастна и не собиралась притворяться.
Мария, прочитав свое письмо, показала его отцу.
– Хорошая новость, правда? – заметил Гиоргис. – И все это благодаря афинянам. Кто бы мог подумать, что из-за них все могло так измениться?
К началу зимы, еще до того, как задули самые резкие декабрьские ветра, остров был согрет, а с наступлением темноты все, кто желал, могли читать при слабеньком электрическом свете.
Когда начался Рождественский пост, Гиоргису и Элени пришлось решать, как быть с Рождеством. За пятнадцать лет они впервые должны были встретить его не вместе. Для них главным являлись не торжественные празднования в канун Рождества, а разные семейные ритуалы и ужин, а отсутствие Элени создаст в доме зияющую пустоту.
За несколько дней до Рождества и сразу после него Гиоргис не пересекал бурный теперь пролив, чтобы навестить Элени. Не из-за того, что ему мешали зимние ветра, а просто потому, что он необходим был дочерям. А внимание Элени сходным образом сосредоточилось на Димитрии, и супруги одинаковым образом разыгрывали спектакль соблюдения древних традиций.
Девочки, как всегда, пели мелодичную каланду, ходя от дома к дому, и их вознаграждали конфетами и сушеными фруктами, а после ранней церковной службы в день Рождества они пировали вместе с семьей Ангелопулосов, на столе стояли жареная свинина и вкуснейшие курабье, сладкие ореховые бисквиты, испеченные Савиной. На Спиналонге происходило примерно то же самое. Дети пели на площади, помогали печь особый сдобный хлеб, именовавшийся христопсомо – Христов хлеб, и ели много, как никогда. Димитрий вообще впервые в жизни наслаждался таким количеством невероятно вкусной еды, он раньше не видел ничего подобного.
В течение всех двенадцати дней рождественских праздников Гиоргис и Элени, каждый в своем доме, обрызгивали комнаты святой водой, чтобы отпугнуть калликантзари – зимних домовых, – которые, по поверью, устраивали в доме беспорядок. А первого января, в день святого Василия, Гиоргис снова навестил Элени и привез ей подарки от детей и Савины. Конец старого и начало нового года были неким водоразделом, дорожным указателем, который они осторожно миновали, и теперь для семьи Петракис начиналась совершенно новая эра. Хотя Анна и Мария продолжали скучать по матери, они теперь знали, что могут прожить и без нее.
Глава 6
1940 год
После наилучшей зимы в своей истории остров Спиналонга встретил самую сияющую весну. И дело было не только в коврах диких цветов, раскинувшихся на северной стороне острова и заполнивших все щели в камнях, но также и в ощущении новой жизни, которым дышала коммуна.
Главная улица Спиналонги, всего несколько месяцев назад представлявшая собой ряды разрушавшихся домиков, теперь сияла выкрашенными в ярко-синий и зеленый цвета дверями и ставнями. Лавочники с гордостью выставляли товары в обновленных витринах, и островитяне покупали уже не только необходимое, но и всякие приятные мелочи. Впервые на острове возникла собственная экономическая система. Люди не сидели сложа руки: они обменивались, покупали и продавали, иногда с выгодой, иногда нет.
Местная кофейня также процветала, а вскоре открылась новая таверна, чьей специализацией стал какавия – рыбный суп, всегда свежий. Одним из самых оживленных мест на главной улице стала парикмахерская. Стелиос Вандис был известным мастером стрижек в Ретимноне, втором по величине городе Крита, но был вынужден оставить свое дело, когда его сослали на Спиналонгу. Когда Пападимитриу узнал, что среди них появился такой человек, он настоял на том, чтобы Вандис возобновил работу. Афиняне ведь были весьма тщеславны. Они привыкли следить за своей внешностью и в прежние дни наслаждались ритуалом стрижки волос и усов не реже чем раз в две недели, не боясь при этом потерять внешнюю мужественность. Но поскольку теперь жизнь повернула в лучшую сторону, просто необходим был кто-то, кто сумел бы вернуть им городскую красоту. Афиняне не стремились к ярко выраженному индивидуальному стилю, а просто хотели быть хорошо и аккуратно причесанными.
– Стелиос, – мог, например, сказать мастеру Пападимитриу, – сделай из меня Венизелоса.
Венизелос, адвокат с Крита, ставший премьер-министром Греции, считался обладателем самых замечательных усов во всем христианском мире, и мужчины на острове шутили, что Пападимитриу вполне мог бы соперничать с ним, потому что явно добивался положения главы острова.
Когда силы Контомариса начали угасать, он все больше и больше полагался на Пападимитриу, и популярность этого афинянина на острове увеличивалась. Мужчины уважали его за то, чего он сумел добиться за столь короткое время, женщины также были ему благодарны. Вскоре Пападимитриу уже наслаждался своего рода обожанием, без сомнения возраставшим благодаря его внешности. Как большинство новичков-афинян, он всегда жил в большом городе, в результате чего не выглядел сутулым и седым, как средний критянин, проведший основную часть своей жизни на открытом воздухе, добывая пропитание либо обработкой земли, либо рыболовством. До последнего времени его кожа видела мало солнца, а ветра ощущала еще меньше.