Читать онлайн Век серебра и стали бесплатно
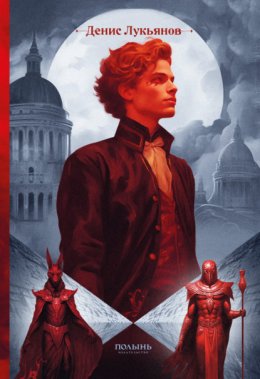
Пролог
закат созидающего Атума
О друзья мои, ах враги мои, как красиво они горят!
Горело правда красиво – звучными вспышками. Но перед тем, как рассмеялось немым голосом пламя, была первая искра – а до этого…
Дым дурманил голову и щекотал ноздри даже на улице, в жидком Петербургском вечере, разбавляемом газовыми фонарями. Он тонкими струйками, будто нитями паутины, тянулся из щелей и окон, пытаясь добраться до пухлой полупрозрачной луны, но таял призраком, давно уже забывшем, почему все еще бродит по бренной земле. Дым манил и тянул к себе, соблазнял немногочисленных прохожих поддаться этому искушению и свернуть с намеченного пути…
Дым без огня.
Дым опиума.
Курильный салон «Нефертити» явно не стеснялся носить такое гордое, почти императорское название в одном из самых бедных районов города. Стоял среди обшарпанных домов без серебряных шпилей на крышах и хлипких трущоб, будто чахоточных, готовых в любую минуту развалиться с мерзким треском. Хозяева заведения были людьми смышлеными – знали, что опиум доживает свои дни, становясь таким элитным наркотиком, каким не был никогда. Отсюда и «Нефертити», все же это досуг для особ царских. Не столько по статусу, сколько в душе – таких всегда больше. Корона не отяжеляет их головы заботами, но придает необходимый масляный лоск. К тому же, чем глубже спрячешь курильню в лабиринтах городского организма, тем проще вести бизнес. Знает лишь тот, кто нужно.
Проще: но только не этим проклятым продавцам модного Песка Сета.
Дым тонкими струйками выползал из «Нефертити». Внутри же, в духоте, он застилал зрение тончайшей яичной пленкой, притупляющей сначала взор, потом – сознание. Аромат персикового дерева – а что еще ждать от таких заведений? – смешивался с неуловимо-наркотическим, словно подстраивающимся под предпочтения каждого клиента. Каким захочешь – таким запахом и буду.
Клиентам, лежавшим на кушетках в окружении мягких, бархатных подушек, это явно нравилось.
– Боги, – протянула дама в платье с чрезвычайно глубоким декольте. – Никогда не думала, что мы будем курить эту дрянь после того, как миру явили себя боги старого Египта. А мы…
Мужчина в расстегнутой рубашке, раскрасневшийся и обтекающий потом, затянулся из длинной толстой опиумной трубки с набалдашником. Закатил глаза, выдохнул гипнотический дым, с минуту помолчал, откинулся на подушки и продолжил.
– Дорогая, Китай – дело тонкое! Они не прекратят баловать нас этой своей забавой до конца дней. И никакой Песок Сета им не помеха.
– Дааа… – протянула дама и, последовав примеру мужа, затянулась из трубки. После долгой паузы, добавила: – Хорошо их, однако, бриты накачали… ух, ух, как… ой, как хорошо…
– Лучше бы бриты накачали меня одного, обошлись бы без войн. В меня вместился бы весь их опиум, – хохотнул мужчина.
К отдыхающим подошел китаец в традиционном костюме – от прислужливых азиатов, добавил мужчина в рубашке, он бы тоже ни при каких обстоятельствах не отказался – и принес два бокала пузырящегося шампанского. Заодно положил рядом газету – свежий выпуск «Северной пчелы». Откланялся и удалился, оставив гостей наедине.
– Новости, – мужчина потянулся за газетой, только с четвертого раза подхватив ее. – Новости – это всегда хорошо. Ну или… ээ… ух… как минимум, интересно.
Глаза его вертелись, как ветряные мельницы в ураган. Мужчина пробежался по страницам, пытаясь уловить смысл скользящих по краю задурманенного сознания слов.
– О-о! Ты слышала новость, дорогая?!
– Как я могла, если ты забрал обе газеты?
– Разве? – мужчина разомкнул пальцы. На подушки свалилась вторая «Северная пчела», слипшаяся с первой.
Мысли зацепились, спутались в клубок – вытерев платочком пот со лба, мужчина перескочил к другой теме.
– Ты посмотри! Они везут к нам в город Сердце Анубиса! Прямо из Парижа!
– Анубис и Осирис… – пробубнила дама, сверля глазами бокал шампанского, словно гипнотизируя его. Ей хотелось, чтобы блаженные пузырьки поскорее ударили в голову. – И сдалось нам здесь Сердце бога? Своего хватает…
– Ну-ну-ну, – заплетающимся языком поцокал мужчина. – Дорогая, не заставляй меня краснеть! Даже нищие знают, что нашли сердце всего одного бога, и его – его! – на неделю привозят к нам. Тут вроде написано, что в Пасху его будут выставлять для паломничества и научного ин-те-ре-са…
– Вроде! – усмехнулась дама ослабевшим голосом. – Мой муж не может прочитать газету, которую держит у самого носа!
– Моя жена не знает простых истин!
Они ухмыльнулись. Рассмеялись, как-то неестественно, будто смех тоже опьянел от дыма – сладкого, дурманящего, вездесущего дыма, стирающего грани реальности. Мужчина вновь обмакнул лоб платочком, потянулся за бокалами. Чуть не разлив один, все же протянул даме.
– За это и люблю тебя, дорогая. За нас!
– За это и люблю тебя, дорогой! За нас! И… – она задумалась. – За старый мир, который был куда проще.
– За старый мир…
Мужчина в расстегнутой рубашке залпом выпил бокал. Дама только-только поднесла свой к пухлым губам, как вдруг остановилась – принюхалась, нахмурилась. Подошедший китаец забрал газеты и серебряный поднос – мужчина махнул рукой, и работник курильни заодно прихватил пустой бокал.
– Дорогой? – вновь принюхалась дама, провожая уходящего рабочего настороженным взглядом.
– А?
– Ты ничего не чувствуешь?
– Конечно, нет, я обкурился вместе с тобой…
– Нет, я имею в виду… Какого-то странного запаха. И тот мужчина… тебе не показалось, что это был не китаец?
– Китаец, не китаец, какая разница. Азиаты, ха! Главное, что он тут все делает, пока мы отдыхаем. Заслужили! Верные слуги его Императорского ве-ли-чи-я, да будет он жив, здоров и могуч! Я, между прочим, давно говорил, что эта их китайская традиционная театральность – пережиток старомодного прошлого…
Прежде, чем «Нефертити» стремительно вспыхнула, семейная чета услышала звон бьющегося хрусталя – отчетливый, резкий, будто начерченный ровной геометрической линией.
Люди в соседних домах просыпались, кричали, выбегали на улицы, стояли, смотрели, пытались помочь – суетились во внезапном хаосе, сменившем воздушную тайну наступающей ночи и загадку грядущего дня.
И в суматохе никто не заметил, как за мгновение до взрыва, что принес голодное пламя, из «Нефертити» вынырнул человек, скинувший с себя китайский наряд и потерший тонкие руки с набухшими фиолетовым венами…
…и как же красиво они горят, подумал незнакомец, наблюдавший за пожаром из тени трущоб. Незнакомец в мешковатом плаще-балахоне, из-под капюшона которого торчала странная, густая, будто неестественная борода, словно уложенная зигзагами и змеиным языком двоящаяся книзу. Незнакомец, видевший вынырнувшего за мгновение до взрыва человека.
Незнакомец, будто бы общаясь с мраком на его, шепчуще-приглушенном языке, не словами, а оттенками света и тени, проговорил:
– Занятно… Надо рассказать гранд-губернатору, это будет очень полезно… Занятно, весьма занятно.
Книга первая. Стопами солнца
– Раб, соглашайся со мной!
– Да, господин мой, да!
– Что же тогда благо?
– Шею мою, шею твою сломать бы,
тела в реку выбросить – вот что благо!
Кто столь высок, чтоб достать до неба?
Кто столь широк, чтоб заполнить всю землю?
– Хорошо же, раб, я тебя убью, отправлю первым!
– А ты, господин, надолго ли меня пережить собрался?
фрагмент шумерской притчи
Поэты говорят, что мир спасется любовью
Но нам с тобой иной исход известен пока
«Последнее испытание»
Глава 1. Петербургский цирюльник
восход юного Хепри
Искры очерчивали темноту крыльями феникса, отрывались от затухающего пламени, гипнотизировали, размывали зрение, словно пытаясь спрятать обугленные остатки сгоревшего здания.
Вахмистр Виктор Говорухин – старичок с морщинистым лицом и профилем, как ему говорили, самого Рамзеса II – согнулся и закурил от угасающего пламени. Чуть не подпалил длинные усы.
Бессвязно выругавшись, вахмистр Говорухин пустил струю сизого дыма – сам закашлялся от крепости папиросы, курил редко, но со вкусом, в кресле, не привык на ходу по ночам. А тут, на тебе, вызвали – и ладно, случилась бы какая ерунда, но вот оно как… Виктор пытался сосредоточиться, укутаться в мысли, как в шелковый плед – часто видел такие в витринах, особенно в последнее время, – но какой-то неразборчивый, назойливый фоновый шум не давал этого сделать. И откуда он только брался…
– Ваше благородие, – наконец расслышал Говорухин. – Господин вахмистр!
Виктор дернул головой, как плохо пошитая кукла – резко и неуклюже. Рядом, теребя в руках исписанные листы бумаги, нервно покачивался молодой полицейский – или теперь правильно говорить «жандарм»? Виктор все никак не мог уяснить.
– Боги, я же сто раз просил, не называйте меня по званию. Раздражает, как плохая скрипка в руках неумелого музыканта…
Увидев, что жандарм – Сет побери, или все же полицейский?! – занервничал еще сильней, Говорухин смягчился.
– Ладно, что там у тебя? Тела удалось опознать?
– В таком состоянии… нет, конечно, нет, – молодой человек задергал бумагами. – Но местные рассказали о посетителях. Говорят, видели их не в первый раз – и те всегда бронировали опиумную, гм, целиком…
Виктор, зажав папиросу в зубах, взял бумаги.
– Граф и графиня Богомазовы, – огласил молодой жандарм-полицейский, пока Говорухин изучал исписанные темно-синими, как беззвездная июльская ночь, чернилами.
– Да, с такой-то фамилией. Ну и шуточки, Сет побери.
Виктор уткнулся в листы и так увлекся, что поднял глаза, только когда молодой человек кашлянул – он так и стоял на месте. Удивленно уставившись на жандарма-полицейского, наконец затушив папиросу, Виктор сказал:
– И что ты стоишь, дорогой? Все, свободен. Что ж вас все никак нормально не научат… боги, как же раньше было проще!
Молодой человек, получив разрешение, тут же убежал в сторону обгоревшей «Нефертити». Говорухин вздохнул, поправил официальную форму: темно-синюю кожаную куртку и такого же цвета фуражку с золотистым крестом-акнхом. Присел на холодную землю – в его возрасте, всегда говорил вахмистр Говорухин окружающим, беспокоится о здоровье уже поздно.
Да, раньше действительно было проще, подумал жандарм. Хотя бы год назад. Тогда Виктор точно знал, что он – полицейский. Точка. Никаких дополнительных приставок, званий, титулов и прочих глупых придумок. Но потом императору – да будет он жив, здоров и могуч! – вздумалось проводить реформы. Казалось бы, не столь значимые на фоне изменившегося мира, но головой боли на чиновников и служащих всех мастей навалилась масса.
Третьего отделения тайной канцелярии вдруг не стало. Никто не догадывался, что Александр II, взойдя на престол, распустит ее, освободив просторные дворцовые залы. Вахмистр Говорухин, впервые прочитав новость в газетах, был только рад и решение поддерживал – просиживавшие кресла третьего отделения солидные господа давно перестали быть дерзкими хищными птицами, готовыми пустить когти, лишь завидев опасность. Они постарели, ссутулились, привыкли к сладкому существованию, вкусной еде, мягким подушкам, комфортной одежде, семейной жизни и беззаботности. А какие-то двадцать лет назад ведь именно они подталкивали Николая действовать радикально – может, без их ласковых подсказок он бы и не решился на столь жесткие меры…
Но это осталось в прошлом. Жандармерия, лишившись начальников, осталась у разбитого корыта, и тут же перешла в ведомство министерства внутренних дел. Их всех, как голодных хищников с разных континентов, запихнули в одну новую структуру. Виктор помнил, как нам общих собраниях им доходчиво пытались объяснить новый порядок. Получилось – в лучшей традиции, шиворот-навыворот. Чтобы не плодить названий – полицейские такие-то, полицейские такие-то, – всех поголовно стали звать жандармами, новую единую организацию – жандармерией. Только поделили служащих на два больших отдела: по делам исключительно внутренним и политическим.
Под патронажем министерства внутренних дел слили полицию и жандармерию воедино, выбрав в качестве названия, очевидно, самое звучное.
Получилось, как в той сказке про Красную Королеву – в одном саду и белые, и красные розы, иными словами – полный кавардак.
Никого, конечно, не спросили. Практический смысл от всей затеи отсутствовал – жандармы продолжали преследовать, полицейские – патрулировать. Зачем все это устроили? Сет их знает – только добавилось путаницы и лишних бумажек.
И еще эти новые дурацкие должности, звания… Вахмистр Виктор Говорухин! Ради богов, всех и каждого, что это такое?!
Да, думал Виктор, проще, все было проще, даже год назад…
А уж двадцать лет назад – тем более.
Ведь он еще в те годы чувствовал, как в воздухе даже не носилась – это еще цветочки! – а буквально искрилась одержимость Востоком. Тогда, конечно, она проникала в бытовую кутерьму только сквозь прозу, картины и стишки. К слову, стишки Виктор никогда не любил – считал пустой тратой времени, и не для поэтов, они-то пусть творят что хотят, и так не от мира сего, а для самого себя. Есть ведь вещи куда более практичные и приземленные. Но было в то время нечто… такое неуловимое, как покалывание на кончиках пальцев. Словно первый, мягкий минорный аккорд аскетичного пианино перед чем-то бо́льшим – громогласным свинцовым орга́ном.
Это самое бо́льшее случилось двадцать лет назад, в 1822 году, когда Жан-Франсуа Шампольон расшифровал египетские иероглифы.
Тогда боги старого Египта явили себя миру.
У усатого господина дернулся глаз.
Когда господин садился в мягкое кожаное кресло, то даже представить не мог, что ближайшие двадцать минут пробудет как на иголках. Нет, тут же исправился господин, даже хуже – как на раскаленных углях. Усатому господину рекомендовали это место друзья, коллеги, родственники, да даже случайные знакомые, иногда краем уха слышавшие разговор, поддакивали: мол, да, да, и мы были, и мы рекомендуем! Все говорили, что это – лучшая цирюльня среброглавого Санкт-Петербурга, другой такой нигде не сыщешь, даже на самых роскошных улочках Лондона, Парижа или Праги.
Умение здешнего мастера стало легендой, одной из тех, которыми живет любой уважающий себя город. Усатому господину постепенно становилось даже неловко, что все вокруг брились здесь, а он – нет. Так что в этот прекрасный во всех отношениях день мужчина собрался, накинул шляпу и дошел до цирюльни на втором этаже приличного доходного дома по адресу набережная Екатерининского канала[1], дом 35. Сидел в светлой комнатке, плотно заставленной мебелью: шкафчиком, столом, парой стульев и комодом с огромным зеркалом в дубовой раме, на которое сейчас предпочитал не смотреть.
При мысли открыть глаза во время бритья все существо усатого господина брыкалось, он начинал ерзать в кресле еще сильнее
Потому что руки, Сет побери, эти руки…
Цирюльник Алексас Оссмий орудовал бритвой так искусно, что она плясала в его руках, притом сразу несколько кардинально разных танцев – от нежного вальса до озорной джиги. При взгляде на Алексаса в голову даже не приходила мысль, что такой человек может брить. Руки, как у мясника – сильные и грубые, все мозолях, – скорее напоминали чугунные валики. Да и сам по себе цирюльник оказался весь какой-то… угловатый – будто обелиск, сделанный из монолитного камня: мощного, крепкого, но лишенного всякого изящества и грации. Качеств, как думалось усатому господину, столь фатальных для человека, одно неверное движения которого может привести к весьма печальному исходу.
Но грубые, мясистые руки Алексаса творили невероятное. Бритва скользила по белоснежной пене. Цирюльник – не особо утруждаясь – словно играл на пианино с виртуозностью, отработанной годам опыта.
– Готово, – Алексас совершил последнее воздушное движение бритвой и снял белое полотенчико с шеи клиента.
– Вы уверены? – дрожащим голосом промямлил усатый господин, зачем-то ощупывая шею.
– Уверенней некуда, – устало вздохнул Алексас.
Пересилив себя, клиент открыл глаза.
С точки зрения стороннего наблюдателя, на лице господина, все еще усатого, ничего не поменялось – каштановая растительность все так же пушистым кошкиным хвостом топорщилась в обе стороны. Но усатый господин, большой педант, замечал малейшие отклонение от самолично принятой нормы – как дракон из старых сказок замечает пропажу хотя бы одной монеты из непомерной сокровищницы.
Пригладив усы, с точки зрения господина, теперь наконец-то выглядевшие по-человечески, потер идеально выбритый подбородок. Присвистнул.
– Честно, я от вас такого не ожидал. Простите, но ваши руки…
– Руки делают, – парировал Алексас.
– А глаза боятся? – хмыкнул господин.
– Не-а. Боялись бы – руки б не делали.
Усач уже было открыл рот, придумав колкое замечание, но благоразумно промолчал, растерявшись. Клиент шмыгнул носом и перевел тему – как часто делают в таких ситуациях, чтобы не показаться растерянным, глупым, или, чего хуже, не желающим продолжать светскую беседу.
– Вы слышали про сердце Анубиса? Они везут его к нам! Это чудо…
– Придерживаюсь хорошего совета не читать газет по утрам, – пожал широкими плечами Алексас Оссмий. Потом принялся натачивать бритву, с силой проводя по грубому кожаному ремню.
– Честно вам сказать, мне даже трудно поверить, что такое оказалось возможно! Что это все, ну вы понимаете, возможно.
Алексас, покончив с бритвой, беспокойно покрутил в руках кулон с солнечным скарабеем.
– Да уж, и не говорите…
Он помнил, как это случилось – смутно, эфемерными, словно струйки сигарного дыма, образами. Будь постарше – может захлебнулся бы волной общей эйфории. Но когда Жан-Франсуа Шампольон научил мир читать иероглифы, люди перевели тексты: со стен гробниц, с уцелевших папирусов, фигурок, сфинксов и обелисков, и тогда…
Поняли, что магия Египта – реальна, что боги его – реальны.
И посмертная жизнь – тоже.
Словно в доказательство, боги Египта заявили о себе, чтобы ни у кого больше не оставалось сомнений – снизошли, ничего не требуя, не диктуя законов, просто дали понять, что люди не ошиблись.
Тогда мир сошел с ума. Может, от откровения, а может – от невероятного аромата, что источали божества, от их и золотого с бликами лазурита сияния. Первые годы были страшными, но в то же время неуловимо-прекрасными – как пир во время чумы.
Время шло, и все поголовно, от домохозяйки до двоечника-гимназиста, кинулись изучать древние тексты – часами сидели в библиотеках. Мир, наполненный светом новых богов и орошенный густой кровью восстаний, менялся – в глазах маленького, пятилетнего Алексаса, совсем незначительно, словно серые тени на стене принимали другие формы, но на деле, конечно, кардинально. В городах появились новые храмы. В каждой столице – в честь своего бога: черный готический собор Анубиса в Париже; хрустальный, ловящий солнце дворец лучезарного Ра в Мадриде; строгое английское аббатство бога Тота в Лондоне; храм Себека в классическом китайском стиле, прямо посреди рисовых полей, в провинциях Пекина. В небеса взмывали дирижабли, укрепленные магическими символами крестов-анкхов и солнечных скарабеев – они летали от города к городу, от страны к стране, делая людей ближе, как никогда до этого. Давали шанс добраться и до самого Египта, ставшего местом паломничества – до Египта, где археологи продолжали копать в надежде новых знаний, новых откровений.
И одно из них они получили.
Когда откопали настоящее, черное, бьющееся сердце Анубиса – это Алексас помнил хорошо, – даже последние скептики убедились в реальности нового мира. Теперь научное сообщество, на мгновение сбросив свой серый нафталиновый хитин консервативности, гадало: что это вообще такое, что оно значит, найдут ли сердца других богов?..
И вот: оно, сердце Анубиса, пусть на несколько дней, но в Санкт-Петербурге…
Алексас еще раз убедился, что очень правильно делает, не читая газет по утрам. Иначе любое утро будет недобрым – а там уж без разницы, хорошая новость или плохая. Главное – новость есть. Шокирует в тот миг, когда к ней еще не готовы, и выводит из равновесия. А в такие моменты… руки не слушаются, мир на мгновение застывает в мерзкой неопределенности. Словно исчезает твердая почва из-под ног.
Цирюльник повернулся к распахнутому окну – видимо, его привлек ворвавшийся внутрь медовый запах цветущей весны, который колокольным звоном напевал о том, что уже через несколько дней наступит Пасха. Алексас уже и не помнил, когда сирень зацветала так рано, к празднику, тем более – после такой-то убийственно-холодной зимы, когда от одного прикосновения мороза можно было окоченеть, а дрова в доходных домах (и, поговаривают, даже в Зимнем Дворце) кончились подчистую.
За окном, вдалеке, за чередой ажурных тонких домов, дымом возносящихся кверху и мерцавших в отблесках, что бросали серебряные шпили, возвышались два огромных искрящихся купола собора Вечного Осириса из изумрудного стекла. Как два оазиса, нависающие над городом.
– Прошу прощения, – отвлек усач. – У вас не будет крема?
– Простите? – не сразу сообразил Алексас.
– Крема, – повторил господин, когда цирюльник повернулся к нему. – По-моему, у меня на щеке небольшой порез. Сущие мелочи, просто…
На ерундовой царапине, даже ребенку не страшной, проступила капелька крови – крохотная, меньше и представить сложно.
На свою голову, цирюльник эту капельку увидел.
И тут же свалился в обморок.
Алексас Оссмий не переносил вида крови.
Гранд-губернатор изучал яйцо в серебряной рюмке с таким неподдельным интересом, будто в нем крылся смысл бытия.
Впрочем, по утрам гранд-губернатор Санкт-Петербурга Велимир смотрел так абсолютно на все вещи. Морок спадал только после третьего умывания и плотного завтрака – мир наконец-то становился простым, привычным. Без философии.
На продолговатом столе просторной обеденной залы стоял привычный набор, без которого гранд-губернатор не мог представить своего существования: фарфоровая чашка крепкого черного кофе, только из турки, два яйца в серебряных рюмках, такой же серебряный графин с горлышком в форме головы петуха и ножками-лапками (внутри, к сожалению гранд-губернатора, постоянно оказывалась вода), телячья вырезка и хлеб с толстым слоем сливочного масла.
Велимир всегда предвкушал завтрак с ночи. Сейчас его глаза чуть ли не слезились от наслаждения и вожделения.
Гранд-губернатор поправил салфетку на груди, глубоко вдохнул и запустил ложку в яйцо – скорлупка сверху была заблаговременно снята
– Сэр?
Велимир вздрогнул, чуть не выронив ложку.
– Почему ты всегда подкрадываешься так незаметно, Парсонс!
– Простите, сэр. Но вам надо принять лекарство, сэр.
– О боги, Парсонс…
– Именно они, сэр
Личный врач гранд-губернатора – высокий, бледный, худой, в строгом зеленоватом фраке чуть ли ни до пола, снял с серебряного подноса граненый хрустальный стакан с прозрачной жидкостью, почему-то блестевшей в солнечных лучах. Идеально бритое, с острыми скулами лицо Парсонса тоже блестело, поярче серебряных тарелок – как и тщательно налысо выбритая голова.
Врач поставил стакан на стол.
– Ваше лекарство, сэр. Утром натощак, сэр.
– И сегодня обязательно его пить? – сморщился Велимир.
– Да, сэр. Три раза в день, сэр. Еще несколько дней.
Гранд губернатор-ничего не ответил – просто заерзал, пробурчал что-то невнятное, зажмурился, залпом осушил стакан, вдвойне поморщился и закашлялся.
Парсонс забрал пустой стакан со стола. Как всегда – двумя легкими элегантными движениями. Получил прекрасное европейское образование, а потом познал древние мистерии на святой земле Египта: всегда был тактичен, учтив, не задавал лишних вопросов и вечно говорил «сэр», не любил ни общепринятого «господина», ни устаревшего «сударя».
– Боги, какая гадость… и почему лекарства не могу делать вкуснее, вот скажи, Парсонс?
– Могут, сэр. Просто это не совсем обычное лекарство, сэр. Вы знаете.
Врач говорил, словно листы старой бумаги нарезая: сухо, монотонно.
– Знаю, знаю конечно, – гранд-губернатор взглянул на город за окном – серебряные пики миражами искрились в солнечном свете. Прошептал: – Кости его – серебро, плоть – золото, волосы – подлинный лазурит….
– Именно, сэр. Приятно аппетита, сэр.
Гранд-губернатор тут же приободрился – разом схватил и ложку, и хлеб с маслом. Мгновенно передумал. Отложил бутерброд, сделал глоток кофе, сладко причмокнул и снова устроил рокировку.
– Прошу прощения, сэр, – Парсонс специально отошел на пару шагов, и только потом заговорил. – Но вас ждут, сэр.
– И кого в такую рань принесло в приемную? – с усердием пережевывая бутерброд, уточнил гранд-губернатор.
– Не в приемную, сэр. В кабинет.
– А, – челюсти замерли. – Это он.
– Да, сэр. Это он. И я ничего не видел, сэр – как обычно.
– Сет побери, сегодня даже не дают нормально позавтракать…
Гранд-губернатор засуетился, спешно запихивая в рот остатки бутерброда и делая огромный глоток кофе – часть его пролилась, запачкав салфетку. Устроив во рту алхимическую лабораторию, гранд-губернатор накинул черный пиджак с вышитым на спине золотым скарабеем поверх домашней рубашки и, ловя кусочки своего отражения в высоких окнах, заспешил в кабинет.
Солнечный свет не пробивался через плотные, как следует задернутые шторы. Кабинет освещала только одиноко горевшая на столе свечка – какой архаизм! – да и та бросала лишь тусклые отблески на бумаги и хрустальный графин с водой. Глубины кабинета подчинились диктатуре теней, утонув в их чернильном мраке.
– Да у тебя прямо какой-то фетиш на темные комнаты, боги мои, – причмокнул Велимир, плотно закрывая дверь в кабинет. – И я напомню, что ты можешь подниматься по парадной лестнице, если что.
– Мне так спокойней, – ответила фигура в тенях.
– Ну как скажешь, – гранд-губернатор нащупал на столе пачку папирос, закурил от свечи, затянулся. Закашлялся – это была его третья в жизни сигара. Уставился на гостя. – Ну ко мне-то ты зачем таскаешься в этой маске?..
– Мне так спокойней, – повторил гость и откинулся на спинку кресла – губернаторского, сам Велимир сидел на гостевом, пусть и обшитым бархатом, стуле.
– Саргон, давай ближе к делу, молю тебя.
Лицо Саргона скрывала маска – под камень, слегка поломанная, с бородой, словно уложенной зигзагами и двоящейся внизу. Велимир помнил, что как-то видел похожую – или эту же самую? – в музее, когда смотрел те рожки да ножки, что вытащили из окрестностей Ниневии, когда город, казавшийся просто старой байкой, наконец-то откопали.
Но гранд-губернатор слишком хорошо знал своего гостя, так что читал эмоции даже не видя лица, уставившись на маску, словно смазанную бликами пламени.
Саргон еле-слышно вздохнул.
– Ты слышал новости?
– Я не дурак читать их по утрам…
Гость пересказал: о том, как горела «Нефертити», о том, как видел это собственными глазами.
– Ну, что могу сказать, жалко, конечно, но не мне с этим разбираться. Тем более, что-что, а проклятый опиум и Песок Сета я на дух не переношу – просто руки никак не дойдут с этим разобраться. Видишь, даже я пока собрал не полный букет грехов.
– Не дойдут, потому что слишком заняты? Эти руки трут другие? – Саргон улыбнулся одним лишь голосом.
– Ха-ха-ха, очень смешно. Трут твои в том числе, – гранд-губернатор откашлялся, отмахнувшись от густого терпкого дыма. – Ну, так и в чем проблема с этой «Нефертити»?
– Я видел, кто это сделал.
– Ну так тогда зачем ты пришел ко мне? Тебе прямая дорога в жандармерию! А, нет, забудь. Знаю, зачем – в жандармерию ты же не ногой. Справедливо, я бы на твоем месте тоже не совался.
Саргон рассмеялся. А вот гранд-губернатор, напротив, нахмурился. Прочистил горло:
– Да, ладно, прости, я что-то перегибаю палку, настроение хорошее и боги, эти яйца сегодня отлично сварили. Ну так вот, к нашим баранам – ты его видел, и? – Велимир замолчал. Повторил громче: – И? Кого – его?
– Он анубисат.
– А ты – заговорщик, – гранд-губернатор затушил папиросу, бросив окурок в серебряную пепельницу с лапами сфинкса. – Ой, тоже мне, удивил! Анубисаты – все ненормальные.
– Боги, Велимир, – Сарогн выпрямился, сосредоточив взгляд зеленых, почти малахитовых глаз на пламени свечи. – Ты хотя бы представляешь, как это нам на руку?
Гранд-губернатор отмахнулся.
– Не поверишь, но даже представить не мо… – гранд-губернатор резко замолчал, потом театрально чмокнул губами. Звук стальным шариком прокатился по комнате. – О. О… Но я думал, ты все просчитал!
– Пытаюсь облегчить нам жизнь.
– Уверен, что игра стоит свеч?
– Она всегда их стоила. С самого начала. Я поговорю с ним… Найду и поговорю, ты же знаешь, я умею убеждать.
– Что правда, то правда. Особенно, когда ты без маски.
– Настоящего меня нет без маски, Велимир.
– Так уверен? – хмыкнул гранд-губернатор.
– Абсолютно.
Велимир рассмеялся, послюнявил пальцы и потушил свечу. Кабинет погрузился в полнейший мрак. Стул скрипнул, гранд-губернатор встал.
– Не говорю тебе прощай, а говорю лишь – до свиданья! – пропел Велимир. Зашагал к двери, остановился: – Думаешь, он действительно нам поможет?
– Я предпочитаю держать в руках несколько ключей от одной двери на случай, если один из них потеряется.
– Или если его украдут.
– Или если украдут. В любом случае, Велимир, лишним не будет. Лишним не будет…
– Скорей бы уже. Мне одно Сердце Анубиса все нервы изведет – как бы оно ни входило в наши планы. Да уже извело!
Гранд-губернатор вышел из кабинета, поплотней захлопнув дверь – тут же прищурился от света, теперь, казалось, болезненно яркого. Да уж, подумал Велимир, все чудесатее и чудесатее, сложнее и сложнее. Ему нравились хитроумные замыслы, но только на бумаге, и желательно – в исполнении литературных героев, на крайний случай – слуг. Мастер-кукловод из него такой, что в собственных нитках запутается. Велимир это знал и рисковать не собирался.
Когда глаза привыкли к свету, гранд-губернатор обнаружил, что Парсонс уже стоит рядом с серебряным подносом в руках – на этот раз, хвала богам, там была чашка горячего кофе, а не лекарство с пищевым серебром.
– Знаешь что, Парсонс? – Велимир отхлебнул кофе.
– Да, сэр?
– Трудно быть богом. А становиться – еще труднее.
Чашка кофе всегда казалась Виктору Говорухину чудесным лекарством, и организм волшебным образом принимал это фикцию за чистейшую правду. Кофе с молоком, в идеале капучино, спасал жандарма от головной боли, ломоты в костях, спинных спазмов, раздражительности или просто плохого настроения. А если еще с сахаром и сушеными ароматными травами-добавками – то цены такому напитку не было.
Сейчас цены чашки кофе тоже не оказалось – не только потому, что напиток хоть как-то сгладил отвратительный день. Кофе достался Виктору бесплатно.
Жандарм очень вовремя ввалился к цирюльнику, тут же решив вопросы с клиентом и приведя Алексаса Оссмия в себя терпким нашатырем – уже так привык к подобным ситуациям, что действовал на автомате. Когда Алексас пришел в себя, вахмистр Говорухин вздохнул и безобидно, но достаточно едко поддел его. Цирюльник только улыбнулся, добежал до грязной кухоньки, одной на все верхние этажи дома, и сварил кофе – напиток для живших выше третьего этажа экзотический, но только в этом доме. Алексас старался.
Вахмистр Говорухин вообще свалился на голову Алексаса Оссмия не то что бы как снег на голову, а как наковальня – неожиданно, резко разделив жизнь на до и после. Однажды цирюльник, прогуливающийся по оживленному центру города, застал кражу. Даже не успев ничего сообразить, через несколько минут уже сам оказался в полицейском отделении, в качестве одновременно свидетеля и понятого. Дело не стоило и выеденного яйца, имущество вернули, воришку – арестовали. История сама по себе банальная и, при других обстоятельствах, не ведущая ни к чему интересному – только к подписи в протоколе и другой вытекающей нескончаемой бюрократии. Да вот только Алексас очутился в отделении именно в тот момент, когда там дежурил вахмистр Говорухин. Совершенно неожиданно эти двое заболтались, хотя цирюльник никогда не считал себя особо разговорчивым вот так, на пустом месте. А дальше – прямо-таки срослись, явив миру пример человеческого симбиоза. Виктор Говорухин годился Алексасу в дедушки, но в этом-то и таился особый шарм – отношения стали не то чтобы дружескими, скорее семейными. Хотя сам жандарм бранился каждый раз, когда кто-либо хотя бы заикался о его возрасте, точнее – о том, что возраст этот, мягко говоря, далек от понятия «первой свежести». И о пенсии Говорухин даже думать не мог. Начальство, как обычно, было иного мнения. Пока Виктор упорно отстаивал свое – что-то, а упираться умел с редким мастерством.
– Нет, дорогой, ну ты представляешь, они уже написали об этом в газете! И прямо на первой полосе, да так, что новость про треклятое Сердце Анубиса теряется напрочь. Тоже мне, нашли сенсацию! – сделав еще глоток кофе, Виктор кинул выпуск «Северной пчелы» на журнальный столик. – Сет бы побрал этого Булгарина, вечно гонится за сенсациями, голимый проходимец… Толку – ноль! Только больше шуму. Какой-то жалкий притон в трущобах Петербурга, а он из пчелы раздувает слона.
– Ну, – возразил Алексас, пряча бритву в ящичек и наводя порядок, – это его работа – делать сенсации.
– Его работа – делать новости.
– Готов поспорить, он так не считает, – хмыкнул Алексас.
Говорухин принес два выпуска газеты, так что свой недавний информационный пробел цирюльник восполнил даже сверх необходимого, успев присвистнуть от количества рекламы – с каждым годом ее становилось все больше и больше. Алексас посмотрелся в зеркало, поправил светлые, соломенные, а на солнце чуть ли не золотые, будто вышедшие из сказки про Румпельштильцхена, волосы. Они не вились крутыми кудрями – забавными локонами-серпантинами свисали до висков. Цирюльник откинул прядь с правого глаза – вокруг него красовалось черная татуировка Ока Гора или же Уаджет, символа, популярного еще до возвращения богов Египта. Теперь же, с приходом старых магических формул и ритуальных практик, имевших реальное воздействие на окружающий мир, поменялась и медицина. Татуировки Ока Гора вокруг глаз делали тем, у кого падало зрение. Оно становилось даже острее обычного – так что очки носили в основном исключительно для имиджа.
– Да не разберешься, что у этого жука вообще в голове, – возобновил беседу жандарм. – И я понимаю еще, если бы у Богомазовых было темное прошлое, или они состояли в тайном обществе заговорщиков – обычные пижоны, да еще, похоже, консервативные. Ты представь, опиум! Опиум, которым обычно травятся бедняки, просто потому что Песок Сета им не по карману!
Виктор резко и громко шмыгнул носом. Усы его дернулись, как пшеничные колоски на сильном ветру.
Допив чашку кофе, вахмистр продолжил.
– Но лица, Алексас, их лица… – его передернуло. – Застывшие в смеси полнейшего кайфа и предсмертного ужаса… жуть. Нет, ничего страшнее не видел в жизни. Точнее, вру, дорогой – видел двадцать лет назад, и вот точно же такие: застывшие маской мучительной, но блаженной, желанной смерти. Ума не приложу, кому пришло в голову поджигать «Нефертити».
– Может, несчастный случай? – предположил Алексас, мысленно отмахнувшись от образа мертвой четы в голове. Говорухин уже второй раз рефлексировал, рассказывая о случившемся.
– Скорее всего, так и решат. Официально. Копаться в этом никто не будет.
– Даже ты?
– Даже я, дорогой! Сам знаешь – с удовольствием бы. Но! Во-первых, они и так все ищут повод, чтобы отправить меня на пенсию. Во-вторых – мне просто не за что зацепиться.
Виктор Говорухин был тем самым жандармом, который слишком часто читает заграничные приключенческие и детективные романы, постоянно сетуя, что на жизнь они ни капли не похожи. Из чего, по логике Виктора, следует вывод: надо прибавить сходства своими силами.
– Впрочем, давай о насущном, – жандарм резко переключил тему. – Я смотрю, ты все еще валишься в обморок от вида крови. Я, увы, не твой дух-хранитель, хоть постоянно и таскаю с собой скляночку нашатыря. Может, сходишь к врачу? Не обязательно… использовать традиционную медицину. У меня тут есть один знакомый китаец – дикий невежда, на самом деле, но мужик неплохой. Так и не принял богов Египта, да не гневайся на него Ра, но, опять же, в целом…
Алексас закрутил в руках золотистый медальон в форме крылатого скарабея с рубиновым солнечным диском в лапках – подарок на совершеннолетие от старой тетушки-графини, единственной его родственницы. Родители жили где-то далеко, Алексас уже сам не помнил, где: то ли в Лондоне, то ли в Париже. И все бы ничего, только вот они уехали, когда будущему цирюльнику исполнилось годика два, оставив того на воспитание старой тетушки-графини и с тех пор не отправив ни одного письма. Алексас бы подумал, что родители, может, уже и умерли давно, не знай он о них по рассказам тетушки. Тут как пить дать становилось ясно – смерть, несмотря на все райские прикрасы загробных Полей Тростника, они к себе подпустят лишь на расстояние пушечного выстрела. Жизнь – слишком вредная привычка, объясняла тетушка. Особенно для тех, кого на суде Осириса не спасут даже самые сильные магические амулеты.
Сейчас, в свои двадцать пять, Алексас не особо жаловался на судьбу – наоборот, цирюльнику казалось, что больше самостоятельности – больше красок в жизни. Он даже шутил, что его история тянет на банальный, но все же сюжет: простой и очень человечный, без излишнего героизма. Впрочем, в этим моменты обычно брыкался вахмистр Говорухин, говоря, что из такой фабулы каши хорошего приключения не сваришь.
– После Пасхи, – сказал цирюльник, – займусь. Но точно после Пасхи.
Алексас Оссмий вновь покрутил медальон. Признался себе, не в первый раз за последние дни: у него, как и того безымянного китайца, в последнее время возникли проблемы с верой.
Но ни это, ни что-либо другое Алексас сказать жандарму не успел. Гармония из птичьего пения, легкого сладковатого аромата лавандового кофе и солнечного света, с хитрым прищуром скользившего по мебели и кувыркавшегося в зеркале, нарушилась оглушительным взрывом. За окном, будто молния в ночном небе, что-то ярко вспыхнуло.
Виктор чуть не подскочил.
– Началось в Египте утро, – пробубнил жандарм, хватая с журнального столика синюю кожаную фуражку с крестном-анкхом.
– Мне очень глупо предполагать, что это фейерверк, да? За дни до праздника?
– Ага, – хмыкнул Говорухин, подбегая к двери на черную лестницу. – Только если кто-то решил насладиться искрами из глаз.
Алексас вздохнул. Ну, обрадовался он, хотя бы тему о сомнительных врачах на время можно будет закрыть. Всегда искал хорошее даже в самых паршивых ситуациях.
Тени щекотали его сознание, убаюкивая, как младенца, хотя ощущения накалялись до предела: чувства становились острыми, как лезвие бритвы, тугими, как вибрирующие гитарные струны. Он не закрывал глаза. Какой смысл? Все равно различимы лишь безудержные оттенки черного, такие… успокаивающие.
Ему надо было думать. Всегда. Каждый раз после того, как он действовал – чтобы перед глазами вновь возникли этапы плана… или, точнее, этапы идеи, которую он пытался облечь в план, будто снова и снова наряжая манекен новым платьем короля. Пусть в основном и действовал по наитию. К тому же, после огненно-рыжих языков лохматого пламени, темнота становилась еще более успокаивающей, чем обычно.
А еще, темнота всегда напоминала ему о смерти.
Это было куда важнее всего остального.
Он потер руку – ладонь прошлась по слегка вздутым венам. Его спокойное, умиротворенное дыхание тонуло в черном омуте теней и отблесках редкого, наглого света, осмелившегося тайком проникнуть сюда; проникнуть через плотные шторы, через запертые двери, задернутые плотной тканью, прикрывающей щели. В такт дыхания перед глазами стали возникать уже совершенные действия – пока малочисленные, – принимая форму будто бы огненных отпечатков на выжженой земле. А ведь столько еще нужно сделать…
И тут темнота взорвалась дисгармонией, будто бы вспышкой фотокамеры. Невидимой, ударившей не по зрачкам, а по всем ощущением разом, нарушившей порядок вещей, установленный за многие тысячи лет до настоящего момента, еще теми, страшными, косматыми первобытными тенями, пугавшими предков у костра. Тенями, не боявшимися даже самого яростного пламени.
Он услышал голос. Голос, который никак не мог звучать здесь, в его личном медитативном мраке.
Чужой голос.
Догадаться о том, что на этом месте еще несколько часов, да даже минут назад, с гордо поднятой головой стояло вполне неплохое похоронное бюро «Золото Египта», можно было двумя способами: либо оказавшись постоянным клиентом этого заведения, либо случайно заметив чудом уцелевшую табличку, сорванную взрывом.
Остатки здания полыхали. На мостовой валялись осколки выбитых стекол, витрин, части гробов-саркофагов «на показ» и фрагменты расколотых фигурок-ушебти – мощных магических предметов, которые в загробной жизни становятся слугами усопшего и работают за него. С возвращением богов Египта похоронные конторки типа «Золота Египта» стали безумно популярны, ведь если реальны боги и магия, то обещанное посмертие – тем более.
А значит, жизнь действительно вечна.
Так что люди тут же устремились туда, в вечность – смерть стала бичом эпохи, ориентиром, ведущим человечество вперед. Раз блаженная загробная жизнь реальна, к чему еще стремится? Отгулять эту жизнь на полную катушку, держа себя в рамках приличия, а потом рвануть в следующую, вечную жизнь, уже будучи готовым к ней по всем правилам. Если же палку жизни земной все же случалось перегнуть сильнее допустимого – так, что на посмертном суде Осириса сердце умершего оказалось бы нечистым, – то в ход шли магические амулеты, заговоры и тексты «Амдуат», «Книги врат» и «Книги мертвых»[2]. Последнюю уже несколько лет настойчиво намеревались переименовать в «Книгу вхождения в рассвет», или «Книгу входа в новый день», чтобы сохранить древнюю аутентичность. Говорят, хотели даже организовать международный конкурс на лучшую поэтическую адаптацию, но до сих пор не решались, тянули.
Смерть действительно стала для людей новым рассветом.
Традиции древнего Египта вернулись: дети, да и взрослые тоже, радовались, получая на день рождения те самые ушебти – товар оказался ходовым, не то слово. Саркофаг – на любой вкус, цвет и кошелек – тоже могли вручить на праздник, но тут обычно ждали особого повода: свадьбы или юбилея, но ни в коем случае не кончины. Мудрость эпохи – готовиться ко всему заранее. Делать впритык – дурной тон любого века. Как минимум для самого умершего, не соизволившего достойно подготовиться к жизни вечной. Как говорили в светских кругах, хочешь жить после смерти – умей вертеться.
Вахмистр Говорухин гаркнул на зевак, окруживших «Золото Египта». Те, неохотно, но все же расступились – самые смелые чуть ли не в пламя залезали, а дети подбирали осколки ушебти, чтобы добро не пропадало.
Алексас, размеренно шагавший позади Виктора, присвистнул. Следом, словно заранее отрепетировав, жандарм засвистел в пожарный свисток. Бессмысленно – трудно не услышать такой взрыв, а потом не разглядеть такое пламя, тем более – совсем недалеко от центра города.
Порыв холодного ветра со стороны Екатерининского Канала исказил пламя, придав загадочности и без того причудливому танцу огня.
– Так, – повысил голос Виктор Говорухин. – Кто-нибудь расскажет, что здесь случилось?! Или все прибежали только потом, поживиться и посмотреть?!
– Господин жандарм, оно ка-а-ак рвануло! – замахал руками мальчишка, как раз закончив набивать карманы осколками ушебти. – А потом ка-а-ак полыхнуло!
– Я заметил, дорогой – закатил глаза Виктор. – Еще какие-нибудь наблюдения? Менее очевидные?
Говорухин всегда сперва полагался на окружающих – перекладывал работу на их плечи, у них-то глаза не так замылены. А там уже оставалось отделить зерна от плевел, ухватиться за нужную ниточку и тянуть, пока клубок загадки – а ему хотелось верить, что во всем творившемся есть некая хитроумная загадка – не распутается.
– Господин жандарм, – подала голос заплаканная девушка. – До того, до того… до того, как оно рвануло, оттуда выбежал мужчина! Я не видела его лица, господин, но зато разглядела руки. Боги, руки, храни нас Ра! Их трудно не заметить даже в такой суматохе! Мне кажется, это был… анубисат, господин жандарм.
– Так, – отрезал Виктор, потерев усы. – А вот это уже интересно… Тянет на… эй, Алексас, не сейчас!
Виктор все же обернулся – цирюльник методично дергал жандарма за рукав.
– Люди, Виктор, – только и проговорил Алексас Оссмий, смотря в сторону канала.
– Что – люди?
– Там люди. По-моему, им нужна помощь.
– Да где там? Во имя Ра, Алексас, ты можешь показать нормально!
Цирюльник глубоко вдохнул и обернулся – лицом к пламени. В двух шагах от бывшего «Золото Египта» мужчины помогали вставать раненым – тех, кого задело осколками; лица и руки запачканы в крови
– О Сет… – пробубнил вахмистр Говорухин и, будто переключив скорость на коробке передач, подался назад, подхватывая падающего в обморок Алексаса. – Боги, так, а ну-ка приходи в себя, дорогой, теперь я понял, почему ты не хотел поворачиваться. И я ведь даже за нашатырем не смогу в карман залезть, пока держу тебя вот так…
– Все в п-рядке, – пролепетал цирюльник. – Я сейчас смогу… пойду и помогу им.
– Куда тебе! Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа… Я тебя с того света доставать не собираюсь! Мои полномочия и без того ограничены. Хотя, чего это я – кто вообще нынче просит вытаскивать с того света? Глупость какая. Все туда хотят. Так, ладно, не об этом…
В этот момент за спинами Алексаса и Виктора поднялся странный шум – обернувшись, они увидели бы, как сверху на остатки похоронного бюро выливается поток воды, с грохотом разбиваясь о брусчатку. На мгновение солнце накрыла странная тень, на поверку оказавшаяся лишь дирижаблем – одним из нескольких городских, пожарных. После явления богов Египта дирижабли вообще стали ходовым средством передвижения между далекими городами и странами, главное – уследить за расписанием. Первый эксперимент Анри Жиффара с треском провалился – паровой двигатель не дал дирижаблю продержаться в воздухе достаточно долго, даже несмотря на специально уведенную вниз дымовую трубу и самый миниатюрный из всех существовавших двигатель. И кто знает, насколько бы заглох проект, если бы не вернулись боги старого Египта. Инженер не опустил руки. Продолжил работу в новых реалиях. Выяснил, что магические символы, которыми теперь украшали заполненные гелием «сигары», действительно улучшают аэродинамику, делают махину и быстрее, и безопаснее. Оставалось только проконсультироваться со жрецами-священниками, улучшить паровой двигатель и грамотно нанести необходимые символы… День ото дня популярность дирижаблей только росла. И, конечно, городские службы – жандармерия, медики, пожарные, – тоже положили глаз на этот вид транспорта. Конечно, держать такие махины над небом одного лишь Санкт-Петербурга – затратно и непродуктивно. Виктор помнил, как ругалось его начальство после срочного совещания, на котором делили бюджет между городскими службами – в итоге, два дирижабля достались только пожарным. Как раз для таких, экстренных случаев.
Минуты спустя прибыла и обычная пожарная бригада – в отличие от жандармов, в бежевых кожаных куртках с черным Оком Гора на спине. Лошади, тянувшие телегу с бочкой и шлангами, остановились. Пожарным оставалось лишь затушить умирающее пламя, норовившее перескочить на соседние здания.
– Слушай, а ведь из этого действительно может выйти что-нибудь интересное! Если это и вправду анубисат, то… – Виктор сморщился, не в силах вытереть брызги с лица – все еще поддерживал приходящего в себя цирюльника. Тот старался не оборачиваться и смотрел на успокаивающую водную гладь, мерцавшую то непостижимым лазурно-синим, то сверкающим изумрудно-зеленым.
– Все упирается в если бы да кабы.
– Вся моя работа – сплошное если бы да кабы! – вахмистр Говорухин резко надел маску обреченности. – А, хотя, все равно мне не дадут ничего сделать. Скажут, что это такое вот совпадение – и спишут на что-нибудь банальное, да и виновного найдут…
– Вот поэтому я бы уже давно прикрыл вашу контору, – раздался третий голос. – Доброго вам денечка.
– Я бы прикрыл твой рот, дорогой, если честно, – огрызнулся вахмистр Говорухин.
Алексас, даже глаз не поднимая, моментально узнал говорившего. Ну, подумал цирюльник, конечно, боги – те еще шутники, поиздеваются над тобой при любом подвернувшемся случае. Хотя бы таким образом – столкнув с человеком, которого терпеть не можешь.
– Невероятно доброго, ага, – отозвался цирюльник, пересилив себя и подняв глаза.
Фармацевт Лука Лицедеев улыбался во все, казалось, шестьдесят четыре зуба – откуда он достал лишние, выяснять не было желания.
Лука Лицедеев заведовал аптекой в том же доходном доме, где жил и работал Алексас Оссмий – только на первом этаже. Что само по себе было странно. Обычно и работали, и жили в одном месте, а вот фармацевт почему-то жил в другом доме, списывая на то, что там, как он говорил, «куда лучше дышится». Да и в целом, добавлял Лука, без «того непропорционального цирюльника» жить легче, как камень с души.
Сама по себе идея держать аптеку прямо под каморкой Алексаса – с парадного входа, а не с черной лестницы, как в случае второго – казалось прекрасной в плане прибыли. Цирюльники лечили, пускали кровь, занимались зубами – все, кроме Алексаса. Он, в меру особенностей своего организма, этого, естественно, не делал – к нему ходили только бриться. Так что суровое бремя подлечить-подлатать— выдать нужный крем брал на себя Лука Лицедеев.
Они, в сущности, были как Шерлок Холмс и профессор Мориарти – два заклятых врага, которые рано или поздно должны сойтись у подножья Рейхенбахского водопада, иначе быть не может. Только если в случае вторых мотивы великой конфронтации были четки, адекватны и понятны читателям любого сорта, Алексас и Лука сошлись в вечной борьбе по той единственной причине, по которой могут сойтись два вполне себе привлекательных молодых человека.
Они не поделили девушку.
Казалось бы, делов-то, проблема ведь решается весьма просто, без особых потерь. Но именно из-за таких дилемм обычно рушатся империи – тридцать три несчастья Трои тоже начались из-за прекрасной Елены, которую бравые герои так и не сумели поделить.
В случае цирюльника и фармацевта ситуация, конечно, складывалась не столь размашистая. Эпос о ней не напишешь, оправдательную речь о предмете конфликта – то бишь о прекрасной даме – тоже. Но плоды свои конфронтация давно принесла.
Пожинали их оба – Алексас да Лука – сполна.
– Вы, смотрю, никуда не торопитесь? – хмыкнул Лицедеев, пригладив каштановую бородку-клинышек. – Хотя, чему я удивляюсь! Память у тебя, Алексас, как у рыбки. О, нет, прости, рыбы заслуживают куда большего уважения.
Алексас умел держать себя в руках – в таких ситуациях, правда, приходилось рьяно напоминать себе, что он действительно умеет держать себя в руках. Кулак невольно сжался.
– Во имя Ра и Осириса, – цирюльник прикрыл глаза. – Можно хоть раз по-человечески?
– Можно, но не тебе, Алексас. Тяжело нормально общаться с теми, кто крадет чужих невест, – фармацевт достал карманные часы на золотистой цепочке, щелкнул крышечкой и сверился со временем. – Впрочем, как я и говорил. Скоро начнется служба.
– Сет побери! – чуть ли не подпрыгнул на месте Алексас, тут же сверившись со своими часами. – Ана!
– Вот-вот, – вновь хмыкнул Лука. – Заметь, даже я помню об этом. Я, которому больше ничего не светит. Это ли не лучший показатель того, что ты все же несправедливо занял мое место?
Слово «несправедливо» фармацевт подчеркнул особенно, словно жирной карандашной линией.
– Хорошего тебя дня, – только и кинул в ответ Алексас. Молниеносно попрощавшись с Виктором, убежал, чуть не наткнувшись на бригаду медиков. До последнего старался не смотреть в сторону раненых – сейчас было самое неподходящее время для обмороков.
– Не знаю, что у вас здесь сейчас произошло, – заключил жандарм, когда Алексас стал фигуркой вдалеке, – но у меня руки так и чешутся дать тебе в морду, дорогой. Просто повезло, что я при исполнении.
– Да уж, действительно, большая удача, – фармацевт покрутил часы в руках и снова спрятал в карман бежевой жилетки. – Он не маленький ребенок. Вы не сможете быть рядом с ним вечно. Только если не подохнете в один день. Впрочем, хорошего вам денечка! И расследования, само собой – или его замятия. В следующий раз, кстати, загляните в мою аптеку – все равно постоянно бегаете к Алексасу, как мальчик-лакей.
– Хочешь травануть меня, да, дорогой?
– Что вы! – Лука театрально подался назад, замахав руками. Каштановые волосы, собранные в конский хвост, поддались воле ветра со стороны канала и пошли легкой рябью – резинка затянута не слишком туго. – Просто найду вам таблетки от старческого слабоумия.
Нет, подумал вахмистр Говорухин, глядя вслед Луке Лицедееву, вразвалочку шагавшему прочь, точно когда-нибудь надо будет набить ему морду. Но потом, когда все решится – потому что сейчас вырисовывался чересчур интересный пазл.
– Такс, – прошептал Виктор, повернувшись к бывшему «Золоту Египта», вокруг которого все еще кипела жизнь. – Значит, говорите, анубисат. Анубисат…
Темнота будто покусывала его губы; впивалась колючками мерзкого репейника и обжигала муравьиным ядом. Голос, совершенно невозможный в этом месте – просто потому, что чужой, – разворошил тени, нарушил гармонию.
– Чего ты хочешь? – спросил голос до того, как тьма зашевелилась.
Он хотел молчать. Хотел игнорировать, не замечать, не поворачиваться. Но все же обернулся – и в густой тьме различил лишь колыхающийся силуэт собеседника, невесть откуда здесь взявшегося, а еще – блики наглых песчинок света, все же просочившихся сюда. Блики на маске с длинной бородой, раздвоенной книзу змеиным языком и словно бы испещренной зигзагами.
– Это имеет значение? – прошептал он в ответ.
Незнакомец усмехнулся.
– Иначе я бы не нашел тебя. И не пришел к тебе сам. Обычно все происходит равно наоборот.
Ему не хотелось продолжать беседу. Но давно потерянный, похороненный под тонной мыслей и сомнений инстинкт подсказывал, что начатый разговор ведет к много большему – как длинный фитиль к пороховой бочке.
– Смерть, – только и сказал он. Тени насторожились. Он будто бы распробовал сказанное слово, повторив: – Смерть. Я хочу, чтобы они перестали думать о смерти.
Незнакомец в маске рассмеялся – раскатисто, но приглушенно, как далекий гром среди пока что ясного неба.
– Так вот оно что. Понятно, – незнакомец цокнул. – Тогда это просто отлично. То, что нужно.
Он не стал задавать встречных вопросов. Сам не понял, как, но увидел ухмылку незнакомца сквозь завесу теней и даже маску.
– Что же, в этом плане… Мы можем быть друг другу очень полезны. Предвосхищая возможные вопросы – у наших интересов есть точки соприкосновения.
– И в чем же наши интересы?
– Всему свое время, – незнакомец повернул голову. – Я, и те, кто со мной, могут облегчить тебе жизнь. Упростить то, что ты обдумываешь здесь, во маке. То, к чему уже приступил – как красиво оно горело!
– Мне тяжело поверить, – он потер набухшие вены на правой руке, – что тот, кто живет в ожидании, во власти смерти, может хотя бы просто понять меня. Даже попытаться.
Незнакомец снова рассмеялся.
– Знаешь… то, во что я верю, в отличие от всех остальных, как раз прекрасно вписывается в твои… идеи. Позволяет смотреть куда дальше своего носа. В моей картине мира смерть – последнее, о чем ты станешь думать. Жуткое место… Моя вера дает мне знания, недоступные другим – впрочем, это уже нюансы. Так, мелочи, но мелочи невероятно полезные. Как там нынче говорят? Сет в деталях?
– И почему же ваши желания пересекаются с моими? Уж расскажите, раз пришли. Не верю, что просто так. Подразнить.
Незнакомец молчал. Он не видел, но чувствовал его ухмылку.
– Скажем так… Мы хотим воплотить нашу картину мира в жизнь. Так, чтобы другие не смогли избежать этого. И если нам удастся – поверьте, людям точно станет не до смерти. Голодная и холодная бездна для всех и каждого… вместо блаженных Полей Тростника. Звучит не так привлекательно, не думаешь?
Он задумался. Это звучало слишком правильно – слишком органично, чтобы вписаться в его желания. Но, думал он, давно стало понятно, что на пути к его личной цели – все средства хороши, так почему бы не воспользоваться еще и этим?
Чтобы все они перестали жить в плену смерти – ничего не жалко. И никого не жалко.
– Допустим, – прошептал он, – мы договорились.
Он опять увидел, не видя при этом ровным счетом ничего, как незнакомец улыбнулся.
– Прекрасно. Мне нужно будет обсудить этот вопрос с… даже не знаю, как сказать. Пусть будет – с единомышленниками. Не переживай, я сам найду тебя, а пока – делай, что знаешь, и, как там говорят? Будь что будет. Тем более, действия твои не особо изменятся. Я имею в виду, потом. Просто станут куда проще и… масштабней.
– Кто вы такой?
– Зови меня, как все остальные – Саргон. Просто Саргон. Точнее – пока просто Саргон. А ты представишься?
Он помолчал. Тени на губах стали сладковатыми на вкус, будто черничное варенье – всегда любил его, густое, бездонно-черное, как космические своды подземного мира Дуата… Только потом, избавившись от мимолетного наваждения, сказал:
– Алистер Пламень. Меня зовут Алистер Пламень.
Солнце светило так непривычно ярко, что на безоблачном и голубом, будто атласная лента, небе, казалось пятном лимонного сока, пролившегося из ненароком опрокинутого на скатерть стакана. Весенний ветер нес тепло и непомерную свежесть, разбавленную, будто горьким тоником, морским воздухом – таким явственным и плотным, что соль, казалось, оседала на губах.
Гранд-губернатор, прищурившись, поправил темные очки с зеленоватыми стеклами – причмокнул, ощущая ту самую фантомную соль на губах. Велимир стоял на крыше Зимнего Дворца, пока вокруг суетился народ, и разглядывал то далекие деревья, слишком рано позеленевшие в этом году, будто бы специально к Пасхе, то соседние серебряные шпили на крышах домов. Забавно, думал гранд-губернатор, он ведь помнит, как несколько лет назад лично приказывал установить последние. Сам до конца не понимал, зачем, но указ сверху есть указ сверху: серебро то ли притягивало магические потоки, не давая дирижаблям упасть, то ли богам так было проще контактировать со жрецами. А может все сразу – гранд-губернатор в подробности не вдавался.
Зато Велимир знал, какую роль может сыграть серебро. Слишком хорошо знал.
– Кости его – серебро, – подумал гранд-губернатор и тут же нервно дернулся. Во рту причудился вкус отвратительной настойки, которой поил его Парсонс. Гранд-губернатору так часто хотелось прекратить принимать эту гадость, но поделать он ничего не мог: сам захотел – теперь терпи.
– Сэр? – врач в темно-зеленом фраке словно по волшебству возник за спиной Велимира. – Не отвлекаю, сэр?
– Ну как тебе сказать, – буркнул гранд-губернатор.
– Время принимать лекарство, сэр.
– О боги, – взмолился Велимир, снимая темные очки и пряча в карман пиджака. – И почему оно не может быть вкуснее…
Гранд-губернатор шагнул от края крыши. Точнее, сначала шаг сделал запах: приторный, пенящий сознание аромат кокосовых духов, которыми Велимир душился так активно, что сам будто бы становился сгустком этого парфюма, тенью, сотканной из запаха. Аромат духов выдавал гранд-губернатора за версту, так что чиновники всегда успевали подготовиться перед появлением Велимира, обычно – за последнюю минуту.
Но это – не просто пижонская причуда. В едком парфюме тоже был смысл. Смысл важный, даже… критический.
Как и в настойке.
Схватив с подноса – тот, как всегда, покоился в правой руке Парсонса – граненый стакан, Велимир залпом выпил микстуру-настойку, поморщился, потом как следует проморгался и оглядел крышу Зимнего Дворца.
– Ладно, – подумал он. – Хоть тут почти закончили…
Практически все вокруг: самые видные горожане, купцы, кучеры, священники, мальчишки-газетчики и даже сам император (да будет он жив, здоров и могуч!) сошлись на том, что пребывание Сердца Анубиса стоит обеспечить с иголочки – помпезно, необычно.
Роскошному экспонату – роскошные условия.
Велимир, даже если захотел бы спорить, не стал бы. Куда уж там! Но он и не хотел, тоже считал, что здесь – идеальная локация. Тем более, одно дело, если бы идея использовать крышу для такого рода мероприятий пришла в голову ему впервые – возни было бы невпроворот, не суматоха, а сущий ужас. Но еще двадцать лет назад, когда боги Египта явили себя, об этом позаботились – все-таки, думал Велимир, хорошо, когда предшественники думают о потомках. Ради того, чтобы хотя бы номинально стать ближе к богам, тут провели торжество по случаю коронации нового императора. И тут же планировали отметить тридцатилетие его правления, когда император Александр II (да будет он жив, здоров и могуч!) установит обелиск на Дворцовой Площади. Дань уважения древней традиции фараонов, празднику Хеб-сед.
В подготовке к грядущему мероприятию оставалась одно-единственное: обставить все с иголочки.
Пока – удивительно, поражался Велимир – все шло как по маслу, даже не думало идти наперекосяк. Так что гранд-губернатор, отправив Парсонса принести выпить – на этот раз отнюдь не микстуры – с легкой душой вновь надел темные очки, уставившись на Санкт-Петербург, раскинувшийся со всех сторон.
Велимир усмехнулся: а ведь всего этого могло бы и не произойти. И чем бы тогда кормились газетчики? Сердце Анубиса спокойно бы хранилось под охраной в Париже…
Гранд-губернатор гордился собой – это ведь он потребовал личной аудиенции у императора, когда все впервые пошло наперекосяк. Какие-то проблемы, дипломатические скандалы – все как обычно, невовремя, и из-за какой-то дурацкой ругани. Из-за чересчур обжигающих слов, сказанных не в том месте и не в то время: нахамили послу, а получили – международный скандал. Велимир помнил, как запереживал Саргон, когда поползли порочные слухи: парижская делегация не прибудет в среброглавый Санкт-Петербург. Впервые за все время гранд-губернатор заметил сомнение и растерянность в зеленых глазах Сарогна – тот понимал, что не в его власти надавить на императора; что в маске, что без. И тут свою роль отыграл Велимир – помнил, как разговаривал с Александром, как придумал весьма убедительные доводы об укреплении веры народа, об уменьшении намеренных смертей. А память императора – да будет он жив, здоров и могуч! – в этом вопросе была еще слишком свежа. В минуты, проведенные в присутствии государя, Велимир ощущал себя античным оратором, с жаром доказывающим свою позицию и прибегая для этого ко всем возможным уловкам, выстраивая невозможные софистические цепочки. Гранд-губернатор видел, как меняется лицо Александра II – от холодного и безучастного, словно мраморного, до понимающего. Ответом гранд-губернатору в тот день сперва стал кивок, потом – сказанные уверенным голом слова, а дальше – подписанные бумаги и реальные действия.
Да, Велимир был доволен собой. Особенно, когда получил подтверждение, что Сердце Анубиса все же доставят в город, что император (да будет он жив, здоров и могуч!) послал личное письмо с извинениями оскорбленному послу, а в довесок – чудесную табакерку из лучших ювелирных мастерских.
Гранд-губернатор прекрасно понимал свою роль в том, что они планировали. Не сопротивлялся – знал, что любая шестеренка должна крутиться в штатном режиме. До поры до времени.
Разве что, вдруг непонятно почему пронеслось в голове Велимира, ему не отведено никакой иной роли.
Гранд-губернатор вдохнул пьянящего весеннего воздуха – опять ощутил привкус соли на губах. Так, подумал Велимир, и захмелеть недолго.
– Велимир, – вдруг позвал его голос прямо за спиной.
Гранд-губернатор подпрыгнул.
– Ради лучезарного Ра! Вы с Парсонсом что, сговорились?! Или одну школу оканчивали?!
Голос не ответил, но Велимир всей кожей чувствовал, как Саргон за его спиной улыбнулся.
– Ты не боишься вызвать подозрений? – уточнил гранд-губернатор. – Мужик в странной маске и балахоне очень некстати выглядит вот прямо здесь и сейчас…
– За кого ты меня держишь? Я без маски и в обычной одежде, не переживай.
– Даже из любопытства поворачиваться не буду – уж кого-кого, а я тебя я видел во всех личинах.
– С каждым днем все чаще думаю, что это – большое упущение с моей стороны, – хмыкнул Саргон. – А вот Парсонс без маски не видел, и не стоит ему. Так что я скажу и уйду, а то твой врач чересчур уж шустрый. Я поговорил с ним.
– С кем? У меня, знаешь ли, голова и так трещит от забот, я тут вообще-то гранд-губернатриючу…
– Не хвастайся свой занятостью, – вздохнул Саргон. – В общем, с тем анубисатом. Из утренних новостей – точнее, его-то в новостях как раз не было, но ты понял. Как всегда, газетчики упускают самое важное. Ключевое, видимо, для всех нас.
– И?
– Мы пришли к некоему соглашению…
– Саргон?
Собеседник промолчал – молчанием этим дал понять, что услышал назревающий вопрос и готов ответить.
– Скажи мне честно, зачем тебе сдалось это Сердце Анубиса? С ним столько хлопот! А теперь еще этот треклятый анубисат… это все для эффектности? Для красоты? Ты скажи, я ведь тогда придумаю что-нибудь другое, куда менее…
– Когда собираешься открывать двери иного порядка, нужны соответствующие ключи, – пробубнил Саргон. – Я тебе, кажется, уже говорил утром. Но обсудим все ночью. Как обычно. Ты ведь помнишь?
– Забудешь о таком! Особенно, когда ради этого приходится пить эту мерзкую микстуру…
– Сам выбрал такой путь. В чем не могу тебя не поддержать.
– Сэр? – удивился подошедший мгновение спустя Парсонс, протягивая гранд-губернатору стакан. – Вы с кем-то говорили, сэр?
– О. Так, мысли вслух. Не обращай внимания, – Велимир всегда удивлялся умению Парсонса возникать из воздуха, а Саргона в этом воздухе растворятся.
Гранд-губернатор сделал глоток и выплюнул.
– Боги, Парсонс, что это за несусветная дрянь?!
– Охлажденный чай, сэр.
– Я же просил налить мне коньяку!
– Простите, сэр, но вам нельзя, сэр. После лекарства, сэр.
Сухое, смуглое лицо врача, как всегда, не выразило ни йоты эмоций.
– Ладно, проехали…
Гранд-губернатор поправил подолы черного пиджака с золотым скарабеем на спине – сам Велемир напоминал в нем огромного жука, – потом снял очки, протер глаза, подумал о ночной встрече и вновь взглянул на город.
Время шло, а он – приближался к цели.
– Кости его – серебро, плоть – золото, волосы – подлинный лазурит, – пробубнил гранд-губернатор и повторил, только молча, лишь шевеля губами в такт немых звуков, слишком тяжелых для реальности, слишком сокровенных.
Алексас, закатав рукава рубашки терракотового цвета с манжетами, дождался омнибуса – решил добраться до Собора Осириса в тесноте, да не в обиде, чтобы успеть вовремя. Транспорт трясло, как прокаженного. То ли лошади запьянели от весны, то ли кучер – запьянел, уже без лишних слов. Алексас погрузился в мысли. Пытался выкинуть из головы образ Луки, его сальную улыбку, но не мог – понимал, что тот задумал очередную мерзость. Оставалось только гадать, какую. Цирюльник боялся – не за себя, конечно, за Ану. Одним богам известно, что родится в голове фармацевта на этот раз.
Мысли оказались густыми, как предрассветный туман. Поэтому Алексас не почувствовал, как омнибус вдруг разогнался – слишком сильно для езды по Невскому. Лишь задним числом цирюльник понял, как запаниковали пассажиры. Когда они закричали, вынырнул из раздумий и выглянул в окно – поток воздуха хлыстал в лицо. Кони неслись на всех парах. Кучера на месте не было.
Омнибус трясло из стороны в сторону, горожане разбегались, чтобы не оказаться под колесами. Алексас прищурился – увидел впереди маленькое пятно, на поверку оказавшееся замерившим от страха мальчишкой-газетчиком.
– Боги! – верещал какой-то пассажир. – Боги, это конец! А я даже не брал с собой магический медальон!
Омнибус тряхнуло – Алексас чуть не завалился на чьи-то колени. Оглядел побелевшие, напуганные лица дам и господ, тяжело вздохнул.
– Ладно, – подумал цирюльник. – Это просто обстоятельства. Никуда от них не деться…
Алексас Оссмий сжал медальон, зажмурился, потом резко распахнул дверцу – пассажиры засуетились пуще прежнего. Упираясь руками в потолок, Алексас подошел к краю. Резко, чтобы не упасть, шагнул на лесенку, держась за металлические дуги-перила. Ветер бил в лицо, трепал кудри.
Снова невыносимая тряска – Алексас чуть не свалился на дорогу, отцепив руки и утратив равновесие, но вовремя успел снова схватиться за перила. Теперь упирался только одной ногой – вторая болталась. Чуть подтянувшись на руках, цирюльник занес свободную ногу на небольшой выступ у стенки, оторвал одну руку от дуги-перила и зацепился ей о рекламный щиток, который всегда вешали на корпус омнибуса. Алексас повторил то же самое со второй ногой, и так, шажок за шажком, добрался до козлов – закинул одну ногу, вцепился рукой и запрыгнул за секунду то того, как кони заржали, подались чуть в сторону и тряхнули омнибус.
Свалившийся на козлы цирюльник перво-наперво глянул вперед – мальчишка все еще стоял, теперь совсем близко. Алексас нащупал вожжи, схватил их, стараясь не свалиться и, кое-как усевшись, натянул мощными руками.
Не успел – кони брыкнулись, резко затормозив. Цирюльник полетел вперед, прямо на мальчишку – расставил руки, чтобы схватить его, и, ударившись о мостовую, скатился в сторону, вцепившись в газетчика. Кони пронеслись еще чуть вперед, только потом неспешно затормозили. Мгновение – сбили бы паренька.
Пассажиры, побелевшие сильнее прежнего, поочередно вываливались из омнибуса: кряхтели, ругались и стонали. Алексас перевернулся на спину, разомкнул руки и тяжело задышал, сверля взглядом небо. Чуть опустил голову набок – увидел часто моргающего мальчишку, лежавшего рядом.
Голова слегка гудела. Цирюльник чувствовал ссадины и кровь на левом виске. Искренне радовался, что не может ее увидеть – зато видел, как испачкалась рубашка. К одежде Алексас всегда походил осмысленно, был, как издевательски говорил Виктор, «недопижоном».
– Господин? – мальчишка вдруг пришел в себя, принявшись расталкивать Алексаса. – Господин, вы живы?!
– Даже не знаю, что тебе ответить. Какой вариант больше нравится? – вздохнул Алексас, приподнимаясь на локтях.
– Господин! – завизжал мальчишка. – У вас кровь на голове! Давайте я…
Газетчик полез в карман за платком, но цирюльник остановил его.
– Не стоит. Правда, не надо. Лучше подскажи, который час.
Мальчишка замешкался, полез в другой карман, достал часы на цепочке. Долго и внимательно изучал положение стрелок, потом, щурясь и запинаясь, назвал время.
– Дай-ка посмотрю, – попросил Алексас. Мальчишка, не отдавая часов, показал циферблат. Цирюльник прищурился – удивительно, но газетчик не ошибся, умел пользоваться часами.
Цирюльник опаздывал – вскочил на ноги, тут же отругав себя. Перед глазами потемнело, мир зашатался, но этот морок быстро развеялся.
– И да, – цирюльник улыбнулся сидящему мальчишке. – Верни мои часы.
Газетчик надулся, недовольно покрутил в руках «находку», но все же встал и протянул Алексасу Оссмию.
– Будем считать, господин, что я у вас больше не в долгу, – мальчишка засиял, радуясь такой находке. – Откупился.
– Хитро. И правда будем так считать. Хотя…
Цирюльник призадумался. Посмотрел в большие и искрящиеся желанием ко всему, до чего руки дотянуться, глаза мальчишки.
– Забирай. Пригодятся.
Вернул часы. Мальчишка схватил их так резко, что чуть ли не с рукой в придачу.
Алексас Оссмий, отряхиваясь, понесся к куполам из изумрудного стекла, игравшего на солнце гипнотизирующими бликами.
Народу на площади перед Собором Вечного Осириса толпилось больше обычного – предпраздничная лихорадка уже накрыла город, люди носились в поисках подарков (обычно, конечно, ушебти), не упуская возможности проскочить мимо Собора Осириса. Тем более, так удачно рано в этом году пастельными гроздьями расцвела благоухающая сирень – площадь перед храмом была засажена ей так плотно, что от запаха кружилась голова.
Собор начали строить за несколько лет до открытия господина Шампольона, и тогда, конечно, ни о каких изумрудных куполах, и уж тем более об Осирисе, речи даже не шло. Но когда боги старого Египта явили себя миру, когда люди более-менее свыклись с мыслью об обновленной реальности, страны решили не уподоблять новые храмы Египетским. Каждый город сохранял свою, привычную культуре и старой вере архитектуру, дополняя ее, экспериментируя под стать богу-покровителю. В мадридском хрустальном храме Амона-Ра стекла и зеркала заставляли солнечный свет раскрыться золотыми бутонами, взреветь ослепительным блеском; в Парижском соборе Анубиса на месте Нотр-Дама черные, готические шпили чуть ли не протыкали небо, а к горгульям присоединялись шакалоголовые изваяния; лондонское Вестминстерское Аббатство дополнилось статуями быков-Аписов в честь демиурга и вечного разума бога Пта; в Берлине, на площади перед построенным совсем недавно храмом Тота, возвышались величественные обелиски с золотыми ибисами на вершинах.
Санкт-Петербург подарил своему небу огромный, сияющий, будто сотканный из застывшего северного сияния, изумрудный купол – и два поменьше, по бокам. В остальном, архитектуру и планировку старого храма сохранили – разве что разбавили рельефы иероглифами и мифологическими мотивами, да колонны изваяли под стать египетским.
Алексас, слегка пошатываясь от резкого запаха сирени, дошел до входа в Собор Осириса. Бросил взгляд на двух криосфинксов с бараньими головами, привезенных прямо из Карнакского храма Фив. Цирюльник, к слову, никогда не понимал, зачем их поставили здесь – они ведь символизировали Амона, а не Осириса, это теперь знали даже беспризорные мальчишки-газетчики. Алексас, оказываясь рядом с этими фигурами, привычно пожимал плечами и делал вывод: понимаю, что ничего не понимаю.
Поток сильного ветра будто подтолкнул цирюльника вперед. Алексас воспринял этот как знак к действию: поддался и чуть ли не ввалился в храм, благо у входа зеваки не толпились. То ли дело во время праздника Пасхи…
Внутри перехватывало дыхание даже у бывалых горожан, которые с этим чудом Санкт-Петербурга не просто свыклись – оно им приелось. Зеркала во все стены и на потолке, рядом с фресками, словно расширяли пространство – равно как и огромные резные колонны, все в иероглифах. Витражные окна с сюжетами смерти и воскрешения Осириса, из стеклышек разного оттенка зеленого: изумрудного, мятного, салатового, молочного и цвета перенасыщенной листвы … Из-за такой системы зеркал и витражей свет, чуть зеленоватый, всегда носился по Собору Осириса, ни на секунду не замирая. Пробудь тут слишком долго – начнет казаться, что все изображения, какие есть – на потолке, окнах, стенах, – движутся.
И это – далеко не все.
Алексас прекрасно знал, что самое интересное находится в подвальных помещениях. Только доступ туда открыт лишь жрецам-священникам и архиепископу. Цирюльник как-то спросил: почему? Получил в ответ пристальный взгляд из-под седых косматых бровей епископа – казалось, этим жестом столь лаконичный и четкий ответ завершится. Все же, продолжение последовало: Алексасу Оссмию объяснили, что статуя бога сама по себе излучает такое сияние, или, если угодно, энергию, что прихожанам станет дурно. А уж на праздник – когда бог в буквальном смысле входит в статую – эффект подобен взрыву пороховой бомбы, рвущей не плоть, а души. В древности, добавил епископ, статую помещали вглубь храма, в крытые помещения, до которых так просто не добраться, где и прихожанам будет безопасно, и бог окажется не запятнан человеческим грехом. В Соборе Осириса, учитывая проектировку, подход адаптировали.
Алексас даже успел до начала службы. Встал рядом с одной из колонн, закрыл глаза и расслабился – уже начал различать легкий, расслабляющий шум подземных вод…
– Ну вот и попался!
Алексас, напугавшись, отшатнулся в сторону, споткнулся и завалился. Прихожане косо посмотрели на него. Священники – те немногие, что в тот момент были рядом, – недовольно цокнули.
Встав, Алексас отряхнулся, обернулся – увидел, что стоял спиной к зеркалу. Очень опрометчиво с его стороны.
Кто-то обхватил его шею руками.
– Когда тебе уже надоест? – улыбнулся цирюльник.
– Никогда, – призналась девушка, расцепив руки и оказавшись уже перед Алексасом. Заметила его ссадины, кровь на виске: – Что с тобой стряслось?!
– Да так, – пожал плечами Алексас. – Геройствовал.
– Ты ведь терпеть этого не можешь! – она хитро прищурилось. – Даже ради меня…
– Все ты знаешь, – улыбнулся он в ответ. – Но боги не оставляют выбора, когда пьяный извозчик вдруг сваливается с омнибуса, а кони выходят из себя.
Когда дело доходило до встреч с Аной, Алексас не хотел опаздывать – никогда и никуда. На самом-то деле, никакой не Аной, а Аней, но она почему-то всегда просила звать ее именной Аной, говорит, еще с детства, в те времена, когда была живой: всегда любила змей, считала, что нет в мире слова красивее, чем анаконда. Собственно, Ана и потом прекрасно жила, а вот сейчас… тоже жила, но несколько в другом роде. С одним маленьким нюансом.
Ана умерла. Почти что…
Перед Алексасом стоял не призрак, не мстительной дух, не оживший мертвец – это все байки, россказни и страшилки для детей, чтобы ночью по улицам не таскались, ночь – время взрослых, когда заключаются сомнительные сделки и принимаются не менее сомнительные решения. И Алексас, и врачи, и жрецы-священники, и сама Ана сошлись на том, что ее вполне себе – в некотором, очень условном роде, – можно называть демонессой. Другого слова в языке просто не нашлось, хотя, как много раз шутил Алексас, Ана была совсем не похожа на средневековых суккубов – разве только была столь же прельстительно-очаровательна.
Она действительно умерла, притом самым недраматичным образом – попала под телегу, и все тут. Кто знает, что было бы, не случись чудо – настоящее, а не и разряда тех, которые навязывают приставучие оракулы на рынках и ярмарках. Сам Осирис – по крайне мере, таким он явился, – воскресил Ану: в один миг собрал всех ее ка[3], теневых двойников, заключенных в воспоминаниях, отражениях и даже произнесенных словах. И ка ее, словно кусочки разбитого кривого зеркала, вновь стали Аной – из плоти и крови, но в то же время бестелесной, окутанной зеленоватым сиянием, даже с призрачными крылышками летучей мыши за спиной – так Ана баловалась, когда была в настроении. Теперь она могла шагать сквозь мир отражений, воспоминаний и, как говорили, духов, или самих ка: через середину меж реальностями людей и богов. Использовала зеркала, как двери.
Она – овеществленное ка. Наверное, поэтому, как она шутила, ей позволили стать первой девушкой-жрицей. Вот так, говорила Ана, чтобы женщине добиться чего-то в этом мире, сначала нужно умереть. Дальше – как пойдет.
От Аны пахло слишком крепким зеленым чаем с жасмином, тимьяном, легкими нотками мелисы и лемонграсса. Когда она злилась или негодовала, запах, такой неестественно сильный, начинал острить, будто обращаясь черным кофе с красным перцем – напитком, так любимым в кофейнях Санкт-Петербурга.
А волосы девушки… Сияющие лазуритом и изумрудами, будто бы переплетающиеся с сверенным сиянием, тем, далеким, на самых широтах Империи, ярким и безудержным, и одновременно с волнами теплого моря, покачивающимися на легком, свежем ветру, сине-зеленоватыми, перенасыщенными. Это были волосы, крадущие солнечный свет в свои закрома, чтобы даже осенью радовать буйством этого словно ожившего весеннего дыхания: манящего, как ожидание первого поцелуя, игристого, как ананасы в шампанском.
Алексас, как всегда, засмотрелся на жрицу. Сам не поняв, когда, схватился за кулон в форме солнечного скарабея, стал крутить в руках.
– Неужели решил изгонять меня, как злого духа? – рассмеялась Ана, тут же резко посерьезничав. – Алексас, что-то случилось? Помимо омнибуса.
– А? А, нет, все в порядке, – пробубнил цирюльник, пряча кулон.
Все, конечно, было далеко не в порядке. Алексас всегда поражался, как Ана вот так, с первого взгляда, угадывает настроение: будто читает его, Алексаса, как открытую книгу, только почерк до конца разобрать не может. Общие очертания улавливает. И уж бог весть, откуда в ней это, думал цирюльник. То ли это фокусы, условно говоря, сущностей иного порядка, то ли – обычная женская проницательность.
Алексас не то чтобы говорить, думать не собирался о том, что сейчас с ним не так – хуже момента трудно найти.
– Я все равно тебе не верю, ну да ладно, как хочешь, – Ана потянула его за рукав, на мгновение порхнув туманно-призрачными, зеленоватыми крылышками. Исчезли они так же быстро, как появились. – Пойдем, самое интересное – внизу. Заодно отмоем тебя от крови.
Они спустились по каменной винтовой лестнице, состояние ступеней которой оставляло желать лучшего – большие, старые, изуродованные временем, они то и дело слегка крошились под ногами. Чем ниже Алексас и Ана спускались, тем холоднее становилось. Лестница уходила глубоко в подземные залы. Вода журчала все отчетливее.
Когда они спустились, взгляд Алексаса – ожидаемо – уперся в статую восседавшего на троне Осириса: огромную, раскрашенную, прямо в центре и всего зала, и небольшого квадратного прудика. С каждой из четырех сторон к прудику подходили трубы, кончавшиеся золотистыми краниками. Так сюда попадала святая – подземная – вода, откуда жрецы с архиепископом выносили ее прихожанам во время Пасхи.
Иногда цирюльник думал: забавно, конечно, что мы вот так взяли и сохранили христианский праздник, просто придав ему новую форму и новое же значение. Природа как обновлялась, так и обновляется, только воскресать теперь стал Осирис. С одной стороны – сплошная путаница, с другой же – весьма лаконичное решение, принятое не наобум, а в рамках логики. Извращенной, но логики. Хотя, если подумать – подсказывало Алексасу подсознание – вполне логично, что миф о воскрешении Осириса заменил предыдущий миф о воскрешении… раз оказался правдой. А уж сверять даты, сопоставляя календари, учитывая нюансы быта, летописей… слишком сложно. Вот и получился коллаж – так людям проще. Как минимум – привыкнуть.
Пока они шли к статуе, Алексас несколько раз скользнул взглядом по своему отражению – зеркала преследовали даже тут. Не в том же количестве, что наверху – но все равно в достаточном для пугающих и очаровывающих оптических иллюзий.
– По-моему, я уже давно должен был иссохнуть от божественного сияния, исходящего от статуи, – невзначай напомнил Ане Алексас.
Жрица рассмеялась, затем, подойдя к зеркалу, словно растаяла на месте. Прыгнула из одного в другое, будто шальное отражение, и вернулась на место.
– Ты же прекрасно знаешь, что это выдумка, чтобы сюда лишний раз нос не совали. Ничего такого, что могло бы навредить. По крайней мере, пока Осирис не вошел в статую. Не уверен, что богам бы понравилось вечно жить внутри каменных истуканов. Даже в компании старого епископа.
Ана кивнула головой в сторону седого старика, высокого и худого, с темно-зелеными глазами цвета малахита, в белой робе и головном уборе, почти как у самого Осириса. Архиепископ стоял около статуи, склонив голову, и даже отсюда казалось, что он выглядел… недовольным. Слишком недовольным перед Пасхой.
– Именно поэтому статуя в таком виде никуда не годится! – раздался вдруг чужой голос у Алексаса за спиной. Для Аны теперь любые голоса звучали везде и сразу – скорее внутри нее, чем снаружи. – Ее бы чуть переделать, пара штук сюда, пара туда – и вытащить на свет божий, уж простите мой каламбур.
Ана с Алексасом обернулись. Они даже толком не разглядели говорившего, просто увидели его одежду… В храм он явился в брусничном пиджачке с искрой, да к тому же – с пышными манжетами-гармошками. Такой человек – последний, кого ожидаешь увидеть в святая святых Собора Осириса.
Двое с трудом, но отвлеклись от одежды, и разглядели оставшуюся часть незнакомца.
Он будто только что сбежал с донских просторов, из казачьей общины – притом явно был там атаманом, не меньше. Плотненький, крепенький, но низенький, с чудаковато постриженными на манер облагороженного для светских мероприятий чуба рыжими, чуть седеющими у корней волосами и того же цвета бакенбардами, будто выцветшими языками пламени.
– Простите? – незнакомец нахмурил брови. Две пары глаз разглядывали его слишком долго. – А, ну да, я ж не представился…
– Простите, – уже вздохнул старый епископ, обернувшись. – Это господин Якуб из приближенных к из его Императорскому величеству мастеров, да будет он жив, здоров и могуч!
– Ага, спасибо, именно это я и собирался сказать, – фыркнул незнакомец. – Очень помогли.
– Прошу прощения, – первой не выдержала Ана. – А вы-то что тут делаете?
Якуб промолчал. Сложив руки за спиной – всегда так ходил – медленно подошел к девушке и изучил ее, будто картину в галерее: задумчиво, нерасторопно.
– Ммм… ни кожи ни рожи, да. Зато фигурка есть, внешность необычная…
Ана замерла, открыв рот. Алексас среагировал быстрее.
– Я бы попросил… – этой фразы обычно хватало в любой ситуации, потому что собеседник, привлеченный нарочито пониженным и раздраженным голосом цирюльника, тут же обращал внимание на его руки… Дальнейший разговор оказывался нецелесообразным.
Якуб повел себя по иному сценарию. Так же внимательно изучил Алексаса Оссмия, не убирая рук из-за спины.
– Ха! Ну я вообще-то говорил не просто про милую даму, а про церковь наших богов в целом… и Собор Осириса в частности. Понимаете ли, наш достопочтеннейший епископ совсем не объяснил, чем конкретно я занимаюсь при дворе императора. Так вот, мое дело – за имиджем. Властвующей четы, армии, Зимнего Дворца, города… чего придется. Годы у французских мастеров, между прочим! И вот теперь пришлось браться за церковь – по указанию, конечно, его императорского сиятельства, да будет он жив, здоров и могуч, – тут Якуб наконец убрал руки из-за спины и ткнул пальцем вверх. – А то, понимаете, прошло уже двадцать лет, а мы все никак не возьмемся за ум. За границей они знаете, что давно уже придумали? Рассказать трудно! Да и посудите сами: вот бедные анубисаты, которых никто не любит. Чего им не хватает? Правильно, нужного и-ми-джа! Подходи они к этому вопросу чуть серьезнее…
– Но я все равно попрошу вас за языком-то следить, – шепнул Алексас так, чтобы Ана не услышала. Хотя, он знал – бесполезно. Девушка, пребывая в состоянии овеществленного ка, шепоты, шорохи и вздохи различала с завидной точностью – будто шептали лично ей на ухо.
– Ой ну ладно вам, подумаешь, ляпнул сдуру, не подумав, – Якуб развел руками, снова убрал их за спину, а потом обратился к Ане: – А нам с вами еще предстоит поработать! И кстати с вами, ваше первосвященство, тоже!
Епископ вздохнул – громко и смачно. Так, чтобы его услышали. Видимо, надеялся, что Якуб поймет намек.
Ана, в этот раз обойдясь без прыжков по зеркалам, отвела Алексаса в сторону.
– Если честно, я хотела поговорить, – шепнула она цирюльнику. – Знаешь, в последнее время очень много прыгала по зеркалам… Так что слышала много разговоров. Похоже, даже тех, которые не должна была слышать. Которые вообще не должны быть услышаны. Ты понимаешь?
– И да, и нет. Боги, ты во что-то вляпалась?!
– О, ты бы узнал об этом первым, – улыбка играла на ее лице первыми лучами степного рассвета. – Пока нет. Но я скажу тебе так, эти разговоры… Короче, не к добру. Люди видят странного человека в маске – не поверишь, но в отражениях. Что-то назревает – масштабное, страшное. Притом коснется не только нас.
– В смысле?
– Богов – тоже. Мне кажется…
О нет, подумал Алексас, ну вот зачем они опять подняли эту тему… Рука невольно потянулась к медальону, но в этот раз цирюльник сдержался.
– Я думаю… – она покосилась на Якуба, с хозяйским видом расхаживающего вокруг статуи Осириса. – Не при посторонних. Не хочу, чтобы это услышал епископ. Уж тем более Якуб. Он вообще меня напрягает. Как подумаю, во что он одевает людей…
– И почему все сегодня говорят о богах, – подумал Алексас. – Именно тогда, когда мне уже слышать о них надоело.
Вслух же сказал другое:
– Сложно найти того, кого он не напрягает. Почему ты так уверена насчет того, что слышала? И уверена ли вообще?
Девушка промолчала.
– Нет, не уверенна. По крайней мере, до конца. Мне нужно послушать еще, и я знаю, где – уж тем более, как. Некоторые голоса казались такими знакомыми.
– Почему ты всегда лезешь на рожон, а?
Ана рассмеялась.
– Такая уж я! Поверь, ты бы тоже полез. Тем более, если бы был обязан им – богам – жизнью.
– А я обязан им тобой. Если, конечно, действительно им. Но я правда тебя прошу – ради всех богов, аккуратно. Заглянешь ко мне… как освободишься? Прямо через зеркало, если хочешь.
– Ой, ну ты же знаешь, что тогда я тебя обязательно напугаю! Не удержусь.
– Я был бы рад, даже если бы ты решила-таки съесть мое сердце, – он чмокнул ее в щеку. Целовать новую Ану было все равно, что касаться губами тумана, застелившего речушку у маленькой деревни, где только-только, сранья, покосили высокую траву и собрали зверобой. – Было бы очень кстати. Завтра утром я еду… к тетушке.
– Боги, – вздохнула девушка. – Тогда скорее она сожрет мое сердце. И потроха заодно.
– Ну, она ведь не кровожадная! Так, слегка сумасшедшая. Делов-то.
– Специально для меня она станет похлеще любого людоеда. Персонально. Марко Поло с его половцами такого и не снилось.
– Да уж, – пожал плечами цирюльник. – Что правда, то правда.
Говоря коротко, старая графиня недолюбливала Ану даже при жизни, а уж теперь, в ее новом состоянии – подавно. Впрочем, это не только укороченная характеристика их отношений, но и смягченная. Даже слишком.
Алистер Пламень не запоминал названий кабаков, в которых скрашивал вечера – не хотел забивать голову лишней информацией, совсем несущественной. Так и тем вечером сидел в шумном злачном местечке Санкт-Петербурга, слушая пьяные крики и вдыхая пивные пары. Здесь собирались все: от низших слоев, городских оборванцев, до сливок общества, решивших тем вечером вкусить нечто новое и разворошить поток привычной жизни.
Алистер никогда не пьянел – пил ровно столько, чтобы не захмелеть, сохранить трезвость рассудка. И пусть свет газовых ламп начинал бегать шальными размытыми огоньками, а посторонние голоса казались громче, чем на самом деле. Главное – мысли оставались стройными. Можно было обдумывать дальнейшие шаги…
В тот вечер ему не хотелось даже думать.
Обычно Алистер сидел за столиком один – никто не решался подсесть к анубисату. Пламень давно сделал вывод, что причиной тому – страх неизведанного; даже сам он до конца не понимал, как работала магия Анубиса.
В этот вечер все пошло не так.
За стол уселись двое захмелевших мужиков – широкоплечий и худой, скрюченный. До поры до времени, Алистер не обращал внимания на них, а они – на него. Двое только горланили, доказывая что-то друг-дружке и рьяно размахивая руками.
– Я вот и говорю, – кричал широкоплечий, – что по моей вере все работает очень просто. Ешь, пей, гуляй, наслаждайся жизнью во всем – а потом прибарахлись парой амулетов, и все, ты в шоколаде! Вечная жизнь, полная еще больших наслаждений, в твоем кармане. Послушай меня, раз уж эти священники придумали такие штуки, значит сами на руку не чисты. Им можно пользоваться, а нам нет? Вот тебе и вся вера – голимая, но удобная!
– Боги! – заверещал скрюченный. – Как ты можешь такое говорить! Ты же понимаешь, что когда с тебя спросят на том свете…
– О-о-о, да ты совсем твердолобый! Я тебе только что объяснял: ничего они не спросят. Хотя, давай нам растолкует наш друг анубисат, а? Они, говорят, в этом разбираются лучше всех. Самые правильные, да?
Широкоплечий толкнул Алистера Пламеня. Тот не отреагировал.
– Молчишь? С твоей анубисатской верой все, как и говорят, не в порядке?
– Слушай, может не надо…
– С моей верой все в порядке, – сдался Алистер, покрутив в руках пустую кружку. Намерено засучил рукава, чтобы собеседники видели сухие руки и набухшие вены. – Вы когда-нибудь думали, как человек ощущает себя на грани?
– Да ясно как! – снова толкнул анубисата широкоплечий. – Берет и шагает в лучший мир, и плоть его обрастает золотом…
– Не нравится мне это… – занервничал скрюченный.
– Значит, вы никогда не были между здесь и там, – холодно улыбнулся Алистер.
– С чего бы мне!..
– А я расскажу, каково там – когда набухают вены, и мы чувствуем всю эту боль, облегчая вам, так желающим обрести вечное блаженство, путь. Только темнота и страдания, чтобы потом, конечно, наслаждаться вечностью. За чужой счет, да? За счет всеми правдами и неправдами подчистую выжатой жизни. Вы доите ее, не зная меры, и даже не платите цену за переход – ее берем на себя мы. Сгорбленный мир склоняет голову ради всей этой глупости. И кто вообще придумал столько смерти?..
– Слушай, если ты решил почитать мне лекцию, то давай я тебе наглядно покажу, как хреново к ним отношусь…
Договорить широкоплечий не успел – Алистер резко повалил его лицом на стол, так, что дерево, казалось, хрустнуло. Худой дружок испуганно вскрикнул. Анубисат схватил широкоплечего за шиворот, поднял голову и прошептал на ухо:
– Специально для тебя, я покажу, что такое правильная вера. И каково там – между жизнью и смертью – по-настоящему. А вот твоего друга эта участь минует. Сам решай, получишь ты проклятье или благословение.
Широкоплечей пробормотал нечто невнятное, прежде чем Алистер снова ударил его лицом о стол. Потом отпустил, достал из-за пазухи кривой, проржавевший нож и, даже не дав худенькому дружку вскрикнуть, всадил в горло. Схватил его свободной рукой, зажмурился – вены надулись, налились фиолетовым, пока скрюченный не перестал дышать.
– Придурок, – проскрежетал широкоплечий. – Да вы все придурки, как и говорят!
– Нет, – вздохнул Алистер, выкинув нож, – придурки – это вы.
Анубисат кинул на стол деньги за напитки – никто в кабаке даже не пошевелился, навидались пьяных драк, смертей – и подавно. Алистер вышел через черный ход, мимо целующихся оборванцев. Прежде, чем полной грудью вдохнуть прохладный ночной воздух Санкт-Петербурга, анубисат поджог фитиль маленькой пороховой бомбочки.
Лишь только звезды коснулись его макушки, кабак за спиной взорвался оглушительным пламенем.
Когда детей с пеленок приучают к порядку, то даже много лет спустя, уже на работе, вдалеке от чутких глаз родственников, их столы – иллюстрация победы порядка над хаосом. Этакая космология древней Греции, воплощенная в стопках бумаг, кучках карандашей, линеек, штампов, чернильниц и прочей ерунды.
Вахмистра Говорухина с детства приучали… к удобству. В том смысле, что все, что бы он не делал, должно в первую очередь быть ему комфортно. А то потом получится, как с модными ботинками: ноги натирают до крови, размера нужного не оказалось, да и модель в целом некомфортная, зато в полной мере говорят о человеке, щеголяющем в высшем свете. Виктор принцип удобства, намертво вшитый в его сознание, не забыл и с сединой в усах. Так что его кабинет в здании жандармерии в глазах посторонних приобретал очертания барахолки, похуже, чем у небезызвестных Коробочки и Плюшкина вместе взятых: ящики и ящички, коробки и коробочки, сундуки и сундучки соседствовали здесь с пыльными, рваными томиками книг, безделушками-сувенирами, немытыми чашками, пустыми чернильницами и далее, и далее – перечислять замучаешься.
Виктор Говорухин сидел за столом, изучая стопку бумаг. Краем глаз он поглядывал на открытый роман – наверняка детектив-приключение – запятнанный кофейными и чернильными кляксами. Никто уже давно не удивлялся, что в разгар рабочего дня вахмистра Говорухина запросто можно застать с книгой в руках. Ноги жандарм в такие минуты всегда закидывал на стол.
Сейчас Виктор жуть как хотел читать. Вместо этого разбирался с отчетами по двум последним взрывам. Подслащивало жизнь только кофе – без добавок, но и так сойдет.
Трудоголизм Виктор никогда не поощрял. Особенно – у молодых сотрудников. И ладно, если бы работа их была интересной… В случае полицейских-жандармов (тут Виктор даже мысленно вздыхал от идиотской путаницы), работа выжигала душу, превращая ее узор из пестрого, сверкающего оттенками и полутонами дорогой гуаши, в черно-серый, чернильный, дешевый и вообще сделанный из того, что оказалось под рукой.
Трудоголизм убивал, да. Не физически – морально. Но сейчас…
Сейчас вахмистр Говорухин видел в происходящем авантюрный, детективный и захватывающий сюжет, частью которого может оказаться он сам. Не центральным героем – так, второстепенным. Большего и не просил. Хотя…
Хотя, подумал Говорухин, если я сейчас не возьмусь за это дело, его просто замнут. И начальство можно понять – искать связь там, где она спрятана под тоннами льда, дело неблагодарное. Начальство-то пуще его знает правду о трудоголизме. Да только вот в голове Виктора уже обрисовался угловатый айсберг, макушкой которого стали произошедшие события: а поскольку жандарм читал не только беллетристику, но и умные книжки, еще чаще – приложения к журналам, то знал, что макушка айсберга – лишь малая его часть. Остальное скрыто под водой. Оно куда страшнее и опаснее.
Вахмистру Говорухину хотелось сюжета, азарта, красок. Виктор улыбался – в его случае, не во весь рот, а во все усы, которые поднимались вместе с уголками губ.
Виктор нашел зацепку – анубисата.
Они всегда доставляли городу слишком много проблем… Впрочем, нет, поправился жандарм, не городу, а городам. Даже в Париже, там, где во имя бога мумификации возвели – точнее, переделали, – целый храм, к анубисатам, непорочным служителям Анубиса, все равно относились с подозрением. Официальные лица церкви отрекались от них, нарекали иными служителями бога. Неправильными. Анубисаты же говорили то же самое, но равно наоборот – мол, нет, это мы настоящие.
Впрочем, ситуация – типичнее некуда для любой оппозиции и официальной власти. Те же инь и ян – две стороны одной монеты. Поменяй слагаемые местами – сумма отношений не изменится.
Так что анубисаты… не то что бы были вне закона. Просто считались сектой, тайным обществом, слишком уж часто играющим с магией бога Анубиса, магией не столько самой смерти, сколько… момента перехода. Норвежские философы, о которых Говорухин слыхивал только на ненавистных ему светских мероприятиях, называли это пограничными ситуациями. Магией на стыке жизни и смерти, в момент перехода на ту сторону – когда человек будто и жив, и мертв одновременно.
Виктор привык мыслить в более приземленных материях. Его чашка кофе никогда не была наполовину пуста или наполовину полна – она просто была, либо отсутствовала.
Анубисаты не убивали, не грабили, не приносили жертвы, не использовали магию в опасных целях. Просто… были странными, вот и все: не такими, как все, шушукающимися, нелюдимыми и подозрительными. В глазах остальных, просвещенных людей, привыкших к открытости и публичности любых мистерий, таинств, ритуалов, анубисаты казались словно не от мира сего. От таких только и ждешь беды. Мало ли, что у них в голове?
Еще людей, безусловно, пугали руки анубисатов. Магия их бога, магия пограничной ситуации, момента перехода, давала силы – но вены вздувались, наливались ночным фиолетом, а руки сохли, худели. С анубисатами не хотели случайно встретиться на улице – ни днем, ни, тем более, ночью.
– Не убивали, не грабили, не приносили жертвы, не использовали магию… – вновь повторил про себя Виктор Говорухин. Допил чашку кофе, кинул стопку бумагу на стол и наконец-то схватил роман, откинулся на спинку стула и жадно зашуршал страницами.
Да, действительно ничего противозаконного не делали, заключил жандарм. Не делали – до этих пор.
Тут Виктор, будто вспомнив что-то очень важное, отвлекся от чтения, согнулся даже не в три, а в четыре погибели, с грохотом открыл ящик стола, пошуршал там. Потом глубоко вздохнул – так, будто нос внезапно заложило, – и, расслабленный, вернулся к чтению, слегка покачиваясь на стуле.
Молодые жандармы, оставшиеся дежурить до самого позднего вечера, готовы был поклясться, что из кабинета вахмистра Говорухина всю ночь доносились громкие чихи.
До тех пор, пока небо вдалеке вдруг вновь не заревело пламенем.
* * *
Из дневников археолога. День первый
Охра, охра, охра – повсюду бесконечная охра, будто изголодавшаяся по свободе, кружащаяся в танце песчинок, гипнотизирующая пируэтами, воронками, кругами на песке: горячем, раскаленном, принимающим фантастическую форму ни то грифона, ни то древнего змия, и тут же таящим, чтобы обмануть воображение вновь…
Наверное, так бы я описал тот день – день начала раскопок, нашей экспедиции. Прости меня, читатель, если я не столь поэтичен, каким ты хотел бы меня видеть. Когда-то я писал стихи… Надеюсь, их крупицы задержались во мне хотя бы на миг – как образы в этих бесчисленных песчаных бурях…
Собственно, с такой бури и началась наша экспедиция. Признаюсь, непогода для меня тогда отошла на второй план. Куда более волнительным (или, если не изменяет память, так не говорят?) стало другое событие.
В этот раз с нами отправился сам господин Шампольон!
Для меня большая честь оказаться рядом с легендой… До сих пор не верю, что его открытие перевернуло мир. Нет, читатель, тут я не ошибаюсь. Именно перевернуло, а не перевернет – уверен, это уже случилось. Просто пока… не успело обрести достойную форму. Возможно, еще пять-десять лет – и мы не узнаем собственный мир.
Но я возвращусь к предмету рассказа. Пресловутая песчаная буря зверствовала, пока мы спасались в палатках, голодными глазами смотря на жестяные банки сардин. Как говорил один мой знакомый археолог: сначала мы едим сардины, потом – банки из-под них. Большой скупец…
Впрочем, буря утихла. Ведомые господином Шампольоном, его другом-англичанином со стеклянным глазом (фамилия его, кажется, Пенбери? Или Пендлбери?[4]) и одним старым арабом, мы шли через пески Саккары, недалеко от древнего города Мемфиса: коварное, признаюсь, место. Ночь – как арктический лед, день – как жерло вулкана.
Еще мне постоянно сдувало ветром шляпу.
Погода, мягко говоря, нам не благоволила. Мы шагали среди уже найденных мастаб[5], как стадо диких животных в поисках воды. Для чего, читатель? Не знаю. Никто не знает. Точнее, даже не так – не хочу вводить в заблуждение. Мы знали, что ищем новые захоронения, желательно – не разграбленные. Но не знали, какие конкретно. Не знали, почему в этот раз с нами сам господин Шампольон.
Нет, мы не знали. Только догадывались и чувствовали – на кончиках пальцах, как композиторы, ощущающие ритм новой мелодии. Надеюсь, сравнение мое покажется понятным.
В тот день мы долго шли. Потом копали – казалось, вечность. Когда наступил вечер, разошлись по разбитым палаткам, сменив друг друга. Решили копать и ночью, хотя бы до тех пор, пока не станет невыносимо холодно, а усталость не собьет с ног. Господин Шампольон с другом, эти благородные добрые господа, предлагали ограничиться дневной работой – мы не согласились. Даже не помню, почему – наверное, хотели выглядеть героями в их глазах.
Впрочем, этот первый день был самым обычным, ничем не примечательным. Лишь до ночи, когда проснулся весь лагерь, потому что…
Мы наткнулись на мумию ибиса. А потом – повскакивав и продолжив копать – на вход в катакомбы….
Глава 2. Вначале была тетушка
мудрость благостного Тота
Месяц прищурился на небе, разрезал черноту, словно серп, смазанный золотисто-желтой, сияющей кровью только скошенных колосьев пшеницы, созревших, августовских. Сплошная иллюзия лета – до августа еще далеко, еще успеют вернуться резкие заморозки, и ночь станет звенеть колокольчиками инея. Пока она – нежно-синяя.
Месяц заливал Санкт-Петербург призрачно-желтым. Блестели серебряные шпили зданий, мерцали купола Собора Вечного Осириса, и вода в каналах, колыхаясь, бредила воображение отражениями: искаженными, впитавшими черноту и желтизну. Центр города не смолкал, не до того было – ночью, когда ладья Солнечного Бога проходила через двенадцать часов тьмы врат Дуата, жизнь не замирала. Просто поворачивалась к миру другой стороной, показывала второе, чуть изуродованное, но с горящими глазами лицо: шумели кабаки, притоны, бордели, совершались выгодные сделки.
И только вокруг большого особняка – невесть кому принадлежавшего – жизнь замирала будто застывшим, терпким воском. Даже вода, и та, будто переставала отражать не только особняк, но и небо.
Здесь не водилось призраков – зато водились влиятельные люди. Особенно в такие, словно замирающие специально для них ночи.
Гранд-губернатор уже минуты три внимательно рассматривал кольца на пальцах Саргона. Велимира бижутерия никогда не интересовала, перстни он считал пережитком прошлого, пусть даже те и были фамильной ценностью или амулетом, но кольца Срагона… Напоминали сферы с отверстиями с обеих сторон, и сферы эти были исполосованы кольцами с клинописными символами – золотисто-лазуритовыми, будто крутящимися вокруг одной из тех далёких планет, название которой Велимир постоянно забывал. Целых четыре таких кольца – по два на каждой руке – больше всего напоминали гранд-губернатору древние астрономические приспособления, модели небесных сфер, астролябии, вдруг ставшие объемными. Велимир знал, что золотистые колечки на них поворачиваются, меняя узор и открывая новые символы – много раз видел, как Саргон проделывает этот фокус.
При свете ламп – хоть тут, радовался Велимир, они общались не в темноте! – одеяние Саргона приобретало божеский вид: балахон оказывался не бездонно-черным, а отдающим глубинным фиолетовым, с тонкими золотистыми узорами созвездий.
Маска, конечно, никуда не пропадала.
Из шести кресел за столом пустовало только одно. Велимир взглянул на большие часы с маятником, давно отбившие полночь – демонстративно вздохнул и нервно побарабанил пальцами по овальному столу.
– Ну и долго мы еще будем ждать? С опоздавшими никакой каши не сваришь…
– Терпение, Велимир, – протянул Саргон. – Терпение.
– Слушайте, на правах гранд-губернатора я могу всех опоздавших отстранять от своих должностей…
– Тебе придется придумать очень вескую причину для этого! Чтобы не повредить всему… мероприятию, – раздался голос с одного из кресел.
– О! Придумывать причины, можно сказать, мой конек.
Дверь в зал неожиданно хлопнула. Запыхавшийся человек дошел до кресла, громко плюхнулся.
– Ну наконец-то, – хмыкнул гранд-губернатор. – За сим, объявляю наше собрание открытым и бла-бла-бла. Боги, как хорошо, что мы не держим секретаря и не устраиваем прочий цирк…
– Через два дня, – раздался голос из одного кресла.
– Да, – подтвердил Саргон, выпрямившись. – Через два.
Лица собравшихся вовсе не были важны – куда важнее то, что висело у них на шеях, поигрывая металлическим блеском в свете ламп.
– Велимир, у тебя все готово? – осведомился тот же голос, покрутив в руках серебряный амулет в форме мощного молота на серебряной же цепочке.
– Насколько это может быть готово сейчас, – гранд-губернатор потянулся за хрустальным бокалом. Сегодня он потрудился принести пряное красное вино – как оказалось, очень кстати, иначе с ума можно было бы сойти, дожидаясь опоздавшего. – Давайте лучше послушаем Саргона. По-моему, у него есть, что сказать, да?
– Спасибо, Велимир, – по голосу, словно одеревеневшему, и не догадаться было – издевается он или действительно благодарит. – Должен сразу предупредить, что к нам присоединяется… еще один участник.
– Еще один?! – пропищал человек с подвеской в форме ни то лица, ни то черепа с высунутым языком.
– Мы, стало быть, о ком-то забыли? – повел бровью другой, методично покручивающий в руках свою подвеску – с солнцем, в которое вписан странный угловатый символ.
– О нет, позабыть мы ни о ком не могли, – усмехнулся Саргон. – Просто оказалось, что есть тот, кто частично разделяет наши интересы – и упрощает нашу жизнь.
– И почему же его нет с нами, хм-х-м? – наконец-то проговорил, еле-шевеля губами, последний человек. Его подвеска с мордой усатого дракона мерцала тускло, словно поглощая свет.
– Ему и не нужно быть здесь – достаточно знать и выполнять свою часть… плана, если позволите мне назвать это так. Поверьте, я вижу людей насквозь – и этот кажется полезным, нет в нем нюансов особо тонких. Почему бы не воспользоваться подарком судьбы, чтобы побыстрее покончить с ужасной несправедливостью? Как там говорят: дают – бери, бьют – беги? В случае с судьбой это не просто правило, а мантра – второго шанса не будет. Она не любит щедрые подарки.
– Короче говоря, это анубисат-террорист, за последний день подорвавший целых два здания и заставивший мою голову изрядно потрещать, – ворвался Велимир. Поймав непонимающий взгляд Саргона, гранд-губернатор пожал плечами. – Нет, ну а что? Ты слишком не любишь быть конкретным. А я вот счит…
– Сэр? – Парсонс, худой, смуглый, лысый, в длиннющем зеленом фраке, казалось, материализовался не то, что из воздуха – из пустоты.
– О боги! – вздрогнул Велимир. – Парсонс, ты что, не видишь, сейчас не…
– Простите, сэр. Но лекарство, сэр. Надо готовиться к операции, сэр.
– Боги… давай сюда, – не поворачиваясь, он схватил с подноса стакан, выпил залпом и тут же потянулся за вином, но даже спиной поймал непонимающий взгляд врача. И почему эти оба – что Саргон, что Парсонс, – так любят слишком настойчиво, до мурашек, смотреть?
– Ты правда думаешь, что у тебя выйдет провернуть эту авантюру? – удивился человек с подвеской-черепом с высунутым языком.
– Боги, в городе будет Сердце Анубиса! Сердце настоящего бога! – Велимир закинул ногу на ногу. – Если мы все тут верим, что наши планы срастутся благодаря ему, то чего говорить об этом? Главное – успеть. Потому что…
Гранд-губернатор замолчал, потом перешел на шепот.
– Кости его – серебро, плоть – золото, волосы – подлинный лазурит…
– Не думал, что когда-нибудь скажу это, но Велимир прав, – Саргон хмыкнул. – Сердце Анубиса и… еще несколько нюансов. С некоторыми из которых нам поможет этот анубисат. Останется решить одну проблему – госпожа Грушницкая слишком проворно скупала древности. И приобрела одну, нужную мне…
– Эта старая дура? – фыркнула, вероятно, женщина.
– Она моложе тебя, – поспешил уколоть гранд-губернатор.
– Так или иначе, – Саргон словно не обращал внимания на посторонние разговоры, – завтра я научу анубисата Алистера Пламеня паре тайных слов, что знаю сам, чтобы обращаться… с зеркалами.
– С зеркалами?
– О да, – Саргон хмыкнул – все, как обычно, увидели это даже сквозь маску. Потом он скользнул глазами по зеркалам в зале: красивым, ажурным, в резных дубовых рамах. Никто не подметил, как Саргон нахмурился, блеснул зеленоватыми глазами – опять же, совершенно не пряча эмоций за маской.
– Итак, – продолжил он, – еще день – и все решится. Надеюсь, все готовы сделать, что должно? Все готовы ко встрече с настоящими богами?
Все присутствующие – кроме Велимира – схватились за подвески.
– Со своими богами, – повторил Саргон, хмыкнув.
– А как ты думаешь, Саргон? – раздался низкий, но очевидно женский голос. – Мы были там двадцать лет назад. Мы пытались докричаться, доказать свое мнение – и что они с нами сделали? Мы – ошметки того сопротивления. Мы единственные – дождались.
Велимир вздрогнул. Он прекрасно помнил, как двадцать лет назад, в те прекрасные лучезарные дни после явления богов старого Египта, творилось… страшное. Бунты, митинги, протесты, да и вещи… куда хуже. Он помнил, как шел по улице в то страшное воскресенье, когда словом его императорского величества – тогда правил еще Николай – было приказано открыть огонь на поражение. Велимир был там – не в самой толпе, рядом – и помнил, как споткнулся и упал, чуть не задавленный напуганной толпой. Помнил, как проклинал весь мир. Помнил, как улицы города становились красными, под стать парадным одеяниям древних аристократов; только в этот раз город одевался не в пурпур, а в кровавое месиво. И самое страшное, что гранд-губернатор не мог винить императора.
Страшнее последствий были только их причины.
Несогласные с новыми богами выходили на улицы; сначала просто кричали, затем в ход шли кулаки, потом – зажигательные смеси и самодельные бомбы. В те страшные дни Велимир понял, что история – один замкнутый и заколдованный круг. Так ведь уже было, думал он, и будет всегда – после каждой радикальной перемены, очередной встряски мира, меняющий ориентиры: разве только стороны света остаются на своих местах, все остальное – шиворот-навыворот. Несогласные будут всегда – даже когда им пообещают и продемонстрируют неподдельное вечное блаженство.
Такое творилось не только Санкт-Петербурге – по всему миру. Везде с проблемами справлялись по-своему, и везде, в основном – силой. Но это было двадцать лет назад, а потом… все стихло. Не без чуткого взгляда жандармерии – тогда еще только политической, – которая следила за любым проявлением агрессии от иноверцев. Никаких преследований за простое непринятие новых богов – век, все же, просвещенный. Но не дай боги оправдается один из многочисленных доносов в третье отделение, тогда еще не распущенное, и не дай боги задумать и предпринять нечто радикальное. Как покушение на предыдущего петербургского епископа. Разбираться будут – но недолго.
Правительство говорило: если вы так глупы, чтобы не верить в богов, доказывающих свое существование и дающих так многое за просто так, живите с этим – молитесь мертвым истлевшим идолам, немым болванкам.
Но только попробуйте сделать более радикальный шаг.
Сам Велимир оказался очарован богами старого Египта сразу, как те явили себя миру. Лучезарные и великолепные… Гранд-губернатор увидел то же, что мальчишка в приключенческих книжках – пример для подражания. Но только воспринял его не так.
А теперь он, в той или иной мере верный богам старого Египта, сидел за одним столом с теми, кто участвовал в событиях двадцатилетней давности. Кто бойкотировал, доказывал точку зрения огнем, порохом и сталью.
С другой стороны, гранд-губернатор понимал: а что им оставалось делать? Прошло долгих двадцать лет, и они ждали – надежда тлела, как постепенно остывали раскаленные угли в камине этого особняка каждую холодную ночь. Но они, убежденные, продолжали верить – уже давно приняли новый порядок, но только для вида. Все они, каждый из собравшихся, знали – рано или поздно, боги, что не подавали знаков существования уже двадцать лет, проявят себя. Возможно, думали некоторые из них, они затаились, теперь неспеша набираются сил… и любая минута может стать роковой.
Поэтому, когда они узнали о плане Саргона – а он постарался, чтобы они узнали, поднял через Велимира справки старой жандармерии об участниках кровавых событий, – сразу согласились. Убежденные, несломленные фанатики, давно уже ставшие домашними собачками, тихими, спокойными, просто раздраженно рычащими… но все еще верящими.
Наконец они оказались в шаге от того, чего так долго жали.
Думали, что все организуют боги. Оказалось – человек. Саргон.
Той ночью они говорили долго. Обсуждали, прикидывали, пили вино и постоянно теребили медальоны в руках: худых и толстых, грубых и нежных, морщинистых и молодых, с короткими и проворными, или длинными и неспешными, будто проржавевшими, пальцами. Потом, незадолго до рассвета, до того, как небо вдалеке стало наливаться цветом, словно за горизонтом наконец-то созрел бесстыже-синий, отливающий голубым перламутром виноград, разошлись в прохладе ночи, кутаясь в плащи, куртки, пальто, слегка раскрасневшиеся от вина, но сохранившие трезвость и уверенность в завтрашнем – или уже сегодняшнем? – дне.
Только Сарогн, уходя, недобро посмотрел на зеркала. Заметил нечто, обеспокоившее его, нечто смутно знакомое. Остановился, замер, вгляделся в свое отражение, потом покрутил кольцо-астролябию на пальце – узор колечек изменился, уступая место иным клинописным символам. Саргон собирался прошептать что-то, но остановился. Только улыбнулся, снова сквозь маску, и неслышно, как легкий, по утру поднимающийся в березовой роще ветер, протянул «ну-ну». Неосязаемым, тонким дыханием, растворившемся в просторном зале с исполинским сервантом, стройными канделябрами, пышной люстрой; в зале, будто созданном для того, чтобы хранить секреты – и несказанные слова.
Утро Аны началось с комка в горле – ей срочно нужно было поговорить с Алексасом, но появляться у старой графини не стоило ради его же блага. Разъяренная тетушка, Ана знала наверняка, будет громче и опасней любой Иерихонской Трубы. Вчера жрица так замоталась на службе, что решила отложить разговор до утра – теперь жалела, проклиная себя самыми страшными словами.
Ану с детских лет учили молится. Сначала – одному богу, потом, когда мир изменился – совсем другим богам. А она хотела заниматься совершенно иными вещами: не теми, что сулило недалекое будущее, словно нитями судьбы сплетаемое не устами греческих сестер-Мойр, а гувернантками и учителями, воспитывающими курсисток: эту нитку сюда, этот корсет затянуть потуже, этот поклон пониже… Чем старше Ана становилось, чем больше вникала в тонкости окружающего мира и общества, тем больше понимала – тогда, двадцать лет назад, шанса не было никакого. Абсолютная безнадега. Сейчас же он появился – маленький, незаметный, как свет далекого маяка в туманную ночь. И Ана устремилась к нему, да только ничего не менялось. Молитвы, чернилами въевшиеся в сознание в детстве, словно записанные на податливом папирусе, дали о себе знать – Ана посчитала, что для начала можно побыть жрицей… Дальше – посмотрим. Пусть прекрасно знала, что это, во-первых, дело это не женское – освистают, – а во-вторых – стремление ее априори невозможное. Женщин не берут в храмы. И вообще берут мало куда…
Ана опустила было руки, но потом встретила Алексаса. Такого же непреклонного, бьющегося за свои решения и идеи до последней крови, и от этой же крови падающего в обморок – и как можно было не полюбить его? Что это, если не божественный огонь, подаренный судьбой, чтобы тот далекий невозможный маяк за семью морями на краю света запылал ярче? Мир Аны заиграл новыми красками – все показалось возможным.
Увы – такая метаморфоза была лишь оптической иллюзией.
А потом Ана умерла – и все случилось само. Против богов не смогли пойти даже самые консервативные скептики.
На самом-то деле, когда Ана вернулась – сама так и не поняла, откуда, то ли из небытия, то ли из воспоминаний, то ли из Дуата, – думала, что все теперь будет иначе: все-таки, она уже не совсем человек. Но, если не брать в расчет мелочи, жизнь оставалась такой же. Узор линий судьбы, как любили говорить оракулы, остался идентичным, только пара закорючек – прибавилась, пара – убавилась.
Распорядок дня остался штатным. Так что сперва, девушка позавтракала – на удивление, есть ей хотелось и в своем новом состоянии. Сначала кусок не лез в горло от переживаний, но потом тарелка опустела практически моментально. Так же быстро кончился крепкий, чуть вяжущий чай с медом – улетел настолько незаметно, что пришлось наливать вторую кружку.
– Зачем же я это услышала, – мельтешила мысль на краю сознания. – Нет, действительно, зачем…
Она еще с ночи не могла взять себя в руки – под утро ворочалась, думала, думала, думала – так сильно, что в конце концов голова разболелось, и как назло – в самом неудачном месте, будто бы глазницы наполнили сжатым воздухом.
Ана решила для себя: очень важно, что я это услышала. Не услышь я – не услышал бы никто. А тогда…
Впрочем, загадывать и спекулировать она никогда не любила. Просто твердо решила – все, что ни делается, к лучшему. И нужно обязательно рассказать Алексасу. Или Виктору. Но жандарм не вызывал особого доверия – в том смысле, что моментально сорвался бы с места, узнав бы. В этом деле, как казалось Ане, нужна была выдержка, нерасторопность… не как в безудержном приключении, а скорее как в хорошей бульварной мелодраме. Тут девушка тихонько рассмеялась, за спиной на мгновение возникли призрачно-зеленые крылья – вспомнила, как учитывалась теми самыми мелодрамами, когда была подростком. И нигде, главное, ни разу не упомянули, даже намека не дали на то, что можно вот так взять и в один прекрасный день превратиться в овеществленное ка.
Ана позавтракала и отправилась в Собор Вечного Осириса.
Выскочила она, конечно, из зеркала. И если бы ее попросили описать, каково оно, измерение меж зеркал, которое кто-то зовет миром духов, кто-то – богов, кто-то – сами Дуатом, Ана… не смогла бы.
Такое не выразить словами. Только неуловимыми ощущениями.
По Собору Осириса – не в подземном помещении – носился Якуб.
– Боги, тут все не так! Это надо переставлять, никакого стиля – у вас тут стены в иероглифах, пару витражей, и все! Самое привлекательное – под землей! Ну как же вы так… Боги, дайте мне сил!
Ана чуть попятилась – надеялась, что имиджианист, как она прозвала его про себя, не успел ее заметить. Тщетно.
– У него что, глаза на затылке? – промелькнуло прежде, чем Якуб скользнул к ней.
– Вот! – вскрикнул он, обводя руками Ану. – Учитесь! Ни кожи, ни рожи, а…
Он осекся, вспоминая события вчерашнего дня.
– Я хотел сказать, ничего такого – но эффектно! Волосы цвета северного сияния, призрачный хвост… ну, был вчера. И, вишенка на торте… а можешь сделать крылышки за спиной? Как вчера?
– Я тут не фокусы показываю, а делом занимаюсь. В отличие, видимо, от некоторых.
– Ну, ну, фокусы – как раз то, что нам нужно, – угловатое лицо Якуба просияло. – Скоро Пасха, людям нужно чудо. А лучший способ устроить чудо – устроить шоу. Волшебство своими руками без волшебства!
Ана заметила епископа, стоявшего в углу и мрачно наблюдавшего за происходящим. Тот будто пытался сам себя убедить, что все это просто один дурной сон, только слишком реалистичный.
Невероятным образом, Якуб и это заметил.
– Ну что же вы так хмуритесь! Я же понимаю, что такое мистерия, и что она не спроста так называется. Но… Это все пусть будет потом. Сначала – хотя бы маленькое шоу. Вспомните, как дело было в древнем Риме – культ для народа, культ на глазах у всех! Публичность превыше всего.
– Мы не в Риме, – словно прочитав мысли Аны, протянул епископ, уставившийся на витраж, где Исида из цветного стекла оплакивала Осириса. – И уж тем более не поклоняемся римским богам.
– Слушайте, – вздохнул Якуб, наконец убрав руки из-за спины. Потер переносицу и снова сомкнул руки, спрятав. Цаплей зашагал по залу. – Хотя бы в этом году, давайте сделаем все иначе. Меня его императорское величие, да будет он жив, здоров, и могуч, попросил. Думаете, просто так? Поймите: Сердце Анубиса, Пасха, гости…
– Интересно, почему именно Анубиса? – вдруг прошептала Ана – достаточно громко, чтобы ее услышали. Попыталась хоть как-то разрядить обстановку – видела, как епископ потихоньку начинал увядать.
– Кто знает, – пожал плечами Якуб. – Людей я вижу насквозь, богов – отнюдь.
– Раз вам и императору, да будет он жив, здоров и могуч, это кажется таким важным, – вздохнул епископ, наконец повернувшись к Якубу лицом и отойдя от витража, – да будет так. Гранд-губернатор, я так понимаю, не против?
– Если вообще в курсе, – добавила Ана и тут же прикусила язык.
К ее удивлению, Якуб рассмеялся.
– Думаю, более чем. Вы же знаете нашего гранд-губернатора, – он поправил пиджачок и повернулся к девушке. Приподнялся на носках, чтобы стать с Аной одного роста. – Ну, тогда может все-таки крылышки, а?
…жаркие пески накрывали его с головой, обжигая щеки, утягивали на самое дно склизкими щупальцами бреда. И когда мир вокруг гас, бешеные песчаные бури – бесчисленные – оборачивались ночными, черными, будто окроплёнными грешной кровью. Среди этого беззвездного неба, он – всего лишь песчинка в безумии развратного хамсина [6]. Он терялся, проваливался и вырывался вновь, успевая сделать лишь один сладкий глубокий вдох, наполнить легкие морозным воздухом, чтобы потом опять кануть туда – к беззвездному небу из черного песка…
Он ждал очередного вдоха – но ничего не случилось.
И чернота словно стала еще чернее, хотя, казалось, цвета и так достигли своего апогея, и это небо из бурь и вихрей вдруг вспыхнуло не звездами, а глазами – еле-различимыми, мрачными грифельными силуэтами на черном фоне.
Тогда, когда все тысячи глаз заморгали и уставились на него, он наконец-то услышал звуки. Сначала отдаленные, как далекий подземный гогот медных барабанов, но потом – все четче, осознанней. Они складывались в слово, одно единственное, но повторяемое бесконечное количество раз. Слово, жужжанием пчелиного роя заполнившее все вокруг, заставив черноту колебаться:
Бэс… Бэс… Бэс… Бэс! Бэс!! Бэс!!!
Алексас очнулся, сделав спасительный вдох. Во рту пересохло так, что даже сглотнуть не получалось. Кое-как придя в себя, Алексас, пошатываясь, добрел до маленькой раковины в углу комнаты – порадовался про себя, что прогресс, храни его боги, не стоит на месте, потому что еще лет десять назад о водопроводе в доходных домах и мечтать не могли.
Прохладная вода отогнала сонный морок и смыла непонятно откуда взявшийся привкус песка на пересохших губах. Цирюльник выглянул в окно – живописных видов он не ожидал, что уж там просить от однокомнатной квартиры с видом во двор с колодцами, отхожими местами, решеточками ледников на соседних стенах и совершенно не вписывающимися сюда кустами сирени. Дворы родного города вообще зачастую напоминали Алексасу осенний лес: когда после летнего солнца и затяжных дождей повылезали грибы, большая часть из которых – поганки и мухоморы.
Зеркала в комнате не было, так что волосы Алексас Оссмий поправил, глядя в отражение оконного стекла. Цирюльник собрался, оделся, вышел из своей однокомнатной квартирки и пошел к черной лестнице. Преодолев комнаты, разделенные перегородками, за каждой из которых похрапывали жильцы – так однокомнатная квартира превращалась в пятикомнатную – Алексас толкнул дубовую дверь и заспешил вниз. Прохладный, сырой воздух будто бы лип к телу.
Спустившись в парадную, Алексас снял специальные калоши с уличной обуви, – их носили, чтобы в квартирах было чисто, – и поставил к остальным, ютившимся в углу. Оставался последний рубеж – преодолеть аптеку. И ладно бы, просто преодолеть – куда тут денешься, когда каждый день приходится проходить через нее, чтобы выйти на улицу.
В этот раз Алексасу нужны были лекарства. С удовольствием приобрел бы их в другом месте, да вот только Лука – невесть как – доставал такие препараты, о которых другие аптекари даже не слышали.
Покрутив в руках медальон в форме солнечного скарабея, цирюльник глубоко вдохнул, отгоняя воспоминания о сне, до сих пор туманом обволакивающие затворки сознания.
Лука Лицедеев встретил его той улыбкой, которой мог только он – сладостно-добродушной и лицемерно-мерзкой одновременно.
– И стоит ли мне желать тебе доброго утра? – фармацевт поправил конский хвост.
Алексас терпеть не мог эти мизансцены от Луки – они все равно вели к спектаклю, идущему по одному и тому же сценарию с вполне себе понятной моралью, даже задумываться не приходилось. Он, Алексас, увел у фармацевта Ану, а она, по всем логическим законам и знамениям судьбы, должна быть именно с Лукой.
Спектакль, в лучших традициях, не имел ничего общего с действительностью.
– Не стоит. Добрым оно и не было, – махнул рукой цирюльник. – Я за лекарствами.
Алексас Оссмий вытащил из кармана смятую бумажку с карандашными каракулями и протянул Луке.
Тот нарочито медленно взял ее, прищурился, потом приторно-театрально попросил подождать секундочку и достал маленькие очки – старенькие, из тех, что использовали еще до явления богов старого Египта. Поцокав несколько раз, Лицедеев все так же неспешно убрал очки.
– И что же это с тобой случилось? При таком букете лекарств я только гадать могу, какой у тебя букет болезней! – он потряс бумажкой с рецептом. – А вообще, желаю всего лучшего на том свете. Я бы тебе больше недели не давал, хотя с удовольствием дал бы и меньше.
– Тетушке, – вздохнул Алексас. – Это все тетушке.
– Старой графине совсем поплохело в последнее время? Хотя, как я помню, ей всегда-то было не особо хорошо – особенно когда дело касалось тебя и анекдотов, – Лука сделал паузу, чтобы цирюльник уж наверняка осмыслил его слова. – За лекарством заходи после…
Он зашелестел блокнотом, перелистывая страницы.
– После, после, после… послезавтра!
– Если раньше никак…
– Совсем никак, – Лука спрятал рецепт в карман. – Такая загруженность! Передавай тетушке привет.
Боги, и на что он надеялся? Алексасу все порядком поднадоело – он просто кивнул. Уже собирался уходить, как услышал шепот, брошенный ему вслед:
– И все равно все будет, как должно. И она будет со мной.
Цирюльник остановился и, не поворачиваясь, ответил:
– Боги нас рассудят.
И только выйдя на улицу позволил мысли, давно зудящей в голове, прозвучать отчетливо:
– Если они вообще могут что-нибудь рассудить. Если вообще – могут.
Пьянящая сирень и утренняя прохлада тут же развеяли послевкусие и сна, и разговора с Лукой. Алексас, щурясь от солнца, пока еще не затянутого тучами, дождался омнибуса, в тесноте и тряске отправился к тетушке. В этот раз, после вчерашнего происшествия, сидел, как на иголках. Прогулялся бы пешком, как любил, но не успел бы, не ближний свет. Тетушка жила почти на отшибе города, в небольшом особняке, и до сих пор сокрушалась, что Алексас не может снять себе ну хотя бы пятикомнатную квартиру. Все живет в каком-то паршивом доходном доме, пользуясь черной лестницей!
Тетушка вообще часто сокрушалась – по поводу или без.
Чаще, конечно, без.
Расплатившись с извозчиком и сойдя с омнибуса, цирюльник уставился на особняк. Розовый, как кукольный домик, с лепнинами над окнами, украшенными по старинке, древнегреческими нимфами и сатирами. Тетушка всегда старалась шагать в ногу со временем, так что пару египетских криосфинксов, сделанных на заказ, все же установила, но у входа, по обе стороны от перил. Алексаса они встретили молчаливым, безучастным взглядом.
После цирюльника встретил уже молчаливый лакей, предложил сменить обувь на домашнюю. Алексас не сразу понял, что от него хотят – настолько привык к калошам. Лакей очень доходчиво повторил сказанное и, когда проблема решилась, повел Алексаса на второй этаж, в покои тетушки. В целом, внутри дом оставался все тем же кукольным домиком – не ослепляющим роскошью, но дававшим понять, что хозяева вполне себя смыслят в последних веяниях моды, губа у них не дура. Картины цветными пятнами висели на стенах, золотистые лозы винограда ползли по лестничным перилам, а люстры походили на гроздья горного хрусталя.