Читать онлайн Табия тридцать два бесплатно
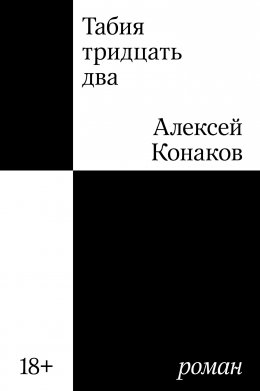
© А. Конаков, 2024
© ООО «Индивидуум Принт», 2024
* * *
* * *
Вместо неухоженного города, разоренной страны, холодной весны; вместо тайно движущихся материковых плит, летящих из космоса элементарных частиц, вспыхивающих звезд и вращающихся планет; вместо самой бесконечной Вселенной – было одно счастье.
Счастливый, Кирилл выходил из дома, глядел на часы, спешил на трамвай.
Счастливый, забывал читать специально взятую («трамвайную») книгу.
Счастливый, искал огонек в том окне близ Петровской набережной.
Вскачь на третий этаж с бутылкой вина (прекрасный букет, скажет потом Майя), все плывет и катится перед глазами; паролем – легкий стук в дверь, отзывом – поцелуй.
Поцелуи.
(Ою-ею, молодые страсти, потолок покрасьте, давай сначала ты сверху, а потом рокируемся, улыбки, съедаемые вместе с поцелуями, хитрые комбинации, долгие маневры, тихие ходы, плеск вина (дешевого, дрянного на самом деле), что теперь, финальная перемена положения, в эндшпиле, учил доктор Тарраш, обязательно ставьте ладью сзади пешки, не опоздать бы на пары, но сколько же у тебя сил! Затем курить (тоже дешевые, дрянные папироски). Лежа на клетчатом покрывале, болтать о любом, о всяком.)
– В следующую пятницу день рождения Ноны, пойдем? – спрашивает она.
– Можно, да! Хотя пока не уверен. У Ноны, наверное, будет Андрей?
– Эм-м, Брянцев?
Ах, опять Брянцев! Брянцев раздражает Кирилла, и Майя это знает, и каждый раз пытается как-то засушить позицию, уверяя, что сама с трудом выносит Брянцева; но эффекта от ее слов немного. Ты с ним так запросто ведешь себя, словно он твой близкий друг, говорит Кирилл и добавляет, помолчав: хотя ты и со всеми общаешься просто.
– Только не с Брянцевым. Он груб и чудовищный невежда, и никакой не лучший друг, тут неточность, я его видела-то в жизни два-три раза, наверное, все у Ноны. Меня, наоборот, страшно сердят именно такие люди, как Андрей, поверхностные, и особенно если глупо бравируют этим. Ну пусть бравирует! Вот только о чем с ним говорить, когда он Шлехтера от Шпильмана не отличает (не буквально, конечно, но ты понимаешь)?
– Да? А мне кажется, у него рождаются иногда оригинальные мысли.
– Ха, так, может быть, ты сам увлечен Брянцевым, а приписываешь мне?
– Спасибо, я счастлив только с тобой.
Сколько лет было этому счастью? – от силы полгода – и оно длилось пока, не думало завершаться, хотя и помимо счастья возникали вдруг дела, вырастали заботы – требовали внимания, решения; требовали трат и усилий (и смертной скуки порой). Что же, студенткам, как Майя, так и надобно наслаждаться жизнью, но аспирантам, как Кирилл, уже следует обретать серьезность, носить документы по кабинетам (и очки на носу).
Так какая у вас тема, коллега?
Темой была «история Берлинской стены», и именно благодаря своим (студенческим еще) исследованиям этой темы Кирилл переехал прошлой осенью в Петербург – из родного Новосибирска. (Ах, Новосибирск, восхищалась Майя и расспрашивала иногда о жизни Академгородка («Там правда тайга вместо центральной площади и профессора катаются на лыжах?»), но Кирилл мало что мог ей рассказать. Я болел постоянно, говорил Кирилл (голосом почти виноватым), никаких лыж поэтому, и на коньках не умею. Только читал целыми днями (ночами), остановиться не мог, а у отца хорошая библиотека; сначала изучил книжки Суэтина и Нейштадта, потом принялся за собрания сочинений классиков.) Так складывалась партия; талантливый юноша мог остаться в родном НГУ (местная кафедра истории с каждым днем расцветала все краше), звали его писать диссертацию и в МГУ, в Москву, но он выбрал Петербург – и все отлично понимали почему.
Из-за профессора Уляшова, разумеется.
Имя Дмитрия Александровича Уляшова было овеяно легендами; в академических сферах оно произносилось с придыханием и добавлением непременных титулов: «патриарх отечественной гуманитаристики», «основоположник российской культурологии». Если верить слухам, великолепный взлет Уляшова начался в первые годы Переучреждения, когда его – молодого исследователя, занимавшегося композиторами Российской империи и СССР (Троицким, Куббелем, братьями Платовыми), – неожиданно привлекли к работе в Правительстве страны. Задача, поставленная перед Уляшовым, заключалась ни много ни мало в «корректировке», как тогда выражались, «культурного кода россиян». И Уляшов справился блестяще. Он разработал общую концепцию «новейшей культуры», детальную «дорожную карту», лично контролировал ход реформ – и с тех пор стал считаться одним из отцов-основателей посткризисной России. На кафедре шептались, что, хотя Дмитрий Александрович и вернулся потом из Правительства в университетскую твердыню СПбГУ, связи профессора с высшим политическим руководством по-прежнему крепки, а в записной книжке имеются телефонные номера как минимум четырех премьер-министров.
То, что такой человек на девятом десятке продолжал набирать аспирантов, само по себе казалось фантастикой. И уж явной фантастикой был тот факт, что Уляшов прочитал две статьи Кирилла о Берлинской стене и – по-видимому, найдя в них что-то небезынтересное, – предложил ошеломленному юноше свое научное руководство.
Кто бы тут раздумывал?
Так Кирилл отправился в Петербург, где его оформили в аспирантуру СПбГУ («с предоставлением К. Г. Чимахину талонов на питание и места в общежитии») и где он планировал провести три ближайших года в утонченных беседах и искусных спорах с мэтром. Увы, буквально за неделю до приезда Кирилла Уляшов угодил в больницу с инфарктом миокарда. Реабилитация обещала растянуться на неопределенно долгое время; volens nolens пришлось искать другого руководителя, которым в итоге стал Иван Галиевич Абзалов – тоже профессор, доктор наук и один из лучших учеников Уляшова.
Научрук Абзалов – это было прекрасно; это было почетно; это было интересно и многообещающе; и это было совершенно не то, о чем успел размечтаться Кирилл.
То ли Иван Галиевич чувствовал разочарование Кирилла (и это разочарование его задевало), то ли не очень интересовался именно Берлинской стеной, то ли ему просто недоставало личного обаяния и харизмы, но Кириллу казались невероятно скучными разговоры с этим непрошеным руководителем, и он охотно жаловался Майе на сухость, холодность, ограниченность и даже «узколобость и замшелость» Абзалова. (Э-э, почтенные старцы, берегитесь обманутой в ожиданиях молодежи. Она возведет на вас и не такую напраслину. Кирилл был явно несправедлив к Ивану Галиевичу, который пусть и вправду чуть скучно, но аккуратно и доброжелательно знакомил аспиранта с тайнами исторической науки. Берлинская стена действительно могла обождать (на диссертацию как-никак отводилось три года). Куда важнее было разъяснить юному исследователю ряд ключевых, краеугольных фактов – фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры (а значит, и новейшей российской истории, и новейшего российского общества); фактов вроде бы хорошо известных, но на самом деле почти позабытых, затертых до неузнаваемости за пять с лишним десятилетий, прошедших с Переучреждения; фактов, четкого осознания которых требовал от учеников и аспирантов Дмитрий Александрович Уляшов. Абзалов установочные речи учителя помнил чуть ли не наизусть – и передавал их Кириллу практически такими же, какими сам услышал от Уляшова четверть века назад.
В принципе информация не была сложной; для удобства и доходчивости Дмитрий Александрович представлял свою культурно-историческую концепцию в виде четырех коротких утверждений – так называемых постулатов Уляшова. Первый (самый дерзкий) постулат гласил, что именно «новейшая российская культура» лежит в основе настоящего и будущего процветания России. Второй (самый неочевидный) постулат заявлял, что эта «новейшая российская культура» гораздо более молода и более хрупка, чем кажется. Из второго постулата следовали третий (предостерегающий: любые исследования «новейшей российской культуры» должны вестись таким образом, чтобы случайно не нанести ей, слишком еще нежной и слабой, непоправимого вреда) и четвертый (консервативный: исследователи являются не только исследователями, но, что гораздо важнее, также и хранителями «новейшей российской культуры»). (На последнем постулате Уляшов, как правило, впадал в торжественный пафос и произносил длинные вдохновенные монологи, завершающиеся внезапным выводом о том, что ученые всех гуманитарных кафедр страны образуют своего рода тайное «братство посвященных», цель которого – буквально «оберегать Россию». Иван Галиевич Абзалов по складу характера не был способен на такие речи (успешно подменяющие аргументацию риторикой), и у Кирилла возникала масса вопросов: почему культура «молода»? почему «хрупка»?
И что такое страшное угрожает России?
Абзалов довольно подробно (и довольно скучно) отвечал Кириллу, рисовал схемы, ссылался, заглядывая в необъятную картотеку, на какие-то статьи и подчеркивал, что «постулаты Уляшова образуют связную и логичную систему, позволяющую описывать положение дел в культуре». Но в чем суть системы – так и оставалось неясным.)
Здесь размышляющего Кирилла приводит в себя легкий удар подушкой.
Ах, говорит Майя, из-за твоих жалоб на Абзалова я чуть не забыла сообщить самую главную новость! Кирилл замолкает, глядя на подругу (тишина; только счастье звенит в ушах). Новость, продолжает Майя восторженно, такая: папа рассказал вчера вечером, вышла новая резолюция ООН по России, там отмечаются всяческие успехи страны, и благоприятный прогноз, и… решение снять Карантин на пять лет раньше! Каисса, Каисса! Вот это восклицательный знак! Я так обрадовалась! ООН уже второй раз за пятнадцать лет уменьшает срок. Если они продолжат такими темпами, открытие состоится до конца XXI века. Представь, мы еще сможем увидеть весь остальной мир. О, Кирилл, а если бы Карантин сняли прямо сейчас и у тебя были бы деньги, много-много денег, куда бы ты поехал? Кирилл улыбается: я всегда мечтал увидеть Вейк-ан-Зее. А ты?
– А я бы в Линарес!
– Оу! Да!
Он целует ее, она его, и они замирают, на миг задумавшись, обнимая друг друга, шепча вместе легкое, ласковое, одно на двоих невозможное слово «Линарес», и потом смеются, и пьют вино, и забираются глубже под многоугольное одеяло (столько раз перешитое Майей), и опять начинают какое-то хитрое маневрирование; а на мобильном телефоне Кирилла отключен звук, и Кирилл не знает, что ему уже два раза звонил Абзалов.
* * *
Все двадцать (с небольшим) лет своей жизни Кирилл был человеком крайне болезненным; как следствие – домашним; потому – целомудренным. Книжный мальчик с томиками Марка Дворецкого подмышкой, к пряным «зрелым» удовольствиям он начал приобщаться, только переехав в Петербург. Собственно, Майя (рассеянная, веселая Майя) стала его первой женщиной, и тайны ars amandi[1], открытые ею ему, потрясли Кирилла.
Подобно тысячам тысяч других книжных мальчиков во все времена, Кирилл совершенно не мог понять, какие достоинства находила в нем – нелепом и нескладном провинциале – блестящая столичная девушка. Вероятно, именно поэтому он регулярно (и во всех подробностях) вспоминал обстоятельства своей с Майей встречи – словно бы надеясь отыскать в той первосцене ответы на все вопросы. Ретроанализ (раскручивание назад цепочки сделанных ходов) позволял прийти к выводу, что благодарить за нечаянную радость знакомства следует a) сухаря Абзалова и b) отвратительный петербургский климат. Дело было в ноябре, который выдался чрезвычайно промозглым; на кафедре, как обычно, почти не топили, по коридорам и кабинетам гуляли страшные сквозняки. В таких условиях преподаватели спешили разбежаться сразу по окончании лекций, манкируя бумажной работой, и только Иван Галиевич никуда не уходил, педантично отбывал присутственные часы и разбирал содержимое огромных картотек – в результате чего довольно скоро слег с простудой. Заменяя Абзалова, Кирилл вынужден был провести несколько занятий спецкурса по гипермодернизму. Гипермодернизм Кирилла почти не интересовал, но именно на этот спецкурс пришла однажды Майя, собиравшаяся писать диплом о Дьюле Брейере.
Вот тогда и соединились линии, совпали варианты.
(Ничего нового не узнала о Брейере, зато очень многое о Чимахине, – смеялась Майя, лежа в постели. Хвала гипермодернистам, – отвечал в тон Кирилл, – а еще арктическим воздушным массам, режиму строгой экономии топлива и слабому иммунитету Ивана, дай бог ему здоровья, Галиевича!) Эта «гипермодернистская» подкладка встречи немного успокаивала Кирилла; пусть он, тощий, лохматый, чуть косящий глазами, и весной и осенью кутающийся в одну бесформенную кофту, скрывающий застенчивость за излишней горячностью, выглядит рядом с Майей (настоящей красавицей, умеющей очаровывать людей) персонажем почти карикатурным – построения гипермодернистов тоже когда-то выглядели почти карикатурными, но в итоге оказались вполне жизнеспособны.
Впрочем, продолжая сравнение с гипермодернистами, приходилось признать за ними два значительных преимущества – насколько известно, они, отстаивая собственные позиции, никогда не мучились a) ревностью и b) похмельем. Легкий и рассеянный нрав Майи, ее воздушная общительность причиняли Кириллу множество жесточайших мук (хотя он изо всех сил старался удавить в себе ревнивца); хуже того: злые языки называли причиной такой легкости и рассеянности любовь Майи к алкоголю – что, разумеется, было совершенной неправдой, хотя Майя и ценила сухое (и полусладкое) красное (и белое) вино и, вообще говоря, являлась главной наставницей Кирилла и в этих забавах тоже.
Забавах?!
Пить Кирилл не умел; опьянение не доставляло удовольствия, и всего одного бокала цимлянского было достаточно, чтобы голова с утра раскалывалась на части. Но Майя увлекала, Майя манила, и он шел на поводу у желаний подруги – а на следующий день страдал (скрывая эти страдания ото всех). И если бы дело ограничивалось головной болью! Вместе с ней приходили к Кириллу приступы хандры и откровенно мазохистского самокопания, интеллигентских (в плохом смысле слова) мучений и терзаний. Человек совестливый и умеющий анализировать, Кирилл, как выражались его сверстники, «чуял свой гандикап» – понимал привилегированность собственного положения. Множество одноклассников Кирилла давно добывали пропитание тяжелым однообразным трудом; множество однокурсников – вряд ли менее талантливых, но явно менее удачливых – так и не получили шанса всерьез заняться наукой (которую искренне любили). Страна в целом жила бедно и трудно, экономя почти на всем, кое-как сводя концы с концами, избывая наследие Кризиса, выполняя обязательства, взятые на себя в эпоху Переучреждения. И, несмотря на общий оптимизм, владевший гражданами России последние десять лет, лишь немногие могли похвастаться планами, грезами и мечтами; подавляющее большинство населения тратило все силы для простого реагирования на вызовы повседневности.
Впрочем, в это конкретное утро причина горького раскаяния Кирилла оказалась совсем другой. Проснувшись в десятом часу (соседи по комнате, Ян и Толян, давно ушли), он потянулся к телефону и обнаружил два пропущенных вызова и СМС-сообщение от Ивана Галиевича: «Дорогой Кирилл, перезвоните asap. Вас хочет видеть Уляшов».
Ох!
Новость эта была бы ошеломительной и для здоровой головы.
Целую вечность назад, когда только случилась вся история с переездом в Петербург, с инфарктом Уляшова и с появлением (откуда ни возьмись) Абзалова, Кирилл справлялся у нового научрука о возможности встречи с Дмитрием Александровичем. Иван Галиевич отвечал очень неохотно, кивал на запреты лечащих врачей, обещал что-нибудь узнать «немного позже» и – Кирилл был уверен – не сдержал обещания: потому что «не нужно» и «нецелесообразно», и уж коли решено, что работой аспиранта Чимахина руководит профессор Абзалов, а не профессор Уляшов, то и нечего аспиранту Чимахину лезть к профессору Уляшову в обход профессора Абзалова (тем более что таких прытких юных аспирантов много, а Дмитрий Александрович один и еще не выздоровел). С каждым днем подозрение казалось все более справедливым; очевидно, Ивана Галиевича уязвляло стремление Кирилла увидеть Уляшова – и он специально ничего не делал. Осень сменилась зимой, потом пришел март, апрель, угадывался уже впереди конец учебного года, Абзалов твердил те же самые отговорки («врачи пока запрещают»), и Кирилл совсем перестал надеяться (и только сокрушался иногда: ладно уж, не случилось поработать с Уляшовым, но хотя бы разочек пообщаться, хотя бы за руку разочек поздороваться с великим Д. А. У.).
И вот, оказывается, все совсем по-другому.
Кирилл тут же бросается звонить Абзалову: дорогой Иван Галиевич, да, извините, был занят вчера, да, в библиотеке, занимался, телефон без звука, как здоровье Дмитрия Александровича, так рад, очень рад, долго пришлось ждать, спасибо, Иван Галиевич, а когда можно – ах, прямо сегодня? (Каисса!) Да, разумеется, могу, конечно буду, да, адрес записываю, возле «Алехинской», к шести часам вечера, понял, спасибо, спасибо!
Оу, это ощущение открытых линий, распахнутости мира во все невозможные стороны, когда сбывается что-то настолько долгожданное, что уже почти позабытое.
Однако вслед за волной восторга на голову похмельного Кирилла обрушивается и глубочайшее раскаяние. Ему стыдно: он подозревал Ивана Галиевича в мелких подлостях, и непристойно клеветал в душе, и нафантазировал целую сеть обмана, якобы сплетенную вокруг талантливого аспиранта завистливым профессором, когда на самом деле рядом замечательные, порядочные люди, и Иван Галиевич сдержал обещание, и Дмитрий Александрович не забыл про Кирилла, и только сам Кирилл абсолютно не достоин ни внимания, ни расположения, а еще эта ложь про библиотеку, и зачем соврал, трус, лентяй, только гадкий человек станет думать о других гадко, ах, пьяница-ца!
(Что ж, обычные качели, известные всякому, кто бывал в абстиненции.)
Увлекшись самобичеванием, испытывая смешанное чувство благодарности и вины перед Абзаловым, Кирилл вспоминает чуть ли не все разговоры, которые он вел с Иваном Галиевичем за последние полгода, с нарастающей неловкостью прокручивает их в уме, убеждаясь, как тактичен и обходителен был Абзалов и как глуп, дерзок, местами почти развязен в собственных (еле замаскированных под «вопросы») нападках был сам Кирилл.
Увы, печальная истина, приходится признать.
В беседах на кафедре Кириллу всегда хотелось задеть Ивана Галиевича, уколоть, опровергнуть; выявить якобы «некорректные» мыслительные ходы научрука.
(– Иван Галиевич, а вы ничего не путаете, сам Уляшов так учит? (О, как стыдно Кириллу вспоминать свои речи.) Ну как это может быть, что российская культура «очень молодая», ну ведь это же фактически неверно, два вопросительных знака. Куда вы дели творчество Чигорина, Шифферса, Шумова, Яниша, Петрова? Александр Петров родился в 1799 году, двести восемьдесят лет назад – какая же это «молодая культура»?
А что Абзалов?
Суховато отвечал, что пять человек на весь XIX век – это не культура вовсе, но просто одиночки и чудаки, которые, увы, ничего не изменили и ни на что не повлияли. Чтобы культура стала культурой, она должна набрать некую «критическую массу» – людей, идей, книг, разговоров, интересов; в России такая «критическая масса» была набрана только к 2030-м годам, уже после Переучреждения. Кроме того (строго смотрел на дерзкого аспиранта научрук), знаете ли вы, у скольки процентов населения России в XIX веке имелись дома доски? У трех процентов.
Кирилл шел в библиотеку, что-то искал, готовил новые варианты и опять приступал к Абзалову: «Неточность, дорогой Иван Галиевич! Я осведомился о количестве читателей советского журнала „64“, о тиражах книг Бронштейна и Кереса в шестидесятые годы ХХ века – там сотни тысяч. Возможно, вы правы насчет Петрова и Чигорина – тогда рано было говорить о российской культуре; возможно, даже в эпоху Александра Алехина и Ефима Боголюбова российской культуры не существовало, но по поводу послевоенного СССР нет никаких сомнений. Люди в очередях стояли, чтобы посмотреть матч за звание чемпиона мира, в газетах задачи и этюды отгадывали, играли в парках на каждой скамейке. Вот уж где „критическая масса“. Так что лет сто двадцать нашей культуре точно есть». Иван Галиевич разъяснял: «Лет пятьдесят нашей культуре, дорогой Кирилл, лет пятьдесят, а то, что вы узнали про тиражи книг Бронштейна и Кереса, – просто особенность советской эпохи, тогда все книги, на любые темы, выпускались огромными тиражами. Вам кажется, что многие в СССР интересовались культурой, но если сравнить количество этих „многих“ с количеством тех, кто интересовался, например, спортом или наукой, то станет очевидно, что „многих“ совсем немного. Увы, ничем настоящим там еще не пахло – так, нишевое увлечение, род необязательного хобби, форма досуга, едва заметная большинству».)
Утверждения Абзалова, ссылавшегося на Д. А. У., вызывали у Кирилла сильнейшее недоверие – так как резко противоречили всему, что знал и помнил, о чем читал, к чему с младых ногтей привык сам Кирилл. Может быть, Абзалов неверно понимал Уляшова?
– Иван Галиевич, почему вы говорите, будто бы до Переучреждения культура была незаметна большинству? Памятник Ботвиннику на площади Искусств отлично виден всем. А мое общежитие находится возле станции метро «Спасская», открытой аж в 2009 году, когда о Переучреждении не думали вовсе. И еще масса примеров повсюду.
– Кирилл, памятник Ботвиннику водрузили на пятый год после Переучреждения, до этого там стоял памятник, кажется, погибшему дипломату Грибоедину, а станция метро «Спасская» изначально названа не в честь чемпиона мира Бориса Спасского, но в честь церкви Спаса Всемилостивого, когда-то располагавшейся на месте вестибюля.
– Что же, и мозаика с изображением Бориса Васильевича на входе в вестибюль…
– Добавлена после Переучреждения.
Вероятно, для правильной оценки этой позиции Кириллу требовалось разобраться, почему Абзалов (а значит, и Уляшов) так настойчиво связывал «новейшую российскую культуру» с событием Переучреждения России. На первый взгляд, подобная связь не имела смысла – Переучреждение, произведенное после Кризиса, затронуло только политическую сферу: вопросы территорий, границ, управления страной, новой Конституции и т. д. При чем тут памятник Ботвиннику и переназванная в честь Спасского станция метро?
– Иван Галиевич, ну ладно топонимы, ладно памятники, но ведь культура разлита во всем, люди погружены в нее с раннего детства, с того момента, как начинают слышать речь, как начинают существовать в обществе. Я уж не говорю про школу – там процессы усиливаются стократно: предмет «история шахмат», предмет «теория шахмат», «классики шахмат». Все это бережно и непрерывно воспроизводится десятилетиями: я в пятом классе зубрил наизусть те же самые партии Василия Смыслова, что и мой отец, и мой дед.
– Дорогой Кирилл, вы и ваш отец действительно «зубрили» в пятом классе одни и те же классические образцы – согласно образовательному стандарту, принятому вскоре после Переучреждения именно в целях создания «новейшей российской культуры». А вот в школе времен вашего деда, уверяю, ничего такого еще не было и даже быть не могло.
– Каисса, что же дедушка учил наизусть вместо партий Смыслова?!
* * *
Пренеприятные воспоминания, но хода назад не взять, фигуры не переставить. И все-таки время с сентября по апрель прошло не зря, Кирилл набрался знаний, понимал теперь правоту Ивана Галиевича и уже примерно догадывался о том, как и для чего выстроена система четырех «постулатов Уляшова». А всего через несколько часов в квартире по улице Шумова, 14, он должен был, наконец, увидеть и самого Дмитрия Александровича.
Как раз и голова болеть перестала.
(Путь от «Спасской» до «Алехинской» недолог, хотя и приходится скакать конем через огромные лужи и стремительные реки, в которые каждой весной неизбежно превращаются разбитые улицы города (в Новосибирске шел бы по снежку!). В дырявых ботинках хлюпает вода, пальцы ног отчаянно мерзнут, а пальто, наоборот, слишком теплое, слишком зимнее – да что уж поделать (здесь Кириллу почему-то вспоминаются враки Брянцева про людей, у которых есть целых два пальто: основное и демисезонное). Еще недавно заброшенный и вопиюще бедный, в последние годы Петербург явно облагораживается; Кириллу сравнивать не с чем, но Майя уверяет, что стало больше фонарей и отремонтированных зданий (во всяком случае, на Невском), меньше бродячих собак (в детстве Майю чуть не загрызла дикая свора возле Апраксина двора). Впрочем, говорит Майя восторженно, такие перемены не только в Петербурге, а по всей России. И ладно Майя – она вообще «оптимистка от a до h», но даже Иван Галиевич высказался однажды (вытащив нос из своих пыльных картотек) лирически: мол, завидую вам, Чимахин, на вашу молодость придется новый, поистине волшебный расцвет страны.)
Принципиальный противник теории и практики цейтнота, Кирилл, как обычно, пришел слишком рано – и минут пятнадцать стоял под дверью, не решаясь постучать.
Но вот и 18:00.
Каисса!
На робкий (что твое 1.е3) стук дверь открывается почти сразу, и открывает ее лично Дмитрий Александрович Уляшов (Кирилл легко узнает его, хотя до сих пор видел только на фотографиях) – двухметровый жилистый старик с мощными скулами, носом картошкой и абсолютно седыми волосами (неужели последствия инфаркта? – на известных Кириллу снимках шевелюра Уляшова всегда была черной). «Ага, Чимахин, заходите, – громовым голосом приветствует гостя Уляшов. – Рад спустя столько времени познакомиться с вами. А то, как разноцветные слоны, стоим рядом и никак не встретимся. Вешалка в углу, разуваться не нужно, прямо и налево на кухню. Стул шатается, садитесь на табурет».
Д. А. У. пышет энергией (глаза сияют; ноги не шаркают, но бодро топочут).
(А все говорят – сильно сдал; каким же он был до болезни? – думает Кирилл, снимая пальто. В академических кулуарах иногда рассуждали о «притягательной силе личности» Уляшова, и теперь Кириллу кажется, что эту легендарную притягательность надо объяснять с помощью законов гравитации: просто Уляшов слишком огромный – и притягивает к себе других людей так же, как массивная звезда неизбежно притягивает более легкие небесные тела. (Монументальная внешность Дмитрия Александровича (вот он занимает собой всю тесную кухню, гремит гигантским чайником, достает какую-то посуду) особенно поражает воображение в сравнении с сухим, щуплым, невысоким и как бы не имеющим черт лица Иваном Галиевичем. (Носит ли Абзалов усы? – пытается вспомнить лицо научрука Кирилл; а очки? Кажется, носит (или все-таки не носит?) Хм, ну брови-то были точно?))) На Уляшове какая-то немыслимая, десятки раз залатанная кацавейка и старые домашние тапки, но он все равно выглядит королем, ферзем – и царственно отдает распоряжения.
– Возьмите клетчатую кружку, наливайте себе чай. Не стесняйтесь, побольше заварки (а мне врачи запретили, мне кипяток). Вот рафинад – от университетских щедрот, угощайтесь. Вот лимон. Ну, как идут ваши изыскания по поводу Берлинской стены?
Кирилл собирается ответить, но ответ, кажется, не предполагался.
Уляшов продолжает речь.
– Вы знаете, Кирилл, а ведь в годы моей юности словосочетание «Берлинская стена» ассоциировались у людей вовсе не с вариантом Испанской партии, но с так называемой холодной войной между СССР и США, с настоящей стеной, построенной внутри города Берлина.
– Вот это да, Дмитрий Александрович! Никогда бы не подумал. Хотя…
– Увы, Кирилл, всякая культура тесно связана с политикой, с попытками общества что-то вспомнить или, наоборот, что-то забыть. Вы – один из будущих хранителей нашей культуры и, значит, хранителей общества, хранителей России, вот почему должны очень много знать и еще больше – понимать. Собственно, Абзалов наверняка все это уже говорил вам, но, боюсь, вы до сих пор относитесь к услышанному, скажем так, cum grano salis[2].
– Что вы, я вовсе…
– Потому я и пригласил вас. Берлинская стена может обождать: на диссертацию отводится целых три года. Сейчас вам куда важнее усвоить ряд ключевых – я бы даже сказал, краеугольных – фактов; фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры, а значит, и новейшей российской истории, и новейшего российского общества.
Сколько раз Кирилл слышал эти слова от Ивана Галиевича! Теперь их приходится выслушивать от Дмитрия Александровича – но надо же быть вежливым и учтивым.
– Да, разумеется, я полностью…
Кирилл этого не осознаёт, но на самом деле «полностью» ему не удается произнести даже очень короткой фразы. Заведенный «патриархом отечественной гуманитаристики» и «основоположником российской культурологии» монолог неостановим и беспощаден, как мельница Торре. И почему-то предметом монолога оказывается вовсе не Берлинская стена – вообще не шахматы, – но политический Кризис, случившийся с Россией более пятидесяти лет назад. (Неужто старика потянуло на воспоминания о прошедшей молодости?)
– Когда начиналась та история, Кирилл, я был немногим старше вас, – грохочет Уляшов. – События, поведшие к Кризису, довольно скоро стали сравнивать с Крымской войной 1853–1856 годов: Россия захотела подчинить сопредельное, соседнее государство, вроде бы очень слабое и абсолютно неэффективное, развернула армии, начала боевые действия – однако спустя какое-то время выяснилось, что война ведется не только и не столько с соседом, сколько с мощной коалицией передовых западных держав. Ха, конь собирался съесть одинокую пешку, а она вдруг обернулась ферзем. И предполагаемая легкая победа обернулась тяжелейшим поражением. Ну, о причинах той войны вы все знаете – получали высшее образование. А вот последствия наверняка представляете себе гораздо хуже. Это малоизвестно, но сразу после капитуляции ставился вопрос о существовании России как таковой: высказывались мнения, что страну нужно разделить на части, подвергнуть долговременной оккупации и прочее. До подобного, хвала Каиссе, не дошло, но жизнь поменялась радикально. Победители, понятно, сместили Правительство, устроили показательные суды, провели люстрацию. Полностью переписали Конституцию – из президентской республики сделали парламентскую. Заодно перекроили границы. (Все, конечно, для нашего же блага, чтобы не было замороженных на десятилетия конфликтов с соседями, чтобы молодая либеральная российская демократия снова не эволюционировала в тоталитаризм.) Опять же для будущей и во веки веков безопасности организовали демилитаризацию, денуклеаризацию и дедигитализацию: никаких чтобы у нас тут войск, никакого оружия, тем более ядерного (в связи с этим пришлось закрыть и все атомные электростанции, наложить бессрочный мораторий на авиационные полеты и на космические исследования). Мощные компьютеры и новое программное обеспечение запретили полностью, доступ к интернету заблокировали (якобы через интернет Россия могла влиять на выборы в других государствах), внутри страны оставили только небольшие локальные сети. Каково? Впрочем, даже и после этого на Западе так не доверяли русским, что Организация Объединенных Наций установила столетний Карантин, вы в курсе: вот уже полвека, как ни один российский гражданин не имеет права пересекать государственную границу.
В этом месте Кирилл делает попытку сообщить про сокращение сроков Карантина: «А вы знаете, Дмитрий Александрович, буквально позавчера Генассамблея…»
Тщетно!
(Увлеченный Д. А. У. не готов размениваться на новости из ООН.)
– Тогда, Кирилл, все это никак не называлось, просто разные политические события, и только лет через тридцать (как раз Ваня Абзалов стал моим аспирантом) публицисты придумали особый термин: «Переучреждение России». Смешно: сегодня Переучреждение воспринимается как что-то безусловно хорошее и светлое, как начало новой, правильной, справедливой жизни, но в 2020-е годы большинству наших сограждан так не казалось. Ведь надо было платить репарации – и огромные! Получалось, что если все население страны, считая стариков и детей, будет работать по двенадцать часов семь дней в неделю на протяжении пятидесяти лет – Россия и тогда не расплатится до конца. Поэтому победители полностью конфисковали золотовалютные резервы и установили внешний контроль над финансовой политикой Правительства. Ввели жесточайшие обязательства по продаже нефти, газа, металлов, алмазов, древесины и прочего. Внутри страны, разумеется, austerity[3], режим тотальной экономии. (Вы наверняка читали, что в докризисной России почти у всех были «смартфоны», такие гибриды мобильных телефонов и компьютеров (с моментальным выходом в интернет); теперь невозможно, слишком дорого, плюс, я уже сказал, дедигитализация, запрет на вычислительные мощности. Но вообразите другое: раньше в двери не стучали. Применялись электрические звонки. О них тоже пришлось забыть. А как же, атомная энергетика уничтожена, половина теплоэлектростанций в простое (газ и нефть идут принудительно на экспорт) – первое время свет на три часа в день включали, батареи не топили.) Продукты только по талонам. Словом, Кирилл, уровень жизни рухнул после Переучреждения потрясающе. И вроде вся страна трудится, а слишком тяжело: логистика, бухгалтерия, планирование, управление производством – до Кризиса это делалось с помощью компьютеров; после (и до сих пор) – практически вручную. Все медленно, что твой шатрандж. Каисса, банальное отсутствие гражданской и грузовой авиации в такой огромной стране, как Россия, замедляет экономический рост кратно.
– Выходит, Дмитрий Александрович, этакое извечное vae victis[4]? И населению было бы гораздо лучше, если бы Россия не проиграла ту войну Западной коалиции?
– Глупости, Кирилл! За некорректные ходы наказывают, а Россия тогда совершила слишком много некорректных ходов (зачем надо было пугать весь мир термоядерными боеголовками?). Да, расплата оказалась тяжелой, зато мы встали наконец на верный путь – путь свободы и процветания, мирного развития, добрососедских отношений. Впрочем, – Уляшов делает драматическую паузу, – в том варианте был опасный изъян.
– Изъян?
– Большинство экспертов по обе стороны границы полагали, что принятых в процессе Переучреждения мер вполне достаточно для того, чтобы навсегда купировать «имперский синдром» России, сделать ее нормальной страной, не пытающейся постоянно кому-то угрожать, что-то завоевывать и так далее. Но существовала группа интеллектуалов (и я принадлежал к их числу), уверенных, что реформы не должны ограничиваться политикой. Пресловутый «русский империализм», по нашему общему мнению, таился не только и не столько в головах отдельных правителей – искать его надо было где-то еще. В конце концов, решающее значение имели не ядерный арсенал и не высокие цены на нефть, позволявшие докризисной России тратить миллиарды на армию; агрессивная имперская политика велась ведь и раньше, задолго до изобретения баллистических ракет и нефтяных фьючерсов. И значит, полагали мы, в самом начале России новой, в этом многообещающем дебюте, уже затаилась ошибка – и если ее не выявить и не устранить, то никакой Парламент, никакой Карантин не уберегут нашу родину от страшных рецидивов империализма. Так, Кирилл! Требовалось обнаружить и решительной рукой вырвать корень зла.
* * *
Будь у Кирилла чуть больше кулинарного опыта, он бы оценил, как замечательно сочетается «корень зла» с черным крепким сладким краснодарским чаем, предложенным Уляшовым. Но у Кирилла такого опыта нет, и он, слушая Д. А. У., наоборот, совершенно забывает о клетчатой кружке, грустно остывающей на ферзевом фланге стола.
А «корень зла» тем временем господствует в центре (беседы).
– Нельзя сказать, Кирилл, чтобы наша группа представляла собой какой-то очень могучий think tank; нас было не слишком много, а сами идеи, разрабатываемые нами, высказывались и раньше (Элиф Батуман об этом писала и другие). Но зарубежные эксперты плохо ориентировались в новом российском контексте, а люди внутри страны гораздо больше думали о физическом выживании; так и вышло, что, кроме нас, обозначить проблему оказалось некому. Главную роль сыграли в той истории мои старшие товарищи – академик Леонид Афанасьевич Зырянов (специалист по русской филологии) и экономист Виктор Альджернонович Туркин (как раз избранный премьер-министром посткризистого Правительства); они и объяснили всем популярно, что не так с Россией и с русским народом, откуда лезет империализм. Анализ ими был проведен безжалостный и бесстрашный, максимально нелицеприятный; результаты тогда многих шокировали. М-м, извините меня, Кирилл, за странный вопрос, но – пробовали ли вы когда-нибудь читать русскую художественную литературу XIX или XX века?
Вопрос действительно странный, но Кирилл, и в самом деле листавший какие-то из книг той эпохи, решает воспользоваться случаем и щегольнуть познаниями.
– Да, Дмитрий Александрович, приходилось. Помню, у Льва Толстого в «Войне и мире» интересный дебютный ход: герои говорят на двух языках сразу, и выходит такая смесь «французского с нижегородским», как Пушкин шутил. Но в целом, конечно, совершенно некорректные вещи. Никакой логики передвижений; никакой внутренней необходимости: действие может повернуть в какую угодно сторону безо всяких последствий для произведения в целом (будто бы так и надо!); фигуры плохие, планы неясные, масса темпов тратится непонятно на что, единственная выявляемая стратегия автора – полный произвол (впрочем, это объяснимо, ведь автор один: как хочу, так и ворочу; солипсизм в чистом виде, да). Словом, я не удивлен, что теперь такие, хм, «творения» никто не читает. Скучно, натужно, тяжеловесно. Некрасиво. И главное: необязательно.
– Прекрасно сформулировали, Кирилл, по-капабланковски (просто и сильно)! Но, видите ли, настоящая беда заключалась совсем не в том, что российские авторы создавали скучные натужные тексты, которые сегодня почти невозможно читать. Ладно бы, и пускай бы не читали. Так ведь наоборот – читали, и преусердно (поверите ли мне?). Вот где трагедия, дорогой Кирилл! Читали всем домом, всем миром, всей страной, читали десятилетиями и столетиями, и преподавали в школах, и заучивали наизусть, и цитировали повсеместно, и исследовали, растрачивая на это народные деньги, и славили на любые возможные лады, и называли в честь писателей и поэтов пароходы, и аэропорты, и целые города, и ставили на площадях памятники, а если появлялся вдруг иной светлый ум и вопрошал, зачем же такое читать и тем более прославлять, так его подвергали остракизму, гнали с позором и не подавали руки. Но книги-то и были виновны в Кризисе.
– Книги?!
– Это научный, достоверно установленный факт, Кирилл. Увы! Именно через сочинения литераторов входили в умы россиян расхлябанность и необязательность, презрение к элементарной логике и к минимальному порядку, пренебрежение строгостью мыслей; входила вера в собственную исключительность («Умом Россию не понять!») и любование дикой, разрушительной силой («Да, скифы мы, да, азиаты мы!»); входила, в конце концов, темная страсть к экспансии, к расширению, к захвату: сначала – чужого внимания, чуть позже – чужих умов и душ, в итоге – чужих территорий и стран. Теперь об этом забыли, как о страшном сне, а ведь в начале XXI века русская литература была самым настоящим культом, Кирилл; зловещим, как оказалось, культом. Потребовалось поражение в войне, потребовались Кризис и Переучреждение России, чтобы мы – все российское общество – раскрыли наконец глаза и честно и непредвзято взглянули на те якобы «великие произведения», которые сочиняли Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Горький и иже с ними и которыми нас учили восхищаться, уверяя, что все написанное прекрасно, и разумно, и правильно. Что же мы увидели, перечитав? Оригинальные мысли? Любопытные сюжеты? Беспристрастный самоанализ? Как бы не так! Только империализм, шовинизм, ненависть к другим народам и странам. Толстой откровенно восхищался мощью русского оружия, державшего в ужасе Европу после 1812 года, Лермонтов славил жестокое завоевание Кавказа, Пушкин воспевал подавление Польши и агрессию против Швеции. Знаменитый поэт Бродский оправдывал применение напалма в колониальных войнах, потому что «горные племена» не очень-то тянут на людей: «Все меню баранина да конина, никогда не видели пианино». А теории Достоевского о том, что русский человек «имеет право» убить кого угодно, а консервативные идеи Солженицына, а провластные стихотворения Тютчева! (Популярная поэтесса Анна Ахматова – как доказал со всей ясностью филолог Жолковский – вообще была, ни много ни мало, Сталиным в узкой юбке, тоже строила «культ личности», применяла террор и так далее.) Словом, все эти авторы, которых мы по наивности считали «честью и совестью нации», являлись на самом деле тривиальными пропагандистами на зарплате у государства, проводниками и апологетами имперского мышления. А еще – глашатаями антисемитизма (помню гоголевские проклятия в адрес «рассобачьих жидов»). И гомофобии (знали бы вы, как русские писатели измывались над великим Мишелем Фуко: «Что по ту сторону добра и зла / так засосало долихоцефала? / Любовник бросил? Баба не дала? / Мамаша в детстве недоцеловала?»). И мизогинии: «Я научила женщин говорить / Но, боже, как их замолчать заставить!» (У того же Льва Толстого женщина – всегда только примитивная самка, которая, если ей повезет, станет машиной для деторождения, а если не повезет – неизбежно покончит с собой, бросившись под поезд.) Вы представляете, дорогой Кирилл, что происходит с людьми, когда им с младенчества вбивают в голову такие идеологемы?! И вот парадокс: любой человек может отказаться, например, от блюда, которое выглядит неаппетитным, несвежим или просто опасным для здоровья; однако жители России, прежде всего дети, на протяжении многих поколений не имели права отказываться от чтения текстов «великой русской литературы» – хотя от нее воротило ничуть не меньше. Куда там, мощнейшее давление: сразу объявили бы невеждой, выгнали бы из школы, выдали бы волчий билет, сделали бы парией, сломали бы жизнь. И я не преувеличиваю! Но от плохой еды вас просто вытошнит через полчаса, плохие же идеи подобны паразитам, подтачивающим организм на протяжении многих и многих ходов.
– Дмитрий Александрович, неужели это могло быть правдой?
– Увы, Кирилл – и какой нелегкой, тяжелой правдой. Первым на зловещую роль художественных текстов, на исходящие от них угрозы указал Леонид Афанасьевич Зырянов (сделав громкий доклад на третью годовщину Переучреждения); вслед за этим вопрос стали обсуждать в университетах, потом подключились журналисты – в итоге развернулась общенациональная дискуссия. И вскоре обществу стало очевидно, что все произведения русской литературы чрезвычайно токсичны, что она целиком – скомпрометированное поле, как сказал бы Арон Нимцович. Но за счет чего удавалось этому злому мороку так долго висеть над нашей родиной? За счет помощи властей, разумеется. Здесь нужно вспомнить, что у истоков отечественной словесности стояли аристократы и монархисты: Державин, Карамзин, Пушкин. Царям и тиранам всегда нужно идеологическое обоснование своего правления, и литература охотно давала такое обоснование, индоктринируя массы идеями «превосходства» и «богоизбранности» русских. На самом деле только этой мощнейшей идеологической индоктринацией и можно объяснить тот факт, что люди совершенно не замечали вопиющего вреда, наносимого их душам русской литературой. А ведь достаточно было задать простейший вопрос: qui prodest[5]? Кому было выгодно лелеять сонм кошмарных историй о сумасшедших студентах, убивающих старух, и о мрачных нигилистах, насилующих девочек? Кто заставлял миллионы россиян читать эти истории в школе, переписывать под диктовку, заучивать наизусть? Понятно, что народ не стал бы так истязать себя по собственной воле. Все это делала власть. Но тонкость в том, что власть и сама точно так же была отравлена идеями русских литературных «классиков» (Толстой воспевает рабство крестьян, Горький воспевает принудительный труд заключенных, Солженицын воспевает ГУЛАГ как место возрождения «исконной России»), увлечена заветами господ-сочинителей – и спешила воплотить эти заветы в агрессивной внешней политике (как кто-то заметил в эпоху Кризиса, «путь к военным преступлениям вымощен томами Достоевского»). Получалось, что вся наша огромная страна – от первого министра до последнего дворника – заложница горстки мертвых белых мужчин, бормочущих с того света зловещие призывы: «Иль нам с Европой спорить ново? / Иль русский от побед отвык? / Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, / От финских хладных скал до пламенной Колхиды, / От потрясенного Кремля / До стен недвижного Китая, / Стальной щетиною сверкая, / Не встанет русская земля?» И, как неизбежное следствие, в 2022 году…
Тут раздается телефонный звонок, и Дмитрий Александрович отвлекается, чтобы ответить (какой-то «Федя» смущенно что-то спрашивает, о чем-то напоминает, а Уляшов его отечески успокаивает и обещает непременно перезвонить через пару часов).
Кириллу же приходит в голову простой, но совершенно резонный вопрос.
– Дмитрий Александрович, а вредна только русская литература?
– По всей видимости, Кирилл, только русская. Знаете, нам тоже сначала казалось странным (и даже невозможным) такое положение дел, что в целом мире – нормальные литературы, а в России – нет. Увы, строгий сравнительный анализ продемонстрировал, что отечественная словесность действительно выигрывает у всех остальных (и с огромным преимуществом) невеселое соревнование в испорченности, в умении воспевать пороки и славить самые худшие черты человеческого существа, в какой-то иррациональной тяге к подлости, гадости, разрушению и гибели. Знаете, даже шутка ходила в те годы: «Английская литература говорит: смерть ради долга; французская литература говорит: смерть ради любви; немецкая литература говорит: смерть ради величия; русская литература говорит: смерть». Я сам начинал как филолог и теперь понимаю, что именно из-за этой извращенной страсти к уничтожению, к поношению, к поруганию всего вокруг русская литература так откровенно плоха; я имею в виду – плохо написана. Вы, Кирилл, правильно заметили – в ней напрочь отсутствует гармония. Человеческое чувство прекрасного требует правила и закона, требует логики и минимальной связности; мы привыкли, что сильные ходы улучшают позицию, а слабые ухудшают, что накопление мелких преимуществ неизбежно приводит к преимуществам решающим, что правильная координация фигур бывает гораздо важнее материального перевеса, что истинная красота заключается в экономии средств и в согласованности действий. Ничего этого не найти в так называемых шедеврах русских писателей; там только путаница, бардак и хаос. Положим, литература и в принципе не слишком интересное искусство, но я, например, с удовольствием перечитываю многих европейских авторов. Взять хоть Джейн Остин: ясность, внятность, соразмерность; вроде бы простые, но при этом полные скрытого яда ходы – «It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife»[6] – как лучшие партии Анатолия Карпова! Или Флобер: стилистически отточенный, разящий наповал реализм, напоминающий манеру зрелого Роберта Фишера – «Nous étions à l’Étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail»[7]. Вот действительно – шедевры! А что такое, скажем, Достоевский? Поединок пьяных второразрядников, которые путают короля с ферзем, забывают правила рокировки, роняют на пол фигуры и в конце концов лупят друг друга по головам – доской, часами, шахматным столиком. И хорошо еще, если рядом не окажется топора.
* * *
– Каисса, что ж это! Как я всем сегодня нужен!
Экскурс в зловещие бездны русской литературы вновь прерывается телефонным звонком: теперь не «Федя», а «Ваня». Но в этот раз Д. А. У. уже не удается обойтись обещаниями: собеседник довольно ловко втягивает Уляшова в обсуждение каких-то скучных вопросов, связанных с кадровыми перестановками в университете, с грядущим совещанием у ректора и так далее. (Редкое занудство звонящего и вроде бы знакомые интонации в трубке заставляют Кирилла подозревать, что под именем «Ваня» скрывается не кто иной, как Иван Галиевич. Везде Абзалов! Придется ждать (и наверняка долго), пока он отцепится от Дмитрия Александровича, терять зря темпы.) Впрочем, есть компенсация: можно выпить предложенного черного чая (с сахаром!) и обдумать услышанное.
Интересная получается линия.
Ни в школе, ни в университете Кириллу никогда не рассказывали о том, что главной причиной Кризиса была художественная литература. Молчаливо подразумевалось, что империализм обитал в русском народе всегда – подобно какому-нибудь вирусу вроде герпеса – и периодически приводил к эксцессам, войнам, уродливым нарывам у границ сопредельных стран; также подразумевалось, что избавиться от этого вируса удалось лишь благодаря строжайшей терапии – которой и стало в итоге Переучреждение России (новая Конституция, столетний Карантин, «санитарный пояс», проложенный через Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Брянскую, Смоленскую, Псковскую области, внешнее управление госфинансами и прочее). И вот вдруг выясняется, что вирус создавался и культивировался в книгах писателей, что именно Пушкин и Лермонтов виноваты в постыдной болезни, несколько веков снедавшей Россию. Впрочем, среди нынешней молодежи и фамилий-то таких почти никто не слышал («что за Пушкин?»): жизнь как-то сама собой огибала домен словесности, и надо было обладать крайне специфическим набором интересов, чтобы однажды открыть томик стихов условного Афанасия Фета. По всей видимости, после той общенациональной дискуссии о вреде литературы, инициированной Зыряновым, россияне сделались намного разборчивее – а остальное оказалось делом техники. Жернова времени способны перемолоть любую напасть; прошли годы, десятки лет, и деструктивные тексты сочинителей тихо скончались, захлебнувшись собственной желчью, навсегда остались в темном мрачном прошлом – и не могли отравлять настоящее и будущее страны.
(Здесь Кирилл чувствует эгоистичную, совсем не благородную, но от того еще более сильную радость: хвала Каиссе, он родился уже в новой, нормальной России, ему не пришлось (как пришлось Дмитрию Александровичу) жить в докризисную эпоху, когда детей заставляли читать Достоевского, черное называли белым, по улицам ходили строем и каждый день планировали высадку десанта в Риге и ракетный удар по Тбилиси.
То ли от этой радости, то ли от съеденного сахара хочется вдруг вскочить с табурета, запеть, может быть, песню, выбежать, танцуя, во двор – ну или хотя бы распахнуть окна, за которыми плывет холодный и теплый, ледяной и цветочный апрель.
Как волшебно вокруг!
Наконец-то выход из всех цугцвангов и анабиозов! Весна, что твоя проходная пешка, марширует к победе, и ничто не в силах остановить ее марш. Снова суета, толкотня, планы проснувшейся жизни. Вечер ласков и густ, и зачем в нем какая-то наука, какая-то культура, какая-то политика, когда надо просто пойти гулять? Дышать сумерками, прислоняться к деревьям, смотреть, как сидят на железных крышах облезлые коты, как сияют над Смольным собором огромные звезды, как во всех парках города пенсионеры, милиционеры и студенты-младшекурсники играют в шахматы (пуля, блиц; мельканье рук и фигур; падение повисших флажков). «У кого слоны, тому принадлежит будущее», учили классики, и Кириллу кажется, что сейчас он владеет всеми слонами мира. И мир этот прекрасен. Вдоль улицы Шумова действительно шумно от галдящих птиц (скворцов?); в тесных дворах близ «Таймановской» – первые чудо-крокусы, а еще дальше, на Воскресенской набережной Невы, где редкие фонари и автомобили, – сотни рыбаков, добывающих корюшку.
Перелететь бы реку, оказаться на милой Петроградской стороне; что там делает Майя? Известно, что: готовит весенний ужин (аккуратно перебирает гречневую крупу, щиплет перышки зеленого лука, растущего в банке на подоконнике). Майины родители много работают и появляются дома ближе к ночи, так что домашние хлопоты на Майе – как и контроль за Левушкой, младшим братом, заканчивающим второй вроде бы класс.
Неглупый мальчик, учится в знаменитой гимназии имени А. К. Толуша.
(Многие бы позавидовали, да.
Уж там-то, конечно, не просто заучивают наизусть («К четвергу „Нимцович – Капабланка“, партия в Нью-Йорке (1927 год), чтобы от зубов отскакивало»), там с самого начала не скучно, а, наоборот, весело – и поэтому хочется узнавать новое.
Входит в светлый класс учитель: «Здравствуйте, дети! Сегодняшний урок мы начнем с очень простого вопроса: задумывались ли вы когда-нибудь, почему в шахматах „каждой твари по паре“? Я имею в виду – каждой фигуры. Почему у игрока именно две ладьи, два слона, два коня? Почему не три? Или не один? С чем это связано? Итак, давайте запишем нашу новую тему: „Чатуранга – предшественница шахмат“». И этим же вечером Левушка, уплетая гречку с луком, восторженно рассказывает Майе, что, оказывается, когда-то в Индии на доске-аштападе соревновались не два, а сразу четыре игрока, и их фигуры располагались по четырем углам, и в каждом комплекте было по четыре пешки и по одному слону, коню, ладье и королю. И еще там бросали игральные кости, выбирая, кем именно ходить, и не существовало матовой идеи, и так далее, а когда начали играть вдвоем, то соседние комплекты соединили – так и получилось восемь пешек, два коня, два слона, две ладьи на каждого; а второй король стал визирем (ферзем), и потому был слабее короля – ходил на одну клетку по диагонали (но память о его королевском прошлом сохранилась, и даже в Европе нападение на ферзя долгое время требовали объявлять – специальным словом «гарде́» (подобно тому, как нападение на короля объявляют словом «шах»)).
(Старшая сестра, разумеется, могла бы объяснить Левушке, что это на самом деле только одна из нескольких теорий происхождения шахмат, и не очень убедительная, хотя ее создатель, Дункан Форбс, был человеком великим, но ученые до сих пор спорят, и единого мнения нет – возможно, все ровно наоборот, сначала играли вдвоем, а потом разделили фигуры на четверых; однако Майя молчит и улыбается – не надо пока усложнять позицию, главное, что у брата такие интересные уроки и хорошие учителя.
(У Кирилла таких не было; все сам, по книжкам.)))
Потом Левушка идет делать домашнее задание, а Майя моет посуду; субботний вечер переходит в ночь… Стоп, почему субботний? Сегодня же воскресенье. Все перепутал! Совершенно точно: воскресенье. Значит, у Левушки нет занятий в школе, и родители не на службе, и Майя свободна от приготовления ужина. Тогда, возможно, она вообще сейчас не дома, ушла гулять или в гости к Ноне. Оу, у Ноны всегда веселье: чай, вино, какие-то молодые люди, очень любезные (и очень неприятные). А вдруг там и Брянцев?! (Все-таки странная фигура этот Брянцев. Учится он или работает? Или вообще бездельничает? Скорее всего, последнее. Рассказывают, ходит по всем вечеринкам, пьет как Алехин в худшие годы, лезет к людям с оскорблениями – и больше всего любит издеваться над культурой, этакий вроде нигилист. Бравирует тем, что никогда не читал шахматных книг; но правда ли не читал? Кирилл помнит, как сидели однажды у Ноны, обсуждали с гостями последние идеи в анти-Грюнфельде (придуманный в двадцатых годах XXI века выпад белой пешки h на третьем ходу, делающий неудобным 3…d5 за черных; маневр считался давно опровергнутым, списанным в архив – и вдруг кто-то обнаружил в нем новые ресурсы; сразу же пошли статьи, доклады на конференциях), и презирающий шахматы Брянцев, отпуская шуточки и постоянно требуя водки, как-то между прочим продемонстрировал выдающуюся осведомленность обо всех теоретических новинках в этом варианте (а ведь некоторые из новинок даже не были на тот момент нигде опубликованы!), и на справедливый вопрос, откуда он знает такие тонкие линии, ответил, что тут и знать ничего не надо, все очевидно («любой осел поймет»). И дело даже не в самом анти-Грюнфельде; уверенные рассуждения Брянцева наводили на мысль, что он вообще прекрасно понимает любые закрытые дебюты; но как такое возможно? Для этого надо быть глубоко погруженным в академические исследования, работать на какой-нибудь из аналитических кафедр, а Брянцев, разумеется, ни малейшего отношения к академии не имел и иметь не желал. Может быть, какой-то хитрый розыгрыш, обман? (Вот это вполне в его стиле.) Но какими затуманенными глазами смотрела тогда на Брянцева Майя…
Э-э, чертов вертопрах!
И нравятся же такие пижоны девушкам.
Впрочем, все с ним ясно, нет никаких загадок. Точнее, только одна загадка: почему Брянцева вообще принимают в приличных компаниях, пускают на порог? Ведь очередное же циничное животное, которое целыми днями пьянствует, гуляет, ничего не делает, тратит родительские деньги и жестоко высмеивает любую работу на благо страны и общества.)
При мысли о том, что Майя действительно может быть вместе с Брянцевым, что Брянцев в этот самый момент пытается произвести на нее впечатление своими дешевыми фокусами и сальными шутками, Кирилла охватывает беспокойство.
Он достает сотовый и набирает номер.
Гудки.
Гудки.
Гудки.
Никто не отвечает.
Гудки.
Чем она занята?
Гудки. Отбой. Снова попытка дозвониться.
Гудки.)
– Увы, Кирилл, истина оказалась чрезвычайно неприятной!
Потрясенный Кирилл даже не сразу понимает, что слова раздаются не из телефона, а совсем с другой стороны – это Дмитрий Александрович Уляшов, закончивший беседу с Абзаловым, вернулся к рассказу о Переучреждении и о посткризисной России.
* * *
– Своевременно обнаружив и обнажив перед обществом тоталитарный потенциал русской литературы, – как ни в чем ни бывало продолжал Уляшов, – мы решили наиболее трудную часть задачи. Знаете, в пылу партии даже гроссмейстер может не заметить форсированного выигрыша, но если кто-то сообщит ему, что в данной позиции скрыт, например, мат в семь ходов, гроссмейстер непременно отыщет нужные ходы. И когда людям рассказали о том, что российский империализм является политической производной от идей, пестуемых литераторами, решение проблемы нашлось почти сразу.
Требовалось изгнать русскую литературу из русской жизни.
И, дорогой Кирилл, вы не представляете (вы никогда не сможете поверить), с какими невероятными объемами мы столкнулись, взявшись за эту работу. Сотни миллионов книг, миллионы миллионов статей и исследований, огромное число издательств, мощнейшее гуманитарное лобби (начиная от маститых профессоров-достоевсковедов и заканчивая рядовыми учителями литературы). Зараза таилась везде. В школах с первого же класса: портреты Некрасова и Чернышевского на стенах, стихотворения наизусть, гигантские списки обязательного чтения (впрочем, не только чтения: на уроках природоведения говорили о «пушкинской осени», на уроках рисования изучали, как Альтман и Модильяни изображают Ахматову, на уроках русского языка писали диктанты из Льва Толстого и изложения по Ивану Гончарову). В университетах: бесчисленные кафедры русской литературы, патологическая любовь к «цитатам из классиков», томики Газданова и Набокова для соблазнения подруг. В городах: барельефы литераторов, квартиры-музеи литераторов, мемориальные доски литераторов, кладбища литераторов, названия улиц и площадей в честь литераторов, памятники литераторам. Хуже того, выяснилось, что сама речь людей засорена осколками литературных текстов, сама повседневная жизнь полна заимствований из поэм и романов. (Бывало, идешь по городу, смотришь – как хорошо, избавились от литературы, а вдруг зацепишься взглядом за случайную крылатку или там бакенбарду, и все, никакого покоя! Ведь за той бакенбардой маячат уже боевые машины пехоты, и детские горькие слезы, и чудовищное насилие, и имперская опять во все стороны экспансия. (Это, конечно, тянуло немножко на паранойю. Я, хвала Каиссе, такому не был подвержен, а вот некоторых всерьез заносило. Зырянов, рассказывали, уволил помощницу из-за того, что она по ошибке на левую руку надела перчатку с правой руки.))
А все-таки дело двигалось, и мы успешно освобождали новую Переучрежденную Россию от губительного наваждения изящной (будь она неладна!) словесности; но чем дальше шло освобождение, тем заметнее становилась огромная лакуна, глубокая воронка, зияющая пустота на том месте, где столетиями располагалась литература.
И лакуна эта внушала тревогу.
(Кто-то предлагал не обращать внимания (мол, «само зарастет»), но мы-то знали о печальном опыте советских интеллигентов, которые в условном 1989 году тоже были уверены, что достаточно «просто сбросить власть коммунистов» – и процветание страны наступит само собой. Ничего никогда не происходит само собой, Кирилл, запомните!)
Оставлять свободным важнейшее поле, расположенное в центре социальной и культурной жизни россиян, было бы, говоря словами Арона Нимцовича, «стратегической халатностью». Наоборот: над этим полем требовалось как можно скорее установить контроль, а образовавшуюся вдруг пустоту – заполнить. Заполнить чем-то не менее разнообразным и сложным, чем литература, и тоже имеющим богатую традицию, и способным внушать людям гордость за державу, но при этом, в отличие от литературы, полезным и конструктивным, воспитывающим умы и души наших соотечественников в позитивном духе либеральных, демократических, общечеловеческих ценностей. Иными словами, речь должна была идти не о бездумной отмене, но об аккуратной замене русской культуры, о кропотливой пересборке «культурного кода» всех граждан России.
И вот вопрос: чем заменить российский литературоцентризм?
Вариантов мы рассмотрели великое множество, а только все они казались плохими, непозиционными. Русская философия – глубоко вторична и (будучи смесью религиозного угара с криптофашизмом) опасна не меньше литературы. Русский кинематограф и русская академическая музыка, за редкими исключениями, – унылое повторение западных идей. Русская кухня – слишком кислая; русская эротика – слишком пресная. Футбол в России любили, но играть никогда не умели, а вот хоккей выглядел интересным решением – увы, безнадежно камерным: соревнуются в нем всего пять-шесть северных стран, и только зимой, и только на льду (да еще там эти страшные острые коньки!). Ну и почему-то командные виды спорта вообще отпугивали отечественных интеллектуалов.
Тогда задумались о русском балете.
Действительно, Россия всегда могла похвастаться и гениальными исполнителями, и одаренными хореографами, и уникальными методиками преподавания, и долгой славной историей мирового признания (великие премьеры на сцене Мариинского театра, и Париж, рукоплескавший труппе Сергея Дягилева, и Лондон, очарованный Галиной Улановой). Но Правительство Туркина отклонило идею. Якобы элитизм, а кроме того, сорок миллионов граждан на балет все равно ходить не станут – нет в таком количестве ни сцен, ни танцовщиков. Плюс хотелось членам Правительства, чтобы в нашей новейшей культуре были книги – как же, почитать на досуге, на полки поставить для пущей солидности. А с балетными книгами – беда. С одной стороны, все сочинения о танце, от Акима Волынского до Вадима Гаевского, написаны таким напыщенным слогом, что в них небезосновательно видели опасность рецидивов империализма. С другой стороны, русский язык как таковой находился после Кризиса под сильнейшим подозрением – в качестве «языка захватчиков» и «языка агрессоров»; полагали даже, что сама грамматика русской речи (ее очевидная склонность к экспансии, к разветвленным синтаксическим конструкциям с непременными придаточными предложениями и деепричастными оборотами) влияет на modus cogitandi[8] носителей таким образом, что они неизбежно становятся империалистами. Получалось, что в той ситуации требовались русские книги, но желательно без русского языка.
А я, Кирилл, всю жизнь читал именно такие книги: написанные русскими авторами, но почти свободные от русских слов – только цифры и отдельные кириллические и латинские буквы (1.d4 Кf6 2. c4 e6 3. Kc3 Сb4) – книги, посвященные шахматной игре.
Шахматы!
Вот где нашелся наилучший ход, идеальный маневр, спасение настоящего и будущего нашей многострадальной родины, два восклицательных знака.
Шахматы.
Древнейшая и богатейшая область человеческого знания, расположенная на стыке науки, искусства и спорта. Область, в которой нам было чем гордиться: сначала в России появлялись отдельные великие мастера (славная когорта от Александра Петрова до Михаила Чигорина, венчаемая непобедимым чемпионом мира Александром Алехиным, сокрушившим самого Капабланку), потом, благодаря Михаилу Ботвиннику, возникла легендарная советская шахматная школа, доминировавшая шесть десятилетий подряд: Пауль Керес, Давид Бронштейн, Исаак Болеславский, Василий Смыслов, Михаил Таль, Ефим Геллер, Лев Полугаевский, Тигран Петросян, Борис Спасский, Леонид Штейн, Виктор Корчной, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров[9]. В начале XXI века главной сенсацией стал Владимир Крамник, но тогда же создавали свои шедевры и Алексей Широв, и Евгений Бареев, и Петр Свидлер, и Александр Морозевич, и Александр Грищук. Еще позже – уже накануне Кризиса – мир восхищался творчеством Сергея Карякина, Яна Непомнящего и Даниила Дубова. Вы, Кирилл, знаете, что после 2022 года специальные матчи на первенство мира по шахматам утратили значение (действующий чемпион и лучший игрок планеты Магнус Карлсен просто отказался защищать титул, продолжая при этом участвовать в турнирах), а все-таки из шестнадцати чемпионов мира девять родились в России и в СССР, рекорд. При этом отечественная культура шахмат всегда противостояла империализму и москвоцентризму, ведь большинство российских и советских классиков были провинциалами. Таль родом из семьи рижских евреев, Петросян – из семьи тбилисских армян; лучший шахматный теоретик XX века Евгений Свешников жил в Челябинске, Геллер – в Одессе, Полугаевский – в Самаре; Карпов появился на свет в Златоусте, Каспаров – в Баку, Крамник – в Туапсе. (Карякин – в Симферополе, Непомнящий – в Брянске.) Глядя на этих мастеров, изучая их партии, вы неизбежно начинали размышлять в прогрессивном деколониальном ключе, задумываться об автономии регионов и о том, что страна не сводится к одной или двум столицам. Важным было и то, что при всех своих выдающихся успехах россияне никогда не смогли бы апроприировать шахматы, заявить на них какие-то особые права: игра изобретена в Индии, трансформирована персами и арабами, радикально модернизирована в ренессансной Европе. Собственно, долгое время именно европейцы (и иногда американцы) – а вовсе не наши соотечественники – лучше всех играли в шахматы: Филидор, Лабурдонне, Стаунтон, Андерсен, Морфи. Первые официальные чемпионы мира (Стейниц и Ласкер), как и последние (Ананд и Карлсен), тоже не имели никакого отношения к России. Вы меня извините, Кирилл, что я отвлекаюсь на известные вещи, – преподавательская привычка. Но мне хочется поделиться радостью открытия, ведь мы тогда отыскали сильнейшее решение. Замена литературы на шахматы устраняла массу проблем и давала массу преимуществ: непосредственно на наших глазах вместо агрессивной имперской культуры рождалось что-то новое и замечательное.
Итак, шахматы.
Шахматы учат логично и строго мыслить, трезво оценивать любые сложные ситуации, не бояться риска, но и не соблазняться миражами – так воспитывается достойный гражданин. Шахматы учат следить за временем и материалом, избегать грубых ошибок и зевков, продумывать и проводить планы – так воспитывается ответственный работник. Шахматы учат уважению к партнеру – ведь партия никогда не создается в одиночку, но всегда вдвоем – так воспитывается эмпатичный, эмоционально здоровый человек. Шахматы – лучшая профилактика автаркии и пещерного национализма: мы оправданно гордимся, что среди дебютов есть Русская партия, Ленинградская система, Волжский гамбит, но знаем, что существует и масса других начал, названных в честь Англии, Франции, Италии, Испании, Шотландии, Голландии, Сицилии, Скандинавии, Каталонии (и целых два – в честь Индии); шахматы – это про весь мир! Кроме того, шахматы утверждают инклюзивность: любые фигуры хороши, любые поля интересны, и творить за доской могут люди какой угодно расы, национальности, возраста и гендера; шахматы вполне доступны гражданам с ментальными расстройствами и физическими ограничениями; шахматы показаны даже абьюзерам и преступникам – просто потому, что это практика, поощряющая мирное сотрудничество и строгое соблюдение правил.
(Конечно, слабости можно отыскать в любой позиции, а шахматистов прошлого тоже найдется в чем упрекнуть: и помрачившийся умом Алехин сочинял в 1941 году статьи «о еврейских и арийских шахматах», и Керес заявлял, что «женщина никогда не будет играть в шахматы на равных с мужчинами, потому что не сможет пять часов сидеть за доской молча», но это и рядом не стоит с людоедскими текстами литераторов той эпохи – Бабеля там, или Багрицкого с Маяковским: «Я люблю смотреть, как умирают дети».)
Таким образом, аргументов за шахматы нашлось множество, аргументов против почти не оказалось. Правительство Туркина одобрило нашу концепцию, и мы приступили к работе. Я осуществлял общее руководство «Проектом утверждения новейшей культуры», а помогала мне замечательно пестрая по составу команда специалистов. В ней оказались вместе и Гарри Каспаров, объявленный в старой России персоной non grata; и Аркадий Дворкович, бывший плотью от плоти докризисной, подвергшейся люстрациям элиты; и диаметрально противоположно объяснявшие причины Кризиса Сергей Карякин и Александр Грищук; и, казалось бы, давно ушедший в другую великую игру, китайское го, Александр Морозевич; и прагматичный до цинизма Илья Мерензон, в начале XXI века зарабатывавший миллионы на проведении шахматных матчей; и совершенно нездешний Кирсан Илюмжинов, всерьез утверждавший, что шахматы придуманы инопланетянами. Все они охотно откликнулись на мое приглашение и усердно трудились, ничего не требуя для себя лично – потому что были людьми талантливыми, любившими шахматы, а еще больше шахмат любившими Россию и искренне желавшими ей процветания.
Делалось все очень быстро (в темпе даже не рапида, а блица), и за каких-нибудь три-четыре года реформ основные черты новейшей российской культуры вполне оформились: на месте ядовитого бурьяна словесности возникли ухоженные шахматные поля.
Очертания посткризисной, мирной России.
России, в которой рождается уже третье поколение.
Все памятники литераторам мы заменили на памятники шахматистам; множество проспектов, улиц и площадей, названных в честь писателей, переименовали. В Петербурге, например, улица Достоевского стала улицей Ботвинника, улица Жуковского – улицей Нимцовича, улица Толстого – улицей Шифферса. (Сейчас сложно представить, но до Переучреждения литературные топонимы встречались в городе повсеместно: Корчной проспект назывался Лермонтовским, Чигоринская улица – Пушкинской, а улица Шумова (где мы сейчас с вами беседуем) – улицей Некрасова. Станция метро «Алехинская» именовалась «Маяковской», «Таймановская» – «Чернышевской». Канал имени Левенфиша был каналом имени Грибоедова.) В школах установили бюсты Анатолия Карпова и Бориса Спасского, ученикам начали задавать учить наизусть не стихотворения Пушкина и Тютчева, но классические шахматные партии (скажем, Андерсен – Кизерицкий (1851 год) или Ботвинник – Капабланка (1938 год)). Словом, возникали (даже резче: «изобретались») формы жизни, которые вам, Кирилл, привычны с детства, и потому кажутся чуть ли не единственно возможными. Для вас естественно, что диктанты ученикам дают из книг Давида Бронштейна и Савелия Тартаковера, а выпускные сочинения пишут на темы вроде «Позиционная жертва качества у советских классиков 1960-х» или «Критика концепции (не)корректности дебюта (на примере Королевского гамбита)», но так было не всегда.
Конечно, как и в любые времена, дети учатся по-разному. Кто-то, очарованный на уроках истории изяществом первых мансуб, поступает в университет, занимается санскритом и арабским, работает потом над диссертацией о тонкостях превращения чатуранги в шатрандж; кто-то увлекается реанимацией варианта Дракона Сицилианской защиты и обнаруживает себя на кафедре анализа полуоткрытых начал в СПбГУ; но даже отпетые двоечники прекрасно знают, как выглядит «Мат Диларам» или «Этюд Сааведры» и сумеют вспомнить шестую партию матча Спасский – Фишер в Рейкьявике (1972 год) или «бессмертную» победу Каспарова над Топаловым в Вейк-ан-Зее (1999 год).
Культура крайне важна для самоуважения общества, и это не блажь, Кирилл, но суровая необходимость. Без культуры не может быть ни нации, ни цивилизации.
Разница в том, что прежние российские интеллигенты выписывали «Новый мир» или читали литературный раздел сайта Colta.ru, а нынешние следят за теоретическими новинками, публикуемыми в журнале «64» и шахматных книгах. Да, шахматисты охотно пишут книги – но насколько отличаются эти книги от тех опусов, что сочиняли когда-то российские литераторы. Каисса, люди снова полюбили библиотеки! – потому что знают: на книжных страницах их ждет не дурман путаных рассуждений о страдании и смерти, но чистая, почти невесомая красота человеческой мысли, собрания геометрических сюит и симфоний, дивный лес бесконечно ветвящихся вариантов, в которых так сладко блуждать, которые так интересно обсуждать. И, конечно, сегодня, чтобы поддержать беседу в мало-мальски приличном обществе, нужно хоть как-то владеть шахматным анализом (впрочем, и в домах полусвета любой small talk крутится вокруг шахмат: «– Вы уже листали новое избранное Петера Леко? Великий был человек! – О да, но венгры почему-то все равно ставят выше Лайоша Портиша. – Ах, ну хотя бы не Гезу Мароци! – И не этих ужасных сестер Полгар!»). В России каждый чиновник, дослужившийся до уровня инспектора, считает необходимым держать на видном месте «Аналитические и критические работы» Ботвинника, «Моих великих предшественников» Каспарова, «Шахматные окончания» Авербаха и полное собрание сочинений Дворецкого; что же касается руководителей нашей страны, то все они, начиная с Туркина, великолепно разбирались в шахматах.
Так, Кирилл!
Уже полсотни лет я наблюдаю за благотворным влиянием проведенных нами реформ на российское общество и могу сказать уверенно: мы не ошиблись. Нравы наших соотечественников сильно смягчились после того, как новая – не литературоцентричная, но шахматоцентричная – культура России полностью утвердилась в своих правах. Вместе с Лермонтовым и Тургеневым из людских сердец ушли ожесточенность, озлобленность, подозрительность и болезненный имперский синдром. Шахматные авторы ни к чему не призывают, не побуждают исправлять карту звездного неба или границы европейских стран, не заражают манией величия, не внушают опасных идей; они просто учат красоте и гармонии. Благодаря шахматам россияне стали ответственны, добры и рациональны; теперь это народ, чуждый всякой агрессии и всякой экспансии. (Кстати, присущий шахматам фактор цейтнота, ограниченного временнóго ресурса, помог в постепенном искоренении традиционного российского разгильдяйства, наплевательского отношения к любым дедлайнам и к тайм-менеджменту вообще – западные партнеры всегда вовремя, без задержек получают от нас медь, никель, палладий, золото, алмазы и т. д.). Результат усилий налицо: мнение мирового сообщества о России становится все лучше и лучше. Кстати, вы знаете, что буквально три дня назад ООН сократила срок Карантина?
На пять лет.
И это уже второе сокращение, и наверняка будут новые.
Скоро Карантин снимут совсем. Скоро нам откроется целый огромный мир. Скоро в страну хлынут новые знания, технологии, инвестиции. Наша позиция прекрасна уже сейчас, и время работает на нас. Скоро, Кирилл, в России начнется настоящий золотой век!
* * *
На следующее утро Кирилл встал раньше обычного, позавтракал остававшимся с субботы хлебом, выпил чашку цикория и, удачно избежав встречи с Надеждой Андреевной (кастеляншей, уже неделю пытавшейся внеси его в список добровольцев на мытье окон в общежитии), отправился (вдоль по Садовой улице) в Публичную библиотеку.
Народу в библиотеке было мало.
Еле светили лампы, спал на подоконнике местный кот по кличке Кипергань, и темнело над входом, встречая посетителей, знаменитое «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» авторства Александра Петрова: белые кони (символизирующие казаков Матвея Платова) должны сделать тринадцать точных ходов подряд, прогоняя черного короля («Наполеона») с b2 («Москва») на h8 («Париж»), где его настигнет вскрытый мат. (Будучи историком, Кирилл отлично знал, какие дискуссии бушевали когда-то вокруг этого полотна: ведь оно так или иначе прославляло войну, вероломное вторжение русских армий во Францию. Потом решили, что Петров не пропагандировал, а «сублимировал» империализм: предлагал воевать только за шахматной доской, чем способствовал общему смягчению нравов. (И все-таки название шедевра старались от греха подальше не афишировать; широкие массы и не подозревали о Наполеоне, подпись гласила: «Задача Петрова о белых конях».))
Деловое, азартное настроение владело Кириллом. Увы, последние два (или три? (или четыре?)) месяца он не посещал Публичку; не было желания, да и Майя отвлекала. Ах, лентяй! Но теперь-то ему ясно, куда двигаться. Теперь-то он не будет терять темпы. Для начала нужен алфавитный каталог, ящичек с литерой «К», так, замечательно.
– Кирилл Геннадьевич!
– ?
Совсем юная девушка стоит рядом, смущенно улыбается и мнет в руках формуляр. Оу, Кирилл ее знает, он уже встречал ее здесь прошлой вроде бы осенью: студентка младшего курса, проходит в библиотеке практику, то ли подрабатывает, очень милая. (Вот только имя не припомнить: что там написано на бейджике? «Александра». Точно: Саша. (Наверное, в честь Горячкиной или Костенюк назвали. Интересно, как меняется мода, одно время было много «Санечек» и «Сашенек», а теперь популярнее всего «Люси» (a la Людмила Руденко) и «Лизы» (a la Елизавета Быкова). У мальчиков скучнее: в любую эпоху «Михаилы» (в честь Чигорина, Ботвинника, Таля; но и Мигеля Найдорфа, и Майкла Адамса), «Петры» (в честь Свидлера и Леко) и «Борисы» (в честь Спасского и Гельфанда). И тоже «Александры», конечно (a la Петров, Алехин, Котов, Белявский, Морозевич, Грищук). Потом следуют «Ефимы» (a la Боголюбов и Геллер), «Василии» (a la Смыслов и Иванчук), «Львы» (a la Полугаевский, Псахис и Аронян). Ну, случается, что какие-нибудь родители-оригиналы назовут сына «Бент» или «Сало́» (или вообще – «Алиреза́».)))
– Здравствуйте, Александра.
– Здравствуйте, Кирилл Геннадьевич! Вы к нам? Заказать какие-то книги? – цветет и сияет собеседница. – Вы зовите меня просто Шушей, мне по-другому неловко!
– Шушей?! Э-э, да, конечно. А вы меня зовите просто Кириллом. Знаете, мне нужны статьи Владимира Крамника. Любые, какие есть в библиотеке, за все годы, по всем изданиям, на всех языках. Вот сейчас собирался по каталогу искать, но, может быть…
– Не надо по каталогу! – девушка чуть не подпрыгивает на месте от восторга. – Я вам помогу, все быстро найду, у нас же теперь компьютер поставлен (представляете?!). А это вы, наверное, пишете новую научную работу? По истории? Вместе с Абзаловым?
(Ну при чем тут Абзалов?
Почему везде и всегда – Абзалов?)
– М-м, не совсем с Абзаловым, но в целом примерно так, да, исследование по истории. Я буду вам очень признателен, э-э, Шуша, если получится быстро отыскать.
Жизнерадостная студентка убегает, легонько напевая под нос: «Крамник, Крамник!» – а Кирилл готовится ждать: берет со стеллажа какую-то книгу, прячется в дальний угол читального зала, в уютное фианкетто по правую руку от входа, глубоко задумывается.
В голове сумбур; мысли летят по всем невозможным вертикалям и диагоналям, и надо бы их как-то упорядочить, выстроить, организовать. Итак: что именно он, Кирилл, сейчас чувствует? М-м, вдохновение? Да, пожалуй, самое точное: «вдохновение». Порыв. Желание работать, исследовать, творить. И отец этого вдохновения, вне всяких сомнений, Дмитрий Александрович Уляшов. (Оу, каких-то два-три часа, проведенных за беседой с Д. А. У. (если, конечно, позволительно называть «беседой» монолог), радикально поменяли настроение Кирилла. Широкая панорама российской политики и культуры, развернутая Уляшовым, не могла не впечатлять; чувство приобщения к тайным механизмам истории, погружения in medias res[10], понимания, какие силы создают и скрепляют общество, – кружило голову. И надо быть честным: теперь Кириллу ясно, что Абзалов говорил о том же самом, аккуратно вел к тому же – только немного другими маневрами и ходами. Но как все-таки отличается Дмитрий Александрович от Ивана Галиевича. Абзалов организовывал беседы, где события развивались как бы в замедленной съемке, разговор продвигался еле-еле, увязал в болоте, окружающем мысли научрука, и если наконец удавалось выйти на важную тему, то либо не хватало времени, либо действовало утомление. Уляшов, наоборот, сразу же приступал к главному – и рассказывал так, что у Кирилла мурашки бежали по коже.)
Каисса, все постулаты оказались правдой!
Мы-то школярами читали учебники и верили, что история непрерывна, что русская культура стара, как сама Россия, что одно событие следует из другого и что есть сплошная восходящая линия, цепь блестящих триумфов: сначала Петров, этот «Северный Филидор», добивается известности в Европе, потом Яниш публикует легендарный Analyse nouvelle des ouvertures du jeu des échecs[11], потом Чигорин героически сражается со Стейницем. В 1920-е – «шахматная горячка», в 1950-е – триумф «советской школы», в 1980-е – грандиозное противостояние Карпова и Каспарова, а начиная с 2014-го – всенародная популярность: Сергей Карякин во главе движения «Вернем шахматную корону в Россию», Мерензон и Дворкович, лоббирующие замену физкультурных уроков в школах на уроки шахматные, блицтурниры в модных кафе, ежегодные матчи «Блондинки против брюнеток» и т. д.
Ха, кто бы знал, что сказка о «непрерывности» придумана Уляшовым!
Что всего полвека назад хитроумный Д. А. У. взял отдельные события, разрозненные факты, изолированные эпизоды, маргинальные истории – и сочинил из них новую позицию, живописную и совершенно лживую картинку развития якобы трехсотлетней массовой российской шахматной культуры: «Издревле на Руси любили шахматное творчество».
И так убедительно получилось, два восклицательных знака.
Но на самом деле эта блистательная конструкция – удерживающая нацию от падения в пустоту, объединяющая людей общими благородными смыслами, дающая гражданам чувство законной гордости и при этом мягко направляющая их к свету – еще очень хрупка и ненадежна. Ее нужно беречь, охранять; пятьдесят лет – действительно мало. («Мы активно пропагандировали идею о том, что шахматная культура изначально близка русским людям, – объяснял Уляшов, – что склонность к наилучшей организации фигур на доске присуща россиянам от рождения (как, допустим, склонность к игре в футбольный мяч у бразильцев), что наше многолетнее лидерство в этой области человеческого знания свидетельствует о каких-то фундаментальных вещах, о не открытых еще законах природы: рождение титанических фигур вроде Ботвинника или Карпова следует связывать не с эффективной работой шахматных секций, но с особенностями конкретного места на земном шаре, с ландшафтом и климатом Среднерусской возвышенности. Эти идеи победили, в них свято верит теперь любой гражданин России, окончивший школу. Но профессиональные историки, Кирилл, должны понимать, что никакой „данной от природы“ склонности не существует, что отечественный культ шахмат – всего лишь „заместительная терапия“, призванная облегчить отказ от опасного русского литературоцентризма. Смешно слышать досужую болтовню о „колоссальной популярности шахмат в СССР“, например. Вот простой вопрос: когда была переведена на русский язык основополагающая „История шахмат“ Гарольда Мюррея, без которой вообще невозможно говорить о каком-либо серьезном изучении игры? В 1920-е? В 1950-е? В 1980-е? Увы, только в конце 2020-х (я лично редактировал перевод, тысячу страниц от чатуранги до Стейница). Так-то, Кирилл! Исток новой культуры близок, как собственные уши, но почти никто его не видит».)
И Кирилл действительно начинал чувствовать себя хранителем сокровенной тайны, добрым ангелом, защищающим страну от ее темного прошлого – хотя, признаться, не так уж глубоко залегала эта «сокровенная тайна» (просто, за исключением горстки ученых, мало кто интересовался подобными вещами; новые поколения россиян, наоборот, старались поменьше думать о том, что происходило до Переучреждения). Да и русская литература со скрытым в ней «вирусом империализма» не казалась, если честно, такой уж страшной.
В конце концов, какие бы страсти ни нагнетал в своих рассказах Уляшов, книги условного Толстого в посткризисной России не запрещали, не жгли на кострах. Никаких репрессий. Пожалуйста, если вам интересна изящная словесность, knock yourself out[12].
Но как раз интереса-то к ней и нет – ни у кого.
Вот где правда: якобы пылкая любовь россиян к своим национальным писателям была фантомом, фата-морганой; стоило лишить литературу государственной поддержки, отменить школьную зубрежку стихотворений, переставить в библиотеках томики Пушкина и Лермонтова со средней полки на верхнюю – и сразу же выяснилось, что «великие авторы» никому не нужны. Истинная ценность и востребованность их творений оказалась нулевой; их перестали читать в тот же день и час. И теперь, когда все увидели, как скучны и беспомощны сочинители, даже вроде бы стыдно их бояться, специально с ними бороться.
(Но и то сказать: с точки зрения сюжетостроения, и с точки зрения стилистического многообразия, и с точки зрения количества возможных нарративов, и с точки зрения общей сложности драматургии – да вообще со всех точек зрения! – шахматы гораздо интереснее литературы. Зачем все эти поэмы и повести, приключения и похождения, детективы и фантастика, когда 32 фигуры на доске дают вам возможность разыгрывать миллионы историй, каждый раз новых и неожиданных, в каких угодно жанрах и стилях. Сицилианская защита – настоящий триллер, Староиндийская – боевик, Испанская партия – изощренный психологический роман, Русская – любовный (ну, Королевский гамбит – что-то вроде комедии). Льюис Кэрролл говорил, что в книге непременно должны быть картинки и разговоры, так шахматная партия вся – картинка и вся – разговор. (Ходы партнеров как реплики, долгий насыщенный диалог, и каждый раз не знаешь, чем он в итоге завершится: звенящей от напряжения пустотой доски в глубоком эндшпиле? многофигурной матовой комбинацией в миттельшпиле? новинкой и полуэтюдной ничьей уже в дебюте? Так или иначе, шахматы выигрывают у литературы на всех полях и в любых вариантах.))
Но вот что странно.
Шахматная культура выгодна a) соседям России – теперь они не боятся, что начитавшиеся Достоевского русские юноши пойдут на них войной, b) самой России – избавленная от имперских амбиций, она может повышать благосостояние и уровень жизни населения, c) остальному миру – наконец-то имеющему дело не с ордой безумных фанатиков, но со вдумчивыми и надежными партнерами. Получается, шахматная культура выгодна всем. Почему же тогда она так долго не могла занять свое законное место в умах и сердцах россиян, почему прозябала где-то на самой обочине истории, что твой конь на краю доски? Неужели литературное лобби, о котором рассказывал Д. А. У., намеренно блокировало естественный ход вещей, специально мешало русским людям прийти к шахматам? Если это так, Каисса, то сколько лет упущено зря, сколько принесено напрасных жертв. Только Уляшов, истинно великий, сумел переломить ситуацию. И теперь все воспринимают новую, мирную, прекрасную Россию как должное. Да, коротка людская память, всего-то два поколения сменилось – и никто уже не способен представить другой жизни, другой культуры, другой страны. (Кирилл ведь тоже не мог.) Уляшов говорит, таковы свойства человеческого мозга, и не стоит слишком ворошить прошлое, не стоит указывать согражданам, что когда-то место Ботвинника занимал Пушкин. Пусть об этом знают только профессионалы: хранители культуры, знатоки исторических тайн. (Кирилл будет таким же профессионалом! Специалисты еще оценят блестящие исследования К. Г. Чимахина – сначала в России, а потом, когда кончится Карантин, – во всем мире.
Оу, и почему так долго не возвращается Шуша?!)
* * *
– Ну и как, много тебе удалось отыскать статей?
– Да вот немного. Всего три штуки, даже подозрительно; я опасаюсь, что у них там в библиотечном компьютере ошибка какая-то, надо бы по каталогам перепроверить.
– Слушай, а почему ты вообще решил заняться именно Крамником?
Кирилл и Майя гуляют по Петроградской стороне, и он пересказывает последние новости: многочасовой разговор с Д. А. У., внезапный (весьма любопытный) поворот в теме диссертации, неудачный поход в Публичку. (Увы, ожидаемого Кириллом впечатления эти рассказы не производят: его Майя – рассеянная Майя – роняющая предметы, рассыпающая бумаги, постоянно зевающая ключи и продуктовые талоны Майя – совершенно спокойно воспринимает сенсационную информацию о былом господстве литературы в России, о мастерски проведенной Уляшовым замене литературоцентризма на шахматоцентризм, о новом культурном консенсусе, сложившемся полвека назад; она все это уже знала.
(Гораздо сильнее ее почему-то заинтересовал Крамник.)
– Все знала? – не верит своим ушам Кирилл. – На четвертом-то курсе?
– Да я и на первом курсе знала.
– Но… как такое могло быть? Ведь только продвинутые ученые…
– Сложно сказать… – задумчиво тянет Майя. – Так само получилось. Понимаешь, я же с детства в академической среде, и родители в университете работали, и гости заходили соответствующие, в беседах что-то мелькало. Словом, секрет Полишинеля.
– Почему же ты мне ничего не говорила?
– Я думала, ты и так в теме; ты же работаешь с Абзаловым. А вообще об этом не говорят специально. Знают, но не говорят, понимаешь? Четвертый постулат Уляшова.
– Ха-ха, работаю с Абзаловым! Ну как бы да, я там вроде «французского» слона c8, формально присутствую на доске, – сразу же раздражается Кирилл. – Хотя ты права. Абзалов заводил со мной беседы на эту тему, вот только так хитро подходил к делу, что я вообще ничего понять не мог, думал – насмешка или нелепость, бонклауд какой-то. Если бы не Уляшов, я бы до вашего «секрета Полишинеля» еще десять лет добирался.)
А вокруг между тем живет ничего не знающая о секретах страна.
На полукруглом проспекте Крогиуса многолюдно и празднично, из вестибюля метро «Рагозинская» выходят пестрые группы туристов, желающих осмотреть Петропавловскую крепость, и из репродукторов, скрывающихся где-то в глубине Александровского парка, доносятся призывные звуки: «Добро пожаловать в Санкт-Петербург, культурную столицу России! Город мостов и каналов, город Петрова и Чигорина, Левенфиша и Ботвинника, Корчного и Спасского, Карпова и Свидлера!» Кирилл вспоминает, как лет пятнадцать назад совсем маленьким мальчиком он приезжал в Петербург вместе с родителями (отец тогда получил премию за разработку новой вакцины от ротавируса L), и они так же выходили на «Рагозинской», и так же шли смотреть Петропавловку, и посещали квартиру-музей Шифферса, и ходили с экскурсией «по романовским местам» (Кирилл тогда очень увлекался творчеством Петра Романовского, штудировал его книгу о миттельшпиле).
– Так почему Владимир Борисович?! – говорит Майя.
– Э-э, что?
– Я спрашиваю, почему ты вдруг решил искать статьи Крамника?
– Оу, ты про это! Видишь ли, – принимается объяснять Кирилл, – странно у нас беседа сложилась с Дмитрием Александровичем. У Д. А. У. вообще довольно необычный modus docendi[13]: тебе кажется, что Уляшов сентиментальничает, вспоминает что-то о давно ушедшей юности, зря тратит темпы на ненужные мемуары, – а потом выясняется, что он вел к чему-то очень важному, методологически важному, идейно важному. Так и с Крамником получилось. Д. А. У. хлебнул кипяточку, взгляд расфокусировал и говорит своим нежным на всю квартиру басом, мол, когда я был школьником, Кирилл, ведущие шахматисты мира вдруг принялись играть давно забытую, заброшенную (на высшем уровне) Итальянскую партию – причем не в комбинационной манере, как это делали романтики, но в сугубо маневренной, позиционной – Giuoco Pianissimo[14]; а почему, Кирилл, пошла такая мода? Ну мне откуда знать, я вообще Итальянской партией никогда не занимался, только Испанской, так и отвечаю, и Уляшов объявляет: из-за Крамника. Оказывается, в 2000 году в Лондоне в матче за звание чемпиона мира Крамник, играя черными, применил против Каспарова… Берлинскую стену. Каспаров такую защиту почти некорректной считал, бросился опровергать. Пять раз сыграли они Испанскую партию, четырежды Крамник шел на Берлинский вариант – и всегда удерживал позицию. Ну, у шахматной общественности случился натуральный шок: Испанская партия опровергнута, Руй Лопес плачет у подножия Берлинской стены, и как теперь добывать перевес за белых?
– Ах, я понимаю! – радостно восклицает Майя. – Ты занимался историей Берлинской стены эпохи Стейница, Ласкера и Тарраша, а Дмитрий Александрович предлагает тебе поменять временны́е рамки и взяться за более поздний период развития варианта?
– На самом деле он хочет, чтобы я писал именно об этом внезапном возрождении интереса к Итальянской партии в начале XXI века, когда теоретики, разочаровавшиеся в Испанке, стали искать альтернативные построения за белых после 1.e4 e5 2.Kf3 Kc6. А я думаю, что мои изыскания по Берлину, если дополнить их анализами партий Крамника, могли бы стать красивым прологом к такому исследованию. Например, «Глава 1. Влияние Берлинского варианта на изменение репертуара открытых дебютов в 2010-х годах».
– Оу, красивая линия! Ты сделаешь из этого шедевр!
Майя целует Кирилла в щеку и говорит, что такое событие можно бы и отметить, взять бутылку вина, пойти к ней домой (пока никого нет), устроить танцы и прочие туда-сюда развлечения. Кирилл и хочет, и не хочет, и продолжает думать о диссертации, о необходимости все-таки разобраться с таинственным отсутствием статей Крамника в библиотеке (не мог же Владимир Борисович за всю жизнь написать только три работы?), но как-то сами собой, словно сгущаясь из воздуха, словно в волшебном кино, возникают перед глазами прилавок продуктового магазина, и дверь знакомой квартиры, и постель, и подушки, и чистые простыни, и Майин лифчик летит в темноту (ах, любимый дебют!)…
– А твои родители знают, что я к тебе прихожу? – спрашивает потом Кирилл.
– Догадываются. Но вообще пора бы вам уже познакомиться.
– Наверное.
– У папы скоро юбилей, так я тебя позову.
– Хорошо; кстати, когда возвращается твой брат? Мне еще не пора убегать?
– Не-е-ет, по средам у него много занятий, – весело отвечает Майя и тянется через кровать за бокалом вина. – И Левушка, в отличие от меня, никогда не прогуливает. Такой прилежный мальчик, любит учиться. Я иногда вижу, что у него какая-нибудь книга лежит открытая, вроде «Начала геометрии ходов» («Посмотрите на диаграмму номер 3.1. Конь, расположенный в углу доски, атакует два поля. Конь, расположенный на краю доски, атакует четыре поля. Конь, расположенный в центре доски, атакует восемь полей. Именно поэтому путь к выигрышу шахматной партии лежит через занятие центра»), так сама вдруг вспоминаю, как в школу ходила. Ох, сколько нам нужно было учить наизусть, кошмар! Левушке это легко дается, счастливый, а у меня все линии в голове путались, начнешь Карповым, закончишь почему-то Каруаной, и преподаватели, бу-бу-бу, вместо помощи только ворчали: «Ботвинник помнил наизусть пять тысяч партий, а от вас требуется выучить всего три сотни за одиннадцать лет». Ну так мир человеческий не из одних же Ботвинников состоит! Впрочем, все не зря; я, кажется, не только партии помню, но даже диктанты из Савелия Тартаковера, которые мы писали на уроках русского языка, слово в слово, вот послушай! – Майя делает серьезное лицо и декламирует строгим «учительским» голосом: – «Какие дебюты, в сущности, разрабатываются в согласии с общими принципами хваленой позиционной игры? Быть может, Королевский гамбит, когда жертвуется пешка, чтобы поставить в опасное положение собственного короля? Или Испанская партия, при которой позволяют загнать в тупик свою важнейшую атакующую фигуру? Или Шотландская партия, при которой дарят противнику важные темпы? Или Северный гамбит, когда играющий белыми сам разрушает всякую надежду на создание пешечного центра? Или, наконец, ортодоксальный Ферзевый гамбит, при котором уступают противнику перевес на ферзевом фланге против шатких гарантий атаки?.. Как мы видим, над всеми этими дебютами витает могучий дух художественной изобретательности».
Кирилл смеется.
– Точно, помню, и мы это писали под диктовку! Классный отрывок. Тартаковер вообще очарователен, когда издевается над чем-нибудь, вот как здесь над стратегией.
– На самом деле мне, наверное, тоже нравилось ходить в школу, – продолжает вспоминать Майя. – Все-таки общение, друзья; и на уроках много любопытного.
– И что тебе больше всего запомнилось? Из «любопытного»?
– Хм, надо посчитать… Может быть, история гипермодернизма? Или изобретение Свешниковым Челябинского варианта в Сицилианской защите? (Каисса, я чуть с ума не сошла, когда впервые увидела эту зияющую слабость на d5, которую добровольно создают себе черные!) Хотя нет, случались впечатления и посильнее, помню. Это уже в старшей школе, классе в восьмом, когда появился курс Общей теории начал, и нам на первом же уроке объявили, что шахматные дебюты существовали не всегда, что они гораздо младше (лет эдак на восемьсот) шахмат как таковых, разработаны только в XV веке. Я слушала и ничего не понимала, мы же все с детства привыкли, что у шахматной партии есть три фазы, следующие друг за другом: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Что значит «не существовало дебюта», а как тогда играли до XV века – с середины, что ли? Знаешь, меня даже обида взяла; дебюты – это же мое любимое развлечение лет с трех, еще дедушка мне перед сном рассказывал: вот открытые (Испанская партия, Итальянская, Шотландская, Венская, Русская), вот полуоткрытые (Французская защита, Скандинавская, Каро – Канн, Пирца – Уфимцева), вот закрытые (Ферзевый гамбит, Английское начало, Индийские схемы, Дебют Рети). Что же такое?! А оказалось – я полная дура и обижаться должна только на себя, на свое невежество: прямой предшественник европейских шахмат, арабский шатрандж (возникший в VIII веке из индийской чатуранги), в самом деле начинался с середины игры, с неких заранее оговоренных, канонических позиций, так называемых табий, где фигуры уже расставлены в том или ином порядке.
– Да, – подхватывает Кирилл, – это удивительный сюжет. Шатрандж был крайне медленной игрой: ферзь перемещался на одно поле, слон – через одно, рокировки не существовало. Пока разовьешь фигуры с первых двух горизонталей – со скуки умрешь: потому и придумали начинать с готовых табий, их там несколько десятков было.
– Вот-вот! И только после европейской реформы правил игры, резко ускорившей шахматы, позволившей множеством способов выводить фигуры в центр и чуть ли не третьим ходом начинать прямую атаку на короля, стало возможным появление самых разных дебютных схем, родилась дебютная теория как таковая, – Майя ерошит волосы. – И ведь, пожалуй, именно благодаря этому примеру я впервые осознала степень, как бы выразиться – «неглубокости», что ли? – нашего мира: практически все вещи, почитаемые людьми за «исконные» и «естественные», были изобретены сравнительно недавно…
– Кстати, насчет «изобретенности»: помню, ты критиковала феминистскую теорию о том, что «ферзь» стал называться «королевой» под действием средневекового культа Прекрасной Дамы и чуть ли не в честь Изабеллы Кастильской; так вот, попалась мне недавно одна статья…
(Каисса,
так легко говорить с тем, кого любишь…
Майя и Кирилл говорят долго, долго: об исторической обусловленности опыта, о социальном конструировании реальности, об изменчивости слов и вещей, о смене парадигм и эпистем, и вспоминают Мишеля Фуко и Хейдена Уайта, и цитируют Райнхарта Козеллека (вперемешку с Гарри Каспаровым), и горячо спорят о точности этих цитат, и разрешают спор совершенно неожиданным способом, и курят потом, зачарованно глядя в окно, за которым уже сгущается зыбкий сумрак, и Кириллу пора идти, им двоим пора расставаться, но это ненадолго, до послезавтра, до новой встречи – в 19:00, на другом берегу Невы.
На дне рождения Ноны.)
* * *
Семья Ноны владела прекрасной просторной квартирой около Ново-Никольского моста, на набережной канала имени Левенфиша – совсем недалеко от общежития Кирилла (пройти десять минут пешком по Садовой улице, мимо Юсуповского сада – «В память о выдающемся шахматисте, международном гроссмейстере Артуре Юсупове», гласила табличка, – а после пересечения с Большой Подьяческой повернуть направо).
Вечер выдался теплым, и Кирилл даже не взял пальто: шагал налегке, в клетчатой кофте, нес шоколадку «Белая королева» (подарок имениннице). Впрочем, мысли его были заняты отнюдь не предстоящим празднованием, но – работами Крамника.
Точнее, загадочным отсутствием работ Крамника.
Очередное посещение Публички, проверка по всем каталогам, компьютерный поиск, вновь любезно организованный Шушей, ничего не дали: все те же три куцые статьи и пара томиков избранных партий (плюс довольно старые, начала XXI века, «очерки творчества» Крамника за авторством Якова Дамского, Сергея Шипова, Сархана Гулиева). Поверить в такое было почти невозможно: в конце концов, речь шла не о рядовом гроссмейстере, но о четырнадцатом чемпионе мира, сокрушившем в 2000 году самого Каспарова. Но что, если дело именно в этом? – думал, огибая лужи, Кирилл. – Крамнику просто не повезло: он угодил между Гарри Каспаровым и Магнусом Карлсеном, двумя величайшими игроками в истории шахмат, господствовавшими по два десятка лет каждый (ранее похожим образом сложилась судьба пятого чемпиона мира Макса Эйве, триумф которого оказался краткой паузой, отделяющей эпоху Александра Алехина от эпохи Михаила Ботвинника). Придись победы Крамника на любое другое время, о нем бы говорили намного больше, охотнее бы переиздавали и комментировали, чаще бы ссылались в научных исследованиях. (Шуша, впрочем, предлагала альтернативное объяснение: с 2007 года Крамник жил во Франции, его секундант Евгений Бареев перебрался в Канаду, и потому большинство аналитических работ, написанных ими, недоступны сегодня российским ученым – увы, Карантин.) В любом случае ситуация дурацкая. И как теперь поступать Кириллу? Бросить совсем Берлинскую стену, полностью переключиться (как предлагает Уляшов) на исследования Итальянских позиций? Там ведь много интересного – и особенно соединение, через анти-Берлинский ход 4.d3, Итальянской и Испанской партий в единый Итало-испанский дебютный комплекс, грандиозную систему с огромным множеством идей и планов. На таком материале и аналитик развернется, и историк – только работай. (А все-таки жаль штудий Берлинского эндшпиля. Каисса, сколько остроумия в этих вроде бы неуклюжих маневрах: добровольно лишившийся рокировки черный король остается в центре доски, но прячется от угроз белых – за белой же пешкой! Нет уж, полностью от наших находок мы отказываться не будем, мы расшибемся в лепешку, но соберем все материалы вокруг 2000 года, сделаем шикарное «берлинское» введение в «итальянскую» диссертацию.)
За такими мыслями Кирилл перешел Подьяческую, нырнул в подворотню, поднялся на второй этаж. Его уже встречали: красавица-хозяйка Нона – тонкие черты лица, умные смеющиеся глаза, облако темных кудрей над плечами – в модной длинной до самых пят футболочке с принтом (черный конь на d3 из шестнадцатой партии матча Карпов – Каспаров (1985 год)), и Майя, веселая (даже чересчур веселая), в светлой рубахе и цветном галстуке. – Кирилл, дорогой! – Майя, привет! Нона, милая, с днем рождения!
Объятия, толкотня, суета.
Девушки ведут гостя через кухню, где свечи, фужеры, графины и приготовленные Ноной маленькие бутерброды (с соусом песто из молодой петрушки и растительного масла), в дальнюю комнату, полную музыки, разговоров, людей. Многих Кирилл видит впервые, но с кем-то уже знаком: вот, например, компания студентов-старшекурсников с кафедры истории, похожая на этюд композитора Погосянца, – пять человек сидят тесно-тесно в самом углу, спорят о чем-то негромкими голосами; о чем именно спорят?
– Понятно кто – Арон Нимцович.
– «Моя система» и «Моя система на практике» – великие книги.
– Вообще-то идейно Рихард Рети куда более оригинален, чем Нимцович.
– Тогда уж Свешников, он в 64 раза оригинальнее.