Читать онлайн Герой иного времени бесплатно
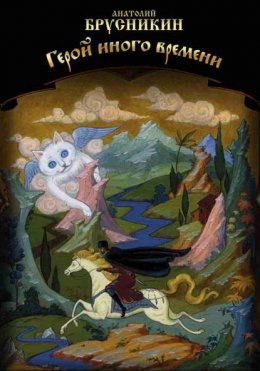
Разговор с незнакомкой
«Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут. Все это прекрасно, думается, но все это было, а я хочу знать, что есть».
А. Бестужев-Марлинский, «Аммалат-бек»
Девушка была милой и доброй, хоть очень расстроилась бы, если кто-нибудь счел ее таковой. В ее кругу эти качества почитались несколько комичными, а в двадцать лет быть смешной ужасно не хочется. Поэтому она старалась выглядеть скучающей, изо всех сил сдерживала порывистость движений, а со слугами разговаривала сухо и обращалась к ним на «вы», это казалось ей оригинальным и европейским. Впервые в жизни девушка совершала самостоятельное путешествие, и нешуточное: из Петербурга на Кавказ, к серным источникам, но не лечить желудок и не искать среди армейской молодежи жениха, как другие барышни. Она собиралась навестить отца, занимавшего важный пост в армии.
Петербуржанка ехала на своих, целым поездом: впереди дорожная карета, запряженная парой каурых англичанок, затем повозка с багажом, еще одна со столичными деликатесами и винами для родителя (он был гурман), да запасные тягловые лошади, да чистокровная кобыла для верховой езды – на случай, если путешественнице надоест качаться на рессорах. Распоряжался караваном пожилой унтер-офицер, которого генерал командировал на север с поручением доставить дочь в сохранности и в назначенный срок.
Первую часть пути, от Петербурга до Москвы, девушка робела и вела себя послушно, но характер у нее был отцовский, смелый, к новым обстоятельствам она привыкала быстро. Мысленно она пообещала себе, что после Москвы всё будет по-другому. В старой столице ей предстояло погостить у тетки, которая все равно не отнеслась бы к племяннице как к взрослой, но уж, вырвавшись из-под родственной опеки, барышня собиралась начать новую жизнь.
Так она и сделала.
Распрощавшись с провожающими на Серпуховской заставе, отъехала совсем недалеко и на первой же почтовой станции, в Бирюлеве, велела остановиться. Никакой необходимости в этом не было. Позади осталось всего 17 верст, лошади нисколько не устали. Но девушка объявила, что желает чаю.
Унтер попробовал возражать, но услышал в ответ ледяное: «Вы уж извольте распорядиться, как я сказала» – и, сдвинув седые брови, велел кучеру сворачивать. У служивого имелась строжайшая инструкция от генерала с подробным указанием всех перегонов, привалов и ночевок, но за время дороги старик успел привязаться к своей светловолосой подопечной и готов был исполнить любой ее каприз.
Неожиданная остановка огорчила возниц, горничную и лакея. Погода стояла солнечная, опьяняюще свежая, как бывает в середине апреля, и все настроились ехать вперед – под чеканный стук копыт по подсохшему шоссе, под звон бубенцов. И вдруг на тебе!
Слуги хмуро потащили в избу самовар, посуду – им не пришло бы в голову поить барышню станционным чаем из чужих стаканов. Своевольница поднялась в казенную избу, не обращая внимания на кислые физиономии.
Был, однако, некто, кого импровизированная остановка обрадовала.
От самой заставы за экипажем следовала всадница в черном платье для верховой езды и узкополой шляпке с вуалью. Поскольку дама держалась в полусотне шагов от последней повозки и расстояния не сокращала, никто не обратил на нее внимания. Лицо амазонки было бледным, брови сдвинуты; она то откидывала со лба волосы, то покусывала тонкие губы – словом, пребывала в волнении или, может быть, колебаниях. Но когда увидела, что карета сворачивает во двор станции, узкая рука в кружевной перчатке начертала на груди крест, с уст сорвалось радостное восклицание. Отбросив с виска черный локон, наездница тронула лошадь хлыстиком – та легко запустила иноходью.
Через несколько минут после блондинки дама вошла в зал. Там было пусто. Покидающие Москву редко меняют лошадей на первой станции, а те, кто, наоборот, едет в город с юга, обычно торопятся поскорее достичь заставы и не хотят останавливаться в непосредственной близости от цели своего путешествия.
Пока барышне сервировали стол, брюнетка делала вид, что изучает таблицу с прейскурантом, но, едва слуги удалились, приблизилась к столу, откинула с лица вуаль и прерывающимся голосом сказала:
– Мне нужно с вами поговорить. Позвольте пока не называть имени. Я после объясню… А кто вы, мне известно.
Девушка, прежде не замечавшая, что в помещении есть еще кто-то из проезжающих, очень удивилась. Ничего не отвечая, она посмотрела на незнакомку вопросительно. Та выговаривала слова, держалась, была одета как принято в самом взыскательном обществе.
Петербуржанка сказала:
– Прошу вас садиться. Что вам угодно и откуда вы меня знаете?
– Я следовала за вами от самого дома вашей тетушки на Пречистенской. Я живу там же, неподалеку, но это не имеет важности… Я бы проделала и более длинный путь, лишь бы поговорить с вами.
Удивившись еще больше, барышня не нашлась, что сказать, и снова показала на свободный стул.
– Благодарю… – Москвичка сняла шляпу.
Ее лицо было не первой молодости и не то чтобы очень красиво, но в нем ощущалось что-то необычайно привлекательное. Девушка отметила матовую бледность кожи, интересные тени под густыми ресницами, легкие морщинки по краям рта – и подумала, что, оказывается, можно сохранять приличную внешность и за тридцать, притом нисколько не молодясь.
– Да, я все про вас знаю, – продолжала дама. – Москва – маленький город. Я расспросила всех, кого только могла. У нас с вами немало общих знакомых… Мне рассказали, что вы умны, добры и милосердны…
При этих словах губы блондинки немного скривились – она бы предпочла, чтобы о ней говорили иное, но брюнетка очень волновалась и не заметила ее недовольства.
– …Я решила вам довериться. Лучшего выбора у меня не будет. Я хочу обратиться к вам с просьбой, касающейся одного человека. – Она запнулась. – Я пока не назову вам и его имени. На случай, если вы откажете… Простите мне эту невежливость и не сердитесь. Сейчас вы всё поймете.
– Слушаю вас, – сказала девушка, очень довольная, что женщина много старше ее годами волнуется и говорит сбивчиво, а сама она так спокойна и сдержанна. – И не волнуйтесь. Хотите чаю?
– Нет, спасибо… Я вижу, что не ошиблась. Вы действительно ангел, как мне и говорили. Но мой рассказ может получиться долгим. Готовы ли вы выслушать?
Хоть и раздосадованная «ангелом», барышня кивнула. Ей становилось всё любопытней. Она не представляла, о чем может ее просить такая интригующая, такая взрослая дама – верно о чем-нибудь необычном. Путешествие из скучной Москвы на романтический Кавказ, кажется, сразу же начиналось с романтического приключения.
– Кто вы все-таки? – спросила она. – Не хотите называться – не нужно, но все же – кто?
Брюнетка пожала плечами, аттестовала себя коротко:
– Никто. Старая дева. Речь не обо мне, а об одном человеке. Он мне родня, очень дальняя. Я на двенадцать лет моложе, мое детство прошло в деревне, вдали от столицы, где жил он, но у нас в семье часто о нем говорили. Тогда, вы вряд ли помните, была мода на миниатюрные портреты. У маменьки на клавикордах стояла целая галерея: государь с государыней, мадам де Сталь, лорд Байрон, Шатобриан, дюжина родственников, и среди них он – очень молодой, красивый, в мундире с какими-то орденами. Я подолгу смотрела на него, часто о нем думала. Он казался мне принцем из сказки. Когда он наезжал к нам, я была слишком маленькой и его не запомнила. Потом у него произошла какая-то дуэльная история (тогда они случались гораздо чаще, чем теперь), и он уехал в далекие страны. Их названия были для меня, как музыка: Америка, Испания, Греция. Во времена моего детства в гостиных часто звучали имена «Боливар», «Квирога», «Ипсиланти». Он, должно быть, видел этих великих людей, думала я с восторгом. Сегодня в это трудно поверить, но тогда все любили порассуждать о революциях, юноши мечтали где-нибудь сражаться за чью-то свободу. Но они мечтали, а он – сражался.
Я была подростком, почти девушкой, когда вокруг стали говорить, что надобно сначала избавить от рабства собственных соотечественников, а потом уж заботиться о счастьи испанцев или греков. Вы недоверчиво улыбаетесь? Мне и самой странно. Прошло меньше двадцати лет, а кажется, будто это было во времена античности…
Человек, о котором я рассказываю, вернулся из долгих странствий в канун Несчастья. Вы понимаете, о чем я… Это было в исходе 1825 года, – прибавила дама, видя на лице слушательницы недоумение. Та неуверенно кивнула. – Он прибыл в Петербург, кажется, в самый день возмущения. Не знаю, в чем именно заключалось его преступление против власти, но приговор он получил ужасный, по первому разряду, то есть повешение, по конфирмации замененное пятнадцатью годами каторги с последующим сибирским поселением навечно. Навечно, – повторила она медленно, с дрожью. – Мне после шепнули, что в отличие от многих, виновных куда более, он дерзил на следствии и восстановил против себя самого… Нет, не буду об этом. – Дама сбилась, видимо, забеспокоившись, не сказала ли она нечто, могущее испугать собеседницу. – Я не хочу, не должна касаться материй, которые… не имеют значения. Лучше я расскажу о своих отношениях с… этим человеком.
Она опустила глаза и, не переставая говорить, теперь всё смотрела на скатерть, будто видела там картины из прошлого.
– Вы уже, конечно, догадались, что я полюбила его. Я не могла в него не влюбиться еще заглазно – со всеми этими рассказами, с миниатюрным портретом, с девичьим томлением и скукою деревенской жизни. Вероятно, эти мечтания закончились бы тем, что я встретила бы какого-нибудь более или менее обыкновенного человека, обнаружила бы в нем всевозможные достоинства или напридумывала их, вышла бы замуж, и потом была бы счастлива или несчастна, Бог весть. Но вышло так, что по дороге из-за границы в Петербург мой троюродный брат заглянул в наше имение… И я увидела человека исключительного, по сравнению с которым остальные мужчины навсегда утратили для меня всякую привлекательность. Я полюбила уже не по-девичьи, а по-настоящему, на всю жизнь. Это чувство наполнило доверху мое существо и существование. Испытания и страдания, какие принесла мне эта любовь, не способны омрачить счастья, которым она меня одарила. В самые тяжкие минуты я спрашиваю себя: готова ли я была бы променять свой жребий на какой-то иной? И в ужасе содрогаюсь. Нет, никогда!
Москвичка смахнула слезинку. Глаза завороженно слушавшей петербуржанки тоже вмиг увлажнились.
– Итак, мне шел осьмнадцатый год. И вела я себя, как всякая влюбленная девочка. Не сводила с него глаз, повсюду за ним ходила и прочее подобное. Я знала, что очень недурна – мне все это говорили. А он слыл ценителем женской красоты. Я слышала про его любовные приключения, но эти слухи меня не отталкивали, совсем наоборот… И, конечно же, он обратил на меня внимание. Несмотря на неопытность, я понимала, что это обычный интерес мужчины к хорошенькой девице, но надеялась, что он сумеет рассмотреть во мне не только свежее личико и стройную фигурку. Однако я ужасно боялась, что он уедет в столицу, так меня и не узнав. Страх заставил меня совершить самый смелый поступок в моей жизни…
– Вы написали ему признание?! Как Татьяна Онегину? – вскричала барышня, прижав руку к сердцу.
– Нет. Я ночью пришла к нему в комнату, пала ему на грудь и осталась до утра.
Блондинка растерянно моргнула. Она была фраппирована.
– Но… – пролепетала она – и не закончила.
– Я сказала, что я старая дева, но не говорила, что я девица.
Рассказчица наконец подняла глаза. В них не было смущения. Опустить взгляд и покраснеть пришлось барышне.
– И вы не сожалеете о своей… слабости?
– Слабости? Сожалею? – Дама тихонько рассмеялась. – Эта ночь – самое драгоценное воспоминание моей жизни. Я как единственное сокровище берегу память о часах, когда он был полностью мой.
– Единственное сокровище? – переспросила девушка с жгучим интересом, позабыв стеснительность.
– Нет, конечно, нет, – поправилась брюнетка. – Еще у меня есть письма.
– Он вам писал… оттуда? – Барышня неопределенно махнула рукой в сторону, где по ее представлению находилась Сибирь.
– Редко, коротко и довольно сухо. Нет, я имела в виду мои письма к нему. В них записана вся моя жизнь. Каждое утро, в течение долгих лет, у меня начинается с одного и того же. Я пишу ему о том, что приключилось со мною за минувший день, о чем я думала, что чувствовала. Это лучшее время суток. Нет, не так. – Она поправилась. – Только в эти минуты я живу. Потому что я с ним. Мне кажется, что он меня слышит. Изза ежедневных писем моя жизнь прошла осмысленно, она не была пустой. Потому что я кому-то ее рассказывала, а это очень-очень важно – оглядываться на каждый прожитый день. За это я тоже должна быть благодарна ему…
– Каждое утро? – Девушка покачала золотой головкой. – Сколько же это получается?
– Несколько тысяч. Но отправляла я меньше, гораздо меньше. Там, где его содержали, дозволялось одно письмо в месяц. Место это столь отдаленное, что частной оказии не сыщешь, туда доходит только казенная почта. Правда, никто кроме меня ему не писал, потому что близких родственников у него нет, а дальние пугливо отстранились, чему я была эгоистически рада. Дозволенная квота вся принадлежала мне. Я не выбирала, какое из написанных за месяц писем отправлять. Я тасовала их, как карточную колоду, и посылала любое. Одни выходили интереснее и были складнее написаны, другие решительно нехороши, но я не хотела выглядеть перед ним лучше, чем я есть. В одном ошибки произойти не могло: каждое письмо дышало любовью. Она была со мною всякий день.
Темноволосая теперь говорила спокойно, даже с улыбкой, а светловолосая начала всхлипывать, ей пришлось достать платок.
– Вы отправляли всего двенадцать писем в год? А остальные?
– Сжигала. На что их хранить? Я и сегодня утром ему написала, да не пошлю. Хотите прочесть? Никогда никому не показывала, но вам, если пожелаете…
Она потянулась к бисерной сумочке, прикрепленной к поясу.
Блондинка запротестовала:
– Нет, зачем же я буду вторгаться… – Но вдруг сверкнула глазами. – … Да, хочу! Очень хочу!
Она взяла листок, исписанный ровным и мелким, очень красивым почерком.
– Вы перебеливаете? Хоть потом и не отправляете?
– Конечно. Перебеливать и убирать из письма лишнее – это самое приятное.
Вот что говорилось в письме:
Милый друг, я долго размышляла, пытаясь понять Ваше решение, показавшееся мне невыносимо жестоким, и наконец мне сделалось ясно, что Вы, как это всегда бывает, правы. Я больше не досадую на Вас, я досадую на себя за недостаточное умение понимать Вас и недостаточное доверие к Вашим поступкам.
День мой был светел, как всякий день после истечения срока Вашей каторги. Хоть, желая утешить меня, Вы и писали, что бремя Ваше не такое уж суровое, положение Ваше сносно, а работы не тяжелы, при одной мысли о цепях, оскорбляющих Ваше – нет, не достоинство, его цепями оскорбить нельзя, – Ваше вольнолюбие, сердце мое разрывалось от негодования. Слава Богу, с этим покончено, ликовала я, и принуждение находиться в далеком, диком краю без возможности когда-либо его покинуть казалось мне почти безделицей по сравнению с перенесенными Вами муками. К тому же, Вы знаете, я столько лет ждала окончания каторжного срока как великой недостижимой мечты еще и потому, что надеялась вновь увидеть Вас, соединиться с Вами. Я, как Вы несомненно помните, имела дерзость проситься Вам в жены. Вы ведь не рассердились? Вы знаете: мне все равно, венчанной или нет, лишь бы быть с Вами рядом, но, согласно существующим установлениям, с тем, кто пребывает в вечной ссылке, дозволено находиться лишь законной супруге.
Целую неделю, после получения Вашего письма с новым адресом, я писала о всяких пустяках, чтобы не касаться главного – своего горестного недоумения. Ведь Ваш ответ на мое бесстыдное предложение взять меня в жены пришел через тринадцать бесконечно длинных месяцев! Я не знала, что и думать, и лишь твердая моя вера, что, пока я жива, с Вами ничего случиться не может, уберегала меня от отчаяния. Но вот, наконец, почта доставила письмо. И что же? Я узнаю, что, едва выйдя с каторги, Вы подали прошение о замене вечной ссылки отданием в солдаты и не хотели писать мне, пока не окажетесь на Кавказе!
Глупое мое сердце сжалось от мысли, что Вы поступили подобным образом, не желая венчаться со мной. «Он сделал это, потому что горд и не хочет жалости, – твердила себе я. – Нужно написать, нужно объяснить ему, что это не жалость и не милосердие, а нечто совсем другое!» Потом, вовсе утратив разум от горя, я говорила себе: «Не обманывайся. Он тебя не любит, любовь у мужчин не длится столько времени. Пока всё исчерпывалось редкой перепиской, он готов был тебя терпеть, но ныне, когда встреча сделалась вероятной, обманываться и обманывать больше не хочет. Ему милей мысль о пуле, нежели о жизни с тобой».
Простите меня, милый. Я кажусь себе умной, но часто бываю слепа и глуха. Вернусь к вчерашнему дню, когда у меня вдруг открылись глаза. Я где-то была, с кем-то разговаривала (не помню, неважно), и вдруг внутри у меня словно зазвучала дивная музыка. Пелена упала, я прозрела.
Вас не могли не покоробить мои прекраснодушные мечтания о жизни в суровой стране, среди дикой природы. В детстве я слишком увлекалась Бернарденом де Сен-Пьером, и с тех пор голова моя наполнена ерундой о Поле с Виргинией средь девственных лесов. На самом деле сибирская жизнь, должно быть, груба и безобразна, а положение бесправного ссыльного, без того тяжелое, стало бы вдвойне унизительным для Вас, если б я оказалась рядом. Мне следовало думать не о своих чувствах, а о Ваших. Мой приезд усугубил бы Ваши страдания.
Я перечитала Ваше письмо и увидела, что, оглушенная обидой, проглядела в нем главное: Ваше обещание. А ведь, казалось бы, я достаточно Вас знаю. Вас никогда не устроит половина, Вам нужно всё – или ничего.
Друг мой, Вы не отвергаете меня. Но Вы соглашаетесь со мной соединиться либо вольным человеком – либо никак.
Принимаю Ваше решение с полным пониманием и любовью.
Если Бог есть, Он сохранит Вас для меня, а меня для Вас.
Что бы ни случилось, Ваша А.
Читая, петербуржанка несколько раз неблаговоспитанно шмыгнула носом, но не заметила этого. Дважды на бумагу упали слезинки.
– И вы сжигаете такие письма? Каждый месяц? – спросила она глуховатым, будто простуженным голосом.
Дама грустно улыбнулась.
– Нет, только раз в год, осенью, когда в саду жгут листья. Проглядываю, вспоминаю, что было, – и бросаю в костер. Они ведь никому не нужны, эти неотправленные письма, даже мне самой – как никому не нужна опавшая листва. Исполнила свое назначение, осыпалась, и Бог с нею.
– Но теперь вы можете посылать всё, что пишете! У солдата, пусть даже из ссыльных, ограничений на почту нет!
– Могу. Но не делаю этого. Боюсь, его заметет таким обильным листопадом. – Она рассмеялась. – Я теперь посылаю ему письма дважды в месяц, ни в коем случае не чаще. И слежу, чтоб письмо было не длинным. Раньше-то иной раз выходило страниц по десяти.
– Но почему?
Очевидно, по поведению собеседницы москвичка уже поняла, что ее просьба будет выслушана благосклонно, и потому позволила себе перейти от искательности к некоторой назидательности, естественной при разговоре с юной девушкой.
– Мужчины не любят, когда на них обрушивают чересчур много любви. Во всяком случае такие мужчины. Запомните это. Не делайте обычной женской ошибки, не пытайтесь сажать птичку в клетку вашей любви. Вы когда-нибудь тоже полюбите – и, если я вас правильно разгадала, полюбите человека недюжинного. Это великое счастье, но оно потребует всей вашей души и всего вашего ума.
Барышня почувствовала себя польщенной, но в то же время и задетой. Она уже два с половиной месяца воображала, будто влюблена в одного конногвардейца.
– А отчего вы думаете, что я еще не полюбила?
– Вижу. – Дама улыбнулась на нотку обиды в ее голосе. – У вас спящее лицо. Женщина просыпается, когда в первый раз по-настоящему полюбит. Я с таким же, как вы, лицом ходила и будто во сне жила, пока однажды в декабре под нашими окнами не зазвонил колокольчик. Сейчас мне кажется, что этот звук меня и пробудил… А впрочем, давайте проверим, любите вы или нет. Тот, о ком вы подумали, когда сдвинули брови… Скажите, бывает, чтобы прошло пять минут, а вы ни разу о нем не вспомнили?
– Разумеется, бывает!
– А бывает, чтобы вы посмотрели на кого-то другого и сказали себе: «Какой красивый мужчина!»?
– Да. Я ведь не ханжа! Но мой… избранник, – не без колебания употребила барышня слишком ответственное слово, – очень хорош собой, я смело могу сравнивать его с кем угодно.
– Вам за него страшно – ежечасно, ежеминутно? Вы боитесь, что он разобьется, выпав из седла? Заболеет неизлечимым недугом? Что безжалостный бретер вызовет его на смертельный поединок? Что безумец на улице бросится на него с ножом?
– Что за дикие фантазии! Мне и в голову подобное не приходит!
– Ну так вы скоро его забудете. Разлука и новые впечатления об этом позаботятся. Я вам скажу, что такое любовь. Это каждоминутный непрекращающийся страх. Такой сильный и постоянный, что других страхов уже не остается. Юной девушкой я много чего боялась, всяких пустяков: мышей, тараканов, грома, цыган – всего не упомню. А теперь боюсь только одного: что он умрет, и я останусь на свете одна… Но наши испытания близятся к концу. Он больше не каторжник и не вечный сибирский ссыльный. Он солдат, он на Кавказе! Скоро мы соединимся!
Залюбовавшись счастливой улыбкой, омолодившей и осветившей лицо дамы, и не желая, чтобы это сияние померкло, петербуржанка сказала очень осторожно:
– Но ведь он – нижний чин, подневольный человек. В известном смысле его положение тяжелее, чем у ссыльного…
Улыбка не померкла. Дама спокойно ответила:
– Он обещал, что быстро выслужит офицерский чин, а потом немедленно подаст в отставку.
– Вы не знаете, как трудно достаются эполеты людям такой судьбы. Отец, он генерал, рассказывал мне, что…
– А вы не знаете его! – Брюнетка, вспыхнув, перебила генеральскую дочь. – Он слов на ветер не бросает! Если пообещал, обязательно исполнит. – И смутилась. – Простите меня, простите! Вы не рассердились? Я так боюсь, что вы не согласитесь выполнить моей просьбы!
– Сделаю всё, что будет возможно. Говорите, – твердо ответила блондинка и крепко сжала обе руки собеседницы. – Вы желаете, чтобы я разыскала вашего возлюбленного и что-то ему передала?
Москвичка выразила свою благодарность ответным рукопожатием.
– Да… То есть нет… Искать его не нужно, я вам сейчас назову его имя и место службы. Ничего ему не передавайте. Просто… пишите мне: как он, здоров ли, не нуждается ли в чем-то. Вот всё, о чем я прошу. Только, ради Бога, будьте осторожны. За такими, как он, бдительно следят. Неизвестно, как может быть истолковано ваше к нему внимание. А пуще того я боюсь, не догадался бы он сам, что я через вас о нем пекусь. Это может ему не понравиться.
– Будьте совершенно покойны, я не подведу ни его, ни вас. – Девушка достала из бархатной ташки нарядную книжечку с карандашиком. – Итак, его имя?
Из книги Г.Ф.Мангарова «Записки старого кавказца»
СПб, 1905 г.
Глава 1
«И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая».
Л.Толстой, «Хаджи-Мурат»
Сейчас и тогда. Юный честолюбец николаевской эпохи. Счастливый выстрел. Мечты начинают сбываться.
Человеку, в особенности человеку молодому, свойственно ощущать себя центром мироздания, пупом вселенной. В юности не был исключением и я. Но мне – уж не знаю очень посчастливилось или очень не посчастливилось – на восходе жизни оказаться в орбите действительно крупного человека, после чего во весь остаток дней я более не испытывал иллюзий относительно масштаба своей персоны. Пожалуй, все-таки это была удача. И жалею я сегодня только об одном: как завершилась история этой необыкновенной личности, я так и не узнал и теперь, верно, никогда не узнаю. Разве что по ту сторону Занавеса, до которого мне осталось не более шага.
Всякое время порождает и размножает людей свойственного ему типа. Размах и мелочность, мужество и робость, благородство и низость подвержены моде, как всё на свете. Когда я был молод, особи, подобные тому, о ком я собираюсь написать, почти совсем повывелись. Еще и поэтому он так бросался в глаза – словно чудом уцелевший мамонт средь малорослых зверушек иного климата. Сейчас, в дни моего угасания, вновь настала пора Героев и Демонов, которых расплодилось невиданное множество, и подчас нелегко понять, кто сражается на стороне Добра, а кто на стороне Зла.
Я часто думаю: а каким бы был в двадцатом веке он? Нет, я выразился неверно. Он бы, конечно, был бы точно таким же, этакие люди в зависимости от веяний эпохи не изменяются. С кем он был бы – вот о чем следовало бы спросить. С душителямиили с разрушителями? Иных вокруг, увы, не вижу. В стороне от событий он точно бы не остался, это было не в его обычаях. Быть может, он сумел бы открыть какой-то иной путь, не знаю.
Я часто мысленно беседую с ним, признаю или оспариваю его правоту. Не преувеличу, если скажу, что вся моя жизнь прошла в воображаемом диалоге с ним. Я часто сверял свои поступки по его стандарту. Если я не сумел прожить свои годы в покое и довольстве, виной этому он. Но если я получился не таким пустым и скверным, каким обещался, за это тоже следует благодарить его. В минуты трудного выбора я спрашивал себя: а как поступил бы он? Ответ всегда был ясен, ни разу не возникло ни малейшего сомнения. Его стандарт не оставляет почвы для колебаний. Бывало, я не находил в себе достаточно силы, чтобы ему соответствовать, но, даже совершая что-то, в его терминологии, hors de considération, я знал, что нехорош, а это знание, согласитесь, уже многого стоит.
С тех пор, как наши дороги пересеклись и разделились, миновало больше шестидесяти лет. Сменился век, сменилось всё. Из своего поколения я остался один. Никого из тех, с кем я дружил или враждовал в первой молодости, больше нет. Смотрясь в зеркало, я пытаюсь разглядеть под складками дряблой, усталой кожи прежнего себя (этому греху предаются все старики), но не обнаруживаю и тени своего тогдашнего облика. Я не помню своего юного лица. Это, пожалуй, неудивительно. Портретов с меня никто не писал, а фотографирование вошло в обиход много позднее. Вспоминается что-то овальное, с ухоженными височками и подкрученными тонкими усиками, с золотистой прядью, со старательно сдвинутыми бровями – мне так хотелось выглядеть не юным и свежим, а пресыщенным и недовольным.
Читая о моих кавказских приключениях, нельзя забывать, что я был очень молод и, как водится в этом возрасте, глуп. Незадолго перед тем мне сравнялось двадцать три года. Правда, в те времена этот возраст не казался таким детским, как ныне. У всех на памяти еще были министры и полководцы немногим за двадцать, вроде Питта Младшего или братьев Зубовых, а также юные фаворитки, под каблучком которых оказывались монархи и монархии. И, конечно, каждый небогатый и неродовитый офицерик вроде меня свято помнил, что Бонапарт стал генералом в двадцать четыре. Еще только отправляясь на Кавказ, я чуть ли не до дня подсчитал, сколько мне остается до тулонского возраста Наполеона. Вышло два года, срок по моим представлениям очень солидный, почти вечность.
Я, однако, был достаточно благоразумным юношей, чтоб понимать: времена бонапартов закончились и никакие подвиги не превратят меня за два года из подпоручиков в генералы. Что ж, я был согласен на что-нибудь менее недостижимое: флигель-адъютантские аксельбанты, женитьбу на дочери главнокомандующего или картежный выигрыш в сто тысяч. Не стоит презирать прагматичность моих мечтаний, такое уж это было время. Родись я четвертью века ранее, грезил бы о доле Цезаря или Брута.
Таких, как я, кто своей волей перевелся из столицы в Кавказский корпус, вокруг было немало. Кто-то сбежал от долгов, кому-то, как мне, служить в гвардии оказалось не по средствам, кто-то желал пощекотать себе нервы приключениями, и все без исключения рассчитывали на крестик и внеочередной чин. Горская война в протяжение чуть не полувека была молодому российскому офицерству и школой войны, и лотереей счастья.
К началу моего повествования я пробыл на линии немногим более полугода. Вначале Фортуна обласкала меня, оправдав самые смелые надежды. Коротко расскажу, как это случилось. Это воспоминание, не скрою, мне не то чтобы приятно или лестно, но оно меня забавляет.
По прибытии на Кавказ я попросился в боевой отряд, предназначенный для экспедиций вглубь немирно́й территории. У меня уж все было рассчитано. Я знал, что до весны похода не будет, и намеревался провести осень и зиму в подготовке к будущим подвигам. Упорства мне было не занимать. С детства оно, наряду с самолюбием, было сильнейшим из качеств моей натуры. Оба эти свои достоинства (если, конечно, считать их таковыми) я употребил в полной мере.
Мне во что бы то ни стало хотелось вызывать в своих новых сослуживцах, опытных кавказцах, любопытство и восхищение. Первое оказалось легко. Для этого достало моей неюношеской – а впрочем, может быть, как раз очень даже юношеской – рассудочности, которая в возрасте более зрелом меня совершенно покинула.
Я приехал со специально составленным сводом правил новой жизни и очень строго его придерживался. Вовсе не играть и не пить вина, как я полагал, мне будет невозможно – товарищи отвернутся. Поэтому пить я постановил не более двух стаканов вина за раз, а в карты играть на особо выделенную четверть жалования, ни в коем случае ее не превышая. В результате, как это обычно бывает при расчетливой игре, я все время был в небольшом выигрыше, а пьяным меня никто не видывал, отчего в полку укрепилось мнение, будто я обрусевший немец (это неправда, моя фамилия «Мангаров» азиатского корня). Но любопытство старых служак я стяжал не умеренностью, а своими воинственными упражнениями.
На зимних квартирах кавказские офицеры жили лениво. Если нет дежурства, спали допоздна, ходили затрапезно, а о занятиях фрунтом у нас никто и не думал. Я же, постановив как можно лучше подготовить себя к грядущему Тулону, усердно осваивал науку войны по заранее составленной программе. В нее входило укрепление мышц и выносливости, джигитовка, рубка лозы и в особенности практикование в стрельбе. Я был наслышан о невероятной меткости «хищников», как у нас называли враждебных горцев, и думал превзойти их в мастерстве.
Если мои купания в холодной речке, манипуляции с ядрами, заменявшими мне гири, держание в вытянутой руке ведра с водой, беготня вверх-вниз по крутому склону вызывали лишь сожалеющие взгляды и добродушные насмешки, то успехами в стрельбе я сумел-таки завоевать некоторый капитал почтительности. Я предусмотрительно начинал огнестрельные экзерсисы на отдалении от лагеря и устроил тир на ближайшем лугу, лишь когда добился недурных результатов. Вот тогда-то, месяца через полтора после начала занятий по французскому учебнику «L'art du tir»,[1] я и показал товар лицом.
Томящиеся бездельем офицеры, а также не обремененные обязанностями старые солдаты собирались посмотреть на меня. Мой денщик с важностью раскладывал на изгороди крупную осеннюю ежевику. Я вставал в пятнадцати шагах и сшибал ягоды одну за другой, все реже промахиваясь, а позднее и вовсе не допуская ни одной ошибки. У меня было правило выпускать по сто пистолетных зарядов каждый день.
Смотрелся я живописно. Пока мой Степка заряжал, я со скучающим видом позевывал, потом – бах! – и с жерди слетала очередная мишень. Помню прилив жаркого восторга, когда разжалованный за дуэль однополчанин (он слыл «отчаянной башкой») сказал: «Да, брат, не хотел бы я оказаться с тобой на барьере».
Однако карьерная польза мне вышла не от пистолета, а от ружья.
Я привез с собой отличный штуцер; из него я тоже выпускал ежедневно по сотне пуль, но только уже в послеобеденное время. Основательный французский учебник посвятил меня в тайну безупречной меткости, которая достигалась двумя условиями: твердой опорой и идеальной пристрелянностью. Первое я обеспечил, снабдив винтовку сошками, какими пользуются горцы. Порукой второму условию была точнейшая идентичность зарядов – вес и форма пуль, количество и качество пороха измерялись мною при помощи специального аптекарского инструмента. Еще одну дополнительную гарантию меткости я ввел сам. Нарезной ствол позволял посылать пулю гораздо дальше, чем можно прицелиться невооруженным глазом. Чтобы усилить этот доставшийся мне от природы инструмент, я прикрепил к дулу сверху подзорную трубку, а на ее стекле прорезал крест, исполнявший роль прицела. Мое изобретение ужасно мне нравилось. С его помощью – если не было ветра – я научился без промаха дырявить небольшую тыкву на почтенной дистанции в пятьсот шагов. На более коротком или более длинном расстоянии моя трубка пользы не приносила – очевидно, нужно было как-то сдвигать угол прицела, а этого я не умел. Но мне вполне хватило меткости на пятиста шагах, чтобы потрясти воображение видавших виды кавказцев и заслужить у них, наконец, желанное восхищение.
Как я уже сказал, это редкостное, хоть малоприменимое на практике умение мне очень пригодилось.
Едва в предгорья северного Кавказа пришла весна, наш отряд в составе нескольких батальонов и казачьих сотен выступил в поход. Не буду рассказывать, в чем состоял смысл этой неисторической операции, – сегодня это вряд ли кому-то интересно. Довольно сообщить, что на третий день мы встретились с неприятелем, причем вышло так, что противоборствующие стороны оказались на двух длинных, плавных склонах, опускавшихся к долине неширокой речки. День был солнечный, воздух прозрачен, и мы видели врага, как на ладони, что в кавказских делах случалось редко. Пользуясь тем, что наши пушки еще не одолели перевал, «хищники» роились перед нами несколькими скопищами, в каждом по сотне-полторы всадников. Некоторые лихачи выносились вперед, к речке. Им навстречу выбегали наши охотники. Между этими немногочисленными стрелками и происходил настоящий бой. Я впервые увидел, как воюют конные джигиты. По одиночке, с одной плетью, совсем слегка трогая ею коня, они неслись вперед, выхватывали ружье, стреляли и тут же поворачивали обратно, с поразительной ловкостью перезаряжая на скаку свое длинноствольное оружие.
Однако и смельчаки сходились не ближе сотни шагов, так что особенных потерь ни у нас, ни у них пока не было. Наугад пущенные пули, правда, летали где им заблагорассудится, в том числе и над моею головой, так что я чувствовал себя участником настоящего сражения и был несказанно рад, что нисколько не трушу.
Рота, в которой я состоял субалтерном, расположилась цепью чуть ниже нашего штаба – то есть, на максимальном отдалении от речки и противника. Я всё поглядывал на нашего главного начальника генерала Фигнера, в ту пору командовавшего Средне-Кавказской линией, и, успокоившись по поводу своей храбрости, ломал голову, как бы мне отличиться, коли уж судьба поставила меня прямо под носом у его превосходительства.
Тут на вершине противоположного склона, то есть примерно в симметричном по отношению к нашему штабу месте, тоже показалась кучка всадников с бело-зеленым значком. Один выехал вперед и стал рассматривать наше расположение. Он был, кажется, длиннобородый, в большой папахе, обмотанной чалмой. Солдаты вокруг меня загудели: «Шмель, Шмель, сам пожаловал!». Я потихоньку поднялся к генеральской свите, где все тоже живо обсуждали, Шамиль это или нет. Пожилой полковник, видно, из знатоков, всех разочаровал – он узнал стяг одного из шамилевских наибов, Саид-бека.
При взгляде на подзорные трубы, которые начальники и адъютанты уставили на предводителя мюридов, я встрепенулся. Вот он, мой шанс!
Денщик был послан за штуцером. Поскольку наша рота лениво и вразнобой, больше для развлечения, постреливала в сторону «хищников», не было ничего странного, что и офицер сделает то же самое.
Вроде бы по случайности встав так, чтобы генерал не мог меня не заметить, я установил винтовку на подпоры и стал неторопливо целиться.
– Глядите на подпоручика, глядите! Что это он? – слышалось сзади, но я не обращал внимания.
Саид-бек (в стеклышко мне было теперь хорошо видно, что у него действительно длинная густая борода), следуя горским представлениям о величавости, сидел в седле неподвижный, как конная статуя. Расстояние от моей точки склона до противоположной составляло как раз пятьсот шагов – эту дистанцию я научился определять без ошибки. Боялся я только одного: что в миг выстрела караковая лошадь наиба мотнет головой или переступит копытами.
Задержав дыхание, я как мог плавно нажал крючок. Дым помешал мне разглядеть, удачен ли выстрел. Бросив штуцер, я нетерпеливо выпрямился – и увидел безо всякого увеличительного стекла, как всадник покачнулся и всплеснул руками.
– Убит! Вот это выстрел! – шумели за моей спиной. – Ваше превосходительство, глядите!
Я закашлялся от волнения.
К длиннобородому с двух сторон кинулись мюриды, чтобы снять его с седла, но он оттолкнул их, выпрямился, развернул лошадь. Покачиваясь, но не падая, быстрой рысью поскакал вверх и через несколько мгновений скрылся за вершиной холма. Свита последовала за ним, а минуту спустя стали уходить и остальные «хищники».
Хоть наиб был всего лишь ранен, но выходило, что бой выигран благодаря одному моему выстрелу. Наша передовая цепь уже переправлялась на тот берег.
Опускаю лестный разговор с генералом, как и обратный путь, когда я впервые в жизни чувствовал на себе сотни глаз и ощущал себя героем. Мысли мои были об одном: какое меня ждет отличие – чин и крест или только что-то одно?
Награда превзошла мои самые отчаянные грезы. По возвращении в Серноводск, где находилась главная квартира Средне-Кавказской линии, генерал Фигнер, во-первых, произвел меня в поручики (ему на поход было дано право на три обер-офицерских производства); во-вторых, я получил золотую саблю, что ценилось много выше обычного ордена; в-третьих, его превосходительство предложил щедрый выбор: остаться при нем ординарцем либо получить самостоятельное командование – накануне пришло известие, что от лихорадки умер комендант одного из кабардинских фортов.
Ординарцев или адъютантов среди моих ровесников было пруд пруди, но начальник целой крепости – дело иное, поэтому я, не задумываясь, попросился в коменданты и тем самым продемонстрировал, что моя юношеская расчетливость была не слишком основательного свойства. Не последнюю роль в моем решении сыграло ужасно понравившееся мне название форта – Заноза.
Фигнер похвалил мой «неискательный выбор», пообещал «поглядывать» за мною, и, окрыленный, я поспешил к месту своей новой службы.
Глава 2
Форт Заноза. Мои помощники. «Львович». Тогдашнее отношение к «несчастным». Кунаки. Бдительный фельдфебель
На этом моя блистательно начатая карьера, как скоро стало ясно, и закончилась. Укрепление с задиристым названием когда-то было основано с намерением воткнуть занозу в середину владений непокорных кабардинских князей, но те давным-давно умирились, боевое приграничье сдвинулось к западу и востоку, а маленькая крепость, как это повсеместно у нас случается, исчерпав свою полезность, осталась на иждивении квартирмейстерства, ибо упразднить нечто раз созданное в бумажном смысле очень и очень непросто. Мне мнились стычки с «хищниками», лихие вылазки в горы и новый взлет, однако служа комендантом Занозы отличиться было совершенно невозможно. Чуть не в первый день я с тоскою понял, что мой предшественник поступил куда как неглупо, померев от лихорадки. Иначе ему пришлось бы киснуть и медленно издыхать тут Бог ведает сколько лет.
Начать с того, что гор, рисовавшихся моему воображению, в окрестностях форта не обнаружилось. Лишь какие-то невеличественные и по большей части лысые куэсты (длинные холмы), дремучие кустарники да неширокие долины, изрезанные балками, в которых таились комариные болота. Всё это по весеннему времени было покрыто свежей травой, но легко угадывалось, что в июне, когда не в шутку начнет жарить солнце, зелень выгорит и преобладающей краской пейзажа станет скучный меланж желтого с бурым.
Сам форт представлял собою тесный прямоугольник, внутри которого вокруг маленького плаца стояло четыре турлучные казармы да несколько домиков под соломенной крышей; границу укрепления обозначали земляной вал без единой пушки и ров, бесстыдно заросший колючками.
Еще не осознав, какую штуку выкинула со мной Фортуна, весь полный кипучей энергией, я решил, что именно со рва свою деятельность и начну. Первым же приказом велел вырубить там неуместные заросли – и, что называется, сел в лужу, обнаружив свою кавказскую неопытность. Оказалось, что еще с ермоловских времен рвы нарочно засаживают колючими кустами, ибо продраться через них невозможно, и от внезапного штурма они защищают лучше воды или кольев.
Этот азбучный урок со всей возможной деликатностью мне преподал хорунжий, командовавший командой казаков. Это был единственный кроме меня офицер, человек немолодой, флегматичный, всё на свете повидавший. Если б не этот мой помощник, я наломал бы черт знает каких дров, а, возможно, и вовсе не справился бы со своей должностью. Донат Тимофеевич, конечно, сразу понял, какого субъекта ему прислали в начальники, и повел себя со мною очень политично, ни разу не дав оплошки. К сожалению, за пределами службы у нас не было совсем ничего общего. Он выслужился из рядовых казаков и предпочитал общество своих станичников, ко мне же приходил исключительно за «распоряжениями». Выглядело это так. Донат Тимофеевич спрашивал: «А не сделать ли нам то-то и то-то?». «Пожалуй. Вы уж распорядитесь», – благоразумно отвечал я во всех случаях и ни разу не пожалел о своей покладистости.
По пути из Серноводска в форт я предвкушал, как устрою образцовый, на всю линию славный гарнизон. Солдаты не нахвалятся моей заботливостью, начальство наконец увидит, как должно выглядеть идеальное армейское подразделение, после чего моим талантам будет предоставлено более широкое поприще. Но, прибыв в Занозу, я сразу понял, какую кошмарную ошибку я совершил, отказавшись от места ординарца.
В первый день, знакомясь с гарнизоном, я вышел на плац в мундире и кивере, в сверкающих сапогах, обозрел свое нестройное, обтрепанное войско и почувствовал себя павлином, по ошибке залетевшим в царство ворон и воробьев. Потом я ходил попросту, в фуражке и сюртуке, к которому пристегивал эполеты только на подъем флага и утреннюю молитву – ее, за неимением постоянного попа, в Занозе читал ротный писарь. Одним словом, я быстро пал духом и опустился. Единственное, чего я себе не позволил, – это носить бешмет и черкеску, хоть хорунжий и говорил, что одеваться «по-туземному» сподручней. Но еще в отряде, где все без исключения офицеры и даже юнкера изображали из себя заправских горцев, щеголяя папахами, бурками и газырями, я сообразил, насколько оригинальней будет держаться уставного обмундирования. Теперь зеленый сюртук и белая фуражка были моим последним островком самоуважения. Отказаться от них представлялось мне окончательной капитуляцией перед обстоятельствами.
Волею генерал-лейтенанта Фигнера и собственной дурости я оказался начальником пехотной роты неполного состава и кубанской полусотни. Казаками я не занимался вовсе, то была епархия Доната Тимофеевича. В роте же состояло сто тринадцать нижних чинов, фельдфебель, три унтера и семь ефрейторов, а всего 124 души – слишком много, чтобы я мог приглядеться к каждому или хотя бы запомнить все фамилии. Пребывая в тоске и смятении, я не очень-то и пытался. Нижние чины казались мне на одно лицо – плоское, белесое от вездесущей пыли и по тогдашнему военному обыкновению сплошь с усами. Как, верно, помнит читатель (а может быть, уже и не помнит), государь Николай Павлович, входивший в самые микроскопические мелочи жизни, быта и даже облика своих подданных, регламентировал растительность на лице мужчин, строго определяя, кому усов носить не дозволяется, а кому они вменяются в неукоснительную обязанность. Поэтому, например, Пушкин с Жуковским как лица статские не имели права на это воинственное украшение, а Лермонтов, Марлинский, Полежаев и Тарас Шевченко на портретах глядят молодцами-усачами. По захолустности и отдаленности от начальства, в форте не только казаки, но некоторые солдаты к усам плюсовали бороды.
На первом же построении ротный фельдфебель Зарубайло обратил мое внимание на разномастную группу одетых по-туземному людей, стоявших в самом хвосте ротной шеренги, перед казаками.
– Полюбуйтесь на наших «раскольников», ваше благородие, – язвительно сказал фельдфебель вполголоса, пригнувшись к моему уху. – Стыд и срам. Нету в уставе такого порядка, чтоб нижнему чину в чувяках да папахах расхаживать. А за бороду сквозь строй гоняют.
– Так это не казаки? Велите им переодеться и обриться, да дело с концом, – строго велел я, злясь, что глупо выгляжу в своем новеньком, с иголочки мундире.
Зарубайло просветлел и кинулся было выполнять команду, но вмешался хорунжий. Он объяснил, что это команда охотников, снабжающая ротный котел свежим мясом. Ходить вольно и одеваться по-охотничьи им дозволил прежний комендант, упокой Господь его душу. «А коли они вам ненадобны, пожалуй, передайте их мне», – присовокупил Донат Тимофеевич таким небрежным тоном, что я догадался: делать этого ни в коем случае не следует. Казаки столовались отдельно от солдат, своим кошем.
Приказ об обритии и переобмундировании я пока отменил.
Идя вдоль ротного строя и старательно вглядываясь в невыразительные физиономии нижних чинов (я где-то вычитал, что так всегда делал Ермолов), я наконец добрался до конца шеренги. Тогда-то я впервые обратил внимание на немолодого и, как мне показалось, совсем седого бородача. Волосы при близком рассмотрении оказались не сплошь седые, а очень светлые с небольшой примесью серебра. Одет солдат был в черную папаху, черную же линялую черкеску с тяжелыми газырями, на поясе у него висел большой кинжал в простых ножнах, а ружье, как впрочем и у других охотников, было не уставное пехотное образца 1808 года, а горское, с маленьким прикладом и длинным дулом. Ничего приметного в этом лице я не усмотрел – разве что взгляд, какой-то очень спокойный и внимательный. Задержавшись на мне не долее секунды-другой, он словно бы отметил всё, что его интересовало, и равнодушно устремился в пространство. Помню, мне это не понравилось. Я мысленно взял охотников на заметку, чтобы впоследствии «приструнить» и «обломать» всю эту вольницу. Нарочно спросил у фельдфебеля, как их звать. Он перечислил. У светлобородого фамилия была самая что ни есть обыкновенная, не запоминающаяся. Она тут же выскочила у меня из головы.
Несравненно больше меня занимали так называемые «старые солдаты», ротная аристократия, на которой держится весь порядок. Хорунжий посоветовал мне отличить их особо и сразу наладить добрые отношения. От мнения, какое сложится у них о командире, зависит очень многое.
Со «стариками» я познакомился, собрав их перед комендантским домом. Их было человек пятнадцать: все унтера, три ефрейтора и георгиевские кавалеры, причем почтеннейшим считался ружейный мастер, уже закончивший двадцатипятилетнюю службу, но оставшийся сверхурочно, потому что привык к армии и не имел куда уйти. Никого из охотников там я не увидел. Не было – удивительная вещь – и фельдфебеля.
Я как мог постарался впечатлить высокое собрание, но так и не понял, удалось ли мне это.
Вскоре я выяснил, что у ротных «аристократов» имеется род клуба: после ужина они обыкновенно садились со своими трубочками на ступенях крыльца гарнизонной часовни, окруженные почтительной пустотой, в которую не осмеливались вторгаться молодые солдаты. Заднее окошко моего домика выходило как раз на ту сторону, и я обнаружил, что, если потихоньку приоткрою раму, то могу слышать, о чем толкуют под крылечком.
Поскольку вопрос о впечатлении не на шутку меня занимал, а делать в вечернее время мне было решительно нечего, я частенько, разувшись, подкрадывался к своему наблюдательному пункту и подслушивал, а то и подглядывал через шторку.
К моему тяжкому разочарованию обо мне «старики» не заговаривали никогда. Их неторопливые беседы были о чем угодно – о «Шмеле», о замирении с горцами, о каше или супе, о табаке, – но только не о коменданте, от которого, казалось бы, столь многое зависело в их подневольной жизни. Внутри сего ротного ареопага имелась своя внутренняя иерархия, не совпадавшая с числом и толщиною лычек. Как я уже сказал, фельдфебеля здесь не привечали, а если он появлялся близ крыльца, его встречали и провожали гробовым молчанием. Когда Зарубайло, не выдержав тишины, удалялся, ружейный мастер всегда выразительно сплевывал. Он служил еще в наполеоновскую войну и по манере разговаривать был очень похож на пресловутого «дядю» из лермонтовской поэмы «Бородино». Кстати сказать, остальные его так и звали – Дядя.
Как-то раз, недели через две или три после прибытия, я предавался своему непочтенному времяпрепровождению, сидя на полу под окошком. Скучно было невыразимо – хоть вой. Намерения на вечер у меня были такие: послушать солдатскую болтовню, потом выпить чаю, пройтись по валам да завалиться на складную койку, где недавно испустил дух мой предшественник.
Вдруг вижу, к заветному крыльцу подходит светловолосый охотник в своей косматой папахе, дерзновенно протягивает Дяде руку, остальным просто кивает и без слов тянет трубку. И ничего! С ним приветливо здороваются, сыплют из кисета, подносят серник.
Перед тем у «стариков» шел разговор о Наполеоне. Дядю спросили, видал ли он «Бонапартия». Тот ответил, что врать не станет, не доводилось.
– А вот Львовича спросите, – кивнул он на подошедшего. – Он доле моего с французом воевал… Как, Львович, не доводилось тебе Бонапартия видать?
– Видал, – лениво отвечал тот, раздувая трубку. – После как-нибудь расскажу.
Его, как ни поразительно, оставили в покое. А у меня, конечно, скуку словно ветром выдуло. Ну и ну, думаю. Еще больше я удивился, когда вновь выглянул из-под шторки – прямо не поверил глазам. «Львович» сел в сторонке от прочих, достал из-за пазухи маленький томик в тертом телячьем переплете и углубился в чтение. Никого это экзотическое для солдатской среды занятие, кажется, не удивило. Беседа шла себе дальше.
Любопытство побудило меня надеть сапоги, фуражку и выйти наружу. С рассеянным видом, словно бы прогуливаясь, я приблизился к крыльцу. Все неторопливо, с достоинством встали, оправляясь. Поднялся, отложив книжку, и удивительный солдат.
– Читаешь? – спросил я, будто только что заметив томик. – Стало быть, грамотен? Ну-ка что там у тебя, покажи.
Я ожидал увидеть какого-нибудь «Милорда» или, на лучший случай, «Ивана Выжигина», однако, раскрыв обложку, прочел надпись на языке мне незнакомом. Лишь имя автора – Adam Smith – позволило догадаться, что книга на английском. Нечего и говорить, что изумлению моему не было предела.
– Ты… вы кто? – еле вымолвил я. Тогда (да и сейчас) увидеть нижнего чина с экономическим трактатом на английском языке, было все равно что повстречать в лесу медведя с тросточкой и в цилиндре.
– Охотничьей команды рядовой Никитин, – спокойно отвечал солдат.
– Разжалованный?
Это могло быть единственным объяснением Адаму Смиту.
– Никак нет, ваше благородие. – Глаза смотрели равнодушно. – Наоборот. Повышенный.
– То есть? – Я был сбит с толку.
– Никитин из каторги прислан, с самой дальней Сибири, ваше благородие, – послышалось из-за моего плеча. Это неслышно подобрался вездесущий фельдфебель.
Он мне после и рассказал, что рядовой Никитин из «тех самых» – государственный преступник, приговоренный к смерти, вместо которой пятнадцать лет провел в каторге и теперь прислан смывать вину перед отечеством кровью.
Читатель ошибется, если подумает, что это известие вызвало во мне пиетет по отношению к бывшему каторжнику. Героический ореол вокруг декабристов возник много позднее, когда вошло в моду чтение подпольно ввозимого герценовского журнала, а в эпоху, о которой я рассказываю, сам этот термин еще не был в употреблении. С точки зрения общества, то были глупцы, без толку и смысла, из одной честолюбивой горячности кинувшие в грязь свое счастье, то есть имя, звание, состояние. Их называли «несчастными каторза»[2] или просто «несчастными», что в те времена было синонимом слова «неудачник». Если эти люди и вызывали интерес, то пугливый и словно бы не вполне приличный. В кругах чинных почиталось хорошим тоном говорить о великодушии государя, предавшего смерти всего пятерых безумцев, кого уж никак нельзя было не казнить. В моем же кругу (мнение которого имело для меня большое значение) горе-бунтовщиков иронически именовали «наши бруты».
«Несчастных каторза» или – каламбур того времени – «каторзников» как раз начали миловать, то есть отправлять солдатами на Кавказ, а особенные счастливцы уже даже и выслужились, тем самым положив конец своим мытарствам. Я видал некоторых на водах. Потрепанные, мятые, слишком шумные и какие-то старомодные (ужасное слово для меня тогдашнего), они жадно наверстывали упущенное: безрассудно, по-старинному, играли в карты, много – опять-таки не по-современному – пили, не брезговали любовницами простого звания, а о политике не говорили вовсе, и, по-моему, не из опасения, а просто от полного отсутствия интереса к чему-либо кроме простых удовольствий жизни. Одним словом, ничего романтического я в них не усматривал.
Не слишком интересен показался мне и Никитин с его бело-седой бородой и умной книжкой, один вид которой наводил зевоту. Однако я все же попробовал с ним сблизиться, верней приблизить его к себе, ибо искренне считал, что делаю одолжение «несчастному». Причиной было не столько сострадание к его положению, сколько одиночество и отсутствие собеседников. С Донатом Тимофеевичем, как я уже писал, за пределами службы говорить можно было только о лошадях да генерале Ермолове, при котором он когда-то служил казачком.
Мои попытки вызвать Никитина на разговор натолкнулись на полное равнодушие. Приглашение заходить ко мне запросто, на чашку чая, было выслушано, но не использовано. На вопрос, не требуется ли какое-нибудь воспомоществование, я получил сухой ответ: «Благодарю. Ничего не нужно».
«Ну и черт с тобой, коли так», наконец оскорбился я и постановил не обращать на невежу внимания. Сделать это было легко – Никитин редко попадался мне на глаза. Он почти все время проводил с ружьем за пределами форта, но, в отличие от остальных охотников, предпочитал бродить по куэстам и кустарникам один либо в обществе своего туземного кунака.
Этот его приятель заслуживает описания, ему суждено сыграть роль в моей повести.
Родом он был аварец, звали его Галбаций. Как мне объяснили, это имя или, быть может, прозвище, означало «Волк». Он и выглядел злобным матерым волчищей: рожа разбойничья, короткая, щетиной рыже-серая борода, в вечно расстегнутом вороте бешмета на кожаном шнурке амулет – желтый волчий зуб. Приходил и уходил он когда вздумается, на всех русских кроме своего кунака глядел с ненавистью. Ни разу не видал я, чтобы они с Никитиным о чем-то разговаривали. Если «несчастный» сидел где-то с книгой, горец пристраивался рядом на корточках. В руках у него все время был кинжал, которым он строгал щепку или подравнивал свою бороду: просто проводил по ней клинком, и волоски осыпались сами собой. Кинжал был знаменитой базалаевской стали. Шашку Галбаций тоже носил настоящую айдемировскую гурду. Я раз хотел купить у него оружие, предлагал хорошие деньги, но он молча встал и отошел в сторону. Вспылив, я приказал гнать наглеца за ворота и больше в крепость не пускать. Солдаты были рады, они давно щерились на аварца, как собаки на волка, и терпели его только из-за «Львовича», который почему-то пользовался у них особенным уважением. Я очень удивился, когда узнал, что в форте и вообще на Кавказе этот неприятный Никитин появился недавно, всего с полгода, и никак не мог считаться ветераном. Впрочем, на свете есть люди, один вид которых пробуждает в окружающих безотчетную почтительность.
За моими поползновениями наладить дружбу с охотником ревниво наблюдал фельдфебель. Он за что-то очень не любил Никитина. Когда же увидел, что дружбы не вышло, обрадовался. И стал заводить со мною осторожные разговоры. Сначала жаловался, что «каторжный» дурно влияет на солдат, пробуждая в них строптивость и непочтение к начальству. Потом стал обращать мое внимание на подозрительные исчезновения никитинского приятеля. Зарубайло нашептывал мне: «Попомните мое слово, ваше благородие. Галбаций этот неспроста к нам повадился. Зверюга он, живорез. Такой за оградой встретит – кишки выпустит. Правильно, что вы его прогнали, а только лучше было б в холодную посадить. Наведет он на нас абреков, как Бог свят наведет. Слыхали, как в Вельяминовском форте они этак вот ночью в отворенные изнутри ворота насыпались да весь гарнизон в кинжалы взяли?» Я сначала слушал, но потом, когда фельдфебель начал намекать, что ворота «хищникам» отопрет не кто иной как Никитин, отмахнулся.
– Коли не верите, поручите – я сведаю, – сказал тогда Зарубайло. – Как раз Никитин на охоту собрался. Уж не на встречу ли с Галбацием? Прикажите, я прослежу.
– Изволь, я не против, – зевая ответил я. Прозябание в форте Заноза тянулось уже третий месяц, и моя апатия достигла почти полной беспробудности.
Фельдфебель обрадовался, оделся по-охотничьему, взял карабин и исчез. Он слыл опытным следопытом.
Я же выпил бутылку чихирю, местного вина, к которому понемногу начинал привыкать, да лег спать, попросив хорунжего, если утром не встану, провести построение без меня.
Донат Тимофеевич добудился меня только назавтра к полудню.
– Беда, Григорий Федорович, – сказал он, подавая мне чашку кумыса, отменного средства от похмелья. – Просыпайтесь. Мои казаки в лес за лозой ездили, Зарубайлу привезли. Мертвого.
Я вскочил. Побежал смотреть.
У фельдфебеля на голове сбоку был пролом. Рядом с телом, рассказали казаки, валялся острый камень, но сам ли Зарубайло неловко упал, либо же кто-то нанес ему удар в висок, было неясно. Ружье и кинжал, однако, остались при трупе. Абреки оружие непременно бы забрали, они вообще раздевали мертвых врагов догола, не брезгуя даже исподним. В горах, скудных материей, всякая тряпка имела цену.
– Где Никитин? – спросил я.
Мне отвечали, что со вчерашнего дня не возвращался – видно, охота не задалась.
Тогда я отвел хорунжего в сторону и рассказал, куда и зачем ходил Зарубайло. Мой Донат Тимофеевич отнесся к сообщению с серьезностью.
– Вон оно что. Дело-то, похоже, темное. Коли Никитин к завтрему не объявится, придется вам реляцию в Серноводск писать. Шутка ли! Не хватало нам своего Якубовича!
Тогда на Кавказе ходил упорный слух, после не подтвердившийся, будто известный храбрец ермоловских времен Якубович был переведен из Сибири на Кавказ и передался Шамилю, став у него военным советником. Одно предположение, будто бывший каторжанин из моего гарнизона мог сбежать к неприятелю, сулило мне большие неприятности. Это, пожалуй, было чревато отставлением от должности и следствием – перспектива, которая не очень меня испугала. Я был готов ехать хоть под арест, только бы выбраться из дыры, куда меня засунуло собственное легкомыслие.
Опасения хорунжего, однако, не подтвердились. Наутро в крепость явился Никитин, за ним верхом следовал Галбаций, спешившийся и оставшийся снаружи. Они были без добычи.
Едва мне о том доложили, я потребовал охотника к себе, но он и сам уже скорым шагом направлялся к моему дому.
– Что стряслось с фельдфебелем? – как мог грозней спросил я еще издали. Хорунжий, хмурясь, стоял со мной рядом.
Никитин – он, кажется, уже перемолвился о случившемся с караульными – пожал плечами:
– Не знаю. Верно, упал с кручи, да шею себе свернул. Больно вертляв был. Черт с ним. Вы лучше о важном послушайте.
И рассказал такое, что мы с Донатом Тимофеевичем о злополучном фельдфебеле немедленно позабыли.
Глава 3
Военная обстановка. Я узнаю грозное известие. В Серноводск! Дорожные беседы
До того как пересказать известие, доставленное Никитиным, мне придется хотя бы вкратце пояснить, в какой именно момент Кавказской войны это происходило, ибо длилась война долго и состояла из множества этапов, которые сейчас памятны лишь историкам. Не буду вдаваться в причины и ход кровавого, бестолкового, дорогостоящего противостояния русских и горцев. Довольно будет привести одну притчу, как говорят, правдивую. После того как турецкий султан, проиграв нам очередную кампанию, уступил царю кавказские земли, доселе принадлежавшие Порте сугубо номинально, русские генералы явились осваивать новые владения. Горские старейшины вышли чужакам навстречу и спросили: «Зачем вы пришли?» «Эту землю султан подарил нашему государю», – отвечал российский предводитель. «Я дарю тебе вон ту птичку, – молвил один из стариков, показав на дерево. – Скажи ей, что она теперь твоя». На вылавливание и приручение «птички» мы потратили столько денег, сколько не стоят десять Кавказов, а уж о количестве пролитой крови и говорить нечего…
Первым против русских поднял Чечню и Дагестан имам Кази-Мулла, чуть было не захвативший Военно-грузинскую дорогу, единственную сухопутную связь с Закавказьем. За десять лет до моего «занозного» сидения он пал, пронзенный солдатскими штыками. Второго имама Гамзата убили в междоусобной сваре сами горцы. Третьим вождем немирно́го Кавказа стал великий Шамиль, с которым мы хлебнули лиха. В пору, к которой относится мое повествование, дела у нас делались всё хуже и хуже, приближался горчайший для русского оружия период войны.
Моему переводу из гвардии предшествовало падение форта Лазарев, где под черкесскими шашками погиб до последнего человека весь гарнизон; укрепление Михайловское подорвало пороховой погреб, чтоб не попасть в руки врага; пали крепости Вельяминовская, Александровская и Николаевская. Неосторожная, а лучше сказать, глупейшая попытка отобрать у чеченцев оружие, без которого там и мужчина не мужчина, привела к тому, что вся Чечня встала за Шамиля. Карательный поход закончился кровавым и бесполезным сражением на реке Валерик, где, по свидетельству Лермонтова, «кровь текла струею дымной по каменьям». Уже при мне возмутилась прежде мирная Авария, которую увлек за собой входивший в большую славу Хаджи-Мурат. Он наголову разбил экспедицию генерала Бакунина, погибшего вместе почти со всем войском. Огонь пылал и слева, в Черкесии, и справа, откуда подступал Шамиль. Посередине, где находился мой форт, еще оставалась зона спокойствия. Если бы враг вторгся в долины центрального Кавказа, Грузия с Арменией оказались бы отрезаны от России. Еще раз повторю, что все эти сведения я привожу с единственной целью – объяснить важность доставленной Никитиным вести.
Если быть точным, ее привез Галбаций, ездивший на восток по каким-то своим, вероятно разбойничьим, делам. Покойный фельдфебель был прав, когда предположил, что Никитин отправился в лес не просто на охоту, а на заранее условленную встречу со своим кунаком, изгнанным мною из форта. Новость, которую выведал и передал Никитину его дикий товарищ, заставила охотника забыть о дичи.
Одну из довольно обширных долин, находившихся в опасной близости от Военно-грузинской дороги, занимало вольное горское общество (подобные образования иногда называли «республиками», чтоб отличить от феодальных владений), именуемое Семиаульем. Оно признало русскую власть еще при Ермолове и с тех пор вело себя более или менее смирно. И вот, как узнал Галбаций, к старейшинам Семиаулья пришло послание от грозного имама: через две недели выставить войско в полторы или две тысячи конных, начальство над которыми примет Хаджи-Мурат, а с ним вместе прибудет сам Шамиль, чтобы благословить джигитов на газават. Это означало, что вотвот произойдет то, чего мы давно боялись: к мятежным западному и восточному Кавказу присоединится центральный. Враждебные нам племена сомкнутся в единую стальную цепь.
– Что это ваш волчище вдруг овечкой обратился? – недоверчиво спросил охотника хорунжий (он, вслед за мной, называл Никитина на «вы»). – Зачем ему против своих единоверцев лазутничать?
Объяснение Никитина было по европейским меркам, вероятно, странно, но по горским понятиям совершенно логично.
Он сказал, что Хаджи-Мурат его кунаку давний кровник. Галбаций надеется при помощи русских поквитаться со своим заклятым врагом.
– Сами знаете, – пожал плечами Никитин. – У горцев довольно туманное представление о верности знамени, но зато чрезвычайно твердые принципы во всем, что касается личной дружбы или ненависти.
Донат Тимофеевич кивнул, признавая правоту этого суждения, но все еще не выглядел до конца убежденным.
– Знатный, однако, кровник у вашего разбойника. Не по чину.
– У Галбация в смертельных врагах пол-Кавказа ходит, такой уж это человек. А с Хаджи-Муратом он на ножах еще с тех пор, когда тот был за русских, а мой за Гамзата.
Здесь казачий офицер окончательно поверил в известие и зацокал языком. «Большое дело, скверное дело», – всё приговаривал он и, пока я соображал, как следует поступить, беспрестанно толковал о Хаджи-Мурате.
Этот молодой еще человек носил гордое прозвание батыяучи, то есть «особенный человек». У джигитов он был славнее самого имама. Врагов Хаджи-Мурат бил не числом, а умением. В собственном его немногочисленном отряде нукеры были молодцы на подбор. Он говорил: «Пять золотых стоят столько же, сколько пятьсот медяков». Хаджи-Мурат вообще был остер на язык, и меткое слово доставляло ему популярности не менее, чем воинский талант. В конце концов, однако, именно язык его и погубил. Однажды на диванхане у Шамиля обсуждался вопрос, кому быть его преемником. Имам желал оставить по себе своего сына Гази-Магомеда. А Хаджи-Мурат вполголоса обронил: «О чем тут спорить? У кого шашка острее, тот и преемник. Так было везде и во все времена». Фразу про шашку подхватили, стали передавать из уст в уста – и печальный конец храбреца известен. Но произошло это много позднее, лет через десять, а во время семиаульского дела Хаджи-Мурат еще не совершил главных своих подвигов, хотя имя его уже гремело. До недавних пор он был наш союзник, правитель Аварии, крупнейшего из дагестанских ханств, однако из-за интриг своих недоброжелателей и тупости нашего начальства бежал к Шамилю, с которым прежде враждовал.
Мнение Доната Тимофеевича было такое: немедля отправить к начальству казаков с донесением, причем, учитывая важность, не в Серноводск генералу Фигнеру, а прямо в Тифлис, главнокомандующему Кавказским корпусом генералу Головину.
Только я рассудил иначе. Поняв, какой козырь сдала мне вдруг Фортуна, я разом пробудился от своей спячки и был намерен отыграть выигрышную карту с наибольшей для себя пользой.
С одной стороны, генерал-от-инфантерии Головин главнее генерал-лейтенанта Фигнера и вообще самый первый на Кавказе начальник. Однако про главнокомандующего корпусом было известно, что в Петербурге им недовольны и карьера его на закате. Вскоре из столицы ожидался военный министр князь Чернышев, который, как говорили, Головина снимет, а на его место назначит Фигнера. Какой же мне, спрашивается, был резон искать отличия у закатившейся звезды?
Это было первое соображение. Второе, не менее существенное, состояло в том, что Головин меня не знает, а Фигнер, надо думать, моего счастливого выстрела не забыл.
К двум сим доводам, которые, стыжусь признаться, были для меня основными, присоединялись другие, формальные: то, что Серноводск от форта Заноза был вдвое ближе Тифлиса и что непосредственным моим по субординации командиром был начальник Средне-Кавказской линии, в подчинении которого находились самые боеспособные части. Противодействовать набегу в любом случае придется им.
Поэтому я, хоть и согласился с хорунжим, но постановил, что, если в Тифлис поскачет казак, то в Серноводск поеду я сам. Решение для коменданта необычное и в известном смысле рискованное – как это взять да оставить свою должность? Но я надеялся, что исключительность повода мне зачтется, а свою совесть успокаивал соображением (совершенно правдивым), что Донат Тимофеевич отлично управится в крепости и без меня.
От мысли о том, что через полтора дня я могу оказаться в Серноводске, голова у меня закружилась, словно от нескольких бокалов шампанского. Из моей дыры невеликий курортный городок казался Санкт-Петербургом и даже Парижем. Сколько раз за невыносимо скучные три месяца я вспоминал, как после похода скромным героем прогуливался по аккуратному серноводскому бульвару, провожаемый восхищенными взглядами!
Был и еще один магнит, неудержимо тянувший меня нарушить предписания дисциплины. За неделю перед тем почта доставила мне записку от Стольникова, моего питерского приятеля. В своей всегдашней небрежной манере Базиль сообщал, что жизнь в столице сделалась совсем скучна и он сбежал от нее на кавказские воды. «Коли тебе нечего будет делать, можешь меня навестить, хоть, правду сказать, я разочарован – здесь всё та же тоска, всё те же рожи», – писал Стольников по-французски, вставив единственное русское слово «roji» – эта его привычка к избирательному употреблению отечественного языка была мне хороша знакома. «Кое-кто из наших с истинно христианским милосердием согласился скрасить мое паломничество. Был Сандро Трубецкой, да сбежал, не выдержав свежего горного воздуха, но еще остались Кискис и Тина. Право, приезжай. Давно не видались», – читал я, скрипя зубами от бессилия. Эти строки дышали прежней жизнью, от которой я уехал и по которой теперь так тосковал. Она была рядом, менее чем в сотне верст, но я не имел возможности к ней прикоснуться. Никогда не нравившиеся мне князь Константин Бельской по прозвищу Кискис и Тина, графиня Валентина Самборская, не говоря о самом Базиле, виделись мне посланцами лучезарного Эдема, явившимися подразнить меня в кромешной яме, откуда нет исхода.
Сборы были проведены с молниеносной быстротой. Не миновало и получаса, как я уже выехал в путь. Никитина, которому по моему указанию дали выбрать любую лошадь из конюшни, и его кунака я взял с собой как непосредственных добытчиков известия.
– Что ж, это кстати, – сказал Никитин, которому и собираться было не нужно – он только прихватил бурку. – Мне бы славно наведаться в Серноводск. Надо кое с кем повидаться.
Отчего-то – возможно, из-за того, что моему решению он нисколько не удивился, – мне показалось, будто Никитин заранее предугадал и мою поездку, и свое в ней участие. Признаться, у меня даже мелькнуло подозрение, не выдумал ли он всю историю с Шамилем и Хаджи-Муратом, лишь бы попасть в город по каким-то своим делам. «Если так, с вас двоих и спросится», – подумал я.
– С ним, – кивнул Никитин на Галбация, все так же сидевшего снаружи и стругавшего щепку, – я поговорю. Он на вас зол и приказа не послушает, но мне не откажет.
Так и вышло.
Я, собственно, даже сказал абреку, что прошу его на меня не сердиться за давешнее, но дикарь моей вежливости не оценил. Скользнув по мне неприязненным взглядом, тронул плеткой своего поджарого кабардинца и во всю дорогу держался в стороне от нас. Я видел его черную папаху то слева от тропы, то справа, иногда она надолго пропадала, потом вдруг на вершине холма вырастал летучий силуэт в развевающейся бурке.
– Это он нас стережет, – успокоил меня Никитин, когда заметил, что я слежу за перемещениями горца с беспокойством. – Места тут тихие, но всякое может быть. А он любую засаду издали почует.
Ехать было восемьдесят с лишком верст. Я рассчитывал оказаться в городе к концу следующего дня. Был май, самое лучшее время года в тех краях. Склоны и луга покрылись свежей травой, солнце сияло, но не жарило, а иногда над грядой дальних синеватых гор двумя белыми горбами высовывался Эльбрус, давно уж переставший меня радовать и даже изрядно поднадоевший.
Мой спутник занимал меня несравненно больше пейзажных красот. В дороге деться ему от меня было некуда. Сначала мы двигались молча, я прикидывал, как бы его разговорить.
Если я подробно не описываю внешность своего героя, то лишь потому, что в ней – за вычетом уже поминавшегося мною взгляда – не имелось ничего замечательного. Лицо его было в морщинах, особенно подле глаз, но, по-моему, не вследствие возраста, а скорей от привычки щуриться и задумчиво сдвигать брови. Рассеянным при этом он не выглядел – скорее сосредоточенно прислушивающимся к чему-то, никому более не внятному. Роста Никитин был немногим выше среднего, худощав, как-то весь собран, но в обычных обстоятельствах не быстр в движениях; впоследствии я узнал, что при необходимости этот человек умеет быть стремительным.
Для начала я попросил его показать горское снаряжение, вызывавшее мое любопытство.
– Извольте, – стал объяснять он. – Винтовка у меня харбукской работы, с ореховым прикладом и костяной пятой. Легкая, а бьет без промаха. Тут важно, чтоб заряды были ровно отмерены.
Он достал из газыря пулю в промасленной тряпочке, а потом и заряд.
– Знаю, – кивнул я. – И присошками тоже пользуюсь. А что у вас, Олег Львович, за шашка?
За пределами форта я стал называть его именем-отчеством, он отвечал тем же – это показалось мне неплохим предзнаменованием.
Шашка и кинжал у него были по виду самые простые, в кожаных ножнах без украшений, с деревянною рукояткой.
– Чеченская. Ихние мастера не любят украшений, зато сталь у них отменная. Советую также обзавестись вот такими пистолетами. – Он вынул из-за спины горский же пистолет. – Осечки с ними не бывает. И вот еще важная в горах вещь – андийская бурка. Пощупайте-ка.
Я пощупал.
– Легка и тверда, верно? В такой можно ночевать на мерзлой земле, а пуля, если на излете, ее не пробивает.
Советы эти я принимал с благодарностью. Мне достало ума не изображать из себя командира перед старшим по возрасту и опыту. Никитин, почуяв эту перемену, сделался со мной прост и доброжелателен. Понемногу я подпадал под обаяние его личности. Сам не заметил, как стал рассказывать ему всю свою жизнь. Он слушал сочувственно, иногда усмехался, но не обидным образом, а будто вспоминал или узнавал себя прошлого.
Иногда он уже не только отвечал на мои вопросы, а говорил что-то от себя. Покажет, например, на холмик с воткнутой пикой, с которой свисала цветная тряпка, и скажет: это-де могила воина, павшего в бою с неверными, – была здесь, стало быть, какая-то переделка.
Видно, я завоевал его доверие. Так или иначе, начал он, к случаю, рассказывать кое-что и про себя. Хорошо помню, из чего возникла первая его история.
Это было во время привала, на берегу ручья. Галбаций поил свою лошадь на отдалении от нас, потом совершил намаз и ел, тоже наособицу, что-то свое.
– Черт знает какая тут красота, – молвил я, глядя на светоносную ленту ручья, на острые скалы, на серебреющий неподалеку водопад. – Горы!
– Красиво, – равнодушно признал Никитин. – И на Амуре тоже красиво. Но я, знаете, некрасивую красоту предпочитаю. Которая в глаза не лезет, себя не выставляет, а требует внимательности, соучастия. Чтоб, знаете, серое ноябрьское поле, ивняк вдоль речки, вблизи роща, а вдали опушка леса. Где вырос, то и любишь, по тому и тоскуешь. А это даже и не горы… – Он махнул рукой. – Ничего особенного, подгорки. В Этолии были точь-в-точь такие же.
Я тут как тут:
– Это вы про греческую Этолию? Случалось там бывать?
– Да, недолго.
Он откинулся на спину, сунул в рот травинку.
Мне хотелось блеснуть своими познаниями в географии:
– Этолия – это где город Миссолонги. Там сражался и умер лорд Байрон.
– Ну уж «сражался». – Никитин подавил зевок. – Готовился только, и то не слишком рьяно… Не поспать ли нам часок? Потом будем ехать до самой ночи.
Какой тут сон!
– Вы видали Байрона?! – ахнул я.
– Видал. В лагере. Он пробовал собрать трехтысячный отряд, чтоб отбить у турок Лепанто. Пустая затея. Греков он не понимал и как за дело взяться не знал.
– И какой он был, Байрон? – я даже приподнялся, так мне было интересно.
– Плешеватый, полный, с маслеными глазами. Да я к нему не приглядывался. Мы не поладили. И я уехал… Вы спите, не тревожьтесь. Галбаций постережет.
Олег Львович закрыл глаза и в ту же минуту уснул, а я сидел и смотрел на него, совершенно потрясенный.
Потом весь остаток дня, вечер и наутро, до самого Серноводска, я только и делал, что расспрашивал этого удивительного человека о его жизни. Иногда он не хотел отвечать и уводил разговор в сторону, но и там обязательно обнаруживалось что-то захватывающе интересное.
Помню, я спросил его про Галбация – с чего разбойник, ненавидящий все русское, вдруг проникся к нему такою дружбой.
– История простая, – стал рассказывать Никитин, покуривая в седле свою трубку. – Я, знаете, привык в Сибири к лесу и лесной жизни, привык охотиться в одиночку. Когда попал в форт, наши за вал почти не выходили. Пища – сухари да каша, по воскресеньям солонина, на престольный праздник или августейшее тезоименитство забивали на всю роту тощую корову, выращенную на чахлой крепостной траве. Э, думаю, нескладно живет воинство христово. Сходил на охоту, самовольно. Кабы прознали – хоть тот же Зарубайло, – приговорили бы к битью, и мой зигзаг на сем закончился бы, поскольку бить я себя даю только в драке, а розги и прочее подобное для меня hors de considération. Но прознать о моей отлучке было, пожалуй, трудненько. Незаметно перемещаться я обучился в Сибири лучше, чем тамошний тигр. Как ушел за вал, так и вернулся. Когда же принес офицерам дичь, то был не только прощен, но и назначен старшим охотничьей команды.
Это я к тому объясняю, что Галбаций – тоже природный охотник. Только не на козлов или уток, а на людей. Он с юных лет – канлы, изгой. Убил в своем ауле какого-то обидчика и с тех пор всё скитается по чужим краям. То к ватаге какой-нибудь пристанет, то послужит у немирно́го князя. Но он вроде меня, предпочитает охотиться в одиночку. Видите ли, Григорий Федорович, тут другая, чем у нас философия. Отобрать у человека жизнь для Галбация все равно что нам с вами куропатку подстрелить. Притом он не злодей, есть у него своя честь, свои правила, которых он сдохнет, но не нарушит. Но «не убий» в число сих правил не входит.
Сядет он в засаду где-нибудь в лесу или на горной тропе. Увидит подходящую добычу – бьет насмерть, чаще всего в глаз, чтоб одежду кровью не попортить. Потом обирает мертвеца. Горцев он подстреливает с разбором – кто из недружного с ним племени. Русских – всех подряд.
– И вы, зная это, с ним водитесь? – вскричал я.
Никитин флегматично отвечал:
– Иных русских и я бы охотно истребил. А уж с точки зрения горцев мы подобны нашествию саранчи и всех нас нужно как можно скорее убить, чтобы «всё на Кавказе стало, как раньше» – это у Галбация любимая присказка. Хотя чем ему было хорошо до русских, для меня загадка. Абреком у себя в Дагестане он стал, еще когда русских в глаза не видывал. Одним словом, разве волк виноват в том, что родился волком? Видно, и волки в природе зачем-то нужны. Не мне судить… Так на чем бишь я остановился? Как Галбаций меня во время охоты на мушку взял?
Я хотел поправить, что до этого он еще не дошел, однако рассказ уже тёк дальше.
– Выстрелил он по мне, да промахнулся. А поскольку такого с ним никогда прежде не случалось, впал в страх. Горцы в большинстве своем суеверны, как дети. И чем храбрее, тем суеверней. Если б покорять Кавказ поручили мне, а я бы на это согласился, – прибавил он и покачал головой, из чего следовало, что вряд ли согласился бы, – я бы их не вырубкой лесов и разрушением деревень завоевал, а одной только мистикой. Понаставил бы по вершинам каких-нибудь телескопов, пустил бы по ущельям паровую машину с трубой, а в тыл к ним заслал своих собственных «пророков» с «имамами». И был бы Кавказ наш, бескровно.
На всякий случай я улыбнулся, потому что у Никитина не всегда можно было понять, всерьез он говорит или шутит.
– Никакой мистики в том, что Галбаций по мне промазал, не было. Просто я услыхал щелчок взводимого курка – у меня слух острый, особенно на охоте – да чуть качнулся в сторону, и пуля вместо того чтоб угодить мне в глаз, чиркнула по моему воротнику. Видно, не настало еще время моему зигзагу оборваться. Ну я, конечно, повалился, будто замертво. А когда стрелок из засады вылез и подошел ко мне с кинжалом, чтобы отрезать башку (у них за русскую голову по три рубля дают), я его и удивил… От изумления он не очень и сопротивлялся, только шайтана поминал. Но еще больше он поразился, когда я его живым отпустил и даже оружия не отнял.
– А почему вы его отпустили?
– Знаете, Григорий Федорович, я заповеди «не убий» не придерживаюсь – почти что как Галбаций. Говорю «почти», ибо имею на сей счет твердые правила. Я могу убить человека либо в миг прямой для себя опасности, то есть в схватке, либо если нужно истребить гадину, отравляющую мир своим существованием. Опасности оглушенный абрек уже не представлял, а гадина он или нет, мне было неизвестно. В подобных случаях я следую золотому правилу юриспруденции и толкую всякое сомнение в пользу обвиняемого… – Никитин произнес это с таким видом, будто на плечах у него была не бурка, а судейская мантия. – Ну а далее уж вступила в действие юриспруденция Галбация. Если кто-то подарил жизнь горцу, тот перестает быть ее хозяином и должен вечно служить своему благодетелю. Что ж, мне от моего кунака много пользы. Он не человек, а золото – конечно, на свой разбойничий манер. Не удивлюсь, если кроме меня на свете нет никого, к кому он со спокойной душой мог бы повернуться спиной или открыть душу. Я научился от него и туземным наречиям, и обиходу, и миллиону всяких горских премудростей. Галбаций уже сто раз вернул мне долг, а ему все мало.
Меня заинтересовало странное выражение, дважды прозвучавшее в его речи.
– О каком «зигзаге» вы говорите?
– Жизнь видится мне большим Зигзагом, – немного смущенно объяснил Олег Львович. – Вам верно случалось карабкаться на кручу горной тропой? Она никогда не бывает проложена вертикально, всегда идет зигзагами. Иначе не подняться, особенно с поклажей, а как без нее? Движение вверх требует силы и напряженного внимания, ведь никогда не знаешь, что за следующим поворотом, – может, там притаился барс, или засел абрек с ружьем, или из-под ног осыплется земля, или завалит камнепадом. Однако не спускаться же? Вот и идешь. Зачем, спросите вы? – Никитин пожал плечами. – Чтоб добраться до вершины. Вдруг за нею райская долина, в которой ждет блаженство? А коли долины нет – и наверняка почти нет – все-таки несомненно сверху откроется чудный вид и вперед, и назад. Будь начеку, соизмеряй каждый шаг, дыши ровней, не трусь – и, если повезет, доберешься до высшей точки. Уж во всяком случае скучать не будешь. Это и есть жизнь, простите за копеечное философствование. Я ему в тайге научился, когда подолгу в засаде на медведя сидел. Если в Сибири не философствовать, сам в медведя превратишься.
Тогда я спросил о том, что меня жгуче волновало, но к чему я доселе не осмеливался подступиться:
– Должно быть, ужасно провести пятнадцать лет на каторге, прикованным цепью к тачке?
– Наверняка. Впрочем, не пробовал.
– Как же?
Никитин поглядел на меня своим неспешным взором, словно решал, до какой степени может быть со мною откровенен. Вердикт был вынесен в мою пользу.
– Я, Григорий Федорович, очень цепко держусь за жизнь, не хуже репейника, и задешево ее никому не отдам. Однако дорога она мне не любою ценой. К примеру, таскать на цепи тачку с камнями или терпеть побои от охраны – это hors de considération. Лучше уж я с такого зигзага в пропасть спрыгну. Меня за непочтительное поведение во время следствия отделили от прочих осужденных и отправили в жуткую дыру, откуда до ближайшего жилья пятьсот верст. Содержались там одни уголовные, а начальником был страшный человек, некий капитан Лахно, бог и богдыхан этого инферно. Не буду описывать тамошних порядков – вы, пожалуй, решите, что у меня болезненная фантазия. Прибыл я на рудник, поглядел вокруг, полюбовался на капитана и сбежал при первой удобной возможности. Я, знаете ли, мастер по части создания удобных возможностей.
– Сбежали?! Но как же! Вы говорили, пятьсот верст до ближайшего жилья! Разве это не верная погибель?
– Для неопытного в тайге человека, каким я тогда был, безусловно. Но я ведь не самоубийца. Я засел вблизи каторги, пропустил мимо отправленную за мной погоню, а ночью пробрался обратно. Влез в окно капитановой спальни, разбудил богдыхана и душевно с ним потолковал, приставив к горлу ножик. – Никитин засмеялся от приятного воспоминания. – Беднягу в холодный пот кинуло. Он думал, я зарезать его вернулся. Вообще-то стоило. Но я предложил ему сделку. Я дам слово, что не сбегу (все равно бежать оттуда некуда), а за это он позволит мне жить вольно. В рапортах же станет отписывать, будто я в работах. На том и сговорились.
– И он вас потом не обманул?
– Я, Григорий Федорович, в людях разбираюсь. Лахно был зверь, но со своими жизненными правилами, с самоуважением. Такой даст слово – сдержит.
– А донесли бы?
– Кто? Стражники? Они капитана как огня боялись. Власть там только одна – Лахно, а до всякой иной, как до неба. Вот так я пятнадцать лет и прожил: сначала при богдыхане, потом при его преемнике (он из тамошних же стражников был, ко мне привычный). Плавал по рекам, ходил по тайге, научился добираться до дальних сел, менял пушнину на потребные мне вещи. Когда как следует обучился лесному житью, мог, конечно, и вовсе уйти – хоть до Урала. Слово держало.
История эта произвела на меня такое впечатление, что, осмысливая ее, я надолго умолк. Таких людей я никогда прежде не встречал. И более всего, пожалуй, меня поражала простота и естественность, звучавшие в его речи. Чувствовалось, что каждое слово тут – даже не правда, а малая толика правды, на самом же деле «зигзаги» моего спутника были еще живописней.
– А верно ль, что вы Наполеона видали? – вдруг вспомнил я и смутился (разговор-то был мною подслушан).
Но обошлось.
– Солдаты наболтали? Да, один раз видел. Тоже в некотором роде история… Не вблизи, правда. Вот с такого примерно расстояния. – Он показал на кривую березку, до которой было шагов пятнадцать. – Когда Корсиканец сбежал с Эльбы, я находился в отпуску, после ранения. Потому имел возможность вступить в двинувшуюся против него английскую армию волонтером. К битве при Ватерлоо, однако, не поспел. С «Чудовищем» управились без меня. Но я по юношеской горячности желал довести дело до конца. В ту пору я считал Наполеона архигадиной, представляющей опасность для всего человечества. Был уверен, что он непременно вывернется и опять завалит Европу трупами. Нужно его уничтожить, как испепеляют рассадники чумы. Узнав, что Бонапарт передался британцам, я сел на корабль и отправился в Англию. Пленника держали с почетом на фрегате «Беллерофонт», стоявшем у плимутского берега, пока парламент решал участь низложенного императора. После обеда он всегда прогуливался по палубе, и лодочники за полгинеи катали зевак мимо корабля. Хоть был я очень молод, девятнадцати лет, и чертовски глуп, но промаху бы не дал. Рука у меня была твердая, пистолеты хорошо пристреляны, а расстояние, как вы видели, самое небольшое. И, главное, с первой же поездки мне повезло – Бонапарт стоял у борта, глядел на чаек. И, знаете, такая на этом лице читалась усталость, такое равнодушие. Видно было: этому человеку уже все равно, что с ним сделают. Я понял, во-первых, что он никогда уже не «вывернется», с завоеванием мира покончено. А во-вторых, что он не гадина. И вопрос сам собою решился. Заряды остались неистраченными…
Хоть я и знал, что Наполеон окончил свои дни на острове Святой Елены, а все ж был разочарован такой концовкой. Я представил себя на месте Никитина и подумал, что с пятнадцати шагов при моем навыке запросто посадил бы пулю прямехонько под знаменитую трехуголку, навеки войдя в историю как отмститель и тираноборец.
А еще мне захотелось показать Никитину, что и я чего-то стою. Как раз и повод был подходящий.
– Попасть из движущейся лодки в мишень, находящуюся на корабле, который тоже качается на волнах, не так-то просто, – с глубокомысленным видом сказал я. – Вы, должно быть, изрядный стрелок?
Он попался в капкан, коротко ответив:
– Да, я хорошо стреляю.
Я тут же предложил сделать привал и посоревноваться в стрельбе. Так или иначе пора было дать лошадям передышку.
Никитин с веселой улыбкой одобрил мою идею.
На пистолетах я смог явить себя во всем блеске. Если с пятнадцати шагов мы оба равно поразили цель (подобранные с земли старые грецкие орехи), то на двадцати я попал, а Никитин промахнулся.
– Вы, должно быть, давно не практиковались, – великодушно молвил я.
Он удивился:
– А зачем? В пистолетах очень уж большая меткость никогда не надобится. В бою стреляют почти в упор.
– Вы забываете о дуэли.
– Для дуэли крепкие нервы важней меткости. Только трясущаяся рука может промахнуться с десяти шагов, а на большее расстояние соглашаться нечего. Зачем превращать поединок чести в комедию?
Я не нашелся, что возразить, и почувствовал себя задетым.
– Попробуем из винтовок? – предложил я, уверенный, что вновь одержу верх.
– Пожалуй. Вон над балкой летают фазаны, – показал Никитин. – Будет нам ужин.
Мы расчехлили ружья и стали ждать, когда вспорхнет следующая птица. Спустившийся с холма на звук выстрелов Галбаций с интересом наблюдал.
– Летит!
Я еще только приложился, а мой соперник уже выпалил. Птица упала.
– Еще раз! – потребовал я. – Это была курочка, ее на троих маловато.
Всё повторилось. Никитин стрелял с поразительной сноровкой и меткостью.
Теперь уж он мне сказал, безо всякой язвительности:
– Вы, видно, мало упражнялись по быстро движущимся целям. Зря. Этот вид стрельбы на охоте, как и на войне, важней всех прочих.
Вечером мы славно отужинали дичью, причем обе птицы достались нам, потому что абрек опять ел что-то свое и в стороне. Поев, завернулись в бурки, раскурили трубки.
Пользуясь установившейся меж нами доверительностью, я сказал:
– Послушайте, Олег Львович, даю слово, что это останется в тайне. Вы точно не знаете, что такое приключилось с Зарубайлой?
– Знаю, – был невозмутимый ответ. – Я его убил.
– Как так?!
Я уронил трубку.
– Как убивают гадину, которая желает ужалить. Камнем. Если гадюка ползет мимо меня по своим змеиным делам, я ее не трону. Но коли уж к ноге моей подбирается, прихлопну, и дело с концом. Или я не прав?
Поскольку я не ответил, он как ни в чем не бывало продолжил:
– Фельдфебель с самого начала меня невзлюбил, всё норовил пакость сделать. Он в форте на наушниках держался, а я их расшугал – не люблю. Надеялся через нового начальника меня извести – не вышло. Я по его глазам видел: не успокоится, пока в землю не зароет. Когда я вчера увидал его в лесу с ружьем, идущего по моему следу, понял: это он со мной поквитаться пришел. Тут уж кто кого.
– Вы ошиблись! – воскликнул я. – Зарубайло попросился у меня всего лишь проследить, вправду ли вы только охотитесь или тут что другое!
– Ерунда. У него и курок взведен был. Застрелил бы, а после наврал бы, что я на него накинулся. Эту породу я хорошо знаю. Черт с ним, Григорий Федорович. Одной гадиной меньше – воздух чище. Покойной ночи.
Сказал – и уснул, а я еще долго ворочался, всё не мог успокоиться.
Глава 4
В Серноводске. Coup de foudre. Мы на подозрении. Разговоры на бульваре
В Серноводск мы прибыли раньше, чем я думал, – вскоре после полудня. Городок этот был особенный, каких в России тогда почти не имелось. Он и выглядел как-то не по-русски: весь новенький, чистенький, умно выстроенный и устроенный. Со своими правильными улицами, с бульварами и парками, с классическими зданиями водолечебниц и бань, он скорее напоминал какой-нибудь Бад-Эмс или Карлсбад. Ощущение заграничности возникало еще и из-за подступавших с юга гор, так редких в русском пейзаже; в особенности же необычно выглядело население. В нем почти совершенно отсутствовал простонародный элемент – лишь «чистая» публика, военные, да живописное вкрапление ногайцев, кабардинцев, черкесов, карачаев и прочих горских жителей. Были, конечно, и казаки – терские, кубанские, гребенские, – но они одеждой, видом, да и лицами мало отличались от «вольных сынов Кавказа» (это выражение тогда было в большом ходу у приезжих курортников).
Мода ездить не на немецкие, а на русские воды возникла незадолго перед тем и весьма соответствовала духу патриотизма, поощрявшемуся государем Николаем Павловичем. После увлечения всем европейским, свойственного александровской эпохе, теперь почиталось правильным тоном хвалить свое, отечественное, и оказывалось, что у нас есть всё то же, что у них, но только лучше. Например, превосходный курорт с целебными источниками, способными излечить нервные, желудочные и любовные болезни.
Дорога на Кавказ занимала не меньше времени, чем в Германию, была неудобна и дурно содержалась, а все же многие петербургские и московские маменьки охотно везли сюда дочерей. Причин было две. Во-первых, для поездки на Кавказ не требовалось заграничного паспорта (получить его в николаевские времена было не так просто); во-вторых, средь серноводских «водохлебов» (словечко из юмористических журналов той эпохи) попадались отменные женихи.
Конечно, паломничество это стало возможно лишь с тех пор, когда прекратились набеги «хищников» и зона военных действий сдвинулась из предгорий дальше к югу-западу и юго-востоку. В Серноводске теперь стоял только так называемый «семейный» батальон, да находилась главная квартира Средне-Кавказской линии, а боевые части располагались по окрестным станицам или, в теплое время года, ставили палаточные лагеря.
Когда я увидел с холма зеленую долину и привольно раскинувшийся в ней город с белыми домами, меня охватило праздничное настроение. Трехмесячное сидение в форте казалось тягостным сном, от которого я наконец пробудился. Мысленно я поклялся сделать всё возможное, чтоб более туда не возвращаться. С тогдашней моей любовью к цветистости я называл это «выдернуть роковую Занозу из своей судьбы».
Несмотря на срочность донесения, сначала я желал привести себя в порядок, чтоб явиться к генералу в надлежащем виде. Это означало, что нужно приискать себе пристанище. В Серноводске, переполненном ранеными и отдыхающими, это было очень непросто.
Наскоро распрощавшись с Никитиным (он сказал, что остановится у приятеля) и условившись встретиться в три с половиною подле штаба, я отправился в гостиницу «Парадиз». Владела ею купчиха Маслова, которой в городе принадлежали все лучшие заведения: дорогие магазины, ресторация с кофейней, бильярдная. Попросил комнату – мне отказали чуть не со смехом. Чего захотел – в мае-то, в самый сезон!
Сунулся я в гостиницы попроще, даже в казенную, что предназначалась для прибывающих по службе офицеров, – то же самое. Искать комнату у жителей времени не оставалось.
Делать нечего. Я доехал до штаба, оставил коня и вещи на попечение караульного начальника. Хотел хоть умыться у питьевого фонтана и стряхнуть с себя пыль, но передумал. Уж коли нет возможности явиться пред очи начальства молодцом, пусть генерал увидит меня измученным долгой скачкой. Для гонца, принесшего грозную весть, оно, пожалуй, даже правильней.
Еще нарочно потопав ногами, чтоб посадить на сапоги погуще пыли, и придав лицу как можно больше изнеможения, я поспешил к штабному крыльцу. Там уж дожидался Никитин. Он, видно, устроился счастливее моего – был вымыт, в свежей черкеске и сверкающих сапогах. Я решил его с собой к генералу не вести, а то, право, вышло бы странно: подчиненный во всем чистом, а начальник будто в помойке извалялся. Неподалеку сидел на корточках Галбаций, строгал щепку своим замечательным кинжалом и так поглядывал на проходивших мимо офицеров, что было видно, с каким удовольствием он оттяпал бы любому из них голову.
– Дожидайтесь здесь, – сказал я, наскоро перекрестился и с топотом вбежал в приемную.
– Комендант форта Заноза поручик Мангаров! – хрипло выкрикнул я с порога. – С неотложным донесением к его превосходительству!
Адъютант был в тонкой черной черкеске с эполетами, алом бешмете; пробор у него сиял зеркальной гладкостью. Мне подумалось: если б три месяца назад я не сделал глупость, то мог бы сидеть на его месте и так же холодно разглядывать какого-нибудь запыленного оборванца.
– Скорей доложите! Я провел сорок часов в седле!
– Сорок? – переспросил он. – До форта Заноза, сколько мне помнится, от силы девяносто верст. С какою же скоростью вы скакали? Две версты в час?
Я бы, верно, вспылил и наговорил штабному грубостей, но здесь дверь за моею спиной раскрылась, послышались легкие шаги, и звонкий голос произнес:
– Мишель, папа́ у себя?
Я обернулся.
На пороге, вся в ореоле солнечного света, лившегося из дверного проема, стояла тонкая, стремительная девушка в чем-то белом, а может быть, светло-голубом. Я толком не разглядел наряда, пораженный прелестью ее лица. Веселое, оживленное, разрумянившееся от быстрой ходьбы, оно, вероятно, показалось мне таким несказанно прекрасным еще и потому, что я очень давно не видел барышень из хорошего общества. А впрочем, это я задним числом рационализирую – и преглупо делаю. Что ж самого себя обкрадывать? Миг, когда я впервые увидал Дашу, был и остается одним из драгоценнейших в моей жизни. Кажется, этот эффект называют coup de foudre.[3]
Я уж писал, что своего собственного лица в двадцать три года воскресить в памяти не могу, но юную Дарью Александровну, стоит мне зажмуриться, вижу, словно она и сейчас передо мною.
Вижу поднятые кверху, по тогдашней моде, золотые волосы с затейливыми пружинками свисающих локонов; чуть удлиненные, полные молодой жизни глаза; нетерпеливо приоткрытые губы, верхняя – тонкая, нижняя – пухлая; влажно поблескивающие зубки. Во весь остаток жизни эти черты являлись в моем представлении наивысшим образцом красоты, и даже не совсем правильный, немного вздернутый носик, когда я встречал его у других женщин, казался мне чертой очаровательной.
Неприятный адъютант вскочил, отвечав по-французски, что Александр Фаддеевич у себя, и один. Девушка уж хотела пройти в кабинет, но вопросительно задержала взгляд на мне. Полагаю, моя непрезентабельная фигура в штабной обстановке смотрелась дико.
Поймав этот взор, адъютант Мишель пояснил:
– Комендант форта Заноза, прибыл с донесением.
Я, спохватившись, стукнул каблуками:
– Мангаров.
И тут – клянусь – лицо чудесной барышни изменилось, словно она только сейчас как следует меня рассмотрела. Мне даже показалось, будто она тоже потрясена, как и я.
После секундной паузы она тихо, дрогнувшим – да, дрогнувшим! – голосом молвила:
– Дарья Александровна Фигнер…
Помедлила еще, как бы желая что-то прибавить, но качнула головой и быстро скрылась за большими белыми дверями.
Я пришел в несказанное волнение. Она не осталась ко мне равнодушной! Или, быть может, померещилось?
– Elle est si belle! Comme une apparition…[4] – мечтательно произнес адъютант.
Прекрасное видение словно бы растопило между нами лед.
– Так вы говорите, срочное донесение? Ежели хотите, доложу. Но сами видите… – Он кивнул на кабинет. – К его превосходительству из Петербурга третьего дня приехала дочь. Он всё время с нею. Если что-то не очень важное, осерчает.
Я встрепенулся, вспомнив о деле.
– Нет-нет, это очень важно! И совершенно секретно. Докладывайте.
– Ну, глядите.
Он зашел в кабинет и через полминуты вернулся с Фигнером. Не дослушав даже моего представления и не подавая никакого признака, что вообще меня помнит, генерал сдвинул рыжеватые брови и закричал:
– Как смели вы оставить крепость? Кто дозволил вам являться в Серноводск без вызова? – Его лысина в мгновение налилась кровью. Начальник Средне-Кавказской линии славился вспыльчивостью и крутонравием. – Я вас за это под арест посажу!
– Извольте. Только сначала выслушайте, – отвечал я. – Я не от блажи сто верст по горам проскакал.
Дерзя, я не слишком рисковал. Мне было известно, что Фигнер любит офицеров «с характером», а кроме того привезенное мной сообщение должно было произвести впечатление.
Так и вышло.
Коротко и четко, пока без подробностей, я изложил суть.
Его превосходительство переменил тон.
– Да верно ли? – озабоченно сказал он. – А ну-ка, пойдемте. Капитан, – велел он адъютанту, – Честнокова ко мне, быстро! О том, что слышали, никому.
Мы вошли в кабинет. Попросив у дочери извинения и предупредив, что вряд ли придет к чаю, Фигнер поцеловал барышню в лоб, и она вышла, но перед тем одарила меня еще одним взглядом, от которого меня зазнобило. Определенно, я ее заинтересовал!
– Сейчас придет майор Честноков, штаб-офицер жандармского корпуса. Расскажете всё при нем, чтобы не повторять дважды. Этот вопрос по его части.
Буквально через минуту в дверь деликатно стукнули, и сразу вслед за тем мягкой, невоенной походкой вошел маленький человек в голубом мятом сюртуке, с такими же примятыми чертами лица. Он обратился к генералу по имени-отчеству, тот отвечал тем же:
– Вот, Иван Иванович, послушайте-ка, какие новости раздобыл для нас комендант Занозы.
У меня есть основания собой гордиться – после короткой внутренней борьбы порядочность возобладала над честолюбием. Возможно, причиною этой нравственной победы была прекрасная Дарья Александровна – мне казалось, будто всё, что я делаю, теперь происходит перед ее испытующим взором.
– Новость добыл не я, а солдат Никитин. Я взял его с собой. Прикажите, он доложит вашему превосходительству сам.
О Галбации поминать я не стал. Абреку благодарность русского начальства нужна, как репей ослиному хвосту. Другое дело – разжалованный.
– Это который Никитин? – негромко осведомился майор, впиваясь в меня прищуренными глазками. – Уж не сибирский ли сиделец?
– Тот самый, – удивился я подобной вездесущести. Даже восхитился, подумав, что, как жандармов ни ругают, а свою службу они несут исправно, всем бы так. Мало ли на Среднем Кавказе гарнизонов, да и ссыльных полно, а вот ведь сразу вычислил своего подопечного!
Жандарм покачал головой, но ничего не сказал.
Вызвали Никитина.
Он держался уверенно, говорил сухо, излагая одни лишь факты и воздерживаясь от каких бы то ни было суждений.
После первой же фразы, заметив грамотность речи, генерал перебил его и спросил, какова его история, но ответить Олегу Львовичу не пришлось – майор сделал это сам, наклонившись к самому уху его превосходительства, и говорил до того тихо, что я кроме жужжания ничего не разобрал. Фигнер нахмурился и велел Никитину продолжать, что тот преспокойно и сделал.
Несколько раз, всё более и более возбуждаясь, генерал задавал вопросы – на каждый у Никитина имелся исчерпывающий ответ.
– Что-то здесь не то, – вставлял, например, его превосходительство. – На что Шамилю посылать к нам Хаджи-Мурата? Он же аварец. Резонней было бы отправить его на возмущение собственного ханства. Там, доносят, неспокойно.
Никитин ему:
– Мой кунак, тоже аварец, говорит, что Шамиль не хочет пускать Хаджи-Мурата в родные края. Боится, что, завладев Аварией, наиб объявит себя независимым. Имам держит своего помощника на коротком поводке. Вот и в Семиаульский поход за ним следует.
В конце концов начальник, кажется, перестал сомневаться в достоверности известия.
Подойдя к карте, он взъерошил волосы по краям плеши, взволнованно заговорил, словно бы сам с собой:
– Если замысел Шамиля удастся, выйдет лихая штука. Против нас встанет единый Кавказ, от моря и до моря. На одном морском сообщении нам Закавказья не удержать. Если еще и султан или шах персидский увидят в том свой шанс, да нагрянут новой войной, быть большущей беде… – Он щелкнул пальцами. – С другой стороны, ежели мы, будучи предупреждены о рейде, замкнем Шамиля с Хаджи-Муратом в долине, враги наши разом лишатся головы и правой руки. Тогда и покорению Кавказа конец!
Командующий сладко улыбнулся. Ход его дальнейших мыслей был мне понятен: и закончит эту затянувшуюся войну не кто иной как генерал-лейтенант Фигнер – со всеми проистекающими из сего приятными последствиями. Оставалось лишь надеяться, что, осененный славой и монаршей милостью, его превосходительство не забудет тех, кому он обязан своим счастьем.
Ах, как же я сокрушался в своем благородном порыве – что уступил первенство Никитину! Я совсем не подумал о Дарье Александровне! Сейчас я ей, конечно, не пара, но когда бы настало время награждать героев, мое положение могло бы сильно улучшиться. Все помнят, как после штурма Ахульго государь пожаловал штабс-капитана Шульца прямо в полковники и флигель-адъютанты, а разве можно сравнить мелкое геройство какого-то Шульца с заслугой человека, благодаря которому покорен Кавказ? Тогда и Дарья Александровна имела бы право не стесняться своего ко мне расположения! И вот я сам, добровольно, отвел себе вторую роль, хотя решение срочно скакать в Серноводск к Фигнеру принял я, а вовсе не Никитин!
Моим терзаниям положил конец майор Честноков.
– Александр Фаддеич, – сказал он с ужимкой, как бы конфузясь, что омрачает начальниковы мечтания, – я бы не торопился с решением. Источник, согласитесь, малоосновательный. Один разбойник где-то что-то услыхал, сказал одному каторжнику, тот передал одному зеленому офицерику, а мы уж готовы жахнуть из всех орудий.
– Позвольте, господин майор, это оскорбление офицерского звания! У государя императора «зеленых офицериков» на службе не бывает! А каторжники – на каторге! – возмутился я. – И если вы думаете, что жандармский мундир позволяет вам…
Но здесь Фигнер на меня прикрикнул, и я умолк. Никитин же не выглядел оскорбленным аттестацией «каторжника», он только внимательно поглядел на Честнокова.
– Возможно и другое-с, – продолжал майор, будто ничего такого не произошло. – Шамиль известен коварством. Что если эта весточка нам нарочно подброшена? Вы думаете имама в ловушку поймать, а не вышло бы напротив. Имею некоторые соображения и предложения…
Он сделал многозначительную паузу, и посерьезневший генерал велел нам с Никитиным удалиться, предварительно сообщив адъютанту, где нас можно сыскать в случае потребности.
Я расценил эти слова единственно возможным образом – как дозволение пока что оставаться в Серноводске, и уже одним этим был счастлив. Я буду в одном месте с Нею! Я не должен возвращаться в постылый форт! Чего ж еще?
Можете представить мое волнение, когда я увидел, что прелестное видение не исчезло. Дочь его превосходительства стояла в приемной и смеялась, переговариваясь о чем-то с Мишелем. Должно быть, она ждала, пока отец освободится, чтобы к нему вернуться.
Никитин объявил адъютанту, что остановился на Ставропольской улице у капитана Иноземцова. Я с важным видом пообещал доложиться, как только «выберу квартиру», ибо пока не имел для того времени.
Уходить мне не хотелось. Хотелось быть рядом с Дарьей Александровной, заговорить с нею о чем-нибудь. Но ничего достойного в голову не приходило, а она молчала. Молчал и адъютант, всем видом выказывая, что я тут лишний.
Вдруг из руки мадемуазель Фигнер выпал шелковый веер. Мишель кинулся поднимать, но ему сначала нужно было обогнуть широкий стол, я же подобной преграды не имел.
– Вот, прошу…
Я протянул ей веер и, чувствуя, что непростительно краснею, постарался придать лицу суровость.
– Благодарю… – Она смотрела на меня с любопытством и приязнью. – Вы непохожи на серноводских офицеров. Именно так я представляла себе настоящего боевого кавказца. А то ходят в папахах и черкесках, сами же в горах ни разу не были. Вы, наверное, всякого навидались в вашей крепости? Расскажите, меня это ужасно интересует! Не будем мешать Михайле Самсоновичу работать, выйдемте на улицу. Погода – чудо!
Я возблагодарил Бога за то, что не поддался кавказской моде и сохранил верность казенному сукну. От моего внимания не укрылась гримаса, исказившая лицо Мишеля, когда Дарья Александровна пренебрежительно помянула «серноводских офицеров», и я понял, что нажил себе врага. Такою ценой я согласился бы заиметь и сотню недоброжелателей, однако природная практичность подсказывала, что без крайней нужды враждовать с адъютантом начальника не следует. Поэтому я поступил ловко: ведя к двери взявшую меня под руку барышню, обернулся и комично выгнул губы – мол, так уж вышло, не виноват. Насупленное лицо адъютанта смягчилось. Он даже поднес руку ко лбу, как бы снимая шляпу перед моей удачей.
Мы с Дарьей Александровной остановились напротив штаба, в липовой аллее, носившей гордое имя бульвара, и стали разговаривать, будто были давно и хорошо знакомы. Деревья, высаженные всего несколько лет назад, еще не разрослись и тени не давали, но солнце было майское, не злое. С козел лаковой коляски, ждавшей неподалеку, спустился унтер-офицер с седыми бачками, принес барышне гипюровый зонтик.
– Благодарю вас, Трофим, – сказала мадемуазель Фигнер.
Эта вежливость показалась мне восхитительной, о чем я сразу же и сказал.
– Зря у нас считают, что с простыми людьми можно обращаться неучтиво, – ответила она, испытующе на меня глядя. – В слугах подчас больше достоинства, чем в господах, а в солдатах – больше, чем в их начальниках. Вы должны знать это, ведь ваша жизнь проходит среди нижних чинов и, я думаю, целиком зависит от них в минуты опасности. Расскажите мне об этом, Григорий Федорович.
– О минутах опасности?
Я приосанился.
– Нет, о ваших солдатах. Какие они, эти простые герои, кто несет на себе всю тяготу кавказской войны?
«Удивительная девушка, удивительная! – думал я. – Кто еще из столичных красавиц станет интересоваться серой армейской скотинкой?» Мне захотелось рассказать ей о своих солдатах что-нибудь необыкновенное. И, конечно, на ум пришел Никитин.
– Солдаты у меня чудо. Средь них попадаются оригинальнейшие экземпляры, – начал я.
Расчет мой был верен. Послушав, что за молодцы у меня в подчинении, мадемуазель Фигнер должна была задуматься: каков же, верно, хват их командир!
– В самом деле?
– О да. Кстати сказать, одного из них вы давеча видели. Такой бородач в черной черкеске. Прошел мимо вас в кабинет к вашему батюшке.
– Не обратила внимания.
– А зря. Он из моей команды охотников, личность в своем роде прелюбопытная. Некто Никитин…
Дарья Александровна сделала быстрое движение – вскинула руку к губам. Потом обернулась, окинув взглядом бульвар. Он был пуст.
– Что с вами?
– Ничего. Кое-что вспомнила. Неважно. Продолжайте, продолжайте! Что ж в нем любопытного, в этом Никифорове?
– Никитине.
Я улыбнулся. В том, что история Олега Львовича собеседницу увлечет, сомнений не было.
Она действительно слушала замечательно, даже жадно. Я никогда не замечал в себе талантов рассказчика – а, кажется, зря.
– Прошу, познакомьте меня с этим человеком! – горячо воскликнула мадемуазель Фигнер, когда я закончил. – Он меня ужасно заинтриговал.
Я был счастлив. Вот повод встретиться с нею вновь!
– Охотно. Да только где же? У вас ему бывать нельзя, он нижний чин… – В голову мне пришла великолепная мысль. – Разве что… В Серноводске сейчас мои приятели. Я мог бы привести Никитина к ним. А вы их, быть может, знаете по Петербургу.
И я с небрежным видом перечислил имена, которые не могли быть неизвестны барышне из столичного общества: Базиль Стольников, Тина Самборская, Кискис Бельской. Людей этого круга в Петербурге прозвали les brillants – «блестящие». Они определяли, что – модно, а что – пошлость; им завидовали, о них судачили; попасть в эту компанию мечтали многие, да мало кому удавалось.
Это должно было показать ей, что я не какой-то армейский суконник, а человек ее круга или даже еще более высокого milieu,[5] однако пренебрегший удовольствиями большого света ради кавказских приключений. Короля, как известно, делает свита. Так вот свита у меня выходила ослепительная: с одной стороны Никитин, с другой – сливки блестящей молодежи. Разве можно было Дарье Александровне мною не заинтересоваться?
– Кискис? – повторила она и сделала гримаску. – Знаю. Он мне родня. Я слыхала, что он в Серноводске. Этаких знакомств я обычно не вожу, но ради такого случая – пожалуй.
– Родня? Тем проще всё устроить. Я нынче вечером приведу туда Никитина, и вы тоже приходите.
Я назвал адрес, мы условились о времени и расстались. Чувствуя, что судьба готовит мне какой-то головокружительный, сладостный поворот, я чуть не пел.
Когда я забрал у караула лошадь и готовился сесть в седло, по ступенькам штаба спустился жандармский майор и направился ко мне с любезнейшей улыбкой, что показалось мне странным. Во время беседы в генеральском кабинете этот Честноков глядел совсем иначе.
– Видел из окна, как вы любезничаете с Дашенькой, – сказал он еще издалека. – Экой вы проказник! Ну да дело молодое.
Ужасно мне не понравилось, что он говорит о ней так фамильярно. Я нахмурился и не ответил.
– Не журысь, хлопче, как говорят малороссияне. Вы, Григорий Федорыч, поди, обиделись на мою недоверчивость к вашему донесению? Такая у меня должность, нам без недоверчивости нельзя. Но то служба, а сейчас я с вами попросту, по человечности. Люблю я таких, как вы, сорви-голов: молодых, смелых да горячих.
Он действительно смотрел на меня с самой доброю улыбкой. Я отнес это внезапное дружелюбие за счет симпатии, которую, как видел Честноков, оказала мне генеральская дочь.
– А я вам по секрету вот что сообщу. – Он взял меня под руку и наклонился к самому моему уху. – Как лицу посвященному. Мы с его превосходительством по вашему дельцу распорядились вот как. Ваши сведения мы проверим. Есть у меня на то особый человечек, чтоб в горы послать. А как вы думали? Честноков свой хлеб не зря ест. Пока лазутчик проверит, не в засаду ли ваш каторжный нас заманивает, генерал потихоньку, без огласки, войска подготовит. И если оно правда, то мы ррраз! – Он ткнул меня пальцем в бок. – В двое суток Семиаульскую долину запечатаем. А окажется, что брехня – с места не тронемся. Но уж и с Никитиным тогда потолкуем-с.
Я высвободился, придал лицу строгое выражение.
– Вы, господин Честноков, посвящать меня в военные секреты не обязаны. Я в дела вашего… ведомства не мешаюсь. Только насчет Никитина вы зря.
Жандарм вмиг переменился. Добродушия с игривостью будто не бывало.
– Я вам не «господин Честноков», а «господин майор», коли уж желаете официально. Это вопервых. Во-вторых, фамилия моя не «Чесноков», как вы изволили произнесть, а «ЧесТноков». Не от низменного овоща происходит, а от слова «честь». Попрошу буквы «тэ» не проглатывать! Предок мой еще в эпоху Великого Петра верностью дворянство выслужил, а прозвище ему за честность было Честнок. Ну и в-третьих, насчет вашего каторжника. Это человек с темным прошлым, мутным настоящим и скверным будущим. Никакого доверия ему быть не может. Мне о каждом его шаге известно – и о прогулках по горам, и о дружбе с «хищниками».
«Откуда известно?» – чуть было не спросил я и вдруг вспомнил покойного Зарубайлу, однако о своей догадке умолчал и тем более не стал говорить майору, что фельдфебель приказал долго жить. Это могло бы навлечь на Олега Львовича дополнительные подозрения, а то, чего доброго, повлекло бы и расследование. Пускай Честноков узнает о судьбе своего агента в положенный срок – из ежемесячного гарнизонного рапорта о выбывших.
– Где изволили разместиться? – как бы между делом поинтересовался майор. – Я справился у адъютанта. Говорит, вы уклонились оставить адрес.
Я разозлился.
– Не «уклонился», а не могу найти комнаты! И это мое частное дело. Вас, господин майор, оно не касается! Вы мне не начальник, я вам не подчиненный! Мы служим по разным линиям!
– Линия у нас одна и та же, Средне-Кавказская, и я на ней старший штаб-офицер Отдельного Жандармского корпуса. Имею касательство до всего, что происходит на вверенной моему попечению территории. На то у меня имеется Инструкция.
– Какая еще инструкция? – не поддался я на глухую угрозу, рокотавшую в его голосе.
– Секретная, для ответственных лиц Третьего отделения и Жандармского корпуса. От его сиятельства графа Александра Христофоровича. По ней даны нашему брату особенные полномочия. Ясно-с? Отвечайте, поручик!
– Так точно, ясно, господин майор.
Все-таки упоминание о какой-то тайной инструкции, подписанной всемогущим графом Бенкендорфом, меня впечатлило.
Честноков вдруг подмигнул и с обезоруживающей мягкостью улыбнулся.
– Да что там, пусть уж я буду для вас «Иван Иванычем». Я ведь про адрес совсем в ином смысле, а вы уж вспыхнули. Знаю, как в Серноводске с квартирами. Помочь хотел.
– А вы разве можете?
– Я, батюшка Григорий Федорович, всё могу. Как царевна Лебедь из сказки покойного камер-юнкера Пушкина. Хотите комнатку?
– Смотря где, – ответил я, глядя на него с подозрением. Мне вообразилось, не хочет ли он, чтоб я поселился где-нибудь у него под опекой.
– «Парадиз» гостиница вас устроит? Недурное местечко.
– Да был я в заведении купчихи Масловой! Все номера заняты.
– Ничего-с, я слово волшебное знаю. Обождите-ка минутку. – Он достал книжечку, вырвал листок. – Дозвольте, Григорий Федорович, вашей спинкой попользоваться.
Пришлось оборотиться к нему и наклониться. Карандаш скоренько пошуршал по бумаге.
– Вот-с. Дайте тамошнему приказчику, и он вас разместит превосходным образом. Ну, еще увидимся.
Майор вернулся в штаб, а я развернул записку. Там была написана всего одна короткая фраза: «Поселить хорошо и недорого. Честноков».
Глава 5
В гостинице. Мой однокашник. Подготовка к важному событию. Друзья Никитина
Что б вы думали? Меня, в самом деле, поселили в очень хорошую комнату бельэтажа, взяв совсем недорого. Я воспринял это маленькое чудо как новый знак благосклонной перемены в своей судьбе. Пока прислуга меняла белье и разбирала мой саквояж, я стоял в просторном вестибюле, гордо поглядывая на соискателей свободного номера, являвшихся чуть не поминутно. Водяной сезон, как я уже говорил, был в разгаре. Раз все обернулись – мимо стойки в свои покои прошла хозяйка, та самая Маслова. Она была лет тридцати, с круглым лицом рубенсовской красотки и соответствующих статей, одета во что-то переливчатое, с чудесной персидской шалью на плечах.
– Экая помпошка, – сказал егерский капитан (он дожидался места – ему пообещали освободить бельевой чуланчик). – Уж я б такую примял бы.
Я презрительно отвернулся. Очень возможно, что еще вчера и я бы проводил пышную купчиху заинтересованным взглядом, но по сравнению с «моею Дашей» (так про себя я уже называл Дарью Александровну) хозяйка показалась мне немногим привлекательней свиной туши.
– Глядите-ка, глядите! – Общительный капитан показал в окно. – Вот кому можно позавидовать!
Мимо гостиницы неспешно катило ландо, запряженное парой серых лошадей. Экипаж был щегольский, с парчовым балдахином, с золочеными подножками – колесница, да и только. На сиденье, лениво развалясь, сидел румяный красногубый молодой человек с моноклем в глазнице, что тогда было немалой редкостью. Но егерь показывал не на франта, а на его спутницу, чернобровую горянку ослепительной красоты. Ее бархатная шапочка была вся в серебряных украшениях, на шее в несколько рядов висели золотые мониста. Красавица грызла белейшими зубами орехи и выплевывала скорлупу. На своего кавалера она не глядела. Экипаж доехал до бульвара, развернулся и двинулся в обратную сторону.
К нам с капитаном присоединились еще несколько ожидающих. Один, проведший в городе уже несколько дней, сказал, что это князь из Петербурга, неслыханный богач и затейник. Ему за бешеные деньги выкупили у разбойников-абазехов рабыню, предназначенную для продажи в турецкий гарем, и теперь он наслаждается ее обществом. А фамилия князя Бецкой.
– Не Бецкой, а Бельской, – поправил я. – Это Кискис, мой приятель. С Питера не видались.
Все поглядели на меня с почтением.
Капитан спросил:
– Что ж вы его не окликнете?
– Сейчас недосуг.
Не хватало еще явиться перед Кискисом в пыльных сапогах и потертом сюртуке!
Из записки, что пришла в форт от Базиля Стольникова, я знал, что он поселился в снятом князем доме. Как только мой номер был готов, я сразу послал Базилю записку, сообщив, что нахожусь в Серноводске. «Ежели вы с Кискисом не изменили своим привычкам, что навряд ли, ибо bois tordu ne se redresse pas,[6] вечером я непременно застану вас дома за каким-нибудь безобразием, здесь ведь клубов да цыганских кабаков пока что не имеется, – писал я. – Я имел effronterie[7] пригласить к вам дочку здешнего командующего m-lle Фигнер и еще одного Никитина, очень интересного субъекта. Однако, коли мы не ко двору, дай знать». В согласии Базиля я, впрочем, не сомневался и, дожидаясь ответа, начал приводить себя в порядок: мыться, подвивать виски и прочее. Сюртук я отдал гостиничному слуге, наказав вычистить его и выгладить, прыская вместо воды одеколоном.
Но надобно рассказать историю моих отношений со Стольниковым – человеком, игравшим такую важную роль в ранней поре моей жизни.
Юношей я был отдан в Дворянский полк, из которого впоследствии образовалось Константиновское училище. В конце 30-х годов это учебное заведение считалось не слишком завидным. Оно предназначалось для отпрысков небогатых и несановных семейств, и если выпускнику везло потом оказаться в гвардии, то не в самых блестящих полках.
Стольников, проучившийся у нас половину выпускного класса, отличался от прочих. Он был несколькими годами старше, богат и успел пожить. Опекун, недовольный образом жизни Базиля, определил его к нам в надежде, что атмосфера казармы благотворно воздействует на юного шалопая. Вышло наоборот. Стольникову у нас показалось скучно, а когда он скучал (то есть почти всегда), его изощренная фантазия не затруднялась найти способы развлечения. Скоро всё у нас забурлило. Начались тайные вылазки в город, кутежи, скандалы, даже два или три поединка, что прежде было невообразимо. Источник всех этих потрясений был неизменно тих, хладнокровен, сдержан и считался у начальства немного ленивым, но вполне смирным молодым человеком. Все искали дружбы Стольникова, но удостоен ее был один я, да и то это скорее следовало бы обозвать более прохладным словом «приятельство». Так было и впоследствии, когда опекун умер, а Базиль достиг совершеннолетия. Люди, многие из которых были и старше его, и богаче, и даже в чинах, желали ему понравиться, сойтись с ним ближе – из любопытства, из безотчетной симпатии, из чуткости к его магнетическому притяжению или просто от опасения перед его злым языком, но Стольников сам выбирал, с кем знаться. Я полагаю, мне повезло ему понравиться просто оттого, что больше в Дворянском полку приятельствовать было не с кем. У нас в основном учились сыновья провинциальных помещиков или армейских офицеров, неразвитые и малоначитанные; на Базиля они смотрели, как монахи на архиерея. После того, как он вырвался на свободу, а я по праву одного из первых учеников вышел в гвардию, мы продолжали приятельствовать, хоть, конечно, уже не так тесно. Слишком разнился у нас образ жизни. Честно говоря, приятельство наше и прежде не было равным. Теперь же, когда я тянул фрунтовую лямку, а Стольников вел рассеянную жизнь Онегина иль Красавчика-Браммеля, дистанция меж нами многократно увеличилась. Бывало, я неделями себе во всем отказывал, чтоб накопить немного денег и не ударить лицом в грязь на какой-нибудь вечеринке «брийянтов». В конце концов такая жизнь мне надоела – вот одна из причин моего переезда на Кавказ.
Ответ в «Парадиз» доставили скоро. Стольников писал, что очень рад и что, конечно, я могу приводить, кого мне заблагорассудится. Записка кончалась словами: «У нас нынче персидский вечер, так что, прошу тебя, нарядись во что-нибудь восточное». Раньше я воспринял бы эту просьбу как приказ и немедленно начал бы ломать голову, во что бы такое нарядиться, дабы не оказаться хуже других. Не то теперь. Я должен был продемонстрировать Базилю, что отношения наши переменились и я уж не тот, что прежде.
Но для начала я поступил так же, как в петербургские времена перед встречей со Стольниковым: произвел ревизию своих финансовых авуаров. И тогда, и впоследствии деньги значили для меня много – как для всякого, кто вырос в стесненных обстоятельствах. Даже в очень молодые годы я был хоть и не скуп, но расчетлив, умел копить и никогда не делал долгов.
В результате девяти месяцев размеренной жизни и очень небольших трат, а также уже поминавшейся хладнокровной карточной игры у меня скопилась невиданная сумма – около 650 рублей. Пятую часть я отложил в неприкосновенный фонд, прочее постановил потратить в Серноводске – и ощутил себя Крезом.
Однако мне предстояло еще залучить на «персидский вечер» Олега Львовича – не мог же я обмануть Дашиных ожиданий.
Потому, едва мне принесли благоухающий сюртук и отутюженные панталоны, я повертелся перед зеркалом и отправился по адресу, оставленному Никитиным, благо ходу туда было не более десяти минут.
Меня разбирало любопытство. У такого человека и друг, должно быть, необычен. Этот самый капитан Иноземцов снимал небольшой домик с примыкающим флигелем, то есть, по серноводским понятиям, поселился роскошно, совсем не по капитанскому доходу.
Загадка объяснилась, едва я вошел в тенистый двор и увидел на бельевой веревке синий сюртук с серебристыми якорьками на обшлагах, но без эполетных контрпогончиков. Капитан оказался не армейский, а морской, притом торгового флота.
Я остановился в нерешительности, не зная, к которой из дверей идти, но тут увидал в раскрытое окошко флигеля знакомую волчью рожу. Галбаций хмуро глянул на меня, даже не кивнув, провел по пегой бороде клинком – на подоконник посыпалась обрезанная щетина.
Подойдя ближе, я услыхал доносившиеся изнутри голоса и позвал Никитина. Он выглянул, пригласил войти.
Я попал в небольшую, очень светлую комнату с белыми стенами и простой, но удобной мебелью. У стола, на котором стояли бутылка рому и несколько мисок с закусками, сидели двое незнакомых мне людей. Они поднялись и поздоровались.
Один, в рубахе с расстегнутым на загорелой шее воротом, был немного за тридцать. Невысокий, плотно сбитый, с малоподвижным гладко выбритым лицом, почти коричневым от солнца, он мне сразу понравился. Это и был хозяин, капитан Российско-Американской компании Платон Платонович Иноземцов. Он не выпускал изо рта короткой черной палочки. Это, признаться, показалось мне странным, хоть я и слыхал, что моряки – народ чудаковатый. Рукопожатие его было твердым, но осторожным, словно он боялся поломать мне кисть – в его пальцах чувствовалась немалая сила. Мне понравилось еще и то, что при появлении нового человека Иноземцов застегнул воротник и надел куртку. Он и в речи, когда произносил короткие, всегда по существу дела, фразы, тоже был неукоснительно вежлив, вставляя по-старинному «сударь мой».
Второй назвался доктором Кюхенхельфером. Он был лысый, бородатый, довольно полный, в очках и, по моим меркам, очень пожилой – лет пятидесяти. Имя-отчество его было Прохор Антонович. Заметив, что я удивлен несоответствием фамилии исконно русскому имени, он объяснил, как, видимо, делал часто, что немец он только по фамилии, и помянул доктора Вернера из «Героя нашего времени», который тоже был чистый русак. Как я вскоре понял, Прохор Антонович познакомился с моряком в Серноводске, а Никитина впервые увидал только сегодня. Сошлись они, однако, как нельзя лучше – это было видно. Во флигеле вообще было очень славно, как это случается, когда встретятся умные и интересные друг другу люди. Мне предложили сесть к столу, и я с удовольствием согласился. Все равно нужно было улучить правильную минуту для разговора с Олегом Львовичем.
Понемногу я огляделся. Капитан, видно, привык быстро и комфортно устраиваться во всяком временном пристанище. Диван был накрыт пестрым, удивительно красивым одеялом с невиданным узором; на столике поблескивал маленький походный чайник со спиртовою горелкой; особенное мое внимание привлекла складная каучуковая ванна – я о таких слыхал, но никогда не видывал.
Поймав мой взгляд, Никитин с улыбкой сказал:
– Это Платон Платонович меня обустроил. У него на половине еще нарядней. Старые холостяки – народец хозяйственный.
Двое остальных молчали, и у меня возникло подозрение, что я прервал какой-то важный разговор.
Кажется, я не ошибся, потому что Олег Львович успокоительно молвил:
– Продолжайте, друг мой. Про Григория Федоровича скажу вам то же, что вы давеча сказали мне о докторе: «При нем можете говорить без утайки».
Мы с Кюхенхельфером переглянулись – причем я попытался скрыть, что польщен, а он откровенно просиял, хоть слышал лестный о себе отзыв уже во второй раз. И то – по тогдашнему времени подобная аттестация могла считаться наивысшим комплиментом.
Иноземцов кивнул и тихим, спокойным голосом, всё посасывая свою палочку, стал рассказывать, что корабль его простоит в Севастополе еще месяц, если не два. Надобно дождаться, пока соберутся все мастеровые с семьями. Мне было пояснено, что капитан доставил из Аляски звериные шкуры, а обратно в Америку отвезет груз еще более ценный – разного профиля мастеров, которых так не хватает в русских колониях.
– Время на раздумье у вас, Олег Львович, еще есть, но немного. Право, решайтесь. Дадут вам выслужиться иль нет, Бог весть. А так – милое дело. Народу всякого на борту будет много, я вас легко спрячу. Третью неделю в этом городишке просиживаю, все не мог получить разрешение выехать к вам в форт. А раз вы сами пожаловали, чего ж лучше?
Не сразу я понял, что моряк преспокойно уговаривает Никитина дезертировать и нелегально покинуть на торговом корабле пределы России. За тем, видимо, Платон Платонович и завернул из Севастополя на Кавказ. Должен признаться, что, вопреки присяге и долгу, предосудительное сие намерение нисколько меня не возмутило. Напротив, капитан Иноземцов стал нравиться мне еще больше. Если б спросили моего суждения, я горячо поддержал бы этот преступный план, но ко мне не обратились, а сам я в присутствии этих немолодых людей соваться со своим мнением не осмеливался. Я сидел, тянул крепкий и вкусный ром, да помалкивал – самый лучший способ поведения для мальчишки.
Не то доктор. Его, как и меня, тоже не спрашивали, но он энтузиастически высказался за побег, причем брался сопровождать Иноземцова с Никитиным через черкесские горы, чтоб избежать возможной погони. Ему сказали, что никакой погони не будет – пока беглеца хватятся, они уж будут в Крыму. Тогда Прохор Антонович в качестве своего вклада в рискованное предприятие предложил ящик с пистолетами – они-де в дороге пригодятся, а ему совершенно не нужны.
– Зачем же тогда вы их покупали? – с улыбкой спросил Никитин.
– Не покупал. Подарили. Один ротмистр. Я его вылечил туземными травами от застарелого ранения. Платить ему было нечем, так он мне дуэльные пистолеты отдал, очень хорошие. Хотите, принесу показать?
Пистолетами Олег Львович не заинтересовался, а вот насчет «туземных трав» полюбопытствовал – и, похоже, угодил прямо под копыта любимого докторова конька.
Кюхенхельфер расцвел и произнес целую речь в прославление горской медицины, ради знакомства с которой он, оказывается, и приехал на Кавказ. Если верить доктору, туземные лекарисаибы много лучше европейских врачей умели исцелять огнестрельные раны. При помощи разных природных средств и самых простых инструментов они-де обрабатывают «раневой канал» так, что у их пациентов никогда не бывает гангрены. Не ведомы в горах и ампутации. Притом, если нужно, саиб способен произвести даже трепанацию черепа.
Мы с Никитиным слушали с огромным интересом. Известно, что люди военные боятся мгновенной смерти меньше, чем ранения. Заражение крови и антонов огонь свели в могилу куда больше народу, чем лихая гибель на поле брани. Олег Львович особенно заинтересовался словами доктора о том, что пораженный пулей горец всегда первым делом вырывает из подкладки ком ваты и затыкает ею рану. Это останавливает кровь, а кроме того вата бывает пропитана особым травяным раствором, препятствующим нагноению.
– Говорят, на вершине Каратау, – Прохор Антонович показал на гору, с юга нависающую над Серноводском, – растет некий цветок акчой, по описанию – разновидность Leontopodium alpinum, иначе называемого эдельвейсом. Будто бы в ясный день на рассвете под воздействием лучей восходящего солнца на нем выступает какая-то особенная роса. Если в этот момент акчой сорвать и истолочь, получится превосходное кровоостанавливающее средство. Как бы я желал добыть этот цветок! Но для того пришлось бы с вечера карабкаться на высоту в семьсот саженей и мерзнуть там всю ночь. С моей одышкой и вечным бронхитом это невозможно… Разве что ктонибудь исполнит это за меня?
Он жалобно обвел нас взглядом, однако добровольцев лезть на Каратау за каким-то цветком не сыскалось.
Капитан поворотился к Олегу Львовичу и спросил:
– Так что, сударь мой, насчет Севастополя? Клипер у меня славный. Не идет – летает.
– Не могу, – коротко ответил ему Никитин. – Есть одно обстоятельство…
И не договорил, а Иноземцов расспрашивать не стал. К этому разговору больше не возвращались. – «Не могу» – и кончено. Капитан, видно, знал, что Олег Львович слов на ветер не бросает, и отступился. Удивительные они были люди, оба.
Я всё думал, как бы мне заполучить Олега Львовича для разговора с глазу на глаз, и начинал опасаться за исход. Очень уж велика казалась разница меж этой компанией и обществом моих петербургских приятелей. Представить себе Никитина рядом с Кискисом Бельским или Тиной Самборской было трудно.
Разговор то стихал, то оживлялся, но тишина не смущала присутствующих. Галбаций, покончив со своим туалетом, начал вырезать узор на какой-то палочке; он ни разу не обернулся в нашу сторону и всё поглядывал в окно, будто находился в карауле.
Если завязывалась беседа, в ней участвовали только доктор и Никитин. Я помалкивал из робости. Капитан же вообще был не из разговорчивых. Когда раз, заспорив, врач спросил его мнения, он ответил, что согласен с обеими точками зрения, а впрочем так соскучился в плаваниях по умным рассуждениям, что слушал бы и слушал.
Спор был о Лермонтове.
Началось с того, что Прохор Антонович вновь помянул доктора Вернера из «Дневника Печорина», сказав, что хорошо знает Майера, с которого списан этот персонаж, и что Николаю Васильевичу ужасно повезло: после публикации романа он сделался курортной знаменитостью и не имеет отбоя от пациентов, особенно барышень.
От персонажа перешли к автору. Поэт был убит на дуэли менее года назад, совсем неподалеку от этих мест, его слава после смерти достигла всероссийских размеров. О Лермонтове тогда говорила и спорила вся читающая публика, девушки списывали его стихи в альбомы, а молодые люди вроде меня примеривали на себя роль Печорина. Нечего и говорить, что я слушал спор с великим интересом, тем более Кюхенхельфер был знаком с поэтом и говорил о нем очень живо, с массою деталей. Сейчас многие из них известны по воспоминаниям современников, так что не буду пересказывать через третьи руки. Существенно, что Прохор Антонович знавал поэта с не лучшей его стороны и отзывался о нем неприязненно: позёр, человек сомнительной нравственности, любитель поиграть в демоничность, сам виноват в своей гибели и прочее подобное. Доктор не отрицал грандиозности лермонтовского дарования, однако тем паче винил покойника за несоответствие личных качеств Божьему Дару.
Очень скоро, как почти всегда бывает у людей умных, разговор перешел от частного случая к обобщению. Заспорили о том, больший или меньший спрос в смысле человеческих качеств надо предъявлять к гению.
Прохор Антонович стоял на позиции пушкинского Моцарта, что гений со злодейством несовместны, и логически развивал эту позицию, говоря: «Кому более дано, с того более и спросится. Как мог Лермонтов опускаться до мелкого разврата, склок и сплетничества, ежели он – гений? Тем самым он оскорблял и унижал свой Дар». Кюхенхельфер, в принципе осуждая дуэли, до некоторой степени оправдывал убийцу, говоря, что Лермонтову не хватило великодушия извиниться за гнусность и тем самым он не оставил несчастному Мартынову выбора. Или что ж – обычному человеку можно безропотно сносить от тебя оскорбления, коли ты гений?
Олег Львович на это сказал, что к людям нужно подходить с разной меркой. Рысак всегда будет стоить много дороже извозчичьей клячи, борзую ценят по скорости, а лягавую по остроте нюха.
– Человек – венец природы, а не лошадь и не собака! – закричал доктор.
– Это всего лишь определяет иной критерий оценки.
– Какой же, позвольте узнать?
– Очень простой. Один крадет у человечества, другой дает. И чем больше дает, тем выше ему цена. А кто одаряет человечество больше, нежели личность, наделенная Даром и щедро его расходующая? Почему же я должен с человека, так много для меня сделавшего, спрашивать строже, чем с какого-нибудь Мартынова? Наоборот, я буду к гению снисходителен и извиню все его слабости – из благодарности.
Кюхенхельфер презрительно скривился:
– Э, голубчик, вы, я гляжу, приверженец аристократической теории. Да будет вам известно, что она погребена по ту сторону 1789 года. И мы, нравится вам то или нет, движемся в сторону свободы, равенства и братства, когда у последнего нищего будет столько же прав, сколько у вельможи! И я говорю не только об аристократии крови!
– Я всегда думал, что права бесплатно не достаются, их надобно заслуживать или завоевывать, – молвил на это Олег Львович. – Таков закон и природы, и общества. – Он мирно заключил. – А впрочем, поживем – увидим, куда мы движемся.
Лучшего завершения для спора нельзя и придумать – обычно с таким выводом соглашаются все. Остался доволен и Прохор Антонович.
– Ну то-то, – сказал он с торжествующим видом. – Однако что ж мы всё умничаем. Не сыграть ли в карты?
– Не имею привычки, – развел руками Никитин. – С юности редкостно неудачлив во всем, что касается games of chance[8] – как в узком, так и в широком смысле.
Иноземцов засмеялся:
– Так легко вы от него, сударь мой, не отделаетесь. Доктор у нас изобретатель новых карточных игр.
Тот уж доставал из кармана колоду – странную, с рисованными изображениями растений.
– Здесь удача почти не нужна, – начал объяснять он. – Только ум и расчет. Вот, извольте посмотреть: четыре отряда растений подразделяются каждый на восемь видов. Старшинство по количеству лепестков… Молодой человек, и вы присоединяйтесь.
Я уклонился, последовав примеру капитана – тот сказал, что в цветы эти он уже играл и безбожно продулся. Никитин же стал слушать инструкции. Вероятно, не хотел обидеть доктора. Возможно и другое: я приметил, что Олег Львович интересуется всем новоизобретенным, пусть бы даже и карточной игрой.
Они пересели к ломберному столику, вместо денег каждый положил перед собой кучку тыквенных семян, и пошла игра. Я остался вдвоем с моряком.
Сидеть без разговору было странно, притом я очень хорошо понимал, что Платона Платоновича мне не перемолчать. Он думал о чем-то своем, по временам поглядывая на меня с приятной улыбкой, как бы показывавшей, что он готов послушать, если я ему что-нибудь расскажу, но не будет возражать и против безмолвия.
Долее пяти минут я, однако, не выдержал. И, лишь бы что-то сказать, спросил:
– А позвольте спросить, отчего у вас во рту палочка?
– Привык к сигарам. Кубинским. Ничего иного курить не могу. Из-за каких-то таможенных раздоров с Испанией «гаваны» к ввозу на территорию империи воспрещены. У меня был запас, да в дороге чемодан украли – как раз где табак.
Отвечено было чётко, ясно, исчерпывающе. Мы опять умолкли.
– Ну и дрянь у вас карта, – громко подивился доктор. – Эк вам не везет!
Олег Львович сказал:
– Попробую выкрутиться. С хорошей картой выиграть – заслуга невеликая.
Мне пришло в голову спросить о Никитине. Любопытно было, когда и где они подружились. Быть может, в Сибири? Ведь корабли Российско-Американской компании ходят и к тем берегам.
Только я открыл рот, как Платон Платонович заговорил сам.
– Удивительного невезения человек Олег Львович. Он мне про это рассказывал, когда мы вместе в камере сидели.
«Вот оно что!» – подумал я, поглядев на капитана по-новому.
– Он это обосновывал логически, с точки зрения высшей справедливости. – Губы Иноземцова тронула сдержанная улыбка. – Свою невезучесть дефинировал как особую взыскательность судьбы. Человек сильный должен в любой шторм идти своим курсом, не ожидая попутного ветра.
– Вы тоже, как Олег Львович, были среди заговорщиков? – понизив голос, спросил я.
– Ни я, ни он, сударь мой, в заговоре не участвовали. – Платон Платонович сердито покосился на свою обгрызанную палочку – она портила ему настроение. – Я-то кому мог сдаться в серьезном деле, в мои семнадцать лет? А Олега Львовича вы знаете. Он и тогда такой же, как сейчас, был. Если б оказался меж заговорщиков, совсем иной бы у них коленкор вышел. Но он попал в столицу прямо четырнадцатого, сразу поспешил на площадь – и угодил под картечь… А меня, сударь мой, арестовали из-за того, что я несколько раз у Рылеева бывал. Он, как некоторые другие бунтовщики, в Российско-Американской компании служил. Я же был свежеиспеченный мичман, только из корпуса. Мне послушать про дальние края и плавания было интересно. Ну и люди там, конечно, собирались особенные, залюбуешься. Теперь, сударь мой, таких нет… В общем, ни к чему тайному меня не допускали, только пару раз по дружеству просили отнести к себе в гвардейский экипаж какие-то записки старшим офицерам. Сыскались, однако, доброжелатели, и оказался я в одной камере с Никитиным. Крепость была переполнена арестованными, на всех одиночек не хватало… – Он отложил палочку, но через минуту снова сунул ее в рот. – И был у меня с ним примечательный разговор, м-да… Я сказал, что собираюсь на допросе всю правду рассказать, потому что я, сударь мой, офицер и лгать считаю низостью. Честно скажу, что знал и очень уважал Рылеева с Батеньковым, что носил письма в экипаж, а кому именно, говорить не стану, ибо зазорно. Но Олег Львович меня охолонул. «Полноте, говорит, с этими господами в благородство играть нечего. Бисер перед свиньями. Запоминайте: у Рылеева вы бывали в расчете получить хорошее место в колониях – и только. Писем никаких никому не передавали – это вас оговорили. И стойте на своем». Я ему: «Вы не всё знаете. Вчера, когда вас на допрос водили, тюремщик перехватил записку, что мне сверху на нитке спустили. От Николая Бестужева. Пишет, чтоб его имени не поминал, а то ему и так худо. Записка эта теперь – главная против меня улика». Он говорит: «Там в записке ваше имя названо?» «Нет». «Ну так она была не вам, а мне подброшена. Нынче же в том призна́юсь». Я, натурально, не соглашаюсь, а он мне: «Бросьте мальчишничать. Я все равно пропал – не отверчусь, а вас вытянуть еще можно. Вырвать из ихних когтей живую душу будет для меня победой и утешением». И ведь вырвал! Ничего против меня не доказали, и отделался я, сударь мой, пустяками. Из гвардейского экипажа был послан на Дальний Восток, а там подал в отставку и перевелся в Российско-Американскую компанию. Чего только не повидал, где только не побывал! А посмотрели б вы на мой красавец-клипер! Самый быстрый на весь Тихий океан! В общем, судьба у меня сложилась счастливо. И всё, сударь мой, благодаря ему.
Капитан кивнул на Никитина. А у того, судя по триумфальному виду доктора, дела были совсем плохи. Напоследок он пошел ва-банк, вскрыл какой-то цветок всего с тремя лепестками и под хохот Прохора Антоновича спустил последние семечки. Кюхенхельфер потребовал к барьеру капитана. Тот поупирался, но будучи человеком вежливым и покладистым, перед напором не устоял.
Наконец, я мог поговорить с Олегом Львовичем о деле. Сказать правду – что с ним любопытствует познакомиться некая барышня – я, конечно, не мог. Приказывать как командир нижнему чину тем более было немыслимо. Поэтому я прибег к хитрости.
– Кажется, вам очень повезло, – зашептал я. – А еще пеняете на удачу. Представьте, я повстречал своих петербургских знакомых. Один из них, князь Константин Бельской, сын докладчика у государя, человека очень влиятельного. – (Это, положим, было правдой). – Мне пришло в голову свести вас. Кискис, этот мой приятель, без царя в голове, но в сущности славный малый. Просить его вы не станете, я знаю, – и не нужно. Уверен, что вы ему понравитесь, и он сам предложит свою помощь. Старик князь в сыне души не чает. Сегодня в восемь я обещался быть у них со своим товарищем – то есть с вами. Даже если ничего не выйдет, зачем упускать случай?
Он слушал меня, все больше хмурясь. Моя затея ему определенно не нравилась. Я думал – откажет. Но потом Никитин как будто вспомнил о чем-то. Тряхнул головой, пожал мне руку.
– Спасибо, что желаете помочь. Что ж не сходить, сходить можно.
Внутренне я вздохнул с облегчением. Сказал ему адрес и попросил быть там ровно в четверть девятого.
Всё складывалось отменно.
Глава 6
Настоящая жизнь. «Блестящие». В зоологическом саду. Даша и Базиль. Я становлюсь Печориным
Сам я собирался быть у Базиля, то есть, собственно, у Кискиса, к восьми. Четверть часа я клал на то, чтоб поставить себя с петербургскими приятелями на новую ногу. Они должны были понять, что я не прежний, что я переменился, и относиться ко мне теперь следует иначе. Не хватало еще, чтоб в присутствии Дарьи Александровны кто-то из «брийянтов» позволил себе надо мною насмешничать (прежде, увы, случалось и такое). Даше я и вовсе назначил половину девятого. По моему расчету, Олег Львович своим появлением, самим воздействием своей личности должен был к дашиному приходу окончательно привести питерских снобов в укрощенное состояние.
Таким образом я подготовился к вечеру, будто полководец к генеральному сражению. Наряд мой был продуман до мелочей. Я намеренно не надел парадного мундира, а моя фуражка была рыжей от солнца. Но на боку у меня висела золотая сабля «за храбрость», которой я нарочно, не без сожаления, расцарапал эфес, чтоб не сверкал новизной. Перед зеркалом я попробовал разные выражения лица и остановился на загадочно-непроницаемом. В Петербурге от неуверенности я слишком много говорил и все время пытался острить; теперь же, для контраста, постановил себе помалкивать и только на всё слегка улыбаться (эту манеру я позаимствовал у славного капитана Российско-Американской компании). Настроение притом у меня было самое приподнятое. Наконец-то начиналась – иль возвращалась – настоящая жизнь!
Бельской, как следовало ожидать, занял один из лучших домов Серноводска, временно пустовавший за отъездом хозяина, богатого татарина-коннозаводчика. Это был особняк с бельэтажем, хоть и не вполне изящных пропорций, но с классическим фронтоном и колоннами. По двору слонялась челядь – Кискиса вечно сопровождал целый табор лакеев, грумов, казачков.
Встретивший меня дворецкий, которого я знавал еще в столице, был в большущем тюрбане и каком-то балахоне с нашитыми на него золотыми полумесяцами. Из покоев доносился пряный запах курений.
Я оказался в гостиной, убранной по-азиатскому – верней, соответственно представлениям петербургских шалопаев о Востоке: всюду пестрые ковры, подушки, занавеси разноцветного шелка. Мебель отсутствовала, если не считать низких столиков.
Первой я увидел Тину Самборскую, известную в свете красавицу и законодательницу мод. Она возлежала на полу, очень смело одетая в шальвары и нечто кисейное, полупрозрачное, закинув ногу на ногу и покачивая золоченой турецкой туфелькой – было видно голую точеную щиколотку, нарочно выставленную напоказ. Во рту у Тины поблескивал мундштук кальяна.
– Глядите, кто пришел, о повелитель, – выпустив клуб дыма, сказала она равнодушно.
Тина и в Петербурге не проявляла ко мне никакого интереса – ее привлекали кавалеры иного полета.
– Ба-ба-ба! – протянул Кискис (графиня обращалась к нему). – Вот и наш шотландец! Добро пожаловать, милорд!
Он был заправским падишахом – в парчовой чалме, в сверкающем халате и прицепленной пушистой бороде.
На «шотландца» и «милорда» я нахмурился. Чего-то в этом роде я и ожидал, потому и пришел раньше Никитина с Дашей.
В свое время, желая придать себе больше веса, я как-то обронил, что моя фамилия прежде писалась не «Мангаров», а «Монтгаров», ибо по семейному преданию мы происходим от того самого Монтгомери, капитана шотландской гвардии, который на турнире пронзил копьем короля Генриха Второго. (Не нужно осуждать меня за эту фантазию слишком строго – напомню, что сам великий Лермонтов, будучи юнкером, уверял однокашников, будто происходит от испанского герцога Лермы).
– Заткнись, Кис, – раздался ленивый, хорошо мне знакомый голос. – Полно вздор молоть. Ну, Грегуар, дай-ка на тебя посмотреть.
Из-за пышного букета роз, поставленного в огромную фарфоровую вазу, поднялся высокий блондин с правильными, но какими-то очень холодными, словно высеченными изо льда чертами. Это и был Базиль. Предводитель «блестящих» был наряжен янычаром, с небрежно пририсованными усами, однако без головного убора – вероятно, чтобы не портить прическу, которой Стольников всегда придавал большое значение.
Его полусонный, но, как я отлично знал, ничего не упускавший взгляд осмотрел меня.
– Tiens-tiens![9] – сказал Базиль после короткой паузы. – Я ждал увидеть папаху, кинжал и прочее. Пехотный сюртук с белой фуражкой – это, по здешним нравам, стильно. Ну, поди, дай пожать твою pyaternya.
Изъяснялся он всегда на французском, иногда вставляя для выразительности грубые или простонародные русские словечки. (Позднее в «Войне и мире» я встретил персонажа с такою же привычкой и сразу подумал, что граф Толстой в своей светской юности наверняка знавал Стольникова и позаимствовал у него эту характерную примету.) Сам я, наоборот, неизменно отвечал ему по-русски, временами вкрапляя чтонибудь французское. В отличие от Базиля, в детстве я не был окружен гувернерами из прежних версальских аристократов и владел этим языком нечисто.
Там был еще один человек, мне незнакомый. Он был наряжен гаремным евнухом, чему вполне соответствовала круглая физиономия с атласно-румяными щечками и черными, как сливы, глазами.
– Вот, здешнее мое приобретение. Полезный субъект, большой забавник, – аттестовал его Базиль, нимало не заботясь присутствием «субъекта». – Мсье Лебеда…
– Он же «граф Нулин», – подхватил Кискис.
– Это мой nom de plume,[10] – с улыбкой пояснил евнух, пожимая мне руку своей небольшой и мягкой лапкой. – Печатаю статьи о Кавказе и местных нравах в «Северной пчеле» и «Библиотеке для чтения». Так сказать, ума холодные наблюдения. А вообще-то служу в канцелярии начальника Кавказской области, в Тифлисе.
– Что угодно раздобудет, обо всем осведомлен, умеет быть приятным и не способен обижаться, – завершил представление Базиль. – В общем, далеко пойдет.
– Твоими бы устами. – Нулин-Лебеда поплевал через плечо, чтоб не сглазить, растянул сочные губы в добродушной улыбке – и я увидел, что такого, пожалуй, обидеть трудненько.
Стольников и в Петербурге вечно держал подле себя одного-двух распорядительных шутов, умевших потрафить его капризам. Я решил, что журналист Лебеда внимания не заслуживает.
– Будет о нем, – небрежно сказал Стольников. – Что ты? Много ирокезов оскальпировал? Нет, серьезно, случалось тебе уже убивать?
Я, по-прежнему не раскрывая рта, улыбнулся и словно невзначай поправил темляк своей геройской сабли. Вопрос, который задал Базиль, бывалый вояка оставил бы без ответа. Я лишь пожал плечами.
– Скажите лучше, где одалиска, с которой я видал Кискиса на бульваре? Мне в «Парадизе» наболтали небылиц о купленных рабынях и черт знает о чем.
Князь сделал прекомичную гримасу.
– С черкешенкой я дал маху. Лермонтовской Бэлы из нее не вышло, – стал он рассказывать под всеобщий смех. – По-русски не понимает, все время ест, день ото дня толстеет и ужасная дура.
– Ты расскажи, как пытался затащить ее на ложе сладострастья! – прыснула Тина.
– Да. В первую же ночь попробовал я к ней подкатиться… – Кискис почесал затылок под чалмой. – Что ты думаешь? Зашипела по-змеиному и вынула из-под этого своего халата нож. Я не понял, меня она хотела убить или сама зарезаться, но больше к ней не суюсь. Ну ее к черту…
Тут и мне сделалось смешно. Я с удовольствием присоединился к всеобщему хохоту.
– Шесть… тысяч… он за нее выложил, серебром! – еле выговорила графиня, держась за живот.
Живот был голый, со сверкающим камнем в пупе, и я поневоле всё косился на это невиданное в петербургских салонах зрелище. Ах, как славно было вновь оказаться среди своих!
В разгар веселья появился дворецкий и объявил о приходе господина Никитина. Было ровно четверть девятого.
– Это тот самый человек, что служит под моим началом, – сказал я, приняв серьезный вид. – Он попал на Кавказ из Сибири. В Питере такого не встретишь.
– Проси, – велел слуге Кискис. – Я редких зверей люблю.
Вошел Олег Львович, все в той же черкеске, сделал общий поклон – легкий и изящный, без чрезмерности. Я всех познакомил.
Свита с любопытством ждала, как встретит нового знакомого непредсказуемый Базиль. И тот их не разочаровал.
– Мангаров сказал, вы из Сибири? Уж не из каторзников ли?
– Из них, – после паузы, тоже по-французски, отвечал ему Никитин. Очевидно, он не сразу понял слово quatorznik, произнесенное на русский манер.
Глаза Стольникова блеснули любопытством – большая для него редкость.
– Должно быть, очень интересно участвовать в настоящем заговоре!
– Не пробовал. – Олег Львович говорил благожелательно и спокойно. – Я, видите ли, прибыл в столицу четырнадцатого, услыхал о событиях – поспешил на Сенатскую площадь. Походил меж теми и этими, присмотрелся. Выбор, к кому присоединиться, был нетруден. Порядочные люди, кого я знал, оказались в одном каре, а все знакомые подлецы – в другом.
– Да, не повезло, – вздохнул Стольников. – Это называется «V tchujom piru pokhmelye». Признайтесь – только честно, без рисовки: сколько раз за минувшие годы вы пожалели, что не приехали в Санкт-Петербург днем позже?
– Ни разу. Но много раз жалел, что не приехал тринадцатого и не был у Рылеева, когда там составлялся план востания.
Я послал ему красноречивый взгляд, означавший: «Осторожно! Вы тут не со своими друзьями!» У «брийянтов» дозволялось нести любую жеребятину, даже богохульствовать, но дел политических в разговорах не касались никогда (не сказать, впрочем, чтоб кого-то из этой компании занимала политика).
– С вашим даром убеждения вы наверняка отговорили бы бунтовщиков от их безумной затеи, – быстро сказал я.
Меня особенно беспокоил бойкоглазый Граф Нулин из губернаторской канцелярии.
Олег Львович, кажется, понял, но не поддержал моих слов – просто промолчал.
– Интере-есно, – протянул Базиль.
В его устах это был самый высший эпитет. Я почувствовал себя польщенным. Приход Никитина, как я и надеялся, повысил мое реноме. «Погодите, – думал я. – Вы еще моей Даши не видали».
Разговор между «блестящими» продолжился уже без участия Олега Львовича, который, оглядевшись, сел по-турецки на одну из подушек и достал свою трубку. Спрашивать позволения у единственной дамы он не стал, потому что Тина и сама старательно пускала струйки кальянного дыма.
Меня поразило, как естественно и уверенно держится Никитин в непривычной и, должно быть, совершенно чуждой ему компании. Он был в положении бесправном, много старше, одет самым непритязательным образом, а сюда явился в качестве «редкого зверя», но было в его позе и взгляде что-то такое, отчего возникло ощущение, будто это он находится в зоологическом саду перед клеткой с какими-то занятными экзотическими животными – к примеру, мартышками. Вот, пожалуй, самое главное отличие, выдававшее в Олеге Львовиче особенного человека: он в высшей степени обладал редким даром моментально решать, как нужно поступить в критической ситуации и как должно себя вести в ситуации обычной. Я поминутно посматривал в его сторону, стараясь копировать позу и выражение лица. Мне не хотелось, чтоб он и меня зачислил в мартышки.
Однако нужно было завязать общую беседу, перекинуть между Никитиным и остальными какой-то мостик. Мне пришел на ум Лермонтов. Я знал, что у Олега Львовича есть на сей предмет свой оригинальный взгляд. У «брийянтов» поэт после своей романтической гибели тоже стал почитаться фигурой импозантной, так что выбор темы показался мне удачным.
– Правда ли, что ты знавал Лермонтова? – спросил я Стольникова. – Расскажи.
– Что рассказывать? – Он пожал плечами. – Маленький злюка, одержимый всевозможными амбициями. Желал признания, любви красавиц, всеобщего обожания иль, на худой конец, ненависти. И ужасно бесился, что ничего этого не имеет. Лермонтов был ходячий желчный пузырек («petite poche-de-fiel»). Уверен, что именно перепроизводство желчи было топливом его таланта. Он очень умно́ поступил, что дал себя убить. Теперь мы, хочешь не хочешь, обязаны восхищаться им и его сочинениями.
Я искоса взглянул на Никитина – что он? Тот молчал.
– Он мне хотел стихотворение посвятить, а я снасмешничала. Дура! – сокрушенно сказала Самборская – Сейчас бы вся Россия в альбомы переписывала. Главное, мое имя так удобно для рифмовки! «Тина – картина», «Тина – каватина»…
– Тина – скарлатина, – подхватил Граф Нулин.
Остальные засмеялись, и разговор о Лермонтове продолжения не получил.
Самборская, кажется, была задета шуткой, а не в ее правилах было спускать обидчикам. Прищурившись, она посмотрела на журналиста.
– Как вам к лицу наряд евнуха. Судя по гладенькой коже, борода у вас не растет. Отчего бы это? Может, вы, граф, и вправду евнух?
Мсье Лебеда хихикнул, нисколько не задетый.
– Ах, милая Тиночка, ничего-то вы в евнухах не смыслите. Мы бываем двух видов: турецкие и персидские. У первых вполне может быть и бороденка, у вторых же – никогда. Это из-за того, что в султанском гареме нам делают так называемое «малое усекновение», а в Персии как стране более основательной – «великое усекновение». Вот я вам покажу разницу на примере фруктов.
Он взял с блюда банан (они в ту пору были очень редки и продавались по рублю штука), два мандарина, и начались такие скабрезности, что, кабы я не знал свободных нравов этой компании, то был бы скандализован. Но графиня нисколько не смутилась, она хохотала громче Кискиса, обозвала журналиста «поросенком» и кинула в него огрызком груши.
– Благодарю за общество. У меня еще дела.
Никитин поднялся и, поклонившись так же непринужденно, как в начале, вышел.
Я догнал его в прихожей. Мне во что бы то ни стало нужно было задержать его до прихода Дарьи Александровны.
– Куда же вы? Мы еще не подступились к разговору, ради которого я вас привел! Вас покоробил этот шут? Не обращайте внимания, сейчас в столице модно бравировать цинизмом.
– Покоробил? После каторги да казармы? Полноте! – Олег Львович казался удивленным. – Не в том дело. Просто ваш приятель ничего не сделает.
– Почему вы так уверены?
– Вижу. Князь Бельской – идиот, к его ходатайству никто не прислушается. А впрочем, такой и ходатайствовать ни за кого не станет. – Никитин пожал мне руку. – Вы знаете, где меня искать. Сегодня в ночь мы поедем на охоту. Иноземцов мечтает повстречать горного козла, а доктор насобирать каких-то трав. Вернемся послезавтра. Вечером, если не будете заняты, милости прошу к нам.
Я не знал, чем его удержать, но здесь наконец вошла Дарья Александровна. Хоть я расстался с нею всего несколькими часами раньше, у меня было чувство, будто я очень давно ее не видел и за время разлуки она еще больше похорошела.
– Благодарю вас, – сказала она дворецкому. – Меня уже встречают.
Вопросительно посмотрела на Олега Львовича, потом на меня.
– Добрый вечер. – Голос у меня пресекся. Я был принужден откашляться. – Вот, собственно… Вы желали познакомиться… Господин Никитин, Олег Львович.
Я поймал на себе несколько удивленный взгляд Никитина и поздно сообразил, что, кажется, себя выдал.
– Дарья Александровна Фигнер, дочь командующего линии, – поспешно сказал я. Последнее я присовокупил, чтобы Олег Львович подумал, будто и это знакомство мною устроено, дабы увеличить число его заступников.
Она смотрела на него неотрывно – и так жадно, что для простого любопытства этого, пожалуй, было многовато.
– Весьма польщен, – молвил Олег Львович довольно сухо и бровями подал мне знак, который, очевидно, означал, что пользоваться протекцией генеральской дочки – это для него hors de considération. – Однако мне пора, посему откланиваюсь. У молодых свои занятия, у нас, стариков, свои.
– Какой же вы старик? У вас глаза молодые, – странным голосом сказала Даша, да и слова, честно говоря, для барышни были странные.
Он с улыбкой поклонился и вышел.
– Ах! Он, верно, счел меня дурочкой! – Дарья Александровна от досады даже топнула. – Отчего вы его не остановили? Я… я так хотела поговорить с простым солдатом!
Она прибавила последнюю фразу, глядя мне через плечо. Я обернулся и увидел, что с порога гостиной за нами наблюдают Стольников и Лебеда.
– Это мадемуазель Фигнер, о которой я говорил, – невозмутимо сказал я, с гордостью видя, как заинтересованно они смотрят на прелестную гостью. И представил Даше обоих.
– Скотина ты, братец. – Базиль никогда не целовал женщинам рук, не стал этого делать и сейчас, но поклонился с элегантной почтительностью. – Предупреждать нужно. Я бы хоть усы стер. Ради такого знакомства.
Он умел быть чертовски галантен, когда желал произвести приятное впечатление.
Граф Нулин подскочил к Даше и предложил проводить ее в соседнюю комнату, где она сможет выбрать себе любой восточный наряд, причем уверял, наглец, что его можно нисколько не стесняться, ибо он – евнух.
В гостиной на гостью с объятьями налетел Кискис – на правах родственника, но Дарья Александровна от него мягко отстранилась. Не стала она и переодеваться. Вид у нее был расстроенный.
Давненько не наблюдал я Стольникова в таком оживлении. Он спросил, каковы Даше здешние воды сравнительно с немецкими, а когда она отвечала, что за границей никогда не бывала, разразился целой речью на патриотическую тематику. Приступы разговорчивости случались с ним нечасто, но, если уж он говорил, то красно́ и остро. Означать это могло лишь то, что госпожа Фигнер ему понравилась. Я уж был не рад, что вздумал хвастать перед «блестящими» дамой своего сердца.
Стольников начал объяснять, почему он никогда не променяет отечество, каким бы уродищем (n'importe quel sort d'ourodistche) оно ни было, на заграницу.
– Что ж я поеду оттуда, где мне удобно, туда, где всё сшито на чужую мерку? И кому я там сдался? В Лондоне иль Париже своих чайльд-гарольдов хватает, я для них буду папуас, дрессированный медведь. Ежли б я был князь и баснословно богат, как наш Кискис, тогда иное дело. Таких иностранцев там любят и слетаются на них, будто мухи на мед. А всего противней для нашего брата-roussak то, что они там у себя существуют по законам, а мы привыкли жить по правилам. Правила наши просты и понятны. Не нарушай их – и твори, что хочешь. Конечно, в случае, если тебе повезло родиться при дворянском гербе и хорошем наследстве.
– Что ж это за правила? – спросила Даша.
С упавшим сердцем я видел, что она начинает слушать Стольникова с интересом. Как только он, бес, с первого же взгляда понял, что этой девушке нужно не комплименты говорить, а завлекать ее острым разговором?
– Их всего три. Не хули tsar, не дразни psar (то бишь голубые мундиры), не задирай церковь. Все это мне нисколько не в тягость. Где царь, а где я? Нам друг до дружки нет никакого дела. То же с голубыми псарями. Что интересно им, не занимает меня – и наоборот. С церковью того проще. Мой духовник – всем тут известный Фофо, prepodobny Fotyi, человек нашего круга. Он, кстати, Грегуар, пока ты отсутствовал, стал preosvyastchenny – назначен викарным епископом. В тридцать три-то года! Впрочем, пожалеем его. Все время ходить в рясе и часами отстаивать службы смертельно скучно.
– Смертельно скучно жить по вашим правилам, – сказала вдруг Даша. Я уже знал в ней эту недевичью прямоту и успел ее полюбить. – Вы странный. Будто нарочно хотите себя унизить. Сделаться хуже, чем вы есть.
Базиль поглядел на нее с еще большим любопытством. Она кивнула всем:
– Прощайте, господа. Не буду мешать вам веселиться.
Я пошел ее проводить и, чуть задержавшись в дверях, услышал, как Самборская произнесла:
– Фу ты, ну ты! Ты, Базиль, только попусту хвост распускал.
Мы с Дарьей Александровной расстались у ее экипажа.
– До свидания, Григорий Федорович. Заезжайте завтра утром. Поговорим.
Потом я быстро вернулся в дом, мне хотелось послушать, как «брийянты» будут обсуждать моих знакомцев.
Я вошел, когда Кискис говорил:
– …после того, как тетушка вышла замуж за этого солдафона. И правильно сделали: дочка у них получилась скучная и манерная, сами видели.
– Личико постненькое, вместо бюста среднерусская равнина, и – вы заметили? – на лбу прыщики, – подхватила графиня.
– Нет у нее на лбу никаких прыщиков! – возмутился я.
– Есть! Просто она их замазывает. Уж мне ль не знать!
– Нету прыщиков! Вы просто взревновали!
– Я?! К этой простушке!?
Мы, наверное, препирались бы еще долго, но Базиль поднял палец, и наступила тишина.
– Теперь мне понятен смысл названия «Серноводск», – изрек арбитр. – Оказывается, здесь водятся серны.
Тина надула губки, Кискис же сразу переменил позицию и стал говорить, что Фигнеры вообще-то довольно славные и «солдафону» сулят большой взлет, причем в самом скором времени.
– Это вопрос почти решенный, – с важным видом подтвердил Лебеда. – Ждем только прибытия военного министра. – Он сверкнул на меня своими блестящими глазками. – А вас, мсье Мангаров, можно поздравить. Как мадемуазель Фигнер на вас смотрела! Барышня презавидная, папаша опять же… Браво! Никитин ваш тоже презабавный.
Стольников обронил:
– Да, Грегуар, ты сильно переменился. Был, уж извини, цыпленок цыпленком, а стал прямо Печорин. Интересные личности к тебе сами тянутся. Что Кавказ с людьми делает!
Я был на седьмом небе и боялся только, что покраснею от удовольствия.
Кискис объявил:
– Всё, больше он не Шотландец. Так и буду его звать: «наш Печорин». Или «наш Байрон». Выбирай!
Тут – пришлось кстати – я получил возможность ввернуть слышанное от Олега Львовича:
– Только не Байрон! Что Байрон? Плешивый толстяк с маслеными глазами.
– Как-как? – переспросил Базиль. – Нет, ты решительно стал оригинален.
– Выпьем за нашего Печорина! – провозгласил Граф Нулин. Он уже не казался мне таким противным, как вначале.
– Так вы находите Никитина интересным? – спросил его я.
– Только в том смысле, что он адски смешон. Я слыхал про него. Человек из очень хорошей семьи, с состоянием, был принят в самых лучших домах. И что же? Потерял всё из-за собственной дурости!
Стольников возразил ему:
– Время тогда было смешное, поэтому, наверное, Никитин смешным не казался. Но сегодня он выглядит нелепо. Так нелепа большая морская рыба, по ошибке заплывшая в реку. Время – оно ведь как вода. Течет, меняется. А Никитин не понял, что вода перестала быть соленой. Раздувает жабры, топорщит плавники. Он – ходячий анахронизм. Экспонат из кунсткамеры.
Вердикт был сформулирован и провозглашен. Об Олеге Львовиче говорить перестали.
Мы ели и пили чуть не до рассвета. Я демонстрировал «блестящим» свою меткость в пистолетной стрельбе, Граф Нулин и Тина представляли пикантную сценку «Влюбленный евнух», Кискис пел серенаду перед запертой спальней своей черкешенки.
В четвертом часу Стольников, зевнув, сказал, что становится скучновато, и «персидский вечер» закончился.
Я шел к себе в «Парадиз», пошатываясь. Сердце мое, что называется, пело, грудь горделиво раздувалась, в ушах стоял звон от вина, криков и пальбы.
Глава 7
Эволюция чувства. На пикнике. Я негоден в любовники. Дары волшебницы. Беседа на отвлеченные темы
Мне теперь грустно и смешно вспоминать траекторию, по которой двигались пылкие чувства молодого человека сороковых годов, – я ведь был совершенно заурядным, как теперь говорят, среднестатистическим продуктом своей среды и эпохи. В ту майскую ночь я не мог уснуть, что нормально для влюбленного. Но первое, что начало волновать мое воображение, – это выгоды, которые мне сулила взаимность предмета обожания. Мне представлялось, каким блестящим поворотом для моей карьеры окажется эта партия. Прикидывал я, увы, и то, какое можно получить приданое. Фигнер был не из вояк, выслужившихся своей саблей, а хорошего старого рода и, по всем приметам, богат. Но постепенно молодая кровь разогналась, ее ток вымыл практические соображения прочь из сердца и мозга; я перестал думать о звездочках на эполетах, о мраморных дворцах – мне грезились объятья, лобзания и прочее, отчего перехватывало дыхание и темнело в глазах.
Наутро, едва позволили приличия, я был у Даши. Генерал уже отбыл в штаб, и она приняла меня запросто. Начался разговор с того, что она долго расспрашивала об Олеге Львовиче и его круге общения. Потом я стал звать ее на пикник (вчера Базиль постановил устроить поездку к Хрустальному водопаду). Сначала Дарья Александровна живо согласилась, но, узнав, что это затея «блестящих», передумала.
– Эта публика мне неинтересна и даже неприятна, – сказала она. – Другое дело, если вы соберетесь куда-нибудь с Никитиным и его друзьями. Тогда прошу меня не забывать.
– Они уехали в горы. Если желаете, можно навестить их завтра вечером.
– Охотно!
Я сказал, что раз она не едет на пикник, то и я остаюсь, но Даша не захотела слушать. Сколько я ни уверял, что это с моей стороны никакая не жертва, она осталась непреклонной – вынудила меня пообещать, что я отправлюсь веселиться со своими «старыми друзьями».
«Она заботится обо мне, хочет, чтобы мне было хорошо, – думал я, расставшись с нею. – Это первый шаг разгорающейся любви!»
В недалекое путешествие к живописному водопаду на горной речке Подкумок отправилась целая кавалькада. К нашей компании присоединилось два десятка кавалеров и дам лучшего серноводского общества. Кискис с Тиной тщательно отобрали участников пикника, и никто не подумал отказаться, несмотря на спонтанность предприятия.
Стольников, с небрежным изяществом сидя в седле прекрасного имеретинского иноходца, ехал впереди всей вереницы, словно Наполеон во главе своей гвардии. Сходство с Бонапартом усугублялось еще и тем, что одет он был с подчеркнутой неприметностью (как мне вспоминается, во что-то серое), а все остальные вырядились кто во что горазд.
Я тоже, на правах ветерана горной войны, держался впереди, с преувеличенной зоркостью озирая окрестные холмы. Поводий я, щеголяя посадкой, не трогал; одна моя рука лежала на рукоятке пистолета, другая – на эфесе золотой сабли. Последний раз «хищники» совершали набег в эти места лет десять назад, но приезжий beau mond этого не знал, и я с удовольствием ловил на себе почтительные взгляды.
– Сколько павлинов с павлинихами в эту дыру понаехало, – с усмешкой сказал мне Базиль. – Воистину лучший способ разрекламировать новый курорт – ougrokhat там какого-нибудь романтического поэта.
– И еще чтобы туда наведался ты со своим антуражем, – в тон ему ответил я, радуясь, что так ловко совмещаю комплимент с иронией. – Это вроде штампа цензуры: «Дозволено к модному употреблению». После вас, «брийянтов», сюда хлынет весь Питер, за ним Москва, а потом и провинция.
Он рассмеялся, одобрительно мне подмигнул.
Пикник описывать я не буду, он не представлял собою ничего особенного и мог бы происходить где-нибудь в окрестностях Павловска – если б, конечно, не окружение дикой и прекрасной природы. Она, однако, мало кого в этом обществе занимала. Дамы, конечно, восхищались грозным шумом падающей воды, бурливостью разлившегося Подкумка, зазубренной остротою скал и парящими в небе орлами, а кавалеры вторили своим спутницам, но куда больше каждого интересовало, какое он производит впечатление на окружающих, – я же говорю, пикник был самый обыкновенный, каковы они и сейчас.
Единственное, что с тех пор все-таки переменилось, это представления о гигиене. С укоренением водопровода представления о чистоте совершили революционный скачок. Когда я вспоминаю балы и прочие многолюдные празднества времен моей молодости, в обонятельной памяти (она безусловно существует) сразу воскресает специфический запах пота и немытого тела, заглушаемый духами и кельнской водой – эти ароматические жидкости оба пола выливали на себя чуть не склянками. У самой очаровательной барышни могло нежантильно попахивать изо рта, и ухажерам не приходило в голову тем отвращаться – мы все тогда были снисходительны к физиологической прозе и не удостаивали ее замечать, если только неопрятность не достигала вопиющих пределов.
Во время ленча общество поделилось на несколько «кувертов», то есть накрытых прямо на траве скатертей. Я был горд, что восседаю в самом центре этой солнечной системы, рядом с ее светилом. Сначала нас там было четверо: Базиль, Тина, Кискис и я.
Вдохновившись мерцающими белыми шапками Эльбруса, что виднелись в зазоре меж лысыми холмами, Бельской стал с увлечением рассказывать, какая замечательная идея пришла ему в голову. Когда Кавказ окончательно очистят от «хищников», можно будет устроить в снежном высокогорье невиданную штуку. Он-де, путешествуя в Альпах, видал, как ловко тамошние пастухи и проводники скользят по склонам на лыжах, и попробовал проделать то же сам. Ощущение грандиозное – будто скачешь по равнине на плавнейшем из иноходцев и на скаку из горлышка пьешь шампанское. Вот если б на Эльбрусе основать курорт для одних «блестящих», куда не было бы ходу всяким парвеню! Как занятно было б носиться по гладкому чистому снегу, взирая с заоблачных высот на раскинувшуюся под ногами низменную землю, где копошатся маленькие людишки со своими маленькими заботами!
Я слушал эту дребедень с усмешкой, а Базиль с пресерьезным видом сказал: «Оригинальный прожект. Обязательно его исполни».
Потом – я не заметил, когда и как – подле нас с тарелкою в руке оказался Граф Нулин.
– А что это наш Печорин ничего не ест? – спросил он.
Я ужасно проголодался от моциона, но, ощущая направленные к нашему «куверту» взоры, интересничал – то есть, облокотясь о землю и рассеянно глядя в небо, грыз травинку да потягивал из бокала шабли.
– Оставь его, он влюблен, – съязвил Стольников.
Снисходительно улыбнувшись, я обронил:
– Не смеши меня. Желал бы я быть способным влюбляться…
– Отлично вас понимаю, – с серьезно-сочувственным видом кивнул журналист. – Вы похожи на пресыщенного жизнью человека, который и на шумном балу зевает, а спать не едет только потому, что еще нет его кареты.
Признаться, я не сразу распознал цитату из «Героя нашего времени», но, когда понял, внутренне улыбнулся. Мне чрезвычайно нравилось выглядеть Печориным. Я окончательно решил, что есть ничего не буду, подожду до вечера.
Из тех же соображений, требовавших от романтического персонажа искать уединения, я с унылым видом удалился от общества в дальние кусты. Вообще-то у меня было намерение освежиться в реке, потому что солнце грело все жарче, я начинал обливаться потом под своим форменным сукном. Закаляя организм, я и зимою каждый день обливался ледяной водой, поэтому холодные струи Подкумка меня не пугали.
Я отошел шагов на полтораста от ленчующих, разделся и с наслаждением кинулся в небольшую заводь, укрытую зарослями. Когда же вылез и стал одеваться, случилось маленькое происшествие, о котором не могу не рассказать.
Уже натянув панталоны, я взялся за сорочку, когда ветви вдруг раздвинулись, и из кустов выглянула графиня Самборская. Она не ожидала меня тут встретить и удивилась, однако глаз не отвела – напротив, с любопытством осмотрела мою полуобнаженную фигуру.
Тина даже приложила лорнетку (она была немного близорука).
– Вы чудесно сложены, – сказала она. – Хоть в натурщики бери.
Смущение, побудившее меня довольно по-ребячески прикрыть торс рубашкой, прошло. Я воспринял поведение молодой, красивой и очень по тем временам свободной барышни единственно возможным образом. Теперь я и сам плохо понимаю, как это всё во мне уживалось: страстная влюбленность в Дарью Александровну и немедленная готовность к измене этому чувству с первой попавшейся бесстыдницей. Правда и то, что мужчинам в такой ситуации трудней сохранять холодность – устоявшийся в обществе предрассудок находит роль целомудренного Иосифа жалкой.
Поэтому, ничтоже сумняшеся, я бросил сорочку, сделал два шага вперед и попробовал притянуть графиню к себе. Она взглянула на меня с таким неподдельным изумлением, что руки мои немедленно опустились.
– Господь с вами, мсье Мангаров! Как вы могли вообразить, будто я… – Она недоверчиво покачала головой. – Уверяю вас, что никакого амурного интереса вы для меня не представляете.
Должно быть, лицо мое исказилось, потому что она, уже мягче, прибавила:
– Вы недурны собой, но для меня это мало и даже вовсе несущественно. Меня, друг мой, приводят в чувственное волнение только большие деньги. Кто богат, тот и красив. Кто беден, заведомо уродлив. И не нужно на меня так смотреть. – На ее лице мелькнула горькая усмешка. – Вы знаете, что мой отец был начальником в N-ской губернии? Он был приличный человек, то есть робел брать по-крупному, как другие губернаторы. Вот и оставил семью с пустяками. Чертов болван! Приказал долго жить, а мы с маменькой теперь должны из кожи вон лезть, чтоб пристойно выглядеть. Вы же не годитесь ни в женихи, ни в любовники.
– Стало быть, я безнадежен?
Я саркастически улыбнулся, я чувствовал себя глубоко уязвленным.
– Вовсе нет. Но вы сами охотник. Нацелились на эту инженю – правильно сделали. В Серноводске уточек жирней, чем она, сейчас нет. Счастливой охоты.
Она ушла, оставив меня кипящим от возмущения. Настроение было испорчено: во-первых, меня отвергли; во-вторых, оскорбили подозрением в корысти (своих меркантильных мечтаний о приданом и прочем я уже не помнил).
Вечером, правда, мое самолюбие до некоторой степени восстановилось.
Когда стемнело, слуги Бельского под попечением самого Кискиса устроили роскошный фейерверк. Вверх взлетали золотые, серебряные, алые и голубые ракеты, рассыпаясь звездами, которые казались излишними – южное небо и так сияло космическими жемчугами.
Печорину любоваться на такое тривиальное зрелище было не к лицу. Я ушел с поляны, где ахали и восклицали зрители, двинулся вдоль речки. Вдруг из кустов донеслись звуки, насторожившие меня: шумное дыхание, шепот. Я сразу подумал об абреках. Вот великолепный случай показать себя молодцом! Пистолет остался в седельной сумке, но героическая сабля была при мне. Я выхватил ее из ножен, ринулся через заросли – и оказался в преглупом положении.
Новая вспышка разорвавшейся петарды осветила зрелище, не предназначенное для посторонних глаз. На траве, под ракитой я увидел Базиля с Тиной, что называется, in flagrante delicto.
– Ты что, зарубить нас хочешь?
Зубы Стольникова блеснули в ухмылке.
– Pardon…
Я попятился.
«Вон оно что! – сказал я себе. – Тина меня отвергла вовсе не потому, что я негоден в любовники, а потому что у нее уже есть любовник. Что ж, на такого соперника обижаться грех». И настроение мое исправилось.
На следующий день вечером (это было 17 мая – скоро объясню, почему запомнил число), я, конечно же, был у Иноземцова. Я и так бы пришел повидаться с Олегом Львовичем, и уж тем более ни за что не пропустил бы этой оказии, зная, что туда собиралась зайти Дарья Александровна. Читателя не должна удивлять такая простота нравов: в том и состояла одна из прелестей кавказского курорта, что правила этикета, строго соблюдавшиеся в столицах, здесь считались необязательными. В серноводской жизни господствовали обыкновения милой деревенской жизни, когда помещики наведываются друг к другу без приглашения, просто «на огонек». Естественно, я предупредил хозяина о возможном визите моей (то есть, собственно, нашей с Никитиным) знакомой. Возражений не было, да и не могло быть.
Всё выглядело точно так же, как третьего дня. У окна часовым торчал звероподобный аварец, только сегодня он неторопливо и тщательно проделал своим кинжалом нечто вроде маникюра, а потом принялся переменять порох в зарядах, вынутых из газырей.
Я послушал о выслеживании горного козла, о собранных доктором травах, о карачаевском ауле, где заночевали охотники. Рассказывал в основном Кюхенхельфер, переполненный самыми разнообразными впечатлениями. В горском селении его больше всего поразили старики – и своим почтенным возрастом, и крепостью конституции. Аксакалу, по уверению жителей, было сто десять лет, еще трое старцев называли себя столетними.
Прохор Антонович стал развивать теорию о целебных свойствах горного воздуха и в особенности собранных им трав, которые у карачаевцев принято добавлять в кумыс и бузу. Он рассчитывал сделать из этих растений экстракцию и изготовить состав долголетия.
– Горный воздух есть и в Карпатах, а кумыс с травами пьют в половине Азии, – отрезвил энтузиаста Олег Львович. – Секрет долголетия кавказцев в другом. В других народах, старея, человек выходит из употребления. Общество перестает им интересоваться и воспринимает как докуку, а то и обузу. Не то в здешних горах. Чем ты старее, тем больше к тебе прислушиваются. Уважение и востребованность – вот вам весь рецепт долголетия. Кабы мы, русские, ценили опыт и мудрость старых людей, и у нас жили бы до ста лет и долее.
Доктор, конечно, заспорил. Но я не слушал его доводов. С самого прихода я всё поглядывал в окно и тут как раз увидел, как за плетнем останавливается дашин экипаж. Дарья Александровна сказала что-то своему верному Трофиму, оставшемуся на козлах с кучером, и вошла в калитку. Сердце мое, как ему и полагалось, затрепетало.
– К нам гостья, – объявил я.
Иноземцов встретил барышню с несколько преувеличенной, старомодной учтивостью, выражавшейся не столько в словах, сколько в поклонах и пригласительных жестах. Врач, будто невзначай, остановился возле зеркала и пригладил седоватые перышки на лысине. Никитин поздоровался с пришедшей, как со знакомой.
Поразительно, до чего преображается мужское общество и даже самое помещение, когда вдруг появляется молодая красивая особа. Обо мне говорить нечего, я был по уши влюблен, но и остальные, включая молчаливого капитана и флегматичного Олега Львовича, как мне показалось, вдруг словно помолодели и прояснели.
И как им было не прояснеть? В комнату будто влетел свежий ветерок или заглянуло утреннее солнце. Дарья Александровна, раскрасневшаяся от быстрой езды или, быть может, волнения, так и искрилась радостным оживлением.
– Господа, – сказала она, как только закончились взаимные представления, – я сегодня так счастлива! Нынче семнадцатое число, день моего рождения, мои именины. Я решила устроить себе праздник!
– Что ж вы не предупредили? – закричал я. – Мне было бы так приятно сделать вам подарок!
– Нет, получать подарки или цветы это скучно. Я придумала кое-что получше. – Она таинственно улыбнулась. – Я сама сегодня дарю подарки. Всем своим друзьям. А поскольку, Григорий Федорович, мы с вами друзья, не так ли? – (Я лишь закатил глаза, не найдя слов, достаточно выразительных, чтоб передать, до какой степени мы дружны.) – …То и те, с кем вы водитесь, мне тоже друзья. Я позволила себе, господа, всем вам привезти подарки.
Мы все несколько растерялись. Даша же подошла к окну, махнула рукой. Через минуту седой унтер внес в горницу большую и, кажется, довольно тяжелую корзину с крышкой.
На лицах моих друзей (как, верно, и на моем) появилось то детское выражение ожидания и готовности разочароваться, какое возникает даже у немолодых, битых жизнью людей в ожидании подарка.
С видом волшебницы иль нынешнего деда Мороза (о котором в те годы, кажется, еще не слыхивали), Дарья Александровна запустила руку под крышку.
– Это, Платон Платонович, вам.
И достала прямоугольный сверток в пестрой обертке с золотыми наклейками.
– «Гавана»? Настоящая?! – У капитана изо рта выпала вечная палочка. – Боже мой! Но откуда? Они ведь запрещены к продаже!
Он не мог поверить своему счастью – и мял сигары, и нюхал. Даже позабыл сказать «спасибо».
– Да, это из конфискованной контрабанды. Жандармский офицер, помощник отца, принес по моей просьбе… А это, Прохор Антонович, вам. Сорваны на вершине Каратау на рассвете. Я посылала самого исполнительного из наших лакеев.
Она передала доктору заткнутую пробкой склянку, в которой лежало несколько невзрачных белых цветков.
– Акчой?! – пролепетал потрясенный Кюхенхельфер. – Да еще с капельками росы?! Не может быть! Вы колдунья!
Я с трепетом ждал, какой дар достанется мне. Будет он свидетельством всего лишь дружбы или, быть может, чего-то большего?
В руках Дарьи Александровны оказался позвякивающий чем-то металлическим сверток в шелковом чехле.
– Это дагестанской работы кольчуга. Очень легкая.
Я взял рубаху переливчато-мерцающего сплетения, действительно оказавшуюся не тяжелее куртки из толстой шерсти. В горле у меня встал ком, когда она продолжила:
– Отец сказал, что вы горячи и честолюбивы. Что в грядущем походе наверняка полезете в самое пекло. Я не прошу вас, Григорий Федорович, поберечься – знаю, что бесполезно. Но, умоляю, по крайней мере наденьте этот доспех. Я ничего в подобных вещах не смыслю, но мне сказали, что при невероятной легкости он как-то необычайно прочен. Убережет не только от шашки, но и от пули.
От окна подошел заинтересовавшийся Галбаций, пощупал кольчугу и сказал что-то по тону вроде бы одобрительное, но потом покривился и сплюнул.
– Что он? – затревожилась Даша. – Иль меня обманули и вещь нехороша?
– Он говорит, что это настоящая джугурта, – перевел Никитин. – У самого Хаджи-Мурата такая же. А плюнул, потому что ненавидит ХаджиМурата.
– А-а…
Дарительница успокоилась, я же в тот миг боялся только одного – что от переполняющих меня чувств могу разрыдаться. Она тревожится обо мне! Она говорила с отцом, и тот аттестовал меня храбрецом! Это ль не счастье?
– Мое сердце будет защищено от вражеской стали, но не от иной опасности… – тихо сказал я, наконец придумав фразу, показавшуюся мне очень ловкой.
Но Даша не услышала. Она со смущением и волнением глядела на Никитина.
– Я знала, что такому человеку, как вы, угодить подарком трудно. Но, надеюсь, этот придется вам по душе…
Не из корзины, а из выреза платья она достала узкий конверт, должно быть сохранивший тепло ее тела.
– Пользуясь привилегией дочери командующего, я прошу здешнего почтмейстера вскрывать при мне мешок с почтой – люблю находить там письма от своих петербургских друзей. И вот сегодня увидела там письмо, адресованное вам. Если б я его не выудила, оно ушло бы в форт Заноза…
Взглянув на мелкий, красивый почерк, которым был написан адрес, Олег Львович изменился в лице. Молча он взял конверт, быстро разрезал его и отложил, а с листком отошел в сторону.
Мне стало любопытно, кто это ему пишет. Из-за кого позабыл он всегдашнюю свою вежливость? Конверт лег на стол так, что, скосив глаза, я мог прочесть имя и адрес отправителя: «Г-жа А.С.Незнамова, дом купца Зоона в Чистом переулке что в Арбатской части». Женщина? Интересно…
– Вы в самом деле колдунья? – Доктор пытливо, будто невиданное растение, разглядывал Дарью Александровну. – Откуда вы догадались, что именно нужно дарить людям, которых вы не знали?
Она бросила на меня смеющийся взгляд, я с невозмутимым видом молчал. Давеча, расспрашивая меня о Никитине и его приятелях, она узнала и про сигары, и про цветок акчой, и про то, что Олег Львович никаких особенных пристрастий не имеет. Однако выдавать Дашу я не собирался.
– Все женщины в той или иной степени колдуньи, – ответила она. – Но я не закончила. Остался еще один ваш друг.
И повернулась к горцу. Тот, полюбовавшись кольчугой, вновь сел на подоконник и перестал обращать внимание на происходящее в комнате.
– Вы желаете одарить Галбация? – недоверчиво спросил Никитин. Он уже прочитал письмо и складывал его, чтоб спрятать в карман. – Да чем же? Оружия из женских рук он не примет, а более его ничем не обрадуешь.
– Это мы сейчас узнаем… Признаюсь честно – я расспросила Григория Федоровича о каждом из вас…
– Ну то-то же. Колдовства не бывает, – удовлетворенно вставил доктор.
– …В том числе и о кунаке Олега Львовича. Задача была трудная. Может быть, я и ошиблась, когда решила, что такому человеку надобно дарить нечто вроде этого…
Абрек понял или догадался, что говорят о нем. Повернувшись, он настороженно, даже брезгливо глядел на светловолосую гяурку, которой от него было что-то нужно. Я испугался, не сделает ли он грубости, и шагнул вперед. Наклонившись над корзиной, Даша вынула оттуда маленького котенка, совершенно белого и очень пушистого. Он сладко спал.
– Вот. – Барышня протянула кавказцу зверька. – Сайигат.
Последнее слово по-туземному означало подарок. Дарья Александровна, наверное, выучила его специально.
Никогда еще не видал я Галбация таким ошеломленным. Я не думал, что это дикое лицо вообще способно выражать что-то кроме свирепой неприязни или угрюмой погруженности в себя.
Я думал, он не возьмет котенка. Вначале аварец и в самом деле отшатнулся. Но тут пробудившийся ангелочек очаровательно зевнул, потянулся. Даша приложила его к груди абрека, и котенок будто прилип к черкеске, вцепившись в нее коготками. Галбаций подхватил его своей огромной ладонью, пробурчал что-то гортанное и чуть не бегом кинулся вон из комнаты.
– Башку оттяпает, – предположил доктор. – Или утопит. Держу пари!
– Не думаю. – Никитин выглядел озадаченным. – Но со своей невезучестью биться об заклад не стану. Пойду-ка посмотрю. – И тоже вышел.
Даша побледнела.
– Неужто он может…? Боже, что я натворила!
С минуту мы все молчали, потом вернулся Олег Львович, обескураженный еще больше прежнего.
– Представьте, мой Галбаций посадил котенка на руку, смотрит на него и осторожно гладит! Это невообразимо! С ума он что ли сошел?
– Сударыня, – чуть ли не впервые за все время разомкнул уста Иноземцов. – Как вы догадались, что этому суровому человеку следует подарить «нечто вроде этого»?
– Каждому нужно дарить то, чего ему больше всего не хватает, – ответила она не совсем понятно. – До свидания, господа. Мне нужно развезти остальные подарки.
Она одарила каждого улыбкой, причем я заметил, что все они были особенные, но особенные по-разному. Мне досталась нежная, моряку ласковая, доктору веселая, Никитину печальная.
Сам Базиль Стольников, если б желал кого-то очаровать, не сумел бы произвести такой эффект. И как точно Даша рассчитала правильный момент для ухода – на высшей точке всеобщего восхищения.
«Она чудо, – думал я. – Ей покоряется всё!»
Ну-ка, что вы скажете о моей избраннице, умные люди? С этой мыслью я горделиво осмотрел своих товарищей.
Олег Львович задумчиво сказал:
– Удивительное для молоденькой девушки чутье на людей. Мадемуазель Фигнер обещается со временем вырасти во вполне незаурядную женщину. Если только страстность натуры не собьет ее с пути…
На мой взгляд, Даша заслуживала более горячего отзыва. Я заподозрил, что Никитин утаивает свои истинные чувства.
– Удивительно другое. – Доктору, видно, тоже не хотелось выглядеть восторженным. – Зачем столько усилий ради пустяков? Ведь это не просто подарки, за каждым – работа ума и сердца.
С наслаждением раскурив сигару, отчего комната вмиг наполнилась терпким ароматом, капитан лукаво сказал:
– Барышня хотела на кого-то из нас произвести впечатление. И я догадываюсь, на кого именно.
Все поглядели на меня. Кажется, я покраснел – мои щеки стали горячими.
Мне хотелось говорить только о Даше, но остальные о ней больше не поминали. Я уже знал, что любимым времяпрепровождением этой компании является штука диковинная и мне совершенно непривычная – рассуждения и споры на отвлеченные темы. В моем кругу такое никому бы и в голову не пришло. Только Базиль, как давеча со своим внезапным панегириком патриотизму, мог изредка позволить себе слегка пофилософствовать, но это относили к одному из его чудачеств.
Вышло так, что в тот вечер у Иноземцова тоже заговорили о достоинствах и пороках отечества. Нападал на Россию доктор – как я понимаю теперь, он вольно пересказывал идеи из «Философических писем» Чаадаева. Мне показалось смелым и новым суждение о том, что наша страна не поместила в сокровищницу человечества ничего по-настоящему ценного или оригинального, что мы обречены быть провинцией и охвостьем мировой культуры, что весь смысл России в том, чтобы демонстрировать людскому роду, как ненадобно обходиться со своим народом, природой и государственным строем. Единственное спасение для русского человека, обладающего умом и совестью, состоит в том, чтоб жить самому по себе, по своим собственным правилам, и ни в коем случае не мешаться с остальною массой.
Возражал ему, как и в прошлый раз, Никитин, а Платон Платонович с удовольствием внимал обоим, соглашаясь и с тем, и с другим. Теперь, при гаванских сигарах, вид у моряка был уже совершенно счастливый.
– То, что вы говорите о личных правилах, справедливо, но позвольте: я ведь – не только личность, которая однажды родилась и однажды умрет, – отвечал доктору Олег Львович. – Я еще и частица чего-то большего: мужского пола, дворянского сословия, великорусской народности. Я же не казнюсь оттого, что я появился на свет мужчиной и дворянином? Отчего же мне мучиться своей русскостью? Случалось ли вам встретить черкеса, который жалел бы о том, что он черкес? А ведь у них оснований для угрызений никак не меньше, чем у вас и вашего одномысленника Чаадаева. – (Полагаю, я впервые тогда услыхал это имя и взял его себе на заметку). – Я русский по языку, воспитанию, образу мысли, душевному складу, наконец, и спокойно принимаю это обстоятельство как данность, даже рад ему.
– Чему же, позвольте узнать? – кипятился Прохор Антонович. – Что за радость такая быть русским? Мы живем в деспотии, бесправии и неравенстве! Народ наш коснеет в грязи и свинстве! Европа развивает науки и просвещение, а у нас студентов за пустяки отдают в солдаты! Какой британец, или француз, или хоть захолустный швед станет безропотно сносить зуботычины исправника, порку в съезжей избе, позорную цензуру каждого печатного слова? Да любая из европейских наций лучше нашей!
– Одна нация не может быть лучше или хуже другой. В чем-то одном может, а вкупе – никогда. Это верно, что по части собственного достоинства англичане с французами нас далеко обошли. Немцы прилежней нас. Итальянцы больше расположены к искусствам. Чухонцы аккуратней. Зато мы выносливей, разносторонней, а в час испытаний и самоотверженней, что многократно доказывала наша история. Так давайте ж крепко держаться за то, в чем мы лучше, догоняя другие народы в тех качествах, которых нам недостает. Вот вам вся формула патриотизма.
Капитан кивнул, и даже дважды. Однако Кюхенхельфер, заядлый спорщик, не сдался:
– Качества качествам рознь! Выносливость хороша для тягловой скотины. Как можно сравнивать ее с развитым достоинством, которое подвигло англичан подчинить королевскую власть закону еще в тринадцатом столетии! Где вы видели самоуважение в нашем крестьянине или мастеровом?
– В Сибири и на Дальнем Востоке, – сказал Никитин. – Именно там сегодня поселился настоящий русский человек. Лучшие качества его натуры проявляются там, где нет помещиков и полиции. Русский человек создан для вольной жизни. Тогда он становится широк, отважен, предприимчив. Когда он встает в полный рост и распрямляет плечи, ему нипочем любые преграды. Еще со времен Ермака всяк, кто не мог мириться с принуждением и унижением, тянулся на окраины. Когда-то вольным народом были казаки. Но их прикормили, приручили, и стали они мишкой на цепи: перед кем скажут, пляшет, на кого покажут – когтями рвет. Иное дело – Сибирь. Будущее России там, уж можете мне поверить.
И он стал рассказывать о краях, где человек сражается не с человеком, а с дикой природой; где всяк узнаёт себе подлинную цену и находит, что искал – кто богатство, кто приключения, кто покой.
Мы слушали его рассказы о Сибири допоздна.
Глава 8
Мой сосед. Темные личности. Вести с той стороны. О благах молодости. Печорин или Грушницкий? Страшное подозрение и светлые слезы
А наутро мне снова, в третий раз за три дня, довелось выслушать рассуждение о патриотизме – из уст довольно неожиданного оратора. Потребовав в номер кофею и не дождавшись его, я вышел в буфетную, никого там не обнаружил и отправился на половину, которую занимала хозяйка, купчиха Маслова. Ее заведение, как я имел возможность убедиться, считалось первоклассным лишь по той причине, что в Серноводске недоставало гостиниц. Пришло время высказать претензии относительно мух, холодных самоваров, тугоухой прислуги и прочего. Первый, кого я повстречал, войдя в коридор хозяйкиных апартаментов, был майор Честноков. Он предстал предо мной по-домашнему – в халате и войлочных туфлях без задников.
– Удивляетесь? – Он игриво подмигнул. – Homo sum et nihil humanum…[11] – разумеется, в свободное от службы время. Капитолина Семеновна – особа сдобная, что ж не полакомиться. Да вы заходите, заходите. Попросту, по-соседски. Я, знаете, тут прижился, навроде приблудного кота. Человек я бедный, бездомный, а тут и тепло, и сытно, и покотовать лакомно. – Иван Иванович жирненько посмеялся. – Мы с вами одного поля ягоды, милейший Григорий Федорыч. Из малодушных-с. Всякой ласке рады.
– Это в каком, позвольте спросить, смысле – «малодушных»? – неприязненно отстранился я от руки, норовившей взять мой локоть.
– В самом прямом. Юридическом. Мне от папеньки в наследство досталось три крепостные души. Вам, сколько я знаю, сулится немногим больше. Таких дворянчиков в старых грамотах именовали «малодушными». Вот ваши питерские приятели – те «великодушные». Но государство российское не на них, бездельниках, а на нас с вами держится.
Меля языком, он как-то очень ловко поддел-таки меня под руку и увел вглубь квартиры. Я и не заметил, как оказался за столом в уютной кухоньке, и передо мной в большой чашке с узором уж дымился кофей.
– Вам с сахарком или с медом? Сливок пожалуйте, – хлопотал надо мною майор.
Теперь мне стало понятно, почему я так легко разместился в «Парадизе». Однако осведомленность жандарма о моих наследственных перспективах настораживала. Это могло означать только одно: Честноков зачем-то не поленился собрать о моей скромной персоне сведения, которые вряд ли содержатся в офицерском формуляре.
– Мы с вами служим не с гонору или скуки, а ради хлеба насущного. Государство нам и отец, и мать, и кормилица, питающая нас своими персями, – продолжал Иван Иванович.
– Неправда. Я служу из любви к отечеству.
Он покачал пальцем:
– Бросьте. Любовь к отечеству, антр-ну, это химера, хоть и полезная. Любить отечество возможно для каких-нибудь англичан или голландцев, которые, влезши на кочку, могут всю свою необширную родину враз оглядеть. А Россию обозри-ка, попробуй. Кой ляд общего у меня, русака, с камчадалом, чухонцем, жидом, полячишкой, да хоть бы и своим мужиком сиворылым? Можем ли мы с ними любить некую абстракцию, которая существует только на географической карте? Другое дело – любовь к государю. Вот это штука ясная и нисколько не абстрактная. Человека полюбить очень даже возможно. Нам, дорогой Григорий Федорыч, без самодержавия прожить никак нельзя. Оно наш стержень или, выражаясь по-кавказски, шампур, на коем всё наше мясо держится. Вот в чем состоит российский патриотизм: люби государя, верь в него, как в святую Троицу, а если грех какой, так то его царская печаль – ему за всех нас перед Богом отвечать. Так или нет?
Я, поколебавшись, неуверенно кивнул. Не спорить же в самом деле с жандармом о любви к государю императору?
– Ну то-то. К сему еще прибавлю, что с монархом нам исключительно повезло. Орел, лев, василиск! Я раз его наблюдал вблизи – вот почти как вас. Пять лет тому его величество к нам на Кавказ пожаловал, я на ту пору в Тифлисе служил. Ох, и нагнал же Николай Павлович страху на наших начальников! С князя Дадианова, зятя тогдашнего главнокомандующего, сорвал аксельбанты и в крепость посадил. Самого главнокомандующего под зад – в отставку, с позором. Тифлисского полицмейстера за пьянство под суд! То-то все, как тараканы, забегали! – Он затрясся в смешке от приятного воспоминания. – А мне – повышение за бесстрашную правдивость. Взял меня государь за ухо, говорит: «Я вашу породу знаю! Сам воруй, а другим не давай! Раздавлю!» Ожег своими бешеными глазищами – у меня душа в пятки. Но и восторг ощутил животрепетный. Как такого царя не любить? Как за него в огонь и воду не пойти?
В дверь сунулся половой.
– Батюшка, к вам пожаловали.
– Кто? – спросил Честноков.
– А татарин крючконосый, всё тот же.
– Его-то я и жду! – Майор вскочил. – Вы, милейший Григорий Федорыч, тут пока побудьте. Это и до вас касается.
Он оставил меня одного. Я просидел минут пять или даже десять, потом начал свирепеть. Что это меня, дворянина, будто челядь, на кухне усадили, да еще велели не отлучаться? Лакей я ему, что ли?
Я встал и, громко стуча каблуками, пошел вон. Чтоб вернуться в вестибюль, нужно было пройти коротким коридором, который потом раздваивался: налево – в гостиницу, направо – в хозяйкины покои. Оттуда, из-за угла, слышался невнятный гул голосов. Но прежде, чем я достиг поворота, из-за стены мне навстречу бесшумно шагнул круглый человек в грязной черкеске, низко надвинутой папахе и потрепанных чувяках. Он тронул рукоятку кинжала и предостерегающе зацокал языком. Голова его странно кренилась вбок, словно мягкая складчатая шея не могла ее удерживать.
Недоуменно уставился я на потную физиономию толстяка. Если это горец, то почему ни бороды, ни усов? И что за невиданная дерзость по отношению к офицеру? В бешенстве я толкнул невежу в пухлую, как подушка, грудь и прошел мимо.
В нескольких шагах, близ одного из коридорных окон, стояли Честноков и какой-то кавказец, быстро, по-звериному обернувшийся. Маленькие колючие глаза, сдвинутые к большому горбатому носу, так и впились в меня, острая черная борода дернулась книзу. Одет незнакомец был со всей горской щеголеватостью: в алую черкеску с серебряными газырями, мерлушковую шапку, ворот бешмета сверкал золотым галуном. За спиной у меня виновато шипел странный толстяк.
Я хотел крикнуть майору, что не имею времени дожидаться, пока он беседует со своими знакомыми, но Иван Иванович меня опередил.
– Ступайте к себе в номер, поручик! – рявкнул он грозно, будто только что не звал меня «милейшим» и не подливал мне кофею. – И оттуда ни ногой! Это приказ!
Не буду описывать, в какой ярости прометался я по своей комнате следующие четверть часа и какие речи заготовил для наглого жандарма, бог весть что о себе вообразившего. Существенней другое: покинуть номер я не решился.
Честноков явился ко мне в мундире и при сабле, официальный и торжественный.
– Имею превосходную новость, – объявил он с порога. – Поздравляю, очень за вас рад. Сведения, доставленные вами, полностью подтвердились. Шамиль и Хаджи-Мурат всего с тремя сотнями мюридов, тайно, отбыли из Дарго на запад, в неизвестном направлении. Не иначе как в Семиаульскую долину. А уж мы дорогим гостям приготовим встречу!
Разом забыв об обиде, я стал расспрашивать, откуда известие.
– От моего агента, – отвечал Иван Иванович. – Вы его только что видали, он вернулся из Чечни. Некто Эмархан, князь без княжества. Полезнейший туземец. Ему можно верить.
Мне по разбойничьей роже «крючконосого» так не показалось, что я и продемонстрировал скептической гримасой. Майор рассмеялся:
– Вы хотите сказать, что Эмархан похож на мошенника? Он и есть мошенник и даже мерзавец. Но это наш мерзавец и служит мне верно. Надевайте-ка мундир, цепляйте свою чудо-саблю и маршируйте со мной, к его превосходительству. Будет вам заслуженное награждение.
Нечего и говорить, что переоделся я в минуту. По дороге я спросил:
– А что это за кастрат с князем? Тоже шпион?
– Да-с, его оруженосец Реза. Только попрошу произносить почтенное слово, которые вы изволили употребить, без шипения. А то эк вы скривились: «ш-ш-шпион». Людишки этого сорта, конечно, мутны и своекорыстны, ну так ведь и вы, Григорий Федорыч, не ручей горный. Как про награждение услыхали, до того обрадовались, что и о дружке своем Никитине позабыли. А заслуга-то его, не ваша.
– Не забыл. Только я о том не с вами, а с генералом говорить буду, – огрызнулся я, уязвленный. Честно говоря, от возбуждения я действительно не вспомнил об Олеге Львовиче.
В предшествующие дни по некоторым признакам я видел, что тайные приготовления к экспедиции идут полным ходом. Вдруг ни с того ни с сего снялся и переместился ближе к горам казачий полк, ранее стоявший лагерем в десяти верстах от города; отдыхавшим на водах офицерам было велено вернуться в свое расположение; горно-артиллерийская батарея устроила учебные стрельбы. Все эти воинственные приготовления были сочтены подготовкой к грядущему приезду князя Чернышева, но я-то знал, в чем дело.
Теперь дело десятикратно ускорилось. Притом, не желая подавать вражеским лазутчикам повода для тревоги, Фигнер по внешней видимости вел обычную жизнь – катался с Дашей в коляске, недолго засиживался в кабинете, даже затеял бал в Благородном собрании. Всю невидимую работу выполняли адъютанты и ординарцы. В число последних был определен и я. Мне было милостиво сказано, что это еще не награда, а лишь первая к ней ступенька; по заслугам я буду отличен по окончании похода – в зависимости от его результата. Чем значительней окажется победа, тем на большее смогу я рассчитывать. Исправляя в отношении Никитина неловкость, которой попенял мне жандарм, я стал просить командующего за своего подчиненного. В положении человека, лишенного прав, награда может быть только одна – их восстановление. Так неужто важность доставленных Никитиным сведений не стоит эполет?
– Вы знаете, друг мой, что производство нижних чинов в офицеры является привилегией главнокомандующего Кавказским корпусом, а я всего лишь начальник одной из трех линий, – отвечал мне Александр Фаддеевич. – Но я нынче же велю дать вашему протеже унтер-офицерские лычки, это в моей власти. Кроме того, пошлю представление на него в Тифлис, однако дело это долгое. Положение главнокомандующего и без того шатко. Он не посмеет своею властью, без одобрения высшей инстанции, производить в прапорщики такого человека. Никитина ведь не за пустяки вроде дуэли иль пьяного дебоша разжаловали. Но ничего. Бог даст, одержим викторию, тогда и его дело решится. Ну а повезет взять самого имама иль хоть Хаджи-Мурата – тут нам сам черт будет не брат. Просите тогда чего хотите. Этакого героя, как вы, даже и не мне награждать – берите выше.
Из этих слов, произнесенных самым загадочным тоном, я сделал сразу несколько выводов, от которых у меня закружилась голова. Во-первых, я вообразил, что генерал знает о наших отношениях с Дарьей Александровной (это я так про себя сформулировал, хотя никаких отношений, собственно, не было). Во-вторых, «берите выше», верно, означало, что меня отправят с победной вестью к самому императору, и тот на радостях, что взяли Шамиля, даст гонцу какую-нибудь невиданную награду. Тут, пожалуй, можно надеяться и на георгиевский крест, и на аксельбанты. Флигель-адъютанта и царского любимца даже командующий будет рад видеть своим зятем.
Слава, любовь, карьера, богатство – всё казалось достижимым. Ни один другой офицер из посвященных в смысл военных приготовлений так не жаждал успеха, как я. Усердней порученца в штабе не было. В день я покрывал верхом многие десятки верст, носясь меж Серноводском и боевыми частями. Но молодость – пора, когда не ведаешь усталости. По вечерам, вернувшись после скачки, я не валился в постель, а отправлялся куда-нибудь: или туда, где мог увидеть Дашу, или к «блестящим». Совместить первое со вторым было невозможно, поскольку Дарья Александровна более у Кискиса не появлялась, а Базиль и его компания досугами водяного общества пренебрегали.
Несколько раз мне удалось пройтись с Дарьей Александровной по бульвару во время вечернего ритуального гуляния, куда маменьки с дочками выходили, разряженные в пух и прах. На балу в Благородном собрании я на глазах у генерала протанцевал с Дашей мазурку и, как мне показалось, поймал на себе поощрительный взгляд его превосходительства. Никаких признаний или нежных объяснений, однако, меж нами не звучало. Даша была так проста и серьезна со мною, так доверительна. Ни за что на свете не рискнул бы я испортить ясную прелесть этих отношений неосторожным порывом. Я говорил себе, что от симпатии до сердечной дружбы один короткий шаг, потом еще шаг – и пробудится любовь. Я уверял себя, что у чистой, возвышенной девушки иначе и быть не может. К тому же, как человек чести, я должен удерживать свою страсть в узде. Предположим, мне удастся разжечь в Дарье Александровне ответный пламень – и что же? Отношения тайных любовников меж нами невообразимы, она не Тина Самборская. А просить ее руки я не смею – до тех пор, пока мое скромное положение не изменится.
Потому в беседах с Дашей я старался избегать тем, грозящих увести нас в область романтических чувств. Говорили мы всё больше о Никитине и его друзьях. После своего эффектного явления в дом морского капитана Дарья Александровна побывала там всего однажды. «Не хочу докучать мужской компании, – сказала мне она. – У меня такое чувство, будто эти славные люди, непривычные к женскому обществу, при мне застегиваются на все пуговицы и прицепляют крахмальные воротнички. Я их стесняю». Не в первый раз поразился я ее проницательности. Действительно, перед ее приходом доктор с моряком застегнулись, а Платон Платонович счел необходимым еще и повязать галстух.
Дарья Александровна и этот свой визит оправдывала лишь тем, что желает проведать своего «крестника» – так она звала котенка.
С «крестником» всё было отлично. Уж не знаю, какую неведомую струну в дикой душе абрека тронул этот подарок, но Галбаций совершенно бросил свою вечную возню с кинжалом и теперь всё время проводил, пестуя Малаика – это означало «Ангел». Имя как нельзя лучше подходило котенку с его белой шерсткой, голубыми глазками и нежным мяуканьем. Аварец поил своего питомца парным молоком из блюдечка, расчесывал его, гладил или просто подолгу любовался, как малыш спит. Олег Львович шутил, что отныне занимает в сердце своего кунака лишь второе место. Для удивительной привязанности горца к Малаику у Никитина имелось рационалистическое объяснение. В горной деревне, где вырос Галбаций, кошек никогда не держали, ибо незачем. С точки зрения туземца, собака – существо полезное для караульных или охотничьих надобностей, но нечистое. Их не пускают в дом и никогда не ласкают. Кавказца котенок потряс своей опрятностью – он только и делал, что чистился. По уверению Галбация, Малаик даже научился делать намаз: надо было видеть, как в час молитвы аварец тянул свое «Бисмиллахи-рахимани-рахиим», сидя на коврике, а котенок, тоже поворотясь в сторону Мекки, тер лапкой по мордочке. Выходя на улицу, горец всегда совал своего маленького приятеля за пазуху. Они были поистине неразлучны.
Итак, докучать визитами моим друзьям Даша не желала, но зато уж меня расспрашивала об их жизни при каждой встрече и во всех подробностях. Прежде всего – об Олеге Львовиче: здоров ли, в каком настроении, о чем говорил и прочее. Я с готовностью удовлетворял ее любопытство. Мне было все равно, о чем с нею беседовать, лишь бы она на виду у всех склоняла в мою сторону свою очаровательную головку, увлеченно мне внимала и все вокруг это видели. Я знал, что общество уверено, будто у меня с мадемуазель Фигнер liaison romantique,[12] и очень радовался сему заблуждению.
Помимо прочего эта победа очень возвышала меня в глазах «брийянтов». Я частенько слышал от них шутки о моей ловкости и неотразимости и, хоть изображал негодование и всячески отнекивался, но испытывал приятное щекотание в груди, когда Кискис или Граф Нулин сетовали, что первые красотки вечно достаются печориным. Лестное прозвище в нашем кругу окончательно за мной утвердилось, и я находил это справедливым.
Как вдруг однажды, по случайности, у меня открылись глаза.
Вернувшись после очередной скачки, я вошел в гостиную к Кискису, миновав дворецкого, и услышал обрывок разговора, от которого кровь бросилась мне в голову.
– Что-то наш Грушницкий припозднился, – донесся до меня голос журналиста. – Без его фанфаронства даже скучно.
Ленивый смех, раздавшийся в ответ, ожег меня, словно едкая кислота. Так они надо мною все это время потешались!
Одним из недостатков и одновременно достоинств моей натуры является то, что в минуту ярости я действую, не заботясь о последствиях.
Быстро войдя в салон, я остановился за спиной у Графа Нулина. Он меня не видел, но остальные смеяться перестали. Я поймал на себе любопытствующий взгляд Базиля: ну-ка, что дальше?
– Кажется, я знаю способ излечить вас от скуки, мсье Лебеда, – сдавленно сказал я.
Он обернулся. Его румяные щечки мгновенно – я никогда такого не видывал – окрасились в цвет несвежей наволочки.
– Посмотрим, станете ли вы паясничать под пистолетом, – продолжил я.
Он попытался хорохориться:
– Ишь, какой смельчак! Всем известно, какой вы трюкач по пистолетной части. Я не дурак, чтоб исполнять роль вашей мишени!
Говорил он с вызовом, но в глазах читался ужас. Это придало мне уверенности, я заговорил спокойней.
– Если вы так боитесь моей меткости, извольте: условия поединка будут точь-в-точь такие же, как у ваших любимых героев, Печорина с Грушницким. На шести шагах вы не промахнетесь. А скалу, на которой они стрелялись, я знаю. Она всё там же.
Несколько секунд журналист смотрел на меня в замешательстве. Потом его мягкое лицо шутовски сморщилось. Граф Нулин рассмеялся.
– Ну уж нет. Все ошибки в нашей жизни происходят, когда мы пытаемся изображать то, чем не являемся. Я, Григорий Федорович, трус, а так называемую «честь» полагаю глупой выдумкой. С какой же стати, изображая храбреца и человека чести, я стану лезть под вашу пулю? Я вас обидел, каюсь. За это вы наказали меня публичным унижением. Разве вам недовольно?
Признаться, от такого простодушия я растерялся.
А тут еще и Стольников сказал:
– Браво, Граф. Умно́, откровенно и для труса, пожалуй, даже смело. Признай это, Грегуар. Не то правда обратишься в Грушницкого.
Я колебался.
– Право, не сердитесь. – Лебеда искательно смотрел мне в глаза. – Я ведь из тех, кто из-за красного словца не пожалеет мать-отца. Ну что, мир?
Он протянул мне руку.
– Мир! Мир! – закричали Тина с Кискисом.
Базиль жестом римского императора поднял кверху большой палец. Мне ничего не оставалось, как ответить на рукопожатие, после чего все зааплодировали.
Вроде бы я должен был чувствовать себя удовлетворенным. И все же глядя на журналиста, который тут же, будто ни в чем не бывало, принялся рассказывать какую-то потешную историю, я отчего-то испытывал смутное подозрение, что он снова надо мной надсмеялся, только неким более изощренным образом.
С того вечера, однако, Граф Нулин сделался со мной безупречно любезен и даже повадился заводить разговоры на разные нешутовские темы. Оказалось, что он очень неглуп и отнюдь не поверхностен. Журналист обладал ценнейшим для беседы качеством: умел задавать вопросы и заинтересованно слушать ответы. Я объяснил это тем, что Лебеда, вероятно, относится к довольно распространенной породе нахалов, которые проникаются уважительным любопытством ко всякому, кто их одернет. Он расспрашивал меня о моих взглядах, моем прошлом, моих нынешних друзьях. Сначала я отвечал неохотно, но человеку, особенно молодому, трудно устоять перед столь искренним любопытством к его особе. Как и Дарью Александровну, Лебеду особенно занимал Никитин. Неудивительно – такова уж была притягательная сила этой личности.
Последнее, что мне осталось рассказать об этом периоде своей серноводской жизни, тоже связано с Олегом Львовичем.
Дня за два до выступления в поход Базиль с обычной своей небрежностью спросил:
– Ты уже покусился на невинность мадемуазель Фигнер?
Я ответил что-то возмущенное.
– Судя по благородству негодования, еще нет, – спокойно заключил он. – Но дело хоть идет к тому? Ты объяснился? Нет? Не может быть! Я видал вас сегодня на бульваре. Ты что-то говорил ей, а она слушала тебя с таким страстным выражением. Уж я в подобных вещах понимаю.
Припомнив, о чем мы с Дашей беседовали, когда мимо на своем иноходце проехал Базиль, я сказал:
– Нет-нет, мы говорили не о любви. Я рассказывал ей, как Никитин готовится к экспедиции.
Стольников посмотрел на меня странно. Вздохнул и молвил:
– Ну так вот что я тебе скажу, мой милый. Она влюблена не в тебя, а в Никитина. Очень хорошо помню, как она на него смотрела, когда вы трое стояли в прихожей.
Предположение вызвало у меня смех, Базиль настаивать не стал и переменил тему. Но капля яда уже проникла в мою душу и начала ее разъедать.
А ведь верно! Почти все наши разговоры так или иначе вертелись вокруг Никитина. Не было случая, чтобы Даша поинтересовалась чем-то из моего прошлого или моими мыслями о будущем! Разве так бывает, когда девушка любит? А вот в Никитине ее занимало всё, любая мелочь. Мне теперь казалось, что самый голос ее менялся, а глаза загорались особенным огнем, когда она произносила его имя!
Мучения мои были слишком остры, чтобы я мог долго терзаться неизвестностью. Поступил я так же, как всегда – ринулся в пучину, не задумываясь о последующем.
Назавтра я чуть не загнал коня, чтобы поскорее вернуться с задания и подстеречь Дашу, когда она будет возвращаться из серных ванн, – весь ее распорядок был мне известен до мелочей.
– Вы любите Олега Львовича! – выпалил я, выскакивая ей навстречу из кустов. – Я знаю! А со мною водитесь, лишь чтобы выведывать о нем новости! Но я… я не желаю более состоять в этой жалкой роли! Только это я и хотел вам сказать!
В первую минуту она испуганно отшатнулась. Мое появление и весь дикий вид напугали ее. Но затем лицо Дарьи Александровны залилось краской. Сердце мое упало. Я вообразил, что это свидетельство моей правоты.
– Отчего вы так унизили меня? – горько молвил я. – Если он вам дорог, дали бы ему это понять. Как вы… бессердечны. Не к нему – ко мне.
Произошло то, чего я никак не ждал. Даша заплакала. Но не испуганно и не виновато, а оскорбленно, даже возмущенно.
– Вы… вы не смеете! – захлебывалась она. – Я считала вас другом, а вы!.. Как вы могли даже вообразить! Вы слепец! Нет, хуже – у вас испорченный, грязный ум! О, как вам было бы стыдно, если б я объяснила… Но нет, уйдите с моих глаз!
Я и сам плакал, ничего не понимая.
– Что объяснили бы? Что?
Но она не говорила, лишь трясла головой и показывала рукой: уйдите.
– У меня не грязный ум, просто я вас люблю, – вдруг вырвалось у меня. – Подозрение, будто вы любите другого, для меня невыносимо.
Даша зарыдала еще пуще, но уже без негодования. Когда я понуро повернулся, чтобы уйти, она удержала меня за рукав.
– Погодите… Я всё вам расскажу.
И рассказала.
Я узнал, что познакомиться с Олегом Львовичем ее попросила одна госпожа Незнамова, его невеста. У них многолетняя драматическая любовь. Условием этой Алины Сергеевны было, что Даша станет наблюдать за Никитиным издалека, не выдавая истинной причины своего интереса. Почти каждый день Даша отсылала ей подробный отчет, главным поставщиком сведений для которого являлся я.
Мне вспомнилось письмо, доставленное Дашей в день ее именин. Пелена упала с моих глаз, и я будто заново родился.
– Простите меня, Дарья Александровна. Я ужасно перед вами виноват. И благодарю, что доверились мне. Олег Львович ничего не узнает.
С трепетом я ждал, не скажет ли она чего-то по поводу моего невольного признания.
Нет, Даша ничего не сказала. Но по ее взгляду я знал, что сгоряча вырвавшиеся слова оставили в ней след.
– Мы поговорим обо всем, когда вы вернетесь из похода, – нежно молвила она. – Пообещайте мне быть осторожным в бою и беречь Олега Львовича.
Слезы мои уже высохли. Молодцевато улыбнувшись, я сказал:
– За первое не ручаюсь, а насчет второго можете быть покойны.
Глава 9
Безупречный план. Участники экспедиции. Странность за странностью. Первые столкновения. Через леса. «Третий принцип» Никитина. Имам видит вещий сон. Возвращение из похода
Будучи одним из ординарцев генерала Фигнера, я был посвящен в план предстоящей экспедиции. План этот был хорош своей простотой и легкоосуществимостью. В зажатую меж крутых, непроходимых гор лесистую долину, где обитало Семиаульское общество, ведут всего две дороги. Одна узкая, петляя по обрыву реки Эрсу, тянется с востока, из мятежных областей; вторая, широкая и удобная, проложена с севера, из русских владений. Именно она-то и являлась главной причиной миролюбия семиаульских жителей: обеспечивала им выгодную торговлю с нашими городами и станицами и в то же время делала долину уязвимой для карательных мер, буде туземцам вздумается бунтовать. Однако, если они открыто присоединятся к Шамилю и опытный в горной войне Хаджи-Мурат со своими отборными нукерами возглавит сопротивление, усмирить Семиаулье будет непросто; оно превращалось в клин, угрожающий Военно-грузинской дороге. С помощью подкреплений «республика» могла бы оборонять северную дорогу, перекрыв ее завалами и каменными осыпями.
Поэтому прежде всего – ночью, в полной секретности – в поход выступил отряд казаков и егерей, которому поручалось устроить засаду на восточном пути. Там в одном месте дорога сужается до размеров тропы; слева – отвесный склон, справа – пропасть. Отряду было велено пропустить Шамиля с Хаджи-Муратом без выстрела. Едва лишь имам войдет в долину, мышеловка захлопнется.
С севера в Семиаулье тем временем войдут наши основные силы – открыто, с орудиями и обозом. И пусть местные обитатели выбирают: то ли им отвернуться от имама и сохранить свои селения, то ли быть уничтоженными вместе с Шамилем. В первом случае «хищники» кинутся на восток – и угодят в засаду. Во втором случае наша победа всё равно обеспечена превосходством сил и главарю мятежного Кавказа от нас не уйти, а наказание строптивых семиаульцев станет уроком для остальных непокорных.
План казался беспроигрышным.
И вот, через два дня после скрытного выступления казаков и егерей, мы тронулись в путь. Шли форсированным маршем, высылая вперед и в стороны летучие разъезды и дозоры. Фигнер собрал большую силу: шесть батальонов пехоты, пять эскадронов регулярной кавалерии, пять казачьих сотен и немалую силу туземной милиции – всего более шести тысяч штыков и сабель с двенадцатью горными орудиями. Всё население Семиаулья не достигало этого количества.
Мы с Никитиным состояли при штабе – я по должности ординарца, а Олег Львович в качестве моего подчиненного; с ним – попросту в качестве кунака – был и Галбаций. Надо сказать, что в экспедицию отправилось множество никуда не приписанных лиц. Такого рода предприятия на кавказском жаргоне назывались «дождливыми» – то есть сулили участникам целый дождь наград. С нами увязалось, наверное, до полусотни бездельников: столичные гвардейцы, любопытствующие иностранцы, просто зеваки. Среди последних были Базиль, надеявшийся разогнать скуку, и Лебеда – этот рассчитывал написать очерк о пленении или уничтожении Шамиля. Князь Бельской тоже желал ехать, но передумал, узнавши, что мы выступаем на рассвете, – он никогда не просыпался ранее полудня. Забегая вперед, скажу, что недалекий умом Кискис в данном случае поступил мудро.
Я на своей не слишком казистой, но проворной кабардинке с примесью арабской крови всё время носился взад и вперед, не столько по службе, ибо поручений мне давали немного, сколько от возбуждения. С этим походом у меня связывалось много надежд, я просто не мог ехать шагом. Я успевал и помозолить глаза его превосходительству, и унестись к передовым дозорам, и поболтать с Базилем, и перемолвиться словом с Никитиным. Он держался немного в стороне от дороги, чтобы не глотать пыль; ехал по-горски, то есть отпустив поводья и закутавшись в бурку, хоть было тепло. На мои нетерпеливые вопросы – как он думает, угодил ли в ловушку Шамиль, да возьмем ли мы его живьем – Олег Львович флегматично отвечал, что на войне никогда не выходит по плану и что не позднее завтрего мы всё узнаем.
Журналист, дурно сидевший в седле и комично смотревшийся в папахе и черкеске, был не таким, как в городе. Не молол языком, не сыпал шутками, а лишь вздрагивал, когда издали доносились выстрелы. Я его успокаивал, говоря, что это палят для острастки, на всякий случай. До входа в долину нападение врага маловероятно.
Кто совершенно не переменился, так это Стольников. Он – кажется, один из всего скопища – был не в военной форме и не в черкеске, а одет по-статски: в кофейном рединготе и бежевом цилиндре. Ехал он по-щегольски, перекинув одну ногу в замшевом сапожке через седельную луку, да еще покуривая сигарки. Солдаты на него пялились и вслух гадали, что это за «ферт». Первые полчаса или час происходящее его забавляло, он оглядывался с любопытством, однако довольно скоро марш ему прискучил. Он стал допытываться, скоро ли «что-нибудь начнется», и выразил надежду, что «туземцы окажутся молодцами и tanceront nous du jar».[13] Еще Базиль высказал мне пожелание, будто я был распорядителем представления, чтобы кому-нибудь по соседству ядром оторвало голову, он-де читал о таком в книгах, но совершенно не представляет, как это выглядит. Я разочаровал его, сказав, что у семиаульцев пушек нет, да и вообще, скорее всего, горячего дела ждать нечего – вся главная работа достанется засадному отряду.
Миновав за день по ровной дороге более сорока верст, мы разбили лагерь у подножия первых настоящих гор. Командующий велел соединить три большие палатки и дал ужин в честь грядущих событий. Генералу, который готовился занять место в истории, хотелось быть уверенным, что столичные и иностранные наблюдатели осознают всё значение происходящего.
– В европейских газетах часто спрашивают, зачем нам, русским, понадобились эти дикие горы, которых никогда и никому еще не удавалось покорить? – говорил Александр Фаддеевич, поглядывая на двух британских офицеров и французского capitaine de corvette[14] (я подслушал, как днем майор Честноков аттестовал всех их генералу «матерыми шпионами»). – Что-де за прок России от колоний, не сулящих никакой выгоды? Отвечу. Мы не алчны, колоний нам не надобно. Мы не плаваем за моря на другой конец земли в погоне за барышами, Африк с Индиями да Австралиями не покоряем. Весь наш территориальный рост испокон веку происходит от необходимости – можно сказать, не по нашему хотению. Такие уж по воле истории нам достались соседи. С запада нас теснили драчливые поляки, с юга – турки да разбойники-крымчане, с востока лезли шайки татар, потомков Чингиз-хана. Не мы донимали соседей – они нас. Наши территориальные расширения никогда не диктовались стремлением подчинить весь мир, о нет! Лишь логической необходимостью установить твердые границы с цивилизованными державами, которые не будут нарушать наш покой. На западе мы остановились, едва только с карты исчез вечный источник европейских раздоров – Польша. С Австрией и Пруссией нам делить нечего, за свой левый фланг мы можем быть покойны. На востоке мы дошли до океана, до великого Китая – и тоже остановились. Но на юге наше движение не может быть окончено, пока мы не встретимся с силой государства, которое способно гарантировать мирное и надежное соседство. Мы отлично ужились бы с Турцией и Персией, но страны эти скверно устроены, они не умели смирить хищные племена, что обитали в пограничных с нами землях. Оттого-то и пришлось нашему государю, неся огромные траты в деньгах и людях, воевать кавказские теснины. Там обитали и сейчас еще обитают хищники, чей промысел – набег да разбой. Если оставить их в покое (а мы это пробовали), они сами лезут на нашу равнину. Договариваться с ними невозможно, ибо не с кем. Не успеешь заключить мир с каким-нибудь князьком, а его уж свои зарезали. Да и сколько их тут, всяких мелких князей, миниатюрных султанов да самозванных пророков? Выход у нас один – выполоть сей дикий бурьян и разбить на этом месте цивилизованный газон. Какая уж тут колонизация? Колонии прибыток приносят, а нам от Кавказа одна морока да расходы. Когда завоюем – придется горских жителей за счет казны содержать, а то они без своего разбойного промысла с голоду перемрут, им ведь есть нечего.
Мне очень нравилось, как говорил Александр Фаддеевич. Даже не так смысл его речений (в мировой политике я был несведущ), сколько общий тон большого государственного мужа, которому тесен мундир армейского начальника средней руки. И то сказать: если б ему досталась слава покорителя Кавказа, о как высоко он бы взлетел!
За десертом старший из британцев, полковник, спросил Фигнера, будто тот был одним из первых лиц империи, каковы намерения России в Центральной Азии. Приосанившись, генерал ответил, что хивинцев с киргизами тоже придется приводить в покорность, ибо они грабят наши пределы; что русским придется двигаться на юг, пока мы не встретимся с британцами, которые несомненно пойдут на север из Индии. Когда два наши государства наконец сойдутся, мы установим по общему согласию границу, и южную проблему России можно будет считать окончательно решенной.
Я слушал всё это, замирая от мысли: я стану зятем великого человека!
На следующий день командующего было не узнать.
Едва мы приблизились к горлу Семиаульской долины, с Александра Фаддеевича слетела вся важность государственного мыслителя. В предвкушении драки он стал самим собою, то есть боевым генералом, мужем войны. Весь глянец пресловутой цивилизованности исчез без остатка. Голос его сделался зычен и хрипл, с губ поминутно срывались самые грубые слова, а солдат он приветствовал таким цветистым матом, что в ответ гремел одобрительный хохот. Я, помнится, в этой связи подумал, что хороший военачальник – не тот, кто рассчитывает на карте хитроумный маневр, а тот, чей один лишь вид способен привести наступающую армию в состояние петушиного задора. Для обороны против превосходящего противника, как я узнал позднее, в севастопольские времена, от полководца потребны совсем иные духовные качества, но Фигнер заслужил репутацию именно лихого, то есть атакующего генерала.
Поскольку я теперь неотлучно находился при командующем и неплохо его изучил, мне было заметно, что за его басистым рыком и сквернословием скрывается растущее беспокойство.
Диспозиция проникновения в долину была составлена в расчете на два возможных варианта событий. Либо, уже зная о приближении колонны, семиаульцы передумают бунтовать и вышлют нам навстречу мирную депутацию старейшин; либо же перекроют дорогу в удобном для обороны месте и встретят нас огнем. Первое могло произойти, если Шамиль по какой-либо причине не явился в Семиаулье, или же, если у местных жителей возобладало здравомыслие и они попросили имама удалиться восвояси. Второй исход, тоже нас устраивавший, означал бы, что Шамиль не только прибыл, но и сумел воспламенить горную «республику».
Однако наши передовые разъезды беспрепятственно миновали горловину, после которой начиналась открытая местность, тянувшаяся версты на полторы и очень удобная для регулярного войска: оно могло спокойно развернуться тут или же расположиться лагерем. При этом никакая депутация к нам не вышла. Казаки не встретили ни одной живой души.
В самой высокой точке гряды, опоясывавшей долину с противуположной стороны, наш засадный отряд должен был подать дымовой сигнал, как только пропустит мимо имама с его «хищниками». Однако, несмотря на то, что низина была залита солнцем, именно в восточной части верхушки гор были скрыты облаками. Пока их не унесет ветер, главный вопрос – здесь ли Шамиль – оставался неясным.
Вопрос второстепенный, касавшийся мятежности семиаульцев, скоро разрешился. Едва конная полусотня приблизилась к опушке леса, оттуда ударили выстрелы. Подобрав двоих упавших, казаки быстро откатились. Вместо них вперед побежала рота кубанских пластунов и в четверть часа, после короткой перепалки, заняла край леса.
– Ну, стало быть, Шамиль тут! – воскликнул Александр Фаддеевич, очень довольный, и припустил по-непечатному.
В его свите все начали друг друга поздравлять. Но тут в горах подул ветер – их верхушки обнажились, и мы увидали, что никакого дымового сигнала нет. Стало быть, мюриды мимо засады не проходили? Отчего же тогда туземцы встретили нас огнем? Без поддержки Шамиля они нипочем бы на это не решились.
– Сейчас мы разгадаем эту загадку, – уверенно молвил командующий и велел авангарду идти по лесной дороге вперед до первого из семи аулов.
Я напросился идти с ними, чтобы первым доставить из деревни кого-нибудь из плененных старейшин.
Отрядом командовал старый, опытный полковник. Он вел своих людей по дороге быстро, но осторожно; по обе стороны, держа дистанцию от колонны в полсотни шагов, крались пластуны; предшествовала движению полусотня кабардинской милиции. Нечего и говорить, что я был с ними.
Я хоть и хорохорился, но было мне совсем невесело. Из зарослей в любую секунду мог грянуть залп, и я в своей белой фуражке средь косматых папах моих спутников являл бы собой самую лакомую мишень. Наконец один из горцев молча отвязал от седла бурку и накинул мне на плечи; другой дал свою шапку, оставшись в головном платке, повязанном на манер пиратского. Я немного успокоился.
Никто, однако, на нас не напал. Из-за поворота показалась наклонная поляна, на которой раскинулось большое, домов на сто, селение. Оно встретило нас мертвой тишиной. Жители ушли, уведя с собой всю живность. Полковник, присев на корточки, поглядел на свежий конский помет – он еще дымился – и послал казаков догнать беглецов. Всадники на рысях понеслись дальше по дороге, опять нырнувшей в чащу. Минут через десять донеслась частая пальба.
– Э-э, дело-то нешуточное. Мне одному тут не пробиться, – послушав немного, заключил полковник. – Скачите-ка, голубчик, к его превосходительству. Как он велит?
Я стремглав понесся обратно через пустой, нехороший лес.
Генерал сказал:
– Ах так? Ну коли им угодно, запомнят они Фигнера!
Экспедиция на ходу сменила характер, превратившись из демонстративной в карательную. Захваченный аул было велено разнести до последнего камня, посевы вытоптать лошадьми, фруктовые деревья срубить, колодцы испортить. Эту гадкую работу доверили саперам и обозным, остальная же часть войска быстро двинулась на выручку авангарду.
Но враг, очевидно, сопротивлялся лишь с тем, чтобы жители первой деревни успели уйти подальше. С подходом наших основных сил стрельба прекратилась.
Зато перед вторым аулом разразился нешуточный бой.
Я опять был впереди и видел, как на поляну, разворачиваясь лавой, вынеслись казачьи сотни. Но узкие оконца и крыши сакль враз исторгли языки пламени и дым. Не достигнув и середины луга, конные повернули назад. На зеленой траве остались лежать люди и лошади.
– Черт их знает, что у них в голове, – говорил Фигнер, глядя в зрительную трубку. – Горловину сдали без боя, а тут вдруг решили уцепиться.
Кто-то из штабных закричал:
– Смотрите, смотрите!
Показывали на длинный шест с конским хвостом и цветным вымпелом. То был значок ХаджиМурата.
– Так мюриды здесь? Что ж тогда наши засадные? Проворонили? Почему не подали сигнала? – заговорили вокруг – и вдруг умолкли. Лица разом помрачнели.
В атаку пошла пехота – и скоро откатилась. Воины Хаджи-Мурата сосредоточили огонь на командирах. Согласно уставу, все они шли справа от развернутых ротных колонн и были легко отличимы от нижних чинов по головным уборам и обнаженным саблям. В пять минут батальон потерял чуть не всех офицеров, включая и командира, которого какой-то меткий стрелок свалил с лошади за добрые триста шагов. Солдаты, смешавшись, отхлынули назад к лесу. «Не выскочить ли мне вперед, на глазах у всего штаба, и не увлечь ли бегущих за собой, как Бонапарт на Аркольском мосту?» – спросил я себя. От этой мысли сердце мое чуть не остановилось. Трясущейся рукой я потянул из ножен саблю. Спасло меня, дурака, чудо. Командующий оглянулся на ординарцев, и его мрачный взгляд упал на меня.
– Скачите-ка, поторопите артиллеристов. Не стану я зря людей класть.
С неимоверным облегчением я помчался выполнять приказ. На обратном пути повстречал Никитина. Он сидел в кустах и преспокойно покуривал, глядя на укрепившийся аул.
– А где Галбаций? – спросил я.
– Давно ушел. Сказал, что будет добывать своего кровника Хаджи-Мурата. Ангел-де ему поможет – у него за пазухой котенок сидит. Но очень возможно, что мой кунак сидит сейчас там где-нибудь, – Олег Львович кивнул на деревню, – и палит по нам. По его логике эти две вещи друг дружке не противоречат.
– Ваш приятель стреляет по нам – и вы так спокойно это говорите? – задал я вопрос, который однажды уже звучал.
Но сегодня Олег Львович ответил иначе, чем тогда:
– С точки зрения горца, мы, русские, – это Батый и Мамай в одном лице. Что мы сделали с той деревней, с полями и деревьями? А знаете, каково это – пробить колодец сквозь камни? По здешним обычаям, тот, кто испоганил колодец, карается высшей казнью – вечным изгнанием. Это у них хуже смерти.
– Но ведь они первые начали! Вольно ж им было стрелять!
– Можно подумать, нас сюда кто-то звал с нашими ружьями и пушками.
Мне захотелось разговорить его. Задание я исполнил, до прибытия батареи делать было нечего. Я стал горячо излагать резоны, оправдывающие наше завоевание Кавказа. Привел все аргументы, давеча названные Фигнером, еще прибавил от себя (самому понравилось), что здоровое, растущее государство вроде России подобно газовому облаку – оно занимает всё пространство, какое способно занять.
Он выслушал меня, пожал плечами.
– А я не понимаю, на что русским расширяться за пределы наших исконных земель? Зачем нам подгребать под себя инородцев и иноверцев? Чтоб они вредили нам, чувствуя себя людьми второго сорта? И главное, что за свет такой мы им несем? Можно подумать, что жизнь наша хорошо устроена, богата, привольна. Так вроде бы нет? Что ж мы тратим силы, жизнь самых здоровых наших мужчин не на укрепление своего ветхого дома, а на разрушение домов чужих? Если бы наша изба была красна, песни веселы, а мед сладок, соседи сами стали бы проситься под нашу руку.
– Нет, они захотели бы украсть наше добро!
– Так надо быть сильным, чтоб не совались, только и всего.
Слушая его, я диву давался, как может этот человек, во всем остальном такой умный, не понимать самых простых вещей и рассуждать, будто ребенок.
Но доспорить не пришлось – на опушку уже выезжали артиллерийские упряжки.
С полчаса пушки стреляли по деревне 18-фунтовыми гранатами. Там взметались комья земли и обломки, рушились дома, в нескольких местах начались пожары.
– Пехота, вперед! – приказал командующий.
Снова по полю побежали солдаты. Я увидел среди них Стольникова в его неуместном наряде. Базиль шел по полю, сшибая стеком репейники. Должно быть, он чувствовал себя разочарованным – никто рядом с ним не падал. Аул безмолвствовал.
– Прекратить обстрел! Их уж нет, трам-татам! – ругался Фигнер. – И значок Хаджи-Мурата пропал! В кошки-мышки они с нами играют, что ли?
Наскоро был созван совет. Все лучшие офицеры придерживались одного мнения: семиаульцы будут отступать от деревни к деревне, чтобы дотянуть до темноты. Тогда все население, забрав имущество, какое сможет унести, уйдет.
– Куда, по восточной дороге? – спросил майор Честноков. Не знаю, где он был раньше – на поле я его не видал. На совете, однако, он стоял прямо за спиной у командующего. – Ну и пусть себе. Попадут под огонь нашей засады.
На него поглядели так, будто он сказал что-то неприличное.
– Если дыма на горе не было, а Хаджи-Мурат в долине, очень вероятно, что засадный отряд обнаружен и истреблен, – сказал командир авангарда то, что считалось фактом почти несомненным, но до сих пор не проговаривалось вслух.
Жандарм скис и отступил в тень.
– Они меня от аула к аулу, как осла на поводке, водить вздумали? – вскричал Фигнер. – Как бы не так! Сейчас едва за полдень. Времени до сумерек еще много. Диомид Васильевич, – оборотился он к своему помощнику, молодому генералу, известному на весь Кавказ храбрецу (он года три спустя сложил-таки голову под чеченскими шашками), – они лесом к третьей деревне отступают, а вы возьмите казаков с драгунами и ударьте по четвертой, в обход. Вот здесь на карте балка обозначена.
Широкий овраг действительно очень кстати пересекал эту часть долины, давая возможность скрытно выйти к Шуурде, четвертому из селений Семиаулья.
Дело обещалось лихое, я вызвался участвовать. К моему удивлению, со мной отправился и Никитин. Вероятно, ему надоело сидеть без дела.
Мы шли рысью, без остановок, и все-таки чуть не опоздали.
Вынесясь из впадины наверх, я увидел, как по ту сторону деревни к лесу уходит гурьба народу. Там были телеги, запряженные волами, стадо коров, отара овец. Над дорогой колыхалось, посверкивая на солнце, большое облако пыли.
– Третий аул, стало быть, уже пуст. Александр Фаддеевич был прав. Но тут мы им хвост прищемили! – Генерал азартно хлопнул себя по ляжке рукою в белой перчатке и тонким, визгливым голосом закричал. – А ну, ребята, руби их!
Два эскадрона и две сотни, то есть с четыреста конных, вынеслись на ровное место и пустились вдогонку – казаки с улюлюканьем, драгуны с криком «ура!». Я старался не отставать от командира, который бешено размахивал шашкой, и тоже орал во всю глотку.
От удаляющейся толпы отделилась группа, человек двадцать, и побежала нам навстречу. Вот они остановились, вытянулись в цепочку плечо к плечу, нагнулись и произвели какую-то непонятную мне манипуляцию, после чего упали в траву и открыли огонь.
Стрельба была меткой. Головные кавалеристы начали осаживать коней, никто не хотел лезть вперед на верную смерть. Наши тоже стали стрелять из ружей и карабинов – не спешиваясь, с седла.
– Отставить! Отставить! – метался меж ними генерал. – Их так не возьмешь! Больше народу потеряем! В клинки надо!
Пальба с нашей стороны прекратилась, ряды выровнялись.
Перестали палить и залегшие горцы. Оттуда донеслись звуки заунывной песни. Я подумал, что ослышался.
Так я впервые увидел изготовившихся к смерти мюридов. Они связались ремнями, чтобы ни у кого не возникло искушения спастись бегством, залегли и стали петь прощальную песню.
Звучала она не долее минуты. Генерал дал приказ, и мы сломя голову пустились вперед. Ударил последний залп, над головами пеших засверкала сталь, и скоро всё было кончено. Я не совался туда, где шла рубка, – через крупы казачьих лошадей все равно было не протиснуться.
– Это было только начало. Глядите. – Олег Львович, бывший все время рядом со мной, но не обнажавший шашки, показал на опушку.
Там выстроилась новая вереница бойцов. Связалась вместе, залегла.
Еще дважды пришлось нам ходить в сабельную атаку, теряя людей. Когда же мы добрались до леса, дальнейшее продвижение стало решительно невозможным: казалось, по нам стреляют из-за каждого дерева. Генерал велел остановиться.
– Не нравится мне всё это, – объявил он. – Хаджи-Мурат здесь, мы видели его значок. Значит, где-то должен быть и Шамиль. Как бы он не ударил нам в тыл или во фланг. Скачите, поручик, к Александру Фаддеевичу. Скажите, что я шагу не сделаю, пока не добуду «языка». Сами видели, из тех сорвиголов ни один живым не дался.
Он громко сказал окружавшим его офицерам:
– А что, господа, не угодно ль кому заслужить крест? Добудьте пленного, который объяснил бы, что за чертовщина тут творится.
Никто не вызвался – вояки были опытные, понимавшие фантастичность задачи. Иное дело я.
– Олег Львович, – зашептал я. – Давайте раздобудем «языка»? Поход провалится – нам награды не будет, а вам выслуга нужна!
– Пожалуй, – прикинув что-то, ответил он.
Я немедленно объявил генералу о нашем желании, попросив отправить вместо меня к командующему кого-нибудь другого.
– Пусть только доложат его превосходительству, отчего мне невозможно явиться самому, – скромно присовокупил я.
Вновь меня заставили снять мою белую фуражку и накинуть поверх мундира бурку.
– С Богом! Да поторопитесь, солнце ждать не станет, – напутствовал нас генерал.
Как берут пленных я, разумеется, не представлял и целиком полагался на Олега Львовича. Он относился к разряду людей, про которых думаешь, что они умеют всё на свете. И лишь когда мы углубились в густую чащу, я вдруг сообразил, что Никитин, как и я, никогда не бывал в этих местах.
– Откуда вы знаете, в какую сторону двигаться? – спросил я шепотом.
Едва мы отделились от отряда, вся моя бравада пропала. Я остро чувствовал враждебность окружавших нас зарослей, откуда в любую секунду мог грянуть выстрел. Надо сказать, что леса в тех краях нисколько не похожи на русские. Деревьев почти нет, одни кривые березки, зато повсюду густой кустарник, сквозь который ничего не видно. Каждый шаг, особенно конский, отдается треском и грохотом – то есть двигаться незаметно никак нельзя.
– Мы идем туда, откуда можно осмотреть долину.
Мой спутник показал на холм, видневшийся впереди. Мне стало странно, что я сам не додумался до такой простой вещи.
Чтоб подняться по довольно крутому склону, пришлось вести лошадей в поводу. Олег Львович в своих горских сапогах шел очень быстро, а я, несмотря на молодость и крепость телосложения, довольно скоро выдохся. Бурку и папаху пришлось снять – я весь обливался потом. Но самолюбие не позволяло просить о передышке. Путь наверх, казалось, длился целую вечность. Я в конце концов сильно отстал, потерял из виду Никитина и тащился за ним по звуку и по следам копыт.
К тому времени, когда я достиг вершины, Олег Львович уже всё, что нужно, разглядел. Долина отсюда просматривалась, будто разложенная на столе географическая карта.
– Смотрите, – стал показывать он. – Вон четыре аула, которые уже заняты нашими. Над ними черные дымы. Еще три селения расположены далее к востоку и соединены лесной дорогой. Судя по облаку пыли, убегающее население находится между шестою и седьмой деревней.
Я приложился к подзорной трубке. Всё было так, как он сказал.
– Что же делать? Мы опоздали?
– А ну-ка дайте.
Он взял у меня окуляр.
– Глядите!
Я увидел, что к аулу, расположенному с другой стороны от нашего холма и уже покинутому жителями, движутся три всадника: двое в папахах, один в белой чалме.
– Зачем они возвращаются?
– Не знаю. Но упустить их нельзя. Это наш шанс. Живей!
С этими словами Олег Львович вскочил в седло и, не разбирая дороги, напролом, через кусты, помчался вниз. Я за ним. Любой конь, не выросший в горах, переломал бы себе от такой скачки ноги, но никитинский крепконогий черкесский конь и моя кабардинка ни разу не оступились. С холма мы слетели самое большее в пять минут.
Всадники уже ехали по главной улице аула. Нам было хорошо их видно. Я не отрываясь смотрел в трубку. Вот человек в чалме спешился и, по-старчески семеня, вбежал в большой каменный дом с башней, увенчанной полумесяцем. Это несомненно была мечеть.
Олег Львович сбатовал лошадей по горскому обычаю: вторую головой к хвосту первой и потом пропустил узду через кольцо седельного ремня. При этом можно спокойно уйти, оставив коней без присмотра, они никуда не денутся.
– Возьмите винтовку, а сапоги снимите, – тихо сказал он.
Мы бесшумно бежали меж пустых домов, ворота которых все были нараспашку. Сакли стояли к улице глухими безоконными стенами, на которых там и сям сохли лепехи конского навоза – так в горах заготавливают кизяк. Я вдыхал на бегу кислый запах чужой, незнакомой мне жизни.
У самого годекана, то есть деревенской площади, Никитин выглянул из-за угла. Я, как мог осторожно, тоже.
Двое горцев сидели верхом, спиной к нам, и смотрели на мечеть. Вид у них был не особенно молодецкий. Я догадался, что это не воины Хаджи-Мурата, а обычные уздени, то есть крестьяне.
– Всё как нельзя лучше, – зашептал я. – Мой – левый, ваш – правый. Стреляем разом. А старика возьмем. Он, верно, мулла или старейшина.
Олег Львович наморщил нос:
– Вы как угодно, но я стрелять не стану. Я ведь объяснял, в каких случаях почитаю убийство допустимым.
– Нашли время шутить!
– Я не шучу. Эти люди мне ничего дурного не сделали.
– Заметят – сделают!
– Ну так пусть заметят… Вы-то, коли охота, стреляйте. Я вам своих принципов не навязываю.
Человек в чалме уже показался в дверях. Нельзя было терять ни секунды. Не раздумывая, я взвел курок, приложился и выстрелил. Моя жертва, качнувшись, выпала из седла.
Одновременно с этим Олег Львович выскочил из укрытия и быстро побежал ко второму всаднику. Тот, встрепенувшись, выхватил ружье и приложился. Лишь тогда Никитин свалил его выстрелом из пистолета. Мне подобная щепетильность показалась глупой. Война – не рыцарский турнир. Однако у каждого свои чудачества.
Теперь нужно было исполнить главное – схватить седобородого старика. Он замер как вкопанный, прижимая к груди что-то плоское, обернутое куском зеленого шелка. Бежать он не пытался, да и некуда было. Не выпуская своей ноши, старик оскалился и обнажил кинжал, но Никитин схватил его за правую руку. Тут подоспел и я. Вдвоем мы повалили бешено брыкающегося «языка» наземь и скрутили его же ремнем. Некоторое время он катался в пыли, по-звериному рыча. Потом утих, закрыл глаза и забормотал что-то беззвучное серыми губами – наверное, молился. Сверток валялся на земле. Зеленая ткань развернулась, открыв толстую книгу в старинном кожаном переплете.
У меня появилась возможность перевести дух. Я впервые убил человека. Во всяком случае с близкого расстояния – чтоб видеть труп перед собой. Но в том-то и дело, что смотреть на дело своих рук я не стал. Нарочно отвернулся. А вот Никитин перевернул застреленного им горца на спину.
– Хорошо хоть наповал, – сказал он. – А ваш, кажется, стонет. Куда вы его?
– Не знаю…
Я так и не повернулся глянуть.
Олег Львович, вздохнув, подошел.
– Хребет пополам. Долго будет мучиться, бедняга. Добейте его.
В ужасе я замотал головой:
– Господь с вами!
Он достал второй пистолет. Я зажмурился.
Грянул выстрел.
Молча мы перекинули «языка» через седло его же коня и пошли прочь с площади.
Я чувствовал правоту страшного поступка Никитина, но не желал ее признавать.
– Как же ваши принципы? – наконец крикнул я, не выдержав молчания. (Это было, когда мы уже скакали прочь от аула, таща третью лошадь в поводу). – Сколько помнится, вы считаете убийство позволительным в двух случаях: когда на вас нападают или когда вы имеете дело с законченной гадиной. А это не первое и не второе!
– Есть еще один допустимый случай. Я не говорил о нем, потому что не хотел вспоминать… – Лицо Олега Львовича омрачилось. – Но первый раз в своей жизни я сделался убийцей именно таким образом…
Он умолк. Я уж боялся, что не услышу продолжения. Но оно все же последовало.
– Это было в двенадцатом году. Шестнадцати лет я поступил в военную службу. Мечтал разить французов бессчетно и беспощадно, да только вышло иначе… При отступлении от Москвы моего приятеля, такого же юнкера, как я, всего годом или двумя старше, сразила пуля. В живот. Была неразбериха, почти паника. Никто кроме меня подле раненого не остался. Мучился он ужасно. Ваш нынешний горец был стоек и в мужском возрасте, он только зубами скрипел да постанывал, а мой товарищ, совсем мальчик, истошно кричал. Помочь ему было нельзя…
– И вы… убили его?
– Да. Он умолял меня об этом. – Олег Львович передернулся. – Эта картина преследует меня всю жизнь, вот уж тридцать лет. Но иначе поступить я не мог… Вот третий случай, когда я признаю убийство допустимым: если оно является актом милосердия. И коли – всякое на войне возможно – со мной произойдет то же, а вы окажетесь рядом, прошу вас не проявлять мягкости.
Я горячо обещал и просил его о том же.
Пленного мы доставили без приключений. Притом не в передовой отряд, а прямо к командующему. Тот несказанно обрадовался – неясность ситуации угнетала его всё больше.
– Считайте, крест ваш, – сказал мне Фигнер. – И вам, Никитин, тоже зачтется.
– А если старик будет молчать? – спросил снова откуда-то вынырнувший Честноков.
Но это опасение не оправдалось.
Седобородый «язык» говорил много и даже охотно, поминутно возводя глаза к небу и прославляя Пророка. Прапорщик из туземной милиции едва успевал переводить.
Никитин куда-то ушел (я давно понял, что он предпочитает держаться подальше от начальства), но я остался – на правах ординарца и вообще героя.
Оказалось, что мы захватили муллу аула Саршек, от входа в долину это селение было пятым. Священнослужитель в спешке забыл взять из мечети Коран, которым очень дорожил, и потому вернулся, сопровождаемый двумя охранниками. По мнению старца, всё случившееся было волей Божьей, смерти он не страшился, а с гяурами согласился разговаривать с одной-единственной целью: пусть знают, какие дивные чудеса ниспосылает Аллах своим верным рабам.
История, которую он рассказал, в самом деле, была диковинная.
Якобы по пути в долину «великому имаму, да славится имя его» привиделся вещий сон. Шамиль спал, окруженный верными мюридами, и ему пригрезилось, будто по небу летят два орла, белый и бурый. Вдруг они сделали круг и расстались: бурый полетел в сторону, а белый повернул назад. «Что сделал бы простой человек, увидев такой сон? – воздел ладони к небу мулла (генерал велел развязать его). – Пожал бы плечами и отправился дальше. Но не таков великий имам, просвещенный от Бога».
Если опустить цветистости и поминание Всевышнего, случилось вот что. Шамиль истолковал видение так, что он сам (белый орел) со своими ближними мюридами должен поворачивать обратно в Чечню, а Хаджи-Мурат (орел бурый) с отрядом пускай движется в Семиаулье, но не прямым путем, по дороге, а сторонним – узкими горными тропами. Наиб заспорил с имамом, не желая тратить лишнее время и утомлять лошадей, но Шамиль пригрозил ему небесной карой, и Хаджи-Мурат послушался. Он со своими джигитами ехал день и ночь, а в долину спустился только нынче утром.
– Так вот почему на горе нет дыма! Оказывается, в долину есть другой путь! – воскликнул генерал. – Шамиль, выходит, от нас ускользнул!
Разочарованию не было предела. Зато разом объяснились все загадки. Хаджи-Мурат прибыл слишком поздно, чтобы устроить крепкую оборону в горловине. А жители, несмотря на наше наступление, поголовно взбунтовались под воздействием религиозного фанатизма – так впечатлил их вещий сон имама.
Пленник захихикал, видя перекошенные лица врагов, и сказал еще что-то.
– Он говорит, ихние лазутчики знают про засаду на восточной дороге, – перевел прапорщик. – Твои аскеры, урус-генерал, могут там сидеть хоть до конца мира. Люди Семи аулов уйдут за Хаджи-Муратом горной тропой.
– Дозвольте, ваше превосходительство. – Вперед шагнул Честноков и вдруг схватил муллу за бороду. – А ну говори, черт, где начинается эта тропа. Надо туда казаков послать, чтоб бунтовщикам отступать было некуда!
Старик рассмеялся и плюнул жандарму в лицо. А потом высунул язык, прикусив его крепкими белыми зубами: мол, откушу, но не скажу.
– Дело большое, от него исход всей экспедиции зависит. – Майор утерся, деловито оглядывая деревенскую площадь, где происходил допрос. – Это, Александр Фаддеич, по моей части. Дозвольте я с аллаховым служителем по-своему потолкую.
– Что ж, потолкуйте. – Фигнер был мрачнее тучи. Он-то представлял себя покорителем Кавказа, а теперь дело сулило закончиться пшиком. – Если перехватим тропу, то пусть не Шамиля, хоть Хаджи-Мурата возьмем. Только уж вы побыстрей.
– Я живенько.
Генерал со штабом тронулись дальше, а Иван Иванович махнул двум своим солдатам, шепнул им что-то. Старика взяли под руки и отволокли к старому вязу, росшему посреди годекана. Вокруг всё грохотало и рушилось: солдаты взрывали сакли, крушили заборы, в щепки рубили ворота. Под сапогами хрустели осколки расколоченной глиняной посуды, в воздухе летал пух, а из нескольких мест тянуло чадом.
Мне было интересно, каким образом майор станет развязывать упрямцу язык. Мысль о пытке в мою голову не приходила – для европейской армии, каковою являлась наша российская, это было невообразимо. Другое дело – порка, она считалась делом вполне обыденным. Поэтому, когда я увидел, что с муллы срывают одежду, решил: будут сечь.
Но вышло не то. По указанию Честнокова солдаты привязали пленнику к щиколотке веревку, перекинули ее через сук и натянули, так что бедняга оказался висящим вниз головой. Свободная его нога нелепо дергалась в воздухе, борода висела, касаясь земли, лицо быстро налилось кровью и почти почернело. Вид обнаженного старческого тела был тягостен. Сначала мулла пытался закрывать руками (они были свободны) срамное место, но потом, видно, решил, что гяуров стесняться нечего, и прижал ладони к груди. Его била судорога, и он рывками покачивался из стороны в сторону, однако не издавал ни звука.
Майор присел на корточки, велел переводчику повторить вопрос о тропе. Губы старика зашевелились.
– Что он, образумился? – нетерпеливо спросил Честноков.
– Нет, он молится, – ответил милицейский прапорщик и приложил руку сначала ко лбу, потом к груди. – Зря теряете время. Ничего он не скажет.
– Ну пускай висит, пока не издохнет. В назидание прочим. – Майор распрямился. – Невзоров! Примкни штык и стой в карауле, пусть арьергард пройдет, полюбуется. Потом распорешь ему брюхо – чтоб кишки висели.
Жандармский унтер-офицер козырнул:
– Так точно, ваше высокоблагородие. Не впервой.
Здесь майор поймал мой негодующий взгляд.
– Вещий сон, как же, – процедил он. Его прищуренные глаза обожгли меня злым огнем. – Меня не обдуришь. Я с самого начала подозревал, что дело нечисто. Шамиль – чертяка хитрый. Будем разбираться, что за сорока вам с Никитиным весточку на хвосте принесла. Но сначала поглядим, не будет ли еще каких сюрпризов.
Сердце у меня сжалось. Как бы вместо награды дело не окончилось следствием. Вместо того чтоб высказать Честнокову протест по поводу азиатской экзекуции пленного, я смолчал.
Обозные с саперами продолжали разрушать деревню, а боевые части, построившись в колонну, шли через площадь дальше на восток. Предстояло стереть с лица земли три оставшихся селения. Солдаты угрюмо смотрели на корчащегося старца. Не раздавалось ни одного глумливого выкрика, зато многие выразительно плевали унтеру под ноги, а кое-кто даже на сапоги. Бравый Невзоров почел за благо не мозолить глаза и куда-то исчез – очевидно, рассудил, что свирепое свое поручение исполнит, когда уйдут войска.
Я тронул стремена и поехал вперед. На душе было гадко. Честолюбивые надежды оказались под угрозой, экзекуция муллы повергла меня в ужас, а больше всего терзался я собственным малодушием, не давшим мне остановить Честнокова.
Когда я уже съезжал с площади и поворачивал за угол, сзади ударил выстрел. Я обернулся.
«Язык» качался на веревке, но уже не дергался. Руки безжизненно висели книзу.
Из ближнего двора с криком выскочил Невзоров. Увидав во лбу пленника дырку, из которой сочилась кровь, он выронил ружье и бросился к колонне.
– Кто стрелял? Кто?!
Никто ему не ответил – ни один человек. Солдаты шли, как ни в чем не бывало.
Я остановился и стал смотреть, что будет дальше. Через минуту галопом примчался Честноков. Пообещал содрать с унтера лычки, потребовал к себе командира роты, отказывающейся назвать виновного. Капитан хмуро его выслушал, пожал плечами.
Вдруг я увидел подле одного из домов Олега Львовича, с безучастным видом опиравшегося на ружье. Ствол еще дымился. Я вспомнил про «третий принцип». Нельзя было, однако, допустить, чтоб Никитина заметил майор.
Я подъехал к жандарму и спросил, должен ли я доложить о происшествии командующему.
– Нет уж, я сам! – в ярости ответил мне Честноков. – Ну, ждите, мерзавцы! – Он погрозил роте кулаком. – Преступника покрывать? Сквозь строй прогоню, каждого!
Он поскакал в голову колонны. Я не отставал. Меня снедала тревога за Никитина. Под угрозой телесного наказания кто-нибудь из солдат непременно его выдаст.
Фигнер выслушал гневный доклад жандарма с кислым выражением лица, а на предложение немедленно учинить розыск, сказал:
– Не надо ничего. Предать забвению. Кто выстрелил – молодец, а я мерзавец, что вас послушал. Подите к черту с моих глаз.
Я вздохнул с облегчением.
После я спросил Олега Львовича:
– Вы рисковали всем – крахом надежд, шпицрутенами, новой каторгой – и ради чего?
– То есть? – Он удивился. – Всё, что я делаю, я делаю исключительно ради самого себя.
Тогда я, признаться, не понял, что он хочет этим сказать.
К концу дня мы прошли всю долину до конца и остановились, лишь завершив истребление всех селений. Сопротивления мы более не встречали. Должно быть, жители успели беспрепятственно добраться до тайной тропы, которой спустился с гор Хаджи-Мурат. Мы нашли ее, эту лазейку. Да и как было не найти?
Весь склон перед скалистым отрогом был усеян трупами коров и овец. Взять их с собою жители не могли и предпочли перебить. Трава была залита кровью, над местом скотовьего побоища жужжали мириады зеленых мух. Солдаты кинулись резать куски мяса, а я отвернулся от мрачного зрелища. Но с другой стороны меня ждала картина еще более удручающая. Внизу расстилалась долина. Еще нынче утром она казалась зеленой и цветущей, теперь же закатное солнце ярко освещало семь пожарищ. Семиаулья больше не существовало. Жителям незачем было возвращаться: ни крова, ни пищи они здесь не найдут. Выражаясь по-военному, долина была окончательно замирена.
Командующий, хоть и опечаленный тем, что не удалось взять имама с наибом, все же объявил штабу свое удовольствие: карательная экспедиция прошла успешно, очаг мятежа уничтожен, о чем будет доложено министру и государю.
Но, как показало дальнейшее, Александр Фаддеевич поторопился с выводами.
Мы встали лагерем неподалеку, чтоб ротные кухни могли запасти как можно больше дармовой убоины. Полночи все объедались, отбирая самые лучшие куски. Утром колонна двинулась той же дорогой в обратном направлении.
Едва головная часть углубилась в лес, раздалась плотная пальба. Оказалось, что там засада – путь перегорожен завалом, а передовой дозор вырезан до последнего человека.
Наши, с ходу разворачиваясь в батальонную линию, пошли в атаку – и отступили с потерями. Казалось, всё мужское население Семиаулья засело в этом проклятом лесу.
Я слышал, как один штаб-офицер сказал:
– Это уж всегда так. Главная докука начинается, когда отступаешь. Баб с детьми они услали, а сами тут затаились. Ох, жаркий будет денек. После того, что мы здесь учинили, они нас запросто не выпустят.
Тот день вспоминается мне сплошным дымным кошмаром. Завалы и засады поджидали нас буквально на каждой версте – в местах, где нельзя было применить артиллерию, так что приходилось идти в штыки, теряя множество людей. Летучие отряды обстреливали нас из зарослей – слева, справа, сзади. Вражеская конница ударила по обозу, перерубив прислугу и растащив всё, что можно.
Самое страшное воспоминание у меня такое. Всё еще надеясь заслужить отличие, я однажды кинулся-таки на глазах у командующего останавливать бегущих. Мне это даже удалось. Лупя саблей по спинам ополоумевших солдат, я погнал их вперед. В бок мне ударило – будто кто-то с размаху ткнул меня палкой. От боли я схватился за ушибленное место, уверенный, что пробил мой смертный час. В ткани была дырка, но кровь не текла. Я понял, что меня спасла Дашина кольчуга. Это открытие переполнило мою душу экстатическим восторгом. «Ура! Братцы, вперед!» – заорал я, уверовав в свою неуязвимость. Впереди уже белела баррикада, окутанная пороховым дымом.
«Почему она такая белая?» – подумалось мне.
Вдруг я споткнулся.
Завал был сложен из голых тел. То были наши товарищи, сраженные во время предшествующих атак. Некоторые из них шевелились.
Баррикада перестала огрызаться огнем. «Хищники» готовились встретить нас залпом в упор, а потом кинуться в шашки. Навстречу нам полетело несколько отрубленных рук. Потом к моим ногам покатилось что-то круглое – отрезанная голова с подкрученными усами.
Я попятился. Оглянулся – и увидел, что мое воинство бежит. Погрозив баррикаде саблей, я зигзагами побежал вдогонку. Мимо провизжало несколько пуль.
Больше я на штурм не ходил. Из меня будто ушла вся сила. Болел зашибленный бок, кружилась голова. Я говорил всем вокруг, что контужен и едва удерживаюсь в седле. Это было правдой.
Генерал Фигнер осип от крика. Чтобы понять его приказы, адъютантам приходилось наклоняться к самому его лицу. Вольные наблюдатели жались к штабу, некоторых достало шальными пулями, кто-то был убит. Графа Нулина я увидел в странном положении: он шел согнувшись между двумя волами, которые тянули повозку с ранеными.
– Вы что там делаете? – крикнул я.
Он поглядел на меня вытаращенными глазами и вдруг сел на корточки – должно быть, в воздухе просвистела пуля. Я догадался, что журналист постарался занять самое безопасное место.
Не так вел себя Стольников. Он не участвовал в бою, но преспокойно ездил всюду на своем иноходце, с любопытством оглядываясь. Однажды поравнялся со мной и показал обрызганную кровью полу редингота:
– За меня ухватился смертельно раненый. Каково?
Где был все время Никитин, я не знаю, но к исходу ужасного дня, когда мы наконец пробились назад к горловине, Олег Львович разыскал меня и занялся моей контузией. Пока он смазывал салом черный кровоподтек и потом туго стягивал мою грудь кушаком, появился Галбаций. Щетина с одной стороны у него была вся опалена – так бывает, если кто-то выстрелил прямо перед лицом из пистолета.
– Что, нашел Хаджи-Мурата? – спросил я.
Он понял, но не ответил, только скривился. Видно, и ему нынче не выпало удачи.
У абрека из-за края черкески торчала пушистая белая головенка. Ангел-Малаик тер мордочку лапой.
Напоследок, пользуясь тем, что с гор в долину задул сильный зюйдт, командующий приказал зажечь лес. Языки пламени, подгоняемые ветром, быстро поползли по верхушкам кустарников. Скоро вся долина должна была превратиться в пылающий ад.
«Так ей и надо, – думал я. – Это Семиаулье и есть геенна огненная».
Глава 10
Немилость. Ужасное происшествие. Мы возвращаемся в Серноводск. Переговоры с разбойниками. Вся надежда на Эмархана. Отправляемся в экспедицию. Прощание с юностью
Не сомневаюсь, что реляция, посланная Фигнером в Петербург и Тифлис, была победной: бунт подавлен, мятежники примерно наказаны. Однако итоги экспедиции удручали. Таких тяжких потерь наши войска не несли со времен печальнопамятного отступления генерала Граббе от аула Ахульго в тридцать девятом. В проклятых лесах Семиаулья полегла четверть отряда. Одних офицеров, за которыми «хищники» охотились, будто за фазанами, выбыло до шестидесяти. Пропал почти весь обоз, враги отбили одно орудие, что считалось позором. На обратном пути я держался от командующего подальше – после того, как поймал его неприязненный взгляд. Было ясно, что один мой вид его превосходительству тягостен, ибо напоминает о несбывшихся надеждах и предстоящих объяснениях с начальством. Ни о каком кресте или повышении, конечно, мечтать не приходилось. Я боялся, не угожу ли под следствие. При неудаче у нас ведь непременно должны отыскать главного виновника, а по чьему, спрашивается, почину был предпринят несчастный поход?
Первой ласточкой грядущей опалы был переданный мне через адъютанта приказ скакать в несколько пригородных станиц и озаботиться подготовкой мест для раненых. Наскоро попрощавшись с Никитиным и Базилем, я помчался вперед, даже обрадованный возможностью не мозолить глаза генералу. Глядишь, со временем он оттает.
Два дня я со всей дотошностью следил за тем, как подготовлялись помещения, койки и перевязочные материалы. Потом явился в штаб и доложил, где и сколько имеется мест. Отряд только что доплелся до окрестностей Серноводска, но меня в канцелярии уж поджидал приказ: я должен был немедленно, сей же час, возвращаться в Занозу и впредь без особого указания форта отнюдь не покидать. В противном слове «отнюдь» звучало явственное неудовольствие.
Адъютант Мишель, передавший бумагу, глядел с сочувствием и, видно желая подсластить горькую пилюлю, пояснил требование относительно «сего же часа» военной необходимостью: имеется-де опасение, что теперь «хищники» обнаглеют и начнут тревожить местности, доселе считавшиеся спокойными, потому-то комендант укрепления и должен находиться на своем посту. У меня было собственное предположение насчет скоропалительности ссылки – Фигнер не хотел, чтобы я увиделся с Дашей.
– Будет исполнено, – уныло сказал я. – Вот только разыщу своего унтер-офицера.
У меня была надежда под этим предлогом задержаться хоть ненадолго.
– Вы о Никитине? Он отправлен в Занозу еще с марша, вместе со сменной командой казаков. Право, Мангаров, лучше вам поскорей уехать. Александр Фаддеевич ваше имя чуть не с рычанием произносит.
Я поблагодарил за совет, пошел к лошади. Не хватало еще попасться на глаза Честнокову. Уж лучше, пока все поутихнет, пересидеть в глуши.
Но меня терзало, что я не скажу «до свиданья» Дарье Александровне. Дважды проехал я верхом мимо ее дома, глядя на окна. Войти не осмелился. Судя по некоторым признакам (мельканье теней за стеклами, распряженная коляска), генерал был дома – наверное, приходил в себя после невзгод.
Вдруг на глаза мне попался Лебеда, шедший куда-то по бульвару. Вид у него был бодрый и франтоватый, совсем не такой, как под пулями, меж двух волов.
Мы заговорили.
– Пишу о нашем героическом сражении с неисчислимыми толпами врагов, о позорном бегстве Шамиля, – сказал журналист, весело улыбаясь. – Уж и заголовок придумал: «Семиаулье наконец наше!» Это ничего, что читатели ни о каком Семиаулье прежде не слыхивали. Жаркое однако было дело, не правда ль? Я вам рассказывал, как подо мною застрелили коня?
«Не вола?» – хотел переспросить я, но прикусил язык. Графа Нулина мне воистину послало провидение.
Я изложил свою просьбу – он охотно согласился. В пять минут я написал записку и передал ему, причем особенно просил исполнить деликатное поручение, не попавшись на глаза хозяину.
– Уж можете быть покойны, – сказал мне чудесный Лебеда. – Я в высшей степени обладаю двумя этими талантами: попадаться на глаза, когда мне надо, а если необходимо, то быть невидимым. Подождите меня за углом – не ровен час генерал вас увидит из окна.
Не прошло тридцати минут, как мой посланец вернулся, блестяще справившись с поручением: он не только видал Дашу, но и принес от нее ответ.
На листке, наскоро сложенном вчетверо, было всего две строчки: «Какой ужас! Необходимо объясниться. Я навещу вас в крепости!»
Я чуть не прослезился. Это было самым настоящим признанием в любви!
В свою ссылку я поехал счастливым и по дороге бессчетное количество раз покрывал бумажку поцелуями. Нечего и говорить, что намерение Даши приехать в Занозу я приписал девичьей порывистости – как это дочь командующего поедет навещать бог знает кого через горы, да еще в столь тревожное время?
О, как мало я тогда еще знал Дашу!
По возвращении в свой постылый форт я убедился, что новый хорунжий, сменивший Доната Тимофеевича (тот со своей командой вернулся в родную станицу), служил здесь прежде и знает дело не хуже предшественника. Это дало мне все основания отрешиться от служебных забот, и я погрузился в самоистязательную хандру. Думы о несостоявшемся взлете карьеры и о разлуке с Дарьей Александровной томили меня. Поговорить было не с кем – Никитин со своим кунаком пропадали на охоте.
Вдруг – на третий день моего упадничества – на серноводской дороге показалось облако пыли. Часовой с перепугу ударил в сторожевой колокол. Пристегивая портупею, я взбежал на вал.
Впереди скакал конный, потом ехала коляска парой, сзади рысил десяток казаков. В трубу я узнал в переднем всаднике Мишеля. Сердце мое вострепетало. Жадно покрутив колесико, я навел окуляр на экипаж – он был хорошо мне знаком, в нем обычно ездила Даша. Однако кроме кучера в коляске никого не увидал. Что за странность?
Недоумение мое еще более усугубилось, когда адъютант, не слезая с седла и не поприветствовав меня, сурово спросил:
– Где мадемуазель Фигнер? Мне велено тотчас везти ее обратно. А вам, Мангаров, я не завидую.
Выяснилось вот что.
Назавтра после того, как я покинул Серноводск, Дарья Александровна объявила, что едет на несколько дней в Кислозерск принимать ванны. Никаких подозрений это не вызвало. С Дашей в недальний путь поехали ее вечный спутник Трофим и горничная.
Вечером генералу, чувствовавшему усталость после похода, вздумалось последовать за дочерью и тоже пройти курс целебных купаний. Однако в кислозерской гостинице он застал одну служанку. Та от ужаса сначала потеряла дар речи, потом разрыдалась и во всем призналась.
Барышня поехала в форт Заноза – верхом, в сопровождении своего старого унтера, а горничную оставила прикрывать отлучку: девушка должна была говорить всем, что госпожа Фигнер нездорова и не принимает, либо же поехала кататься.
Зная нрав Александра Фаддеевича, легко вообразить, что тут началось. Служанку он посадил под арест, а за дочкой послал адъютанта с конвоем. Подлого предателя Трофима было приказано схватить и заковать в кандалы.
Я сказал, что заковывать некого и что госпожи Фигнер тоже нет. В правдивости моих слов Мишель сомневаться не мог – у меня было две сотни свидетелей. Тут мы оба сообразили, что Дарья Александровна должна была прибыть в форт еще вчера, и меж нами повисло молчание.
– Боже, Боже… – пролепетал я, чувствуя дурноту.
Адъютант, наоборот, помянул черта и сделался смертельно бледен.
Потом началась беготня.
Я кричал, чтоб казаки седлали коней, чтоб солдатам трубили сбор. Ополоумев от тревоги, я собирался вывести весь гарнизон, растянуть его длинной цепью и так прочесать всю дорогу до Серноводска.
От безумного плана меня отговорил Олег Львович. Оказалось, что они с аварцем, будучи в нескольких верстах, услышали звук колокола и поспешили вернуться в крепость. Никитин сказал, что цепь не понадобится. Они с Галбацием произведут поиск много быстрей и действенней.
В путь отправились сразу же. Впереди ехали Олег Львович и его кунак, глядя в разные стороны от дороги. Мы с Мишелем и казаки конвоя следовали, немного поотстав. В детстве я был религиозен, затем совершенно отошел от веры – в кругу, где я стремился стать своим, она была не в моде. Но в этот день я непрестанно и горячо молился: только бы с Дашей всё было хорошо, только бы не случилось то, чего все мы так боялись!
Мы двигались по направлению к Серноводску, пока не зашло солнце. Я думал, что в темноте поиск прервется, но ошибся. Никитин с Галбацием лишь спешились, зажгли факела. Это было для меня облегчением. Целую ночь бездействия я бы не вынес.
Адъютант с казаками, не имевшие отдыха после восьмидесятиверстной скачки в форт, вскоре выбились из сил. Я посоветовал им сделать привал и потом нагнать нас. До самого рассвета мы шли втроем. Мое участие заключалось в том, что я вел в поводу трех лошадей.
Рано утром, когда бо́льшая часть пути была преодолена, Галбаций вдруг встрепенулся и гортанно воскликнул что-то, показывая на прикрытый кустами ручей – он нес свои звонкие воды шагах в двадцати от обочины.
– Что такое? – спросил я Олега Львовича. – Что он говорит?
Никитин, не ответив, пошел туда, куда бросился горец. Я не заметил ничего особенного. Разве что примятый след на траве, будто какое-то время назад по ней проволокли тяжелое. Пожалуй, на земле было многовато отпечатков копыт, но ведь для дороги это естественно?
Мои спутники стояли в ивняке, склонившись над чем-то. Я боялся туда идти. Губы мои зашептали молитву с удесятеренной страстью.
– Это произошло здесь! – крикнул Олег Львович, показывая на утоптанный кусок земли. – Они прятались в кустах.
– Кто?
Но ответ мне был уже ясен. Отпечатки в большинстве своем были от неподкованных копыт. Я знал, что абреки лошадей не подковывают…
Задыхаясь, я направился к ручью.
Под ногами у моих спутников лежал обнаженный труп. Мужской. По седым усам и грозно сдвинутым бровям я узнал Трофима.
– А где… Где…
Я не мог выговорить имя.
– Мадемуазель Фигнер? Несомненно похищена.
– По… хищена? – всхлипнул я. – А вдруг убита? Вдруг она лежит где-нибудь здесь?
Никитин удивился.
– Зачем абреки станут убивать женщину? Если б она была из простых, они перепродали бы ее работорговцам. А по Дарье Александровне видно, что она барышня. За нее потребуют выкуп. Они и слугу бы не убили, да он, видно, сопротивлялся.
Я был готов к самому худшему, поэтому немного воспрял духом.
– Вы наверное знаете, что это именно похищение?
Он повернулся к приятелю, который преспокойно поил из ладони своего котенка, и спросил что-то на клекочущем наречии. Галбаций коротко ответил.
– Да. Это абреки. Подстерегли, выскочили, увезли. И мертвого до нитки раздели – тоже ихняя повадка.
– Надо в погоню! – вскричал я.
Они еще потолковали между собой.
– Пустое. Прошло почти двое суток. Отсюда они отправились по ручью, чтоб не оставлять следов. Вверх по течению или вниз, неизвестно.
– Что же делать?!
– Ждать, пока запросят выкуп. Если узнают, что им досталась дочь самого Фигнера, генералу придется изрядно раскошелиться.
Хладнокровие Никитина было мне невыносимо. Но даже в панической сумятице чувств я понимал: он прав.
Несколько дней, в течение которых никто ничего не знал о местонахождении Дарьи Александровны и не было уверенности в том, что она жива, я провел, как в полусне: не спал, не ел. Я дневал и ночевал в доме Фигнеров. Прежде труднодоступный, представлявшийся чуть не крепостью, от стен которой я отступил, не могши взять их штурмом, теперь этот дом отворил предо мной двери. Мы очень сблизились в эту горькую пору с Александром Фаддеевичем. Грозный и даже жестокий на поле брани, он оказался самым нежным и трепетным отцом. Почувствовав во мне такое же неподдельное отчаяние, генерал не хотел со мною расставаться, а я с ним. Несколько раз, не стесняясь друг друга, мы рыдали, когда рядом никого больше не было. А однажды надтреснутым от слез голосом он сказал: «Вы, кажется, ухаживали за Дашей, и она принимала это благосклонно? Прежде я был недоволен, считал, что вы ей совсем не пара. А теперь – только б она вернулась! Только б вернулась!» Он не договорил. Мы обнялись и завыли дуэтом – известно, как немузыкально и неумело плачут мужчины. Вот сейчас, через много лет, вспомнил ту сцену – и ком в горле. Сильные чувства живучи в памяти…
Никитин тоже остался в Серноводске дожидаться, когда вернется его кунак. Галбаций отправился в горы, у него среди многочисленных и разномастных разбойников Кавказа имелись обширные связи. Я уверял Александра Фаддеевича, что аварец обязательно выйдет на след.
Другим утешителем командующего был майор Честноков. Он, надо дать ему справедливость, в ужасной ситуации оказался очень на месте: распорядителен, деловит, тактичен. «Узнавать, что творится во враждебных пределах – это по моей линии, – сразу сказал жандарм. – За то и получаю жалованье, для того и держу лазутчиков. Положитесь на меня, ваше превосходительство. Честноков вас не подведет».
Относясь к этому человеку неприязненно и помня, как нехорош он был в походе, я, признаться, не верил ни единому слову Ивана Ивановича. И ошибся.
Первое известие о Дашиной участи мы получили именно через него.
Это было на пятый день.
Я спал в кресле генеральской гостиной, повалившись туда от изнеможения, когда меня разбудил сам Александр Фаддеевич. Он был багров от волнения, глаза сверкали.
– Жива! – бодро воскликнул генерал. – Вам говорю первому! Жива – и это главное.
Он немедленно созвал совещание.
Докладывал Иван Иванович. Также присутствовал раз уже виденный мной князь Эмархан. Этот честноковский агент и вышел на след похитителей.
Сначала майор изложил основное, потом кавказец ответил на многочисленные вопросы. Первый держался величественно, как подобало герою и спасителю; второй говорил коротко и почтительно, поминутно кланяясь и прижимая руки к груди. Вместе они являли собой живописную пару: одутловатый белесый коротышка с размытыми, будто придавленными чертами и чернявый жердяй, весь из резких углов: борода клином, нос клювом, сросшиеся брови двумя углами. Филин с коршуном, думал я, терзаясь завистью, что Александр Фаддеевич узнаёт о Даше не через меня. Но это мелкое чувство присутствовало не более чем фоном. Куда сильнее было облегчение.
Эмархан через каких-то своих знакомцев на той стороне выяснил, что дочь «сардара» (так горцы называли командующего) угодила в засаду канлийцев или, по-другому, канлыройцев. Это маленькое и дикое сообщество, обитающее в глухих горах. Слава у канлийцев самая дурная. Они не выращивают зерна, ничего не производят на продажу; единственный их промысел – набеги и торговля людьми. Само их наименование происходит от слова «канлы», то есть «кровник». Когда-то это разбойничье гнездо было основано разноплеменными беглецами, скрывавшимися от кровной мести. Они выбрали для проживания самое труднодоступное место, откуда их невозможно выкурить. Это грозные воины, не признающие никаких законов кроме своих обычаев. Говорят они на собственном языке, представляющем смесь всех горских наречий. Их аул называется Канлырой, «Дом кровников», потому что всякий изгой, преследуемый врагами, находит там пристанище – лишь бы был храбр, силен и послушен главарю. Нынешнего предводителя канлыройцев звать Рауф-беком, он самолично командовал партией, устроившей засаду на дороге из Серноводска в Занозу.
Совещание было бурным. Говорили без старшинства, поэтому первым влез я. По моему мнению, тут нечего было и думать: немедля идти всею доступной силой и потребовать от разбойников выдать Дарью Александровну под угрозой поголовного их истребления.
На это чернобородый Эмархан, поклонившись и испросив позволения у «сардара», ответил, что, во-первых, аул совершенно неприступен и отсиживаться в нем канлийцы могут хоть до скончания века, а, во-вторых, угрожать им нельзя – они лишь оскорбятся и пришлют нам отрезанную голову «сардар-бике». Последнего слова я не знал, но поняв, о ком речь, побледнел и умолк.
В итоге было решено отправить в Канлырой гонца – спросить о выкупе. Эмархан предложил своего нукера Резу, в котором был уверен как в самом себе. Ручался за него и Честноков.
Вызвали нукера. Я узнал в нем женоподобного толстяка, что шикал на меня в гостиничном коридоре. По-русски Реза понимал, но, кажется, не говорил. Он не произнес ни единого слова, только всё поглядывал желтыми глазками на своего господина и кланялся. Генерал посулил посланцу награду и приказал не жалеть коня.
Всё это было крайне тревожно, но по крайней мере появилась надежда.
Вернулся Реза скоро, спустя всего четыре дня, но они мне воистину показались вечностью. Тем более что Александр Фаддеевич больше не рыдал у меня на груди и вообще словно бы утратил ко мне интерес. Его как отца можно было понять – надежды на спасение дочери теперь связывались у него с Иваном Ивановичем. Однако я свое отстранение от забот по спасенью Дарьи Александровны переносил болезненно.
Не тотчас же, а лишь благодаря Мишелю узнал я об условиях выкупа. Они были ужасны. Рауфбек Канлыройский, видно, откуда-то прознал, что за добыча попала ему в руки, и требовал, во-первых, возместить вес пленницы золотой монетой; во-вторых, отпустить всех аманатов (то есть сыновей горских князей, взятых нашими властями в залог верности); в-третьих, срыть укрепления, построенные нами в последние десять лет.
Требования эти были фантастичны и совершенно невыполнимы.
По поводу первого условия дома у Фигнера состоялся совет, в иных обстоятельствах, вероятно, показавшийся бы комичным. Предстояло вычислить, сколько весит Дарья Александровна. В качестве экспертов были призваны все, кто, так сказать, имел хоть какой-то доступ к ее телу: выпущенная из-под ареста горничная; кучер, переносивший барышню на руках из коляски через лужи; пользовавший ее доктор; две банщицы из ванн – и, наконец, я, что выглядело довольно двусмысленно, но всем было не до того. Впрочем, я принес свою пользу, потому что неоднократно (замечу, с сердцебиением и пересыханием во рту) помогал Даше спускаться с седла. Руководил всеми нами сам генерал.
Сначала мы установили рост бедняжки (это было просто – мне до середины уха, то есть два аршина и четыре вершка); потом, после долгих споров, – примерный ее вес (три пуда или сто двадцать фунтов). Перевели в число монет из расчета 64 полуимпериала на фунт – вышло 7680 монет или 38400 рублей золотом. Генерал схватился за голову – таких денег у него не было, разве что если просить в долг у евреев или армян под большие проценты.
Это бы еще ладно. Чтоб выпустить заложников, требовалось соизволение государя, а на получение ответа из столицы уйдет по меньшей мере месяц, в продолжение которого Даше придется томиться в плену у дикарей.
И если на милостивое решение этого вопроса еще можно было надеяться, то уж о снесении укреплений Фигнер, конечно, не