Читать онлайн Транзит бесплатно
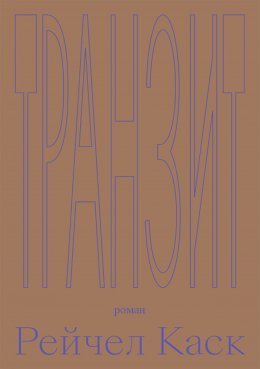
Перевод: Анастасия Басова
Редактор: Анна Гайденко
Дизайн: Анна Сухова
Copyright © 2016, Rachel Cusk
All rights reserved
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2021
* * *
На электронную почту пришло письмо от астролога – в нем сообщалось, что у нее для меня важные новости, касающиеся событий моего ближайшего будущего. Она видит то, что я сама увидеть не могу, – используя мои персональные данные, она составила мою астрологическую карту. Она хочет, чтобы я знала – в моем небе в скором времени ожидается транзит. Мысль о том, какие изменения могут произойти в моей жизни, приводит ее в восторг. За небольшую плату она готова поделиться информацией и помочь мне обратить ее в свою пользу.
В письме она говорила, что я сбилась с жизненного пути, что мне трудно понимать смысл текущих жизненных обстоятельств и надеяться на будущее; она ощущает, что нас с ней связывает нечто общее, и хоть она и не может объяснить это чувство, но уверена, что далеко не все явления в нашей жизни требуют объяснения. Она знает, что многие отрицают возможность воздействия на человека небесных тел, но твердо верит, что я не из их числа. Во мне нет слепой веры в реальность, которая заставляет людей требовать достоверных научных объяснений. Она знает, сколько страданий уже выпало на мою долю, и знает, что я начала задаваться кое-какими вопросами, но всё еще не получила ответов. В движении планет, продолжала она, представлено бесконечное количество возможностей человеческой судьбы: должно быть, некоторые просто не в состоянии поверить в то, что их незначительная жизнь может отражаться в звездах. Грустно, что в век науки и тотального неверия мы потеряли чувство собственной значимости. Мы стали жестокими по отношению к себе и другим, потому что убеждены, что в конечном счете не представляем никакой ценности. Астрология же предлагает не что иное, как шанс вновь обрести веру в значимость человека: насколько больше достоинства и благородства, доброты, ответственности и уважения мы могли бы привнести в наши взаимоотношения, зная, что каждый из нас имеет значение планетарного масштаба? Именно я, согласно ее ощущениям, могу разглядеть потенциал астрологии в достижении всеобщего мира и процветания, не говоря уже о том, какую революцию способно произвести возвышенное понятие судьбы в личной жизни каждого человека. Она надеется, что я прощу ее за прямоту и за то, что она решила мне написать, и, как она уже говорила, нас связывает нечто общее, что и заставило ее обратиться ко мне от чистого сердца.
Вполне возможно, что те же самые компьютерные алгоритмы, с помощью которых было создано это письмо, создали и самого астролога: ее фразы были слишком типичными, специфические обороты повторялись слишком часто; с бросающейся в глаза очевидностью она пыталась походить на определенный человеческий типаж и потому, скорее всего, не была реальным человеком. В итоге ее сочувствие и обеспокоенность казались слегка пугающими; впрочем, по тем же причинам они были и совершенно нейтральными. Один мой друг, впавший после развода в депрессию, недавно признался, что его до слез трогает обеспокоенность его здоровьем или эмоциональным состоянием, проявленная в языке рекламных роликов или упаковок продуктов; его может растрогать анонимный голос, звучащий в поездах и автобусах и заботящийся о том, чтобы пассажир не пропустил свою остановку. Когда он ведет машину, женский голос навигатора направляет его так преданно, как никогда не делала его жена. Он сказал, что чувствует в эти моменты что-то похожее на любовь. В основе таких технологий лежит большой массив информации о жизни и языке, так что, возможно, именно по этой причине искусственный интеллект превзошел человека, стал более настоящим и доступным; теперь от машины можно услышать больше нежных слов, чем от ближнего своего. Искусственный интеллект был разработан на основе опыта многих людей, а не одного человека. Другими словами, прежде чем стало возможно сгенерировать такое письмо, на свете должно было пожить множество астрологов. Утешает, по мнению моего друга, то, что этот океанический хор невозможно приписать одному человеку, он исходит ниоткуда и отовсюду: многим эта идея кажется ужасающей, но для него размывание индивидуальности означает исчезновение возможности причинить боль.
Этот же друг, писатель, сказал мне еще тогда, весной, что если я буду переезжать в Лондон с ограниченными средствами, то лучше купить квартиру в плохом доме, но в хорошем районе, а не наоборот. Только настоящие счастливчики и настоящие неудачники, сказал он, могут получить и то и другое – остальным приходится выбирать. Мой агент был удивлен, что я решила воспользоваться этой мудростью, если ее вообще можно было так назвать. По его опыту, люди творческие делают выбор в пользу света и пространства, а не хорошего расположения. Они ищут в вещах потенциал, в то время как большинство стремится к безопасности и конформизму, к тому, что можно купить в готовом виде, к собственности, привлекательность которой заключается в сумме использованных до предела возможностей. Ирония заключается в том, сказал он, что эти люди, боясь быть оригинальными, помешаны на оригинальности. Его клиенты приходят в экстаз от одного только намека на старину – ну и переезжали бы тогда в другие районы города, где можно получить то же самое за меньшие деньги. Причина, по которой люди продолжают покупать квартиры в перенаселенных районах города, тогда как в других, развивающихся его частях масса выгодных предложений, остается для него загадкой. Он полагает, что дело в недостатке воображения. Он сказал, что сейчас на рынке недвижимости растут цены, но вместо того, чтобы отбивать у покупателей охоту, эта ситуация, кажется, только подогревает их интерес. Ежедневно он погружается в кромешный ад – клиенты рвутся в его офис, расталкивая друг друга локтями, чтобы заплатить больше за меньшее, как если бы от этого зависела их жизнь. Бывало, что во время осмотров люди ругались и торговались с невиданной агрессией, а некоторые клиенты в надежде на привилегии даже предлагали ему взятки. И всё это, сказал он, ради жилья, которое, если трезво поразмыслить, выглядит абсолютно непримечательно. Поразительно, что охваченные невыносимым желанием клиенты приходят в полное отчаяние – они названивают ему каждый час или беспричинно заявляются в офис; они умоляют и иногда даже плачут; они приходят в ярость и в ту же минуту раскаиваются, посвящая его при этом в детали своей личной жизни. Он бы пожалел их, если бы не одно обстоятельство: как только сделка завершается, а следы драмы стираются из памяти, клиенты моментально забывают о своем поведении и о людях, которым приходилось его терпеть. У него были клиенты, которые обнажали перед ним самые интимные подробности своей жизни, но неделей позже, столкнувшись с ним на улице, совершенно не узнавали его. Он имел дело с парами, которые посвящали его в свои семейные дрязги, а потом безмятежно проходили мимо, занятые собственными делами. Только в этой удивительной забывчивости он иногда замечал оттенок стыда. В начале карьеры подобные инциденты сильно расстраивали его, но вскоре жизненный опыт научил его не принимать их близко к сердцу. Он понимает, что является клиентам в красной дымке всепоглощающего желания, что они бессознательно проецируют на него свои эмоции. Но всё же это желание продолжает озадачивать его. Порой он приходит к заключению, что люди хотят того, чего не могут получить наверняка, а порой ситуация кажется ему сложнее. Неоднократно его клиенты признавались, что чувствовали облегчение, когда их желание сталкивалось с непреодолимым препятствием: те же самые люди, которые штурмовали его офис и плакали в приемной от обиды, как малые дети, на следующей неделе уже спокойно сидели и благодарили его за отказ. Теперь-то они видели, что это совсем не то, что им было нужно, и они хотели знать, что еще значится в его списке. Процесс поиска и покупки жилья полностью овладевает сознанием большинства людей, сказал он; они становятся слепы, и к этой слепоте приводит зацикленность на объекте покупки. Только когда их энергия истощается, большинство смиряется с волей судьбы.
Этот разговор происходил, пока мы сидели в его офисе. За окном по серой и грязной лондонской улице медленно двигались машины. Я призналась, что описанное им безумие совсем не вдохновляет меня на соперничество, а наоборот, скорее, убивает мой энтузиазм и порождает желание немедленно убежать. Кроме того, у меня нет денег, чтобы торговаться. Я поняла, что в описанных им рыночных условиях мне не на что надеяться. Вместе с тем всё во мне восстает против идеи, согласно которой творческие люди, как он выразился, должны самоустраниться только потому, что отстаивают более высокие ценности. Он, кажется, использовал слово «воображение»; для «творческого» человека было бы наихудшим решением с целью самозащиты уехать из центра и укрыться в эстетической реальности, которая никак не способствует преображению внешнего мира. Я совсем не хочу ни с кем соперничать, но еще меньше мне хочется заново изобретать правила, которые бы определяли, что именно считается победой. Я хочу претендовать на то же самое, что и другие, даже в том случае, если не смогу этого получить.
Мои слова, по-видимому, озадачили агента, и он сказал, что совсем не хотел отстранять меня от процесса. Он скорее имел в виду, что за свои деньги я могла бы купить что-нибудь получше в менее популярном районе. Он видит, что я в уязвимом положении, а мой фатализм – редкое явление в его практике. Но если я действительно так упорно хочу идти вместе со стадом, сказал он, то он готов показать мне пару вариантов. Один из них лежит прямо перед ним – недавняя сделка по продаже дома не состоялась, и предложение вернулось на рынок. Жилье находится в собственности местной администрации, и, судя по установленной цене, они хотят срочно найти нового покупателя. Насколько он может судить, дом в плохом состоянии, если его вообще можно назвать пригодным для жилья. Многие из его алчущих клиентов в жизни бы на такое не согласились. Если бы я разрешила ему использовать слово «воображение», он сказал бы, что это жилье далеко за пределами того, что может вообразить себе человек, хотя, нужно признать, расположение превосходное. Но, зная мою ситуацию, он не стал бы меня уговаривать. На такое способен застройщик, строительная компания, кто-то, кто смог бы посмотреть на ситуацию беспристрастно, но проблема в том, что для них процент от сделки слишком незначителен. Он впервые посмотрел мне в глаза и сказал, что это место не подходит для того, чтобы растить в нем детей.
Спустя несколько недель после оформления сделки мне случилось встретить его на улице. Он шел, прижимая к груди кипу бумаг, связка ключей позвякивала в его пальцах. Я кивнула ему, вспомнив о том, что он мне рассказывал, но он не ответил и с отрешенным лицом прошел мимо. Это произошло ранним летом, а сейчас уже было начало осени. Этот эпизод, вспомнившийся мне из-за высказывания астролога о жестокости, казалось, доказывал: что бы мы ни хотели думать о самих себе, мы всего лишь результат того, как с нами обращаются другие. В письме была ссылка на астрологическую карту, которую она подготовила для меня. Я перешла по ссылке, заплатила деньги и всё прочла.
Я сразу узнала Джерарда: освещенный солнцем, он объезжал пробку на велосипеде и проехал мимо с поднятой головой. Его лицо выражало одухотворенность, и это напомнило мне о его склонности к драматизму и об эпизоде пятнадцатилетней давности, когда он, сидя голым на подоконнике в нашей квартире на последнем этаже и свесив ноги в темноту улицы, сказал, что не верит, что я люблю его. Единственное, что заметно изменилось, – его волосы, которые превратились в привлекающую внимание гриву растрепанных черных кудрей.
Я встретила его еще раз несколько дней спустя: это было рано утром, и на этот раз он стоял рядом с велосипедом и держал за руку маленькую девочку в школьной форме. Когда-то я несколько месяцев жила с Джерардом в его квартире, в которой, насколько мне было известно, он жил до сих пор. Через некоторое время я встретила другого, бросила Джерарда без особых церемоний и объяснений и уехала из Лондона. На протяжении нескольких лет он звонил нам за город, и его голос звучал тихо и слабо: казалось, он звонит издалека, будто из ссылки. Потом он однажды отправил мне длинное письмо, написанное от руки, в котором старался объяснить, почему мое поведение было непонятным и непорядочным. Письмо пришло в очень напряженное время, сразу после рождения первого сына. Я не смогла дочитать его до конца и, не ответив, добавила в список своих грехов.
После того как мы поприветствовали друг друга и выразили удивление, которое в моем случае было притворным, так как недавно я уже видела его на улице, Джерард представил мне свою дочь.
– Клара, – твердо произнесла она высоким дрожащим голосом, когда я спросила, как ее зовут.
Джерард спросил, сколько лет сейчас моим детям, как если бы тот факт, что родителями были мы оба, казался менее удивительным, чем если бы ребенок был только у него. Он сказал, что много лет назад видел где-то мое интервью и испытал приступ зависти, прочитав описание нашего дома в Сассексе. Саут-Даунс – одно из его любимых мест в стране. Он сказал, что не ожидал встретить меня снова в городе.
– Мы с Кларой однажды прошли весь путь Саут-Даунс, – сказал он. – Да, Клара?
– Да, – сказала она.
– Я часто думаю, что если бы мы решились уехать из Лондона, то переехали бы именно туда, – сказал Джерард. – Диана разрешает мне иногда листать порнографические каталоги недвижимости – при условии, что я буду довольствоваться только чтением.
– Диана – это моя мама, – с достоинством сказала Клара.
Мы стояли на широком бульваре среди роскошных викторианских домов, казавшихся гарантами респектабельности района. Аккуратно подрезанные зеленые изгороди и глянцевые окна фасадов всякий раз, когда я проходила мимо, беспричинно внушали мне чувство защищенности и вместе с тем отчуждения. Когда-то мы с Джерардом жили неподалеку отсюда, на улице, где уже была ощутима нисходящая модуляция – район постепенно перетекал в захудалую и забитую пробками восточную часть Лондона. Всё еще красивые дома носили признаки несовершенства, зеленые изгороди были уже не такими опрятными. Квартира представляла собой беспорядочное скопление комнат на последних этажах эдвардианской виллы, из окон которой открывались удивительные виды, отражавшие процесс упадка: облагороженные пространства сменялись неряшливыми и убогими, а сам Джерард казался не то заложником, не то покровителем этого противоречия. Вид позади дома был по-настоящему палладианским – ухоженные лужайки, высокие деревья, проглядывающие сквозь них фасады других красивых зданий. Перед домом же открывалась унылая картина городской разрухи, которая, ввиду того, что дом стоял на возвышении, была полностью открыта для обозрения. Однажды Джерард указал на длинную низкую постройку вдалеке и сказал, что это женская тюрьма. Видимость была настолько хорошей, что вечером мы различали крошечные оранжевые огоньки сигарет – женщины курили в коридоре, в который выходили камеры.
Шум со школьного двора за высокой стеной позади нас становился всё громче. Джерард положил руку на плечо Клары и наклонился, чтобы сказать ей что-то на ухо. Он, по-видимому, давал дочери наставления, и я поймала себя на мысли, что снова начала вспоминать его письмо с перечнем моих недостатков. Она была маленьким, хрупким и милым созданием, но, пока он говорил, на ее личике, похожем на эльфийское, появилось выражение великого мученичества – скорее всего, она унаследовала от отца манеру мелодраматического поведения. Пока он отчитывал ее, она с интересом слушала, и ее проницательные карие глаза смотрели не моргая куда-то вдаль, на дорогу. Слегка кивнув в ответ на его последний вопрос, она повернулась и отрешенно пошла в сторону ворот вместе с другими детьми.
Я спросила Джерарда, сколько ей лет.
– Восемь, – сказал он, – а ведет себя на все восемнадцать.
Меня удивило, что у Джерарда есть ребенок. Когда мы жили вместе, он не был готов решать проблемы собственного детства, поэтому трудно было поверить в то, что он стал отцом. Странности добавляло и то, что во всём остальном он, казалось, совсем не изменился: его болезненно-бледное лицо и по-детски доверчивые глаза с длинными ресницами совсем не постарели, его левая штанина была всё так же собрана внизу велосипедным зажимом, а футляр от скрипки, перекинутый за спину, всегда был неотъемлемой частью его образа, поэтому мне даже в голову не пришло спросить, зачем он ему нужен. Когда Клара исчезла из виду, он сказал:
– Кто-то говорил мне, что ты собираешься переехать сюда. Я не знал, верить или нет.
Он спросил, купила ли я уже что-то, и поинтересовался, на какой улице. Пока я рассказывала, он энергично кивал головой.
– Я так и остался жить в той квартире, – сказал он. – Странно, – продолжил он, – ты всё время что-то меняла, а я оставлял всё как есть, но вот сейчас мы оба здесь.
Несколько лет назад он ненадолго ездил в Канаду, но в остальном всё осталось по-старому. Он сказал, что раньше часто задавался вопросом, каково это: уехать, уйти от чего-то, что ты уже знаешь, и найти для себя новое место. Некоторое время после того, как я ушла, он каждое утро выходил из дома на работу и смотрел на магнолию за воротами, и мысль о том, что я больше не вижу это дерево, поражала его своей странностью. В квартире была картина, которую мы купили вместе, она всё еще висит на том же самом месте между большими окнами, которые выходят в сад за домом. Он сидел и смотрел на нее, недоумевая, как я могла оставить ее там. Вначале он воспринимал каждую вещь, которую я не взяла с собой – магнолию, картину, книги, – как жертву моего ухода, но со временем стал думать по-другому. Настал период, когда он понял, что, если я вновь увижу оставленные мной вещи, мне станет больно. Еще через какое-то время он начал чувствовать, что, возможно, увидев их снова, я обрадуюсь. Он оставил всё как было, даже магнолию, несмотря на то что соседи намеревались ее спилить.
На улице около ворот начали толпиться родители и их дети, одетые в школьную форму. Перекрикивать этот шум становилось всё труднее. Джерард был вынужден постоянно отодвигать в сторону велосипед, который легко придерживал за руль. Большинство других родителей были женщины: женщины с собаками на поводке, женщины с колясками, элегантно одетые женщины с портфелями в руках, женщины с детскими рюкзаками, ланчбоксами и музыкальными инструментами. Гул их голосов и шум за стеной становились громче по мере того, как всё больше и больше детей заполняло школьный двор. Звук нарастал стремительно, и казалось, что скоро он неминуемо достигнет кульминации, почти истерики, которая стихнет сразу после звонка. Время от времени кто-то из женщин громко приветствовал Джерарда, и он охотно махал в ответ – его ложный энтузиазм всегда маскировал недоверие к людям.
Он передвинул велосипед подальше от людского столпотворения, ближе к дороге, где между припаркованных машин падали первые красно-коричневые листья. Мы перешли дорогу. Было теплое, тусклое, безветренное утро. По сравнению со сценой, которую мы только что наблюдали, на другой стороне улицы время как будто остановилось – мир внезапно стал неподвижен и безмолвен. Джерард признался, что, несмотря на то что водит Клару в школу уже несколько лет, у школьных ворот он всё еще чувствует себя неловко. Диана пропадает на работе и, кроме того, ей еще труднее приспособиться к культуре школьного общения: мужчине хотя бы немного легче держаться в тени. Когда Клара была маленькой, именно он, а не его жена знакомился с родителями в дошкольных группах и ходил пить с ними кофе по утрам. Он многое узнал, не о родительстве, а о других людях. Он был удивлен, обнаружив, что в детских группах женщины враждебны по отношению к нему, несмотря на то что он никогда не отличался явной маскулинностью. У него всегда были близкие подруги; его лучшим другом в подростковый период была Миранда – я должна помнить ее, – и они всегда были на равных: спали в одной кровати, могли без стеснения раздеться в присутствии друг друга. Но в мире матерей его пол стал стигмой: женщины смотрели на него с неприятием, а порой с презрением. Ни присутствием в их мире, ни отсутствием он не мог завоевать их симпатию. Заботясь о маленькой Кларе, он часто чувствовал себя одиноко и изумлялся перспективам собственного перевоспитания, которые открывались ему благодаря родительству. Диана вернулась на работу на полный рабочий день, и если первое время он удивлялся отсутствию у нее сентиментальности по отношению к материнству и отвращению к материнским обязанностям, то постепенно начал понимать, что это знание – знание о том, как растить детей, и о последствиях того или иного подхода – не было ей необходимо. Она знала о том, что значит быть женщиной, ровно столько, сколько нужно, а вот ему надо было учиться. Ему было необходимо узнать, как заботиться о ком-то другом, как быть ответственным, как выстроить отношения и поддерживать их, и она позволила ему сделать это. Она всецело доверила ему Клару, на что большинство матерей, он уверен, не решилось бы. Это было тяжело для нее, но она справилась.
– Теперь я их любимый папа на дому, – сказал он, кивая в сторону разбегающихся женщин с собаками и колясками.
От школы мы медленно пошли в сторону станции метро. Выбор направления был машинальным: я не собиралась спускаться в метро, и Джерард со своим велосипедом, очевидно, тоже, но сложность нашей встречи после стольких лет, казалось, создала негласное соглашение, по которому нам следовало оставаться на нейтральной территории и передвигаться между общественными точками до тех пор, пока мы не разберемся в наших взаимоотношениях. Я уже забыла, сказала ему я, какой освобождающей может быть анонимность городской жизни. Людям здесь не приходится бесконечно объясняться: город – это поддающееся дешифровке место, словарь поведения, который уже наполовину помогает разгадать человека, так что можно вступить в контакт с помощью определенных условных знаков. Там, где я жила раньше, в сельской местности, каждый человек был уникальным, часто трудно считываемым образом своих собственных действий и целей. Столько всего терялось и ошибочно истолковывалось в процессе объяснения самого себя; так много делалось необоснованных предположений; так много слов не cмогли обрести целостного значения.
– Сколько лет прошло с тех пор, как ты уехала из Лондона? – спросил Джерард. – Должно быть, пятнадцать?
В его неопределенности было что-то притворное, она производила впечатление, ровно противоположное тому, на которое он рассчитывал, – факты были ему хорошо известны, но он попытался это скрыть, и меня внезапно охватило чувство вины за то, как я обошлась с ним. Я снова была поражена тем, как мало он изменился за это время, разве что теперь казался более зрелым. Когда мы были вместе, он напоминал мне набросок, контур; я всё время хотела видеть в нем что-то большее, не зная, откуда это большее должно было появиться. Но время, словно художник, работающий с наброском, добавило ему глубины. Он часто поправлял свои кудрявые темные волосы; он выглядел отдохнувшим и загорелым; на нем была свободная сине-красная рубашка в клетку, какие он предпочитал в молодости, расстегнутый воротник подчеркивал его загорелую шею. Цвета со временем полиняли, стали мягкими и блеклыми, и я даже подумала, не та ли это рубашка, которую он постоянно носил раньше. Он всегда был бережливым настолько, что лишние траты и неумеренность искренне расстраивали его и приводили к тому, что он начинал непреднамеренно осуждать других людей. И всё же я помню, как один раз он признался мне, что в своих фантазиях наслаждался бездумной расточительностью, которую резко критиковал.
Я сказала, что в мое отсутствие изменилось очень немногое. Когда по утрам мои соседи, одетые с иголочки, выходят на работу, они часто останавливаются, чтобы оглядеться вокруг, и едва заметно улыбаются, как если бы вдруг вспомнили что-то приятное. Джерард рассмеялся.
– Трудно не стать самодовольным, – сказал он, – когда вокруг столько самодовольства.
Одно из преимуществ переезда, как он понял сейчас, – это возможность измениться. Он предполагал, что именно этого боялся больше всего: свернуть куда-то и понять, что в процессе потерял себя. Диана, продолжил он, из Канады, и ее совсем не заботит то, что она живет на другом континенте, не там, где родилась. Напротив, она думает, что, оказавшись по другую сторону океана, избавила себя от ряда эмоционально парализующих проблем, главный источник которых – ее мать. Но в его жизни в Лондоне, в судьбе, которая была предначертана для него городом, признался Джерард, есть какая-то неумолимость, а для большинства людей, как он теперь понимает, происхождение не помеха. Два года он жил в Торонто вместе с Дианой, и, несмотря на то что там он чувствовал себя раскрепощенным – освобожденным от того, что он ощущал как тяжкий груз, – чувство вины преобладало. Когда родилась Клара, вопрос встал ребром: еще более невозможной, чем мысль, что у Клары будет такое же детство, как у него, оказалась мысль, что у нее такого детства не будет, что она проживет всю жизнь, не зная того, что для Джерарда составляло реальность.
Я спросила его, почему он использовал слово «вина» для описания того чувства, которое люди обычно называют тоской по дому и которое возникло у него просто потому, что он оказался в незнакомом мире.
– Мне казалось неправильным делать выбор, – сказал Джерард. – Казалось неправильным, что моя жизнь зависит от выбора.
Он встретил Диану случайно в очереди в кинотеатр. В Торонто он поехал на полгода по исследовательскому гранту в области теории кино. Он подал заявку на грант с полной уверенностью, что не получит его, – и вот он уже там, далеко от дома, стоит в двадцатиградусный мороз в очереди в кинотеатр, чтобы посмотреть любимый фильм ужасов «Ночь живых мертвецов». Диана, как оказалось, тоже любит хорроры. Она работала на Си-би-си, и ее должность предполагала полную занятость. Они встречались уже несколько недель, когда человек, которому Диана платила деньги за выгул ее собаки Трикси, большого и энергичного пуделя, уехал из города. Собака была постоянным источником беспокойства для Дианы: в то время она работала на очень сложном проекте, уходила из дома рано утром и возвращалась уже в ночи, для Трикси же одного часа прогулки с незнакомым человеком было явно недостаточно. Диана была страстным любителем собак и относилась к ситуации с Трикси крайне серьезно. В этих кризисных обстоятельствах ей бы пришлось пристроить собаку в новый дом, «что для нее, – сказал Джерард, – было равноценно тому, чтобы отдать собственного ребенка в другую семью».
Джерард, хоть и не знал Диану достаточно хорошо и совсем ничего не знал о собаках, предложил свою помощь. По вечерам он преподавал в колледже, но днем более или менее принадлежал себе. Он планировал вернуться в Лондон в конце семестра, но пока был готов приходить к Диане каждый день, брать Трикси на поводок и идти с ней играть и прыгать в парк.
Поначалу собака пугала его – она была большая, своенравная и молчаливая, но вскоре ему стали нравиться их совместные прогулки в новые для него районы Торонто. Они позволяли ему избавиться от необходимости ежедневно совершать выбор, хотя иногда он смотрел на себя, гуляющего с огромной собакой по незнакомому городу, и удивлялся тому, как он вообще до такого дошел. Примерно за неделю это стало для него привычкой, и он, по крайней мере, перестал так сильно нервничать, когда открывал входную дверь, а собака вставала и начинала рычать. Она охотно шла с ним, вышагивала рядом, подняв голову, и он вдруг обнаружил, что и сам стал держаться более горделиво рядом с этим молчаливым зверем. С Дианой они почти не виделись, но он чувствовал, как между ним и Трикси возникает близость. Однажды он подумал, что нет никакой необходимости держать ее на поводке – это было даже оскорбительно по отношению к ней, так как она вела себя очень сдержанно и дисциплинированно. Не раздумывая, он наклонился и отстегнул поводок, и в ту же самую секунду Трикси убежала, а он остался стоять на оживленном перекрестке на Ричмонд-авеню. Минуя городской транспорт, коричневой стрелой она унеслась в сторону жилых кварталов и исчезла из виду.
Странно, сказал он, но, стоя там на тротуаре с болтающимся в руке поводком, глядя на лабиринт бесконечно простирающихся во все стороны серых улиц Торонто, он впервые почувствовал себя как дома: ощущение, что он непреднамеренно спровоцировал необратимые изменения, что он совершил ошибку, которая проложила ему путь вперед, было наиболее глубоким и знакомым из всех, что он когда-либо испытывал. Совершив ошибку, он пережил потерю, а потеря была порогом к свободе: нелепым и неудобным порогом, но единственным, который он мог бы перешагнуть. Обычно он оказывался по ту сторону порога в результате событий, которые приводили его туда. Он вернулся в квартиру Дианы и ждал ее там до наступления темноты, не выпуская поводок из рук. Она вернулась и сразу же поняла, что случилось. Это может показаться странным, добавил Джерард, но их отношения начались именно тогда. Он уничтожил то, что она больше всего любила, а она своими ожиданиями взвалила на него больше, чем он мог выполнить. Сами того не желая, они нашли самые уязвимые места друг друга. Сократив путь, они пришли в ту точку, в которой для них обоих отношения обычно заканчивались, и начали двигаться вперед.
– Диана лучше рассказывает эту историю, – добавил Джерард, улыбнувшись.
К этому времени мы зашли в парк, через который можно было легко срезать путь до метро, минуя несколько жилых улиц. В этот час он был почти пустой. Несколько женщин стояли на территории огороженной детской площадки, присматривая за своими детьми или поглядывая в телефоны.
Они остались в Торонто еще на полтора года, продолжил Джерард, в это время и родилась Клара. В Торонто они не могли позволить себе даже самую маленькую квартиру, в то время как в Лондоне такие квартиры, как та, которой Джерард всё еще владеет и которую он за умеренную цену купил много лет назад, продавались за сотни тысяч фунтов. Кроме того, Кларе нужны были родственники: вырастить психологически здорового ребенка, по мнению Дианы, было бы безвкусицей.
– Семья Дианы дисфункциональная, – сказал Джерард. – На их фоне проблемы в моей семье кажутся пустяковыми.
Они переехали в Лондон, когда Кларе исполнилось три месяца. Она уже не вспомнит бледный, серый город, в котором родилась, огромное угрюмое озеро, по продуваемым ветрами берегам которого Джерард гулял с ней в слинге, причудливый, обшитый досками дом у трамвайных путей, который Джерард и Диана делили с постоянно обновляющейся общиной художников, музыкантов и писателей. Дом этот когда-то был магазином, и в нем осталась большая стеклянная витрина. Она была элементом основного жилого пространства, так что за обитателями дома можно было наблюдать с улицы. Множество раз, возвращаясь домой, Джерард поражался этому живому полотну перед ним, особенно по вечерам, когда по всему дому был включен свет и витрина становилась похожа на освещенную театральную сцену: на ней можно было наблюдать картины любви, споров, уединения, труда, дружбы, иногда скуки и разобщенности. Он знал всех актеров и, как только заходил внутрь, сам становился одним из них. Но часто он останавливался снаружи и завороженно наблюдал за ними. В каком-то смысле он знал, что всё это не более чем игра, но она характеризовала Торонто и его жизнь там, какое-то принципиальное отличие этого города, которое он не мог четко сформулировать, хотя в попытке дать определение на ум ему всегда приходило слово «наивность».
– Не думаю, что было бы возможно, – сказал он, – жить так в Лондоне, среди моих знакомых. Здесь слишком много иронии. Здесь невозможно позировать – всё и так уже имитация.
Тем не менее они с Дианой вернулись в Лондон, и если иногда хорошо знакомая атмосфера кажется удушающей – «даже паб здесь – ирония», – сказал он, когда мы подошли к некогда захолустному зданию, отделанному теперь с аллюзией на его якобы исторический облик, – то сила постоянства теперь служит попутным ветром. Их жизнь невероятно стабильна, что удивительно, сказал он, для их возможностей. На первый взгляд его повседневная жизнь мало изменилась с тех пор, как мы были вместе: он живет в той же квартире, его окружают прежние друзья, он ходит в те же места по тем же дням и даже носит старую одежду. Разница лишь в том, что теперь с ним Диана и Клара. Они – его зрители, и он навряд ли может жить без них. Всё больше он думает о времени, проведенном в Торонто, как о переходном этапе, во время которого ему удалось найти ресурс в новом месте, что в конечном счете позволило обосноваться здесь навсегда. Ему кажется интересной мысль, что стабильность можно рассматривать как продукт риска; возможно, именно желание оставить всё как есть провоцирует потери.
– В каком-то смысле мы всё еще живем в витрине, – сказал он. – Это конструкция, но она реальна.
Я сказала ему, что, когда мы летом переехали с детьми в Лондон, первое время всё казалось нам незнакомым, и мой старший сын говорил, что чувствует себя героем какой-то пьесы: все произносят заученные реплики, и он тоже; что бы с ним ни происходило, куда бы он ни попадал, всё кажется ему нереальным, как прописанные в сценарии события, следующие друг за другом. Им пришлось перейти в новую школу, где от них требовалось больше самостоятельности. В прошлой жизни они зависели от меня во всём, но здесь почти сразу оба стали более деятельными и научились организовывать себя такими способами, о которых я даже не подозреваю. Мы мало говорим о нашей прошлой жизни, так что она тоже стала казаться нереальной. Я сказала Джерарду, что, когда мы только приехали сюда, по вечерам мы часто гуляли по нашему району и смотрели по сторонам, словно туристы. Сначала во время прогулок сыновья украдкой брали меня за руку, но потом стали держать руки в карманах. Через какое-то время наши вечерние прогулки прекратились: мальчики начали говорить, что у них много уроков. Они быстро съедали ужин и расходились по комнатам. По утрам они выходили из дома в серый рассвет и вприпрыжку бежали по замусоренным тротуарам, их тяжелые рюкзаки подскакивали в такт их движениям. Наши знакомые, сказала я, всячески одобряли эти изменения, которые, очевидно, воспринимали как необходимые. Мне так часто говорили, как приятно снова видеть меня на ногах, что я стала задумываться, не представляла ли я для них просто объект сочувствия; собственно, не стала ли я для своих знакомых олицетворением какого-то конкретного страха или опасения, чего-то, о чем они совсем не хотели вспоминать.
– Я думал, у тебя всё сложилось, – медленно произнес Джерард. – Я думал, ты живешь идеальной жизнью. Когда ты ушла, – сказал он, – мысль, что ты отдаешь свою любовь кому-то другому, хотя могла бы давать ее мне, меня очень огорчала. Но для тебя, конечно, этот вопрос был принципиальным.
Я вспомнила о свойственной Джерарду неразумности и инфантильности, о его непостоянстве и иногда возникающей у него склонности к самолюбованию. Мне кажется, сказала я, что большинство браков работает по принципу романа: важно отбросить недоверие, включиться в повествование и плыть по течению. Другими словами, брак держится не на совершенстве, а на уклонении от определенных реальностей. Мне совершенно очевидно, сказала я, что одной из таких реальностей в тот момент был Джерард. Жестоко ранить его чувства было единственным выходом, по-другому новая история просто не могла бы состояться. Сейчас, когда я думаю о том времени, оказывается, что эта отброшенная реальность – всё то, что я намеренно отрицала и сознательно забывала ради нового нарратива, – в конце концов возобладала. Как вещи, которые я оставила в его квартире, то, что было отвергнуто, со временем стало приобретать новые значения, которые далеко не всегда было легко принять. Мое безразличие по отношению к страданиям Джерарда, о котором в то время я едва ли думала, со временем стало казаться мне всё более преступным. Всё, от чего я постаралась избавиться в стремлении к новому будущему, теперь, когда само будущее избавилось от меня, сохранило силу обвинения, и я даже стала бояться, как бы мое наказание не оказалось прямо пропорционально чему-то, что я даже не смогла оценить или просчитать. Возможно, сказала я, никогда не знаешь, что нужно сохранить, а от чего избавиться.
Джерард остановился и слушал с выражением возрастающего удивления.
– Но я же простил тебя, – сказал он. – Я написал это в своем письме.
Письмо пришло тогда, ответила я, когда я не могла его толком прочесть, и чувство вины во мне было таким сильным, что я не смогла прочесть его, даже когда была способна воспринять его объективно.
– Я простил тебя, – сказал Джерард, положив ладонь мне на руку. – И я надеюсь, ты тоже меня простишь.
Мы остановились у паба, и немного погодя он спросил, помню ли я угрюмое заведение, которое было раньше на этом месте.
– Джентрификация всё приукрашивает, – сказал он. – Это происходит повсюду, и в наших жизнях тоже.
Он возражает не против самого принципа усовершенствования, но против равномерного выравнивания, стандартизации, с которой сопряжены изменения.
– Где бы это ни происходило, – сказал он, – уничтожается всё, что было раньше, но при этом результат выглядит так, будто именно это здесь всегда и было.
Он рассказал мне, как они с Кларой летом несколько недель ходили пешком по северу Англии и прошли значительную часть Пеннинского пути. У Дианы было много работы в Лондоне, да она и не особо любит походы. Они несли за спиной палатки, сами готовили еду каждый вечер, плавали в реках, несколько раз попадали в грозу, грелись на солнечных склонах и в итоге прошли пешком более сотни миль. Это, по мнению Джерарда, и есть единственный подлинный опыт, который не забывается. Казалось невероятным, что с приходом сентября они вновь вернутся в Лондон и город затянет их в повседневность, но именно так оно и было.
Я удивилась тому, что хрупкий ребенок, которого я только что видела, мог пройти такое расстояние.
– Она сильнее, чем кажется, – сказал Джерард.
При упоминании Клары мысли Джерарда, очевидно, унеслись в каком-то другом направлении: он вдруг потянулся рукой за спину и похлопал рукой по футляру.
– Черт, – сказал он, – ей сегодня нужна скрипка.
Я даже не знала, что это ее скрипка.
– История повторяется, – сказал он. – Ты, наверное, думаешь, что опыт должен был меня чему-нибудь научить.
Я вспомнила, как однажды он рассказал мне, что его мама плюнула ему в лицо, когда он объявил ей, что собирается бросить скрипку. Его родители были профессиональными музыкантами и оба играли в оркестре. С ранних лет Джерард стал играть на скрипке и занимался так упорно, что мизинец и безымянный палец его левой руки деформировались от надавливания на струны. Про Клару учительница говорит, что она способная, но Джерард не уверен, хочет ли он для своей дочери той жизни, которая столько лет приносила ему мучения. Иногда он думает, что лучше бы он и вовсе не показывал Кларе скрипку. Это говорит о том, сказал он, что мы мало исследуем опыт, который оказался важнее всего для нашего формирования, и вместо этого слепо воспроизводим знакомые модели. А вдруг только в наших травмах может зародиться будущее?
– Хотя, по правде говоря, – добавил он, – мне даже в голову не приходило, что ребенка можно вырастить без музыки.
Он пытается оставаться равнодушным к занятиям Клары. Он уверен, что ей не следует расти с ощущением, которое преследовало в детстве его самого: будто любовь родителей зависит от согласия ребенка выполнять их желания. Возможно, на самом деле он бросил скрипку именно потому, что хотел исследовать родительскую любовь. В школе, продолжал он, учился мальчик, его ровесник, которого он близко никогда не знал, но который отличался абсолютной неспособностью к музыке. Отсутствие у него слуха было источником постоянных шуток, не то чтобы особенно злых, но, когда они пели гимн на школьной линейке, за фальшивое пение над ним стали насмехаться, а на рождественском концерте его попросили уже не петь, а только открывать рот. Загадочным образом этот мальчик поступил на кларнет, из которого извлекал такие же нестройные звуки, но его упорство в обучении игре на этом инструменте было непоколебимо. Из раза в раз он пытался поступить в школьный оркестр, в котором Джерард был первой скрипкой, и каждый раз ему отказывали. Прикладывая огромные усилия, мучительно медленно он переходил из класса в класс. Его понимание музыки было противоположно инстинктивному, и всё же в какой-то момент, достигнув сносного уровня, он смог поступить в школьный оркестр. Приблизительно в это же время Джерард оттуда ушел и больше об этом мальчике не вспоминал. Через несколько лет, в последнем семестре, Джерард попал на школьный концерт. Оркестр играл концерт Брамса для кларнета, солистом был не кто иной, как тот мальчик, а несколько лет спустя Джерард увидел его имя, выделенное жирным шрифтом, на афише концерта в Уигмор-Холл. Сейчас, сказал Джерард, он известный музыкант. Включая радио, я часто натыкаюсь на его исполнение. Я так и не понял, какова мораль этой истории. Думаю, она говорит нам о том, что иногда нужно обращать внимание не на врожденные таланты, а на то, что дается труднее всего. Мы так привыкли к тому, что нужно принимать себя как есть, мы так хорошо усвоили эту догму, что неприятие становится довольно радикальной идеей.
Он перекинул ногу через седло велосипеда и натянул шлем на растрепанные волосы.
– Я, пожалуй, вернусь и отдам ей скрипку, – сказал он и посмотрел на меня ласково. – Надеюсь, тебе хорошо здесь, – добавил он.
Я сказала, что пока не поняла: еще рано судить. Я рассказала, что часто выхожу на прогулку после того, как мальчики засыпают, и меня всегда поражает тишина и пустынность ночных улиц. Где-то вдалеке можно услышать слабое гудение города, из-за чего окружающая тишина кажется искусственно созданной. Это ощущение, сказала я Джерарду, ощущение того, что сам воздух будто сконструирован, представляется мне сущностью цивилизации. Если ему интересно, что я ощущаю, вернувшись в город, то я сказала бы, что меня переполняет чувство облегчения.
– Было бы здорово познакомить вас с Дианой, – сказал Джерард. – И я бы хотел, чтобы ты увидела, как выглядит теперь квартира. Возможно, ты удивишься.
Первое, что он сделал в трудный период после того, как я ушла, – снес все внутренние стены, чтобы создать единое пространство. На протяжении нескольких недель квартира представляла собой кучу обломков и пыли. Джерард не мог ни есть, ни спать, соседи безостановочно жаловались, и еще ему нужно было поднять по лестнице огромную металлическую балку, чтобы она поддерживала крышу. Люди думали, что он сошел с ума, но Джерард был охвачен одной-единственной идеей – он хотел, чтобы, стоя у окон с одной стороны квартиры, он мог видеть двор из окон напротив. Он остался доволен результатом, хотя вынужден был признать, что теперь, когда Клара выросла, это не так практично. Суть в том, сказал он, пододвигая велосипед к дороге, что переезд в Лондон – большая возможность. Это один из лучших городов мира, сказал он, и, адаптируясь к нему, ты станешь сильнее, о чем скоро и сама узнаешь.
Строитель сказал, что я пытаюсь сшить из свиного уха шелковый кошелек.
– Но для этого, – сказал он, – просто нет материала.
Он стоял у окна кухни и смотрел на маленький сад, где выступали неровные углы бетонных плит, разрушенных корнями деревьев, которые проложили свой путь под ними. В саду была склонившаяся к земле яблоня, окруженная упавшими и сгнившими плодами, и высокое хвойное дерево, из-за которого все остальные деревья были вынуждены расти под странными углами и потому выглядели так, будто застыли в мучительных, скрюченных позах. Некоторые из них прижались вплотную к забору и пробили его в тех местах, где сад был разделен на две части.
Дальняя часть сада была нашей, к ней можно было пройти по узкой дорожке, ведущей от задней двери дома. Ближняя же принадлежала людям, живущим внизу, в квартире на цокольном этаже. В их части сада было полно вещей разной степени ветхости, так что сложно было определить, часть декора это или хлам. Там была рваная полиэтиленовая пленка и сломанная мебель, старые кастрюли, осколки цветочных горшков, заржавевшая кормушка для птиц, металлическая сушилка для белья, лежащая на земле и покрытая гнилыми листьями, несколько статуй, битые фигурки мужчин с удочками, коричневый блестящий бульдог с обвисшими щеками, и в центре всего этого – странная сборная фигурка черного ангела с поднятыми крыльями на черном постаменте. В этой части сада было больше всего голубей и белок: кормушка ежедневно наполнялась до краев, несмотря на признаки запустения. Они сражались за право угоститься содержимым и, когда кормушка была уже пуста, устраивались неподалеку, явно ожидая, когда ее вновь наполнят. Целый день болезненного вида серые голуби сидели, съежившись, на карнизе и на водосточной трубе. Иногда они пугались какого-то шума или движения, тяжело взлетали и садились обратно, и их крылья громко бились о стекла окон.
Задняя дверь квартиры на цокольном этаже находилась прямо под моим кухонным окном. Дважды в день дверь открывалась – в грязный двор из нее выпускали дряхлую, хромую собаку – и снова захлопывалась. Я иногда смотрела, как это создание еле-еле поднималось по раскрошившимся бетонным ступеням, чтобы выпустить в саду между дрожащих ног струю жидкости, которая затем медленно стекала по лестнице обратно вниз. Собака оставалась сидеть наверху, тяжело дыша, до тех пор, пока крики из квартиры не вынуждали ее мучительно медленно двинуться обратно. Перекрытия между этажами были очень тонкие, и я хорошо слышала голоса людей внизу. Громче всего они звучали на кухне – иногда я вздрагивала от неожиданности. В квартире жили мужчина и женщина лет под семьдесят. Однажды я встретила мужчину на улице, и он сказал мне, что они дольше всех живут в этом доме, уже около сорока лет. Они также последние оставшиеся съемщики муниципального жилья – люди, которые раньше жили в нашей квартире, отдали им это почетное звание, когда съехали.
– Они были африканцами, – сказал он мне заговорщически хриплым шепотом.
В местной администрации, сообщил мне агент, старую недвижимость продают, как только она освобождается. Проблема в содержании, сказал он: со старой недвижимостью всегда всё идет не так. Они там ждут не дождутся, когда уже эти люди склеят ласты. Он подмигнул и показал на пол. Никогда не знаешь – а вдруг ждать осталось не так уж долго? Если продержитесь, возможно, когда-нибудь выкупите первый этаж и заживете в собственном доме. Тогда под вами будет золотая жила.
Соседи снизу не смогли примириться с тем, что теперь кто-то живет над их головами. На второе или третье утро у нас под ногами раздался яростный стук. Мы притихли и посмотрели друг на друга, и мой младший сын спросил, что это. Почти сразу после его вопроса раздалась вторая серия ударов, и стало очевидно, что это соседи стучат в потолок, выражая свое недовольство.
– Работы тут непочатый край, – сказал строитель, отводя взгляд от окна и осматривая кухню, шкафы в которой неустойчиво стояли на неровном полу. Их дверцы были выкрашены с наружной стороны, но с внутренней посерели от старости, краска облупилась, полки болтались на крепежах. Стены были покрыты толстыми обоями с узором, похожим на сыпь. Они тоже были окрашены, от чего обои местами пошли пузырями, а местами облезли, отрывая вместе с собой куски штукатурки. Строитель потянул за один свисающий край.
– Я вижу, вы уже сами пробовали кое-что подлатать, – сказал он, стараясь приладить кусок отклеившихся обоев обратно к стене, и перевел дыхание: – Мой вам совет: оставьте всё как есть.
У него было доброе лицо, но странное страдальческое выражение делало его похожим на ребенка, который вот-вот заплачет. Он сложил на груди большие неуклюжие руки и задумчиво посмотрел на пол. На ровном своде его черепа проступила лиловая вена.
– Вы уже сделали всё, что я мог бы вам посоветовать, – заключил он после длительного молчания. – А именно: покрыть всё толстым слоем краски и закрыть дверь. – Он легонько постучал ногой по полу, который был выстелен ламинатом под дерево и сильно просел посередине. – Боюсь представить, что под ним, – сказал он.
Внизу началось движение и послышались тихие голоса. По крайней мере, сказала я строителю, мне нужно сделать что-то с полом. Необходимо проложить шумоизоляцию. У меня нет выбора – так больше не может продолжаться.
Он молча посмотрел на пол, не меняя позы и, по-видимому, раздумывая над тем, что я сказала. Потом наступил прямо на место ската и подпрыгнул. В этот же момент снизу раздалась очередная серия ударов. Строитель хрипло рассмеялся.
– Всё та же ручка швабры, – сказал он.
Он посмотрел прямо на меня. У него были маленькие, слезящиеся голубые глаза, которые он всегда слегка прищуривал, как будто ему мешало солнце или как будто он слишком часто смотрел на то, что не хотел видеть. Он спросил меня, чем я зарабатываю на жизнь. И я ответила, что я писательница.
– Писатели ведь много получают, да? – спросил он. – Для вашего же блага надеюсь, что да, потому что, уверяю вас, денег вбухать придется немало. – Он опять подошел к окну, посмотрел вниз на соседский участок сада и покачал головой. – Ну и живут же некоторые, – сказал он.
Я сказала, что виделась с прежней обитательницей этой квартиры, когда агент по недвижимости впервые привел меня сюда. Она упаковывала последние вещи и долго не открывала нам дверь. Потом я увидела, как она выглянула посмотреть на нас из-за тюля, прикрывающего окно, которое выходило на улицу. Агент тогда окликнул ее, начал объяснять, кто мы, и убедил ее впустить нас. Она оказалась маленькой, запуганной женщиной с морщинистым лицом, чей голос, когда она заговорила, едва ли был громче шепота. Но после того, как агент ушел, она немного осмелела. Мы были наверху в одной из спален, она сидела на краешке кровати, на фоне покрытой пятнами стены. Я спросила, что за люди живут внизу. Она долго, не моргая, смотрела на меня своими усталыми карими глазами из-под морщинистых век. Женщина хуже, чем мужчина, сказала она наконец. А люди, которые живут в соседнем доме, – добрые и хорошие, университетские профессора, добавила она гордо. Они всегда помогали мне, когда у меня возникали проблемы с соседями снизу. Ее глаза задумчиво изучали мое лицо. Но, может, у вас, сказала она, всё будет иначе.
Я спросила ее, куда она уезжает, и она сказала, что обратно в Гану. Все ее дети уже выросли и разъехались по своим квартирам. Она спросила, была ли я в Гане, и я ответила, что нет. Там красиво, сказала она, и ее лицо в этот момент будто бы даже разгладилось и подтянулось. Все эти годы она только об этом и мечтала. Ее младший ребенок, дочь Джуэл, до недавнего времени еще жила с ней, но и она уже закончила учебу и съехала. Она изучала медицину – «это требует столько времени!» – воскликнула женщина, прикладывая руки к щекам и покачиваясь на краю кровати с тихой радостью. Но наконец и она уехала. Вы свободны, сказала я ей и увидела, как слабая улыбка осветила ее морщинистое лицо. Да, сказала она, медленно кивая и улыбаясь всё шире, я свободна.
– Бедняжка, – сказал строитель. – По крайней мере, нельзя сказать, что она вас не предупреждала.
Кухню начал заполнять скверный мясной запах. Он принюхался, его лицо скривилось.
– Кажется, внизу готовят обед, – сказал он, опять сложил свои толстые волосатые руки на груди и побарабанил пальцами по бицепсам. – Вы не наладите отношения, – сказал он, – пока у вас в доме будут рабочие.
Он спросил, общалась ли я с соседями с тех пор, как переехала – «не считая посланий на азбуке Морзе», – добавил он, снова постукивая по полу ногой. В этот раз он постучал сильнее. Снизу раздались приглушенный крик и визг, и затем, через некоторое время, несколько ударов в ответ. Я сказала ему, что, когда мы только въехали, я спустилась вниз и постучала к ним в дверь, чтобы представиться.
– Ну и как там внизу? – спросил он. – Наверное, кромешный ад. Судя по высоте потолков, они живут как крысы в подвале.
Самым ужасным был запах. Я звонила в звонок и ждала у двери, собака внутри беспрестанно лаяла, и даже на пороге запах был невыносимый. В конце концов после долгого ожидания я услышала шуршание шагов, и мужчина, с которым я разговаривала на улице, открыл дверь.
– Кто это, Джон? – послышался женский голос изнутри. – Джон, кто это?
Они вели себя достаточно воспитанно, сказала я, до тех пор, пока я не упомянула о детях. Женщина – ее звали Паула – нисколько не потрудилась скрыть свои чувства. Да вы, блин, шутите, сказала она медленно, не отрывая от меня глаз. Мы были в их гостиной, куда прошли по узкому душному коридору с желтым провисшим потолком. Из коридора мне удалось сквозь приоткрытую дверь заглянуть в спальню, где на полу под грудой грязных простыней, одеял и пустых бутылок лежал матрас. Гостиная представляла собой заваленную вещами комнату, которая походила на пещеру. Паула сидела на коричневом велюровом диване. Она была грузной женщиной крепкого телосложения с коротко стриженными жесткими волосами. В ее большом дряблом теле явственно ощущалась агрессия, что особенно бросилось в глаза, когда она резко повернулась, ударила старую собаку, которая без остановки лаяла с момента моего появления, и отшвырнула ее в другой конец комнаты.
– Заткнись, Ленни! – рявкнула она.
Среди хлама я заметила черно-белую фотографию в рамке, стоящую на телевизоре. На ней была женщина, с гордым видом позирующая в купальнике на пляже, высокая, стройная и красивая. Эта фотография постоянно притягивала мой взгляд, не только потому, что, смотря на нее, можно было отвлечься от запущенности окружающего меня пространства, но и потому, что женщина казалась мне всё более и более знакомой, пока я наконец не поняла по вздернутому носу и заостренному подбородку, который всё еще выделялся на заплывшем лице напротив, что эта женщина – Паула.
Мужчина, Джон, казался более миролюбиво настроенным. Мы жили так годами, понимаете, сказал он хриплым голосом. Его кожа имела серовато-голубой оттенок, как при дыхательной недостаточности, седые волосы выглядели неопрятно; из ушей и из нескольких больших родинок на лице торчали волоски. Женщина кивнула, вскинув острый подбородок и сжав губы в тонкую линию. Всё верно, Джон, сказала она. Годами, это ж свихнуться можно, годами, повторил Джон. Эти африканцы – вы не поверите, как они шумели. Вот именно, Джон, вот именно, произнесла женщина. После этого она умолкла и всё оставшееся время, пока я не ушла, так и просидела, поджав губы и задрав нос. Я научилась ходить по квартире мягко и не шуметь, сказала я строителю, но сыновьям трудно это объяснить. Они привыкли жить по-другому.
Строитель притих, задумавшись.
– Я уже вижу, здесь не обойдется без проблем, – сказал он в конце концов. За последние десять лет у него было уже два инфаркта. – И я не хочу получить третий, – сказал он.
Он спросил, предлагал ли мне кто-то еще свои услуги, и я сказала, что да: польский строитель, который приехал на дорогой машине и сказал, что у него хорошая репутация; и компания молодых, исполнительных и вежливых работников, одетых в чистые джинсы и замшевые ботинки, – они моментально заполонили дом и стали вбивать информацию в ноутбуки, а потом сказали, что очень заняты и в ближайший год не смогут приступить. Он спросил о цене, и я озвучила ему сумму. Он зажмурился и запрокинул голову.
– Здесь нужно заменить проводку, а здесь заново заштукатурить, – сказал он. – А это, – он опять топнул по полу, – нужно разобрать. Как я уже говорил, бог знает что мы там найдем.
Он готов озвучить примерную сумму, но такая работа всегда предполагает дополнительные расходы. Он сказал, что постарается сделать всё возможное, чтобы цена не была высокой. Он просто хочет убедиться, что я понимаю, с чем мне предстоит иметь дело, вот и всё. Он говорил всё это и ходил по кухне, простукивая стены, изучая оконные рамы, усаживаясь на корточки с отверткой, чтобы открутить плинтус и посмотреть, что находится за ним. Это спровоцировало еще один залп ударов.
– Поверьте мне, я в своей жизни видел много соседей, – сказал он через плечо. – Когда люди живут друг на друге, как здесь, территориальный вопрос обостряется.
Бывало, люди врывались на площадки, где уже работала его бригада, и пытались выхватить инструменты у них из рук; не раз угрожали ему, юридически и не только; обвиняли его в своих неудачах, болезнях и расстройствах, иногда во всём на свете, потому что некоторые – он указал при этом под ноги – никогда не возьмут на себя ответственность и всегда будут искать виноватого. И несмотря на то, что его, казалось бы, трудно в чем-либо обвинить – он всего лишь воплощает чужие цели и желания и делает свою работу, – он часто оказывается на линии огня.
– Не возражаете, если я осмотрю заднюю сторону дома? – спросил он.
Мы вышли на мою половину сада, чтобы он мог осмотреть дом оттуда. Когда мы открыли дверь, облако спугнутых голубей, громко хлопая крыльями и клекоча, вспорхнуло в воздух. Строитель схватился за грудь.
– Напугали до полусмерти, – сказал он извиняющимся тоном, с хрипом посмеиваясь.
Беспорядочная стайка птиц грязноватого оттенка тяжело уселась обратно на карнизы и водосточные трубы, идущие поперек кирпичной кладки.
– Господи, – сказал строитель, прищуриваясь. – Их там сотни. Я не люблю голубей, – сказал он, вздрагивая. – Жуткие твари.
И правда, в том, как птицы собирались на карнизах в ожидании еды, было что-то зловещее. Бывало, они устраивали переполох, клевали и толкали друг друга, взлетали в воздух и затем лихорадочно пытались снова занять свое место. Дома по обе стороны сада стояли безучастно, будто притворяясь, что не замечают затесавшегося между ними запущенного собрата. Отсюда были видны их спокойные, ровно выкрашенные задние фасады, смотрящие на ухоженные сады с зонами для барбекю, садовой мебелью и душистыми цветочными клумбами. Летними вечерами я часто сидела в темной кухне и наблюдала за соседями, чей сад был виден из моего окна: в теплое время вся семья часто ужинала на улице, дети допоздна бегали и смеялись на лужайке, взрослые сидели за столом и пили вино. Иногда они говорили на английском, но чаще всего на французском или немецком: они принимали у себя друзей, и часто, сидя в темноте незнакомой комнаты, я слышала гул иностранной речи и терялась, забывая, где я и в каком периоде жизни нахожусь. Свет из окна на цокольном этаже падал на наш убогий сад, так что тот становился призрачным, похожим на руину или могилу с черным ангелом, возвышающимся в центре. Казалось странным, что эти два полюса – отвратительное и идиллическое, смерть и жизнь – могли быть так близко друг к другу, но не имели возможности друг друга изменить.
Сад справа от моего принадлежал семье профессоров. Геометрия его дорожек, покрытых гравием, абстрактные садовые скульптуры и редкие папоротниковидные растения – всё указывало на то, что сад тщательно спланирован и располагает к созерцанию. Иногда я видела кого-то одного из соседей, сидящего на скамейке в тени и читающего книгу. Однажды они заговорили со мной через забор. Они спросили, не против ли я дать им немного яблок; моя предшественница, сказали они, обычно их угощала. Заброшенная яблоня в моем саду, вероятно, сорта Брэмли. Она дает удивительно хорошие яблоки. Женщина, жившая в моей квартире раньше, щедро угощала своих соседей, обеспечивая их яблочными пирогами на всю зиму.
– Вы не ищете легких путей, скажу я вам, – сказал строитель, когда мы вернулись внутрь. – Как я уже говорил, работы непочатый край. – Он вопрошающе посмотрел на меня. – Жаль тратить на это столько сил, – сказал он. – Вы всегда можете вернуть это жилье обратно на рынок, и пусть его купят какие-нибудь идиоты. А вы найдете что-то приличное в новом доме, и у вас, поверьте мне, останется еще много денег.
Я спросила, где он живет, и он ответил, что в Харинги, с матерью. Это не идеальный вариант, по правде говоря, сказал он, но когда ты целый рабочий день проводишь в чужих домах, тебе не так уж хочется иметь свой собственный. С мамой они хорошо ладят. Она с радостью готовит для него ужин по вечерам; один он плохо питается, не говоря уже о том, что мало двигается. Можно подумать, сказал он, что строительный бизнес предполагает физическую нагрузку, но я провожу всё время в вагончике. В молодости я служил в армии – своей физической формой я обязан еще тому времени. Сейчас, когда у меня проблемы с сердцем, добавил он, приходится думать о здоровье.
– Если, конечно, тридцать секунд паники до того, как заснуть крепким сном после рабочего дня, считаются за «думать».
Через кухонную стену, как обычно в это время дня, послышались прерывистые звуки тромбона: на нем играла дочь интернациональной семьи по соседству. Изо дня в день она играла одно и то же, так что я уже выучила ее ошибки наизусть.
– Вот они, дома с тонкими стенами, – сказал строитель, покачивая головой. – Через них проходит каждый звук.
Я спросила, когда он вернулся из армии, и он ответил, что около пятнадцати лет назад. За время службы, как и полагается, он повидал многое, но независимо от того, насколько запутанными были ситуации – даже в те периоды, когда он уезжал за границу, – их суть была хорошо ему знакома. А вот то, с чем ему пришлось столкнуться за годы работы в сфере строительства, оказалось полной неожиданностью.
– Ни на что не намекаю, – сказал он, выглядывая из окна и сложив на груди руки, – но узнаешь о жизни людей много нового, когда проводишь целый день в их домах. Смешно, – сказал он, – что, независимо от того, как бы люди ни следили за своим поведением в самом начале, как бы ни старались соблюдать приличия, неделю или две спустя они напрочь забывают о тебе. Не в том смысле, что ты становишься невидимкой, когда ломаешь стены отбойным молотком, – сказал он, улыбнувшись, – невидимым стать невозможно, но люди забывают, что ты их видишь и слышишь.
Я сказала, что это должно быть интересно – наблюдать за людьми, когда они не видят тебя, и что, мне кажется, с детьми часто получается так же: они становятся свидетелями, чье присутствие не принимается в расчет.
Строитель меланхолично рассмеялся.
– Так и есть, – сказал он. – По крайней мере, пока не начинается бракоразводный процесс. Тогда всем становится важен их голос.
Иногда, продолжил он немного погодя, клиенты как будто забывают, что он человек: в их сознании он становится продолжением их собственных желаний. Часто его просили сделать то, с чем раньше было принято обращаться к слугам; обычно это бывали какие-то незначительные вещи, но иногда – что-то совсем бесцеремонное, так что он даже сомневался, правильно ли расслышал просьбу. Его просили погулять с собакой, забрать вещи из химчистки, прочистить туалет, а однажды – он рассмеялся – разуть одну даму: туфли были тесными, и она никак не могла снять их сама. Его разве что не просили, он извиняется за выражение, подтереть кому-нибудь задницу, но он не сомневается, что в принципе и такое возможно. Конечно, добавил он, в армии тоже было всякое. Когда люди получают власть над другими, сказал он, никогда не знаешь, чего от них ожидать. Но здесь баланс власти другой, так как клиенты могут ненавидеть тебя и презирать сколько угодно, но ты им нужен просто потому, что они не знают, как делать то, что умеешь ты.
– Моя бабушка была домработницей, – сказал он. – Я помню, она часто говорила, что всегда поражалась тому, как плохо люди умеют обходиться без посторонней помощи. Они не могут разжечь огонь, сварить яйцо, они не могут даже самостоятельно одеться. Как дети, говорила она. Впрочем, сама она, – добавил он, – даже и не знала, каково быть ребенком.
У него есть несколько коллег, продолжил он, которые из-за этого потеряли всяческое уважение к своим клиентам; отсутствие симпатии может сделать из тебя опасного человека. Людям вроде вас, сказал он мне, не стоило бы связываться с такими работниками. Но безразличие, почти тоска, которая происходит из слишком глубокого понимания стремлений и представлений других людей, тоже опасно: утомительно постоянно погружаться в нюансы одержимости клиента, быть инструментом его желаний, оставаясь при этом блюстителем возможностей. Бывало, он целый день отдирал новую плитку, которую сам же положил за несколько дней до того, потому что клиент решил, что она неправильного цвета, или часами строил туалет, что было равнозначно стоянию на улице под водопадом, и в конце концов, когда он возвращался домой, у него не оставалось энергии на то, чтобы следить за собой и интересоваться тем, что происходит в его жизни. Он разбирал и выносил на помойку кухни, которые никогда не смог бы себе позволить; он клал такие дорогие деревянные полы, что клиент стоял над ним всё время, пока он работал, и говорил быть осторожным. А иногда у него были клиенты, которые понятия не имели, что им надо, и хотели, чтобы он дал им совет, будто годы физического труда превратили его в авторитетное лицо. Смешно, сказал он, но когда кто-то спрашивает мое мнение или интересуется, что бы я сделал с жилой площадью, я всё чаще и чаще представляю, что живу в совершенно пустом пространстве, где все плоскости прямые, а углы сглажены, где нет ничего – ни цвета, ни материала, ни, может быть, даже света. Но клиентам я обычно об этом не говорю, сказал он, не хочу, чтобы они думали, что мне всё равно.
Он посмотрел на массивные часы на запястье и сказал, что ему пора идти: он припарковал свой фургон неподалеку, а с инспекторами дорожного движения здесь лучше не сталкиваться. Я проводила его на улицу, которая в этот серый день была тихой. Мы остановились у нижних ступеней и вместе посмотрели на дом, который снаружи выглядел как все остальные дома поблизости. Это были компактные, трехэтажные викторианские здания из серого кирпича, каждое с двумя лестницами: одна вела к входной двери, вторая спускалась в подвал. Дверь на цокольный этаж находилась прямо под входной, так что ступени образовывали тоннелеобразное пространство, напоминающее устье пещеры. На первых этажах домов были эркеры, которые слегка выступали вперед, так что, если встать в них, возникало ощущение, что ты висишь над улицей. Женщина в одном из домов по соседству стояла у такого окна и смотрела на нас.
– Не так уж плохо выглядит с этой стороны, да? – спросил строитель. – Никогда и не подумаешь.
Он стоял, тяжело дыша и уперев руки в бока. Он сказал, что у него только что отменилась одна работа, и, если я хочу, он мог бы привезти своих ребят прямо сейчас. Иначе мы увидимся уже ближе к Рождеству. Он назвал приблизительную сумму – она была ровно вполовину меньше, чем просили другие рабочие. Некоторое время его прищуренные глаза осматривали фасад, будто искали что-то, что могли пропустить раньше, какой-то знак или подсказку, чего ожидать. Наконец они остановились у входной двери, над которой располагался любопытный элемент декора – отлитое в гипсе человеческое лицо. Такие лица были на всех домах, где мужские, где женские, и все разные; глаза смотрели слегка вниз, будто допрашивая человека, стоящего на пороге. На соседнем доме было лицо женщины с девичьими косами, тщательно уложенными вокруг головы. На моем доме был мужчина с густыми бровями, выступающим лбом и длинной заостренной бородой. Было в нем, или, по крайней мере, мне так казалось, что-то отеческое, что-то от Зевса. Он смотрел сверху, как бородатый Бог на религиозном полотне, наблюдающий за столпотворением внизу.
Строитель сказал мне, что его ребята приедут быстро, будут к восьми в понедельник. Мне следует убрать и накрыть пленкой все вещи. Если повезет, мы приведем всё в порядок за несколько недель. Он посмотрел на цокольный этаж, где грязный тюль завешивал маленькое окно. Из квартиры внизу слабо доносился лай собаки.
– Только это не исправишь, – сказал он.
Он спросил, смогу ли я найти другое жилье в такие короткие сроки. Квартира превратится в строительную площадку: будет много грязи и пыли, особенно в начале. Я сказала, что для себя пока ничего не нашла, но мои сыновья смогут поехать к отцу и остаться у него. Прищурив глаза, он посмотрел прямо на меня.
– Он, получается, живет неподалеку? – спросил он.
Если с детьми всё улажено, продолжил он, мы должны справиться. Теперь никто не будет переживать хотя бы из-за них. Он сказал, что рабочие могут не трогать до последнего одну из спален. Когда они закончат со всем остальным, сказал он, я смогу переехать в другую, которая уже будет готова. Он открыл дверь своего фургона и забрался внутрь. Я увидела, что внутри валяется куча картонных стаканчиков из-под кофе, упаковка от еды и клочки бумаги. Как я и говорил, уныло сказал строитель, работа предполагает постоянные разъезды. Иногда он проводит в фургоне целый день и завтракает, обедает и ужинает в нем. В конце концов оказываешься в окружении своих же объедков, сказал он, качая головой. Он завел машину, захлопнул дверь и, пока трогался, опустил окно.
– В понедельник, в восемь, – сказал он.
Я спросила Дейла, сможет ли он закрасить седину.
На улице становилось темно, капли дождя стекали по большим окнам салона, напоминая чернила, бегущие вниз по странице. За окнами вдоль потемневшей дороги медленно тащились машины. У всех у них горели фары. Дейл стоял позади меня, в зеркало я видела, как он приподнимает длинные сухие пряди моих волос, а затем отпускает их. Он внимательно рассматривал мое отражение. Его лицо было хмурым.
– В паре седых прядей нет ничего страшного, – сказал он неодобрительно.
Парикмахер, стоявшая позади другого клиента за соседним креслом, прикрыла усталые глаза и улыбнулась.
– Я крашу свои, – сказала она. – Многие красят.
– Но этим ты обрекаешь себя на определенные обязательства, – сказал Дейл. – Тебе придется возвращаться сюда каждые шесть недель. – Это приговор, – добавил он мрачно, и его глаза встретились в зеркале с моими. – Я хочу сказать, что к этому нужно быть готовой.
Парикмахер покосилась на меня и лениво улыбнулась.
– Для многих это не проблема, – сказала она. – Жизнь и так полна обязательств. По крайней мере, стоит попробовать, если это приносит радость.
Дейл спросил, красилась ли я когда-нибудь. Краска имеет свойство накапливаться, и тогда волосы приобретают неестественный и тусклый оттенок. Именно накопление краски в волосах, а не сам цвет приводит к такому результату. Люди часто окрашивают волосы самостоятельно, покупая коробку за коробкой в поисках натурального оттенка, но всё, что бы они ни делали, превращает их волосы в неопрятный слежавшийся парик. Но это, по всей видимости, для них предпочтительней, чем вкрапления естественного серебра. На самом деле, сказал Дейл, особые ценители считают искусственные волосы более реальными, чем те, что даны нам от природы: пока в отражении они видят что угодно, только не естественность, их совсем не беспокоит, что их волосы похожи на волосы манекена в витрине. Хотя у него есть одна клиентка, пожилая женщина, у которой седые волосы по пояс, и она носит их распущенными. Эти волосы, как борода старца, кажутся Дейлу символом ее мудрости. Она держит себя гордо, как королева, сказал он, и седая грива придает ей властный вид. Он опять приподнял мои волосы, подержал их на весу, а затем отпустил; в это время мы смотрели друг другу в глаза в зеркало.
– Речь идет о твоей природной власти, – сказал Дейл.
За соседним креслом женщина с пустым взглядом читала журнал «Гламур», пока руки парикмахера работали с ее волосами, прокрашивая каждую прядь и бережно оборачивая ее в фольгу. Парикмахер работала аккуратно и осторожно, хотя клиентка и не смотрела в ее сторону.
Салон представлял собой светлый, просторный, ярко освещенный зал с выкрашенными в белый цвет половыми досками и обшитой бархатом барочной мебелью. Резные рамы высоких зеркал тоже были выкрашены в белый. Зал освещали три больших светильника, которые висели на потолке и отражались во всех зеркалах. Салон находился на одной улице с невзрачными продовольственными магазинами, киосками с фастфудом и магазинами хозтоваров. Большая стеклянная витрина время от времени дребезжала, когда мимо проезжал грузовик.
Выражение лица Дейла в зеркале было непреклонным. У него самого были темные волосы – искусно уложенная копна кудрей с серебристыми прожилками. Он был высоким и узкокостным мужчиной лет сорока пяти, с элегантной прямой осанкой танцора. На нем был темный облегающий свитер, под которым виднелся намечающийся живот, слегка нависающий над узкими бедрами.
– Этим ты никого не обманешь, – сказал он. – Становится лишь очевидно, что тебе есть что скрывать.
Я сказала, что именно этого и хочу.
– Почему? – спросил Дейл. – Что такого ужасного в том, чтобы выглядеть как есть?
Я сказала, что не знаю, но именно этого, очевидно, и боятся многие люди.
– Я в курсе, – сказал Дейл угрюмо. – Многие люди говорят, что отражение в зеркале кажется им непохожим на них. А я спрашиваю: почему? Я говорю: вам нужно не волосы покрасить, а изменить свое отношение к ним. Думаю, это всё давление. Люди боятся быть нежеланными, – сказал он, приподнимая мои волосы на затылке, чтобы посмотреть, как они выглядят снизу.
В другой стороне комнаты со скрипом открылась большая стеклянная дверь, и в салон из темноты улицы зашел мальчик лет двенадцати-тринадцати. Он оставил дверь приоткрытой – влажный, холодный воздух вместе с шумом дорожного движения хлынул в теплый освещенный зал.
– Можешь, пожалуйста, закрыть дверь? – раздраженно попросил Дейл.
Мальчик встал как вкопанный, на его лице отразилась паника. На нем не было пальто, только черная школьная рубашка и брюки. Его рубашка и волосы промокли под дождем. Через несколько секунд зашла женщина и аккуратно закрыла за собой дверь. Она была очень высокой и угловатой, с широким, плоским, будто высеченным из камня лицом и волосами цвета красного дерева, подстриженными в каре по линию ее квадратного подбородка. Ее большие глаза на похожем на маску лице быстро оглядели зал. Увидев ее, мальчик сразу потянулся рукой к голове, чтобы убрать волосы со лба. Она остановилась у входа в своем двубортном шерстяном пальто солдатского типа, явно взволнованная, будто пытаясь найти источник угрозы, и затем сказала мальчику:
– Давай назови свое имя.
Мальчик посмотрел на нее умоляюще. Воротник его рубашки был расстегнут, и под ней виднелся кусочек его костлявой груди. Его руки висели вдоль тела, пальцы были возмущенно растопырены.
– Давай, – сказала она.
Дейл спросил, готова ли я пойти помыть волосы, пока он пройдется по цветовой палитре и посмотрит, сможет ли найти для меня что-то подходящее. Какой-то не очень темный цвет, сказал он, я думаю в сторону коричневого или красноватого, чего-то более светлого. Даже если это не твой натуральный оттенок, сказал он, думаю, так будет правдоподобнее. Он крикнул подметавшей пол девушке, что клиент готов спускаться. Она автоматически перестала подметать и поставила щетку к стене.
– Не бросай ее там, – сказал Дейл. – Кто-нибудь споткнется и ушибется.
Она снова автоматически повернулась и, взяв в руки щетку, остановилась в замешательстве.
– В шкаф, – сказал Дейл устало. – Просто поставь ее в шкаф.
Она ушла, появилась с пустыми руками, а затем подошла ко мне и встала у меня за спиной. Я поднялась со стула и последовала за ней вниз по ступенькам в теплую, темную огороженную часть зала, где находились раковины. Она повязала мне вокруг шеи нейлоновую накидку и закрепила полотенце на краю раковины, чтобы я могла запрокинуть голову.
– Так хорошо? – спросила она.
На мои волосы полились сменяющие друг друга струи теплой и холодной воды. Я закрыла глаза, терпя чередования и перепады температуры, пока она не стабилизировалась. Опытными движениями пальцев девушка втерла шампунь мне в волосы. Затем запустила в них расческу и стала изо всех сил тянуть, а я ждала, будто это была математическая головоломка, которую следовало распутать.
– Ну вот и всё, – сказала она наконец, отступая от раковины.